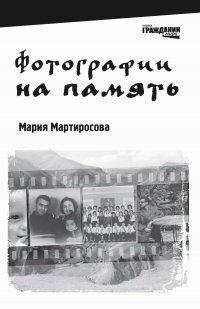Читать онлайн Красные, желтые, синие (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Мария Мартиросова
© Мартиросова М. А., «Фотографии на память», текст, 2012
© Мартиросова М. А., текст, «Красные, жёлтые, синие», 2016
© ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2016
* * *
Нашей маме, Владе Рубеновне Мартиросовой
Помнить, чтобы жить и беречь
Говорить о трудных проблемах трудно. Кажется: нет слов, а те, что находишь, похожи на картонные лозунги и не доходят до сердца. Тогда опускаются руки и хочется думать: как-нибудь обойдётся. Не обходится.
У Марии Мартиросовой слова нашлись. И нашлись мужество, сила воли и талант, чтобы собственные горькие размышления превратить в произведение искусства и тем самым единичное явление поднять до уровня высокого художественного обобщения. И что особенно важно: повесть «Фотографии на память» обращена к детям. Конечно, и к взрослым тоже. Но с детьми так честно и серьёзно, на равных, говорить о позоре национальной нетерпимости мало кто решался. Эта тема как бы всё время оттеснялась нами из «золотого детства» во взрослую жизнь. А то, что она, увы, присуща и детству, мы стыдливо старались не замечать.
Повесть «Фотографии на память» поражает простотой и какой-то обыденностью. Кажется, что этот мир, эти люди нам уже давно знакомы, и не только по литературе: они просто похожи на нас и наших соседей. Они – это мы. И это очень важное единство – тут уже не скажешь: наше дело сторона. Нет: их беда – наша беда; их попранное достоинство – наша боль. Но и подлость и злоба иных персонажей – тоже наши, наша вина, наше молчание – не отмахнёшься. И происходит всё не в «былинные времена на неизвестном острове», а вот сейчас, у нас на глазах, в наши дни. Всё актуально. Всё ещё болит, жжёт, мучает.
Повесть Мартиросовой, преображённая силой искусства, перестала быть рассказом о конкретном человеке, а вобрала нас всех, и мы уже не просто читатели – мы участники. Самое страшное, когда при тебе унижают другого. Или пусть даже не при тебе. Писательнице удалось показать, как внезапно вспыхивает национальная вражда, как хрупко благополучие и как заразна ненависть.
Есть у этой книги и ещё одно достоинство. Повесть «Фотографии на память» – не просто попытка выплеснуть на бумагу пережитые трагедию и боль. Не плач об утраченном, а попытка сохранить и удержать навеки в памяти яркий и прекрасный мир, с гибелью которого смириться невозможно. А ещё эта история – предостережение нам всем: Мария Мартиросова показывает, как хрупко наше единство, как уязвимо добро и как легко подминает под себя всех и вся зло. Надо учиться противостоянию. Вместе, сообща. Всем миром.
По нашей земле горе гонит тысячи и тысячи беженцев, они уносят с собой из оставляемого дома самые дорогие воспоминания. Погибший растоптанный мир остаётся жить в их душах. Именно эти счастливые воспоминания помогают пережить горе, и в них заключена надежда на возрождение. Поэтому повесть не оставляет ощущения безысходности. Пусть всё тише, но в ней до самых последних строк звучит светлая возвышающая мелодия, проникая в наши души сквозь коросту равнодушия и заслон повседневных забот. Эта книга – о любви к человеку.
Я не знаю, основана ли повесть на личном опыте автора, или Мария Мартиросова силой таланта и мужеством человеческого сострадания превратила в литературное произведение чужие боль, беду, унижение. Мне хочется верить, что ей самой стало от этого немного легче, светлее. И я благодарна автору, что своим поступком она не только напомнила нам о главных человеческих ценностях, но и показала, что сохранить чувство собственного достоинства невозможно, не защищая достоинство других.
Ольга Мяэотс
Фотографии на память
1
Раньше в центре Баку напротив Приморского бульвара стояло несколько ветхих двухэтажных домов. Грязно-розового цвета, с разномастными маленькими балкончиками, просторными заасфальтированными дворами.
Хотя, наверное, дворы были не такие уж и просторные. Но десятилетнему Алику Самедову казалось, что его двор по размерам не уступает футбольному полю. Всё лето он с друзьями гонял во дворе мяч. Половинки битого кирпича символизировали ворота. Витька Скворцов приносил из дому трофейный немецкий мяч, Сейфали потихоньку вытаскивал из нагрудного кармана отца-милиционера свисток, и игра начиналась. Прерывались они ненадолго. Только чтобы перехватить дома чего-то на скорую руку да подставить под струю холодной воды потные, стриженные под ноль головы.
Игроков в команде было столько же, сколько и во взрослом футболе. Но не все ребята жили в одном дворе. Вратарь и защитник приходили из соседнего дома. Соседка, тётя Сара, часто ворчала: «Не дом, а бандитский притон. Мало своих хулиганов, так ещё из соседних дворов сюда приходят». Особенно она возмущалась, когда мальчишки затевали игру во время её больших стирок.
Алик был нападающим. Бегал он быстро, ловко обводил противников, точно и сильно бил по воротам. Его даже хотели выбрать капитаном. Но Витька был на два года старше, поэтому капитаном стал он.
После войны, в 1947 году, во дворе появились новые соседи. Худощавый седой мужчина и мальчик. Сейфали выяснил, что это отец с сыном и что мальчика зовут Гарик. Целых два дня все ждали, когда Гарик выйдет во двор. Но новые соседи долго устраивались. Мыли полы, расставляли мебель, распаковывали коробки. Мальчик выскакивал во двор только для того, чтобы сбегать за керосином или выбросить мусор.
Но вот как-то утром Гарик влез с книжкой на единственное во всем дворе тутовое дерево. Долго читать ему не пришлось. По мальчишеским законам новичок должен занять в дворовой компании положенное ему место. Необходимо было точно установить, на какой ступеньке он должен находиться. Устанавливали это при помощи драки. До первой крови. Сейфали сказал, что мальчику сейчас двенадцать с половиной лет. Почти столько же, сколько и Алику. Значит, первым драться должен Алик. Потом Сейфали (он старше на полгода), а последним – Витька.
– Ты что это на моё дерево влез? – задрав голову, приступил к делу Алик.
Гарик затерялся в листьях и ветвях. Виднелись только его длинные ноги, обутые в аккуратно вычищенные ботинки. Это осложняло дело. Алик не знал, какое сейчас выражение лица у противника. Если испуганное, победить его будет что раз плюнуть. Если возмущённое, драка может получиться основательная. Алик пнул ствол дерева и крикнул:
– Глухой, да? А ну слезай с моего дерева!
Сверху послышались возня, шорох, и мальчик неуклюже соскользнул вниз. Тощий, узкоплечий, с копной кудрявых тёмных волос. В руках он сжимал зелёную потрёпанную книжку.
– Твоё дерево? – удивленно спросил он. – А почему оно твоё?
– Я его посадил, – уверенно ответил Алик. И, подумав, прибавил: – Двадцать лет назад.
Мальчик внимательно посмотрел на Алика, прикидывая в уме, сколько тому лет, а потом сказал:
– Ладно. Если ты против, я больше на него не полезу.
И, усевшись на скамейку под деревом, снова раскрыл свою книгу.
«Слабак, – подумал Алик. – Сейчас я его „сделаю”!»
Он вскарабкался на дерево и начал бросаться вниз незрелым тутом и свёрнутыми в тугой комок листьями. Мальчик сначала недоумённо посматривал вверх, не понимая, откуда на него сыплется этот мусор. Потом, заметив между ветвями стоптанные подмётки сандалий, пересел на другую скамейку.
Алик с тоской взглянул на окна Витькиной квартиры. Сейфали жестами показывал, как разделаться с новеньким. Витька, нахмурившись, кивал в сторону Гарика: «Ну, давай, чего тянешь?» Алик вздохнул, слез с дерева и подошёл к скамейке:
– Эй! Мы с тобой подраться должны.
– Зачем? – не понял Гарик.
Алик терпеливо объяснил ему законы двора.
– А что, драться обязательно? – неуверенно спросил новичок.
– Конечно. Так полагается. Правила такие, – убеждённо ответил Алик.
– И давно у вас эти правила? – поинтересовался Гарик.
– Всегда были… Сто лет уже!
Гарик вздохнул. Видимо, почтенный возраст неписаных дворовых законов произвёл на него должное впечатление. И он согласился. Единственное условие, которое он поставил, – не хватать за рубашку и не рвать одежду. «Слабак», – ещё раз подумал Алик.
Во двор высыпали ребята, взяли мальчишек в кольцо и начали ждать драки.
Гарик дрался неохотно. Он вяло давал сдачи, долго приходил в себя после каждого удара. Видно было, что ему хочется побыстрей покончить с этим делом. Постепенно такое же настроение передалось и Алику.
– Ты что не дерёшься? – в открытую спросил тот. – Боишься, да? Слабак, да? Слабак-слабак-слабак! – радостно завёлся он, надеясь этим разозлить противника.
– Не люблю я драться, – сознался Гарик, шмыгнув расквашенным носом. – Может, хватит уже, а?
Алик вопросительно посмотрел на Витьку. Тот задумался. Считать Гарика во дворе самым последним нельзя – ведь самым последним считался Тофик, которому только-только исполнилось семь. Витька оценивающе посмотрел на Алика и на Гарика. Гарик был на несколько сантиметров выше, так что ещё не ясно, кто кого поколотит, если драться по-настоящему. Пока Витька раздумывал, новенький, прижав к носу медную монетку, спросил своего противника:
– Как тебя звать?
– Алик, – ответил тот, забыв, что по дворовым правилам нельзя называть своё имя противнику, пока не установишь, какое место он будет занимать в компании.
– А меня Гарик, – вежливо представился новенький.
Наконец Витька решил, что драку придётся продолжить. Но не сегодня, потому что с минуты на минуту на обед должен был прийти отец Сейфали.
2
Драться с Гариком больше никому не пришлось. На следующее утро он сказал Витьке, что согласен считаться во дворе четвёртым. После Алика. Но только чтобы без драки. Витька, немного подумав, согласился. А через неделю Гарик уже стоял на воротах дворовой футбольной команды. Бывшего вратаря Вагифа Витька уже давно подозревал в том, что тот «сплавлял» игры своему двору.
Все быстро привыкли к Гарику. Как и остальные мальчишки, он выклянчивал у отца пятачок на газированную воду с сиропом, участвовал в набегах на соседские виноградники и так часто пересказывал приятелям на пляже «Отверженных» Виктора Гюго, что в конце концов его самого переименовали в Гавроша.
По вечерам ходили в кино. Летний кинотеатр «Бахар» в Баку открыли ещё до войны. По мере того как постепенно сгущались сумерки, изображение на экране становилось всё чётче. Где-то вдалеке мерно шумело море, резко покрикивали чайки, публика тихо пощёлкивала семечками, шуршала конфетными обертками.
В сорок первом все входы на Приморский бульвар перегородили низенькими скамеечками. Мальчишки с лёгкостью перемахнули бы через них – пошататься по набережной, натрясти с деревьев лилово-чёрных тутовых ягод. Но рядом со скамейками несли службу часовые. Они охраняли военный объект. Ведь бульвар теперь назывался «Объект № 3».
В аллеях установили зенитки. Всю войну их жерла смотрели на небо. Но стреляли они только дважды. Первый раз – в самолёт с фашистским крестом, который, описав в вечернем небе дымный полукруг, упал где-то на пустыре. Второй раз зенитки шумно обливали майское небо потоками разноцветных огней победного салюта. Потом зенитки с бульвара увезли.
«Бахар» снова открылся в начале мая 45-го. В нем крутили трофейные фильмы. Детей, конечно, на вечерние сеансы не пускали. Да и кому из них пришло бы в голову покупать билеты?! Они смотрели кино, взобравшись на низенькую ограду кинотеатра.
Этот способ имел свои неудобства. Во-первых, приходилось ждать, когда окончательно стемнеет. Иначе директор, одноглазый усатый фронтовик, гнал безбилетников без всякой жалости. А во-вторых, мальчишек набиралось так много, что сидеть на узенькой ограде становилось опасно: в спину постоянно толкали те, кому не хватило места.
В июне 47-го в «Бахаре» целый месяц шла «Серенада солнечной долины». Алик часами, не фальшивя, насвистывал мелодии из фильма, пощипывая струны отцовской гитары.
В тот вечер фильм показывали в последний раз. Алик с Гариком прибежали к кинотеатру задолго до начала сеанса. Но вокруг «Бахара» уже бродили мальчишки с полными карманами семечек. Кто-то тайком попыхивал папиросой, спрятавшись за облупленную будку кассы. Безбилетников было вдвое больше обычного, и держались они компаниями.
– Не удержимся. Точно спихнут, – грустно констатировал Гаврош.
Алик медленно обошел здание кинотеатра, обшаривая глазами местность. В отдалении маячило высокое старое дерево. Похоже, экран с него будет виден как на ладони. Гарик, кряхтя, подсадил Алика, и тот пополз вверх к толстой удобной ветке.
– Эй-эй! Мальчик! Голова есть-нет?! Ты обезьяна или человек? Зачем на дерево полез? Слезай, сейчас милиционера позову! – издали крикнул директор «Бахара», гневно посверкивая своим единственным глазом.
Алик торопливо съехал вниз, обдирая ладони о шершавую кору, и мальчики нырнули в кусты.
– Придём, когда стемнеет, – зашептал Алик Гаврошу, – одноглазый в темноте наверняка не заметит!
Гарик боязливо покосился на дерево:
– Высокое! Может, как всегда – на ограде?.. Эх, жалко, Витька с Сейфали в лагере, они нам всегда места занимали…
Стемнело. «Бахар» понемногу стал заполняться зрителями. Мальчишки вертелись у входа, надеясь прошмыгнуть без билета. Но старая билетерша в очках не теряла бдительности. Раздались звуки музыки, под которую шли титры. Сгустились сумерки.
Наконец Одноглазый неторопливо скрылся за дверями своей будки. Алик ринулся к дереву. В темноте карабкаться вверх было гораздо труднее: ночь скрыла все удобные ветки и впадины. Вдруг со ствола соскользнула левая нога, потом правая, и мальчик повис на одной руке. Пальцы, немея, постепенно разжимались. Алик со страхом посмотрел вниз. Гарик бегал вокруг дерева, давая советы:
– Держись, держись, не отпускай ветку!
Вдруг Алик почувствовал, как кто-то крепко ухватил его за шиворот и потащил вверх. Он перехватил руку, уцепился за сук, нашёл ногой опору и с трудом подтянулся повыше. На толстой ветке удобно сидел худенький мальчик с большим биноклем на шее. Отдышавшись, Алик благодарно пожал ему руку.
– Друг? – кивнул мальчик в сторону оставшегося внизу Гавроша.
– Ага! – вспомнил Алик.
Мальчик вытащил из кармана аккуратный моток верёвки, один конец закрепил на ветке, другой кинул вниз Гарику. Через минуту Гаврош уже был наверху.
Тем временем события на экране шли своим чередом. Алик снова слышал любимые песни. Справа лузгал семечки Гарик, а слева сидел незнакомый мальчик. В темноте были видны только его блестящие широко раскрытые глаза и губы, бесшумно повторяющие непонятные английские слова.
– Как тебя зовут? – шепнул Алик.
– Вова, – ответил мальчишка.
– А меня Алик. Его – Гарик.
– Я тебя знаю. Ты нападающий в Витькиной команде.
– Если тебя кто-нибудь обидит – скажешь. Мы с Гаврошем мигом ему морду начистим, – пообещал мальчишке Алик и покровительственно приобнял его за худенькие плечи.
С тех пор Вова часто приходил во двор на улице Карганова. Тётя Сара в первый же день внимательно оглядела Вову, спросила его фамилию и удивлённо покачала головой. Вечером она рассказывала своему парализованному отцу:
– Помнишь Борю Бумбриха, папа? Какой был фотограф!.. Владимир – его сын. Очень приличный мальчик. Не пойму, как наши гопники с ним познакомились?
В июле вернулись из лагеря Витька с Сейфали. Их застукали в палате с папиросами в зубах, так что прости-прощай, вторая смена! Витька с грустью вспоминал лагерные футбольные баталии, окидывал приятелей безнадёжным взглядом и вздыхал:
– Разве это команда? Сброд. Даже защитника своего – и то нет…
Мальчишки виновато переглядывались и тоже вздыхали. Вова сидел на скамейке рядом с Аликом. Он рассеянно слушал Витьку, то и дело поправляя лежащий на коленях чёрный конверт.
– Что там у тебя? – спросил Витька.
Вова улыбнулся, встал со скамейки и начал раскладывать на освободившемся пространстве фотографии.
Карточки были отличные! С них смотрели Алик, Гаврош, Лятиф, дворовая кошка Майка, тётя Сара… И все выглядели немножко лучше, чем в жизни. Алик – без обычных ссадин на коленках. Гарик – чуть повыше и пошире в плечах. Тётя Сара – моложе и красивее.
– Это я папиным аппаратом нащёлкал, – объяснил Вова. – Потом проявил, напечатал…
– Ха, – усмехнулся Ровшан, защитник из соседнего двора, – ты небось только на кнопочку нажимал, а пахан всё остальное сделал. «Проявил» он, «напечатал»! – передразнил Ровшан Вову.
В это время на лестнице послышался стук каблучков. Это спускалась племянница тёти Сары, Офелия. Все пацаны ещё с прошлого года повлюблялись в Офелию, такая она была красивая. Высокая, с длинными светлыми волосами и тонкой талией. Если Офелия наведывалась к тёте Саре, мальчишки целыми часами околачивались во дворе, чтобы не пропустить момент, когда она будет уходить. Исподтишка рассматривали её лицо, улыбку, жадно ловили слабый аромат духов.
– Какие шикарные фото! – остановилась Офелия. Она взяла Вовины карточки и начала перебирать их. – Кто снимал?
Ребята дружно кивнули на Вову.
– Молодец, – похвалила Офелия. – А меня сможешь так? В следующий раз, когда я приду? Договорились? – И она зацокала своими каблучками к воротам.
Все молча смотрели на Вову. Он смущённо улыбался, выравнивая и без того ровную стопку фотографий. От него попахивало сладкими духами Офелии.
– Пристроился… – вдруг прошипел Ровшан. – Умеете же вы, жиденята… Небось пахан бабки лопатой на работе загребает, так ещё и сыночка пристраивает!
Вова побледнел.
– Папа на фронте погиб, – срывающимся голосом проговорил он. – В сорок втором, в Севастополе…
Ровшан был уверен: никто за Вову заступаться не станет. Он ведь из чужого двора.
– Ты как его назвал? – отрывисто спросил Витька.
– Жидёнком, – ухмыльнулся Ровшан. – А что?
Витька медленно подошёл к нему, уставился исподлобья и тихо, почти неслышно сказал:
– Катись отсюда. И из нашей команды тоже выкатывайся, фашист!
Лятиф, который всего несколько дней как научился свистеть, засунул в рот два грязных пальца и пронзительно свистнул.
– Фашист, – в один голос проговорили Гаврош и Алик.
– Фашист, – присоединился к ним Сейфали.
– Гитлер! – заорал Лятиф.
Когда Ровшан покинул двор, Витька критично осмотрел невысокую Вовину фигурку. Пощупал мышцы на его руках и ногах, заставил побегать наперегонки с Лятифом.
– Завтра утром приходи. В защиту встанешь.
Потом спросил:
– Мяч-то хотя бы есть?
– Нет… – покачал головой Вова.
– Ну ком-мандочка подобралась, – сплюнул на пыльный асфальт Витька. – Сброд какой-то…
И погладил свой старый потрёпанный мяч.
3
Тренировки начинались в восемь. К двенадцати, когда солнце начинало уже припекать вовсю, Витька пинками загонял мяч домой. Кошка Майка устраивалась на солнцепёке, плотно зажмурив глаза и настороженно поворачивая левое ухо в сторону мальчишек.
Команда усаживалась под тутовым деревом, и Витька начинал обсуждать игру. Алика он обычно хвалил за ценные для нападающего качества – быстрые ноги, мгновенную реакцию и точный удар. Алик принимал похвалы с деланым равнодушием. Отворачивался, отколупывая ногтем краску с дворовой скамейки. На вопросительный взгляд Гавроша Витька одобрительно кивал. Прошли времена, когда Гарик испуганно «кланялся» любому мячу. Теперь он по-хозяйски подпрыгивал в воротах и отчаянно нырял за мячом на мягкий от жары асфальт, оставляющий на рубашке серые несмываемые пятна.
Вову Витька почему-то не ругал вообще, хотя вначале у нового защитника ничего не получалось. Он суетливо крутился вокруг Алика, не в силах отнять мяч.
– Н-да, всё-таки у Ровшана настоящий подкат был, – иногда задумчиво ворчал себе под нос капитан. Но ему тут же напоминали:
– Так зато «фашист» по ногам молотил, когда судья не видел, а Вовка честно играет!
Вечером в воскресенье на крохотном тёти-Сарином балкончике устроились болельщики: мама Вовы, сама тётя Сара и парализованный дядя Моисей.
Через несколько минут должен был начаться матч с командой из соседнего двора.
Этот день выбирали очень долго, чтобы он совпал с выходным отца Сейфали. Иначе где бы мальчишки раздобыли настоящий судейский свисток?
Витька, нахмурившись и плотно сжав губы, бегал по полю. Его команда проигрывала. Ровшан играл за команду противников, и пройти его не мог никто. Зато в воротах Гарика мяч побывал уже дважды.
В перерыве все пацаны угрюмо сидели под деревом. Разговаривать не хотелось.
– Хоть бы вничью… – тихо пробормотал Гарик.
– Ага, держи карман шире! – отозвался Лятиф, осторожно дотрагиваясь до запёкшейся ссадины на колене.
Резко свистнул Сейфали. Второй тайм.
Один гол удалось сквитать сразу после свистка. Алик со злостью вколотил мяч в ворота противников: «Хоть не всухую!»
Затем отличился Витька.
Счет сравнялся.
Напряжение нарастало. Гарик чуть согнул колени, вытянул перед собой руки и напряжённо застыл в воротах. Вова крутился вокруг верзилы-нападающего, стараясь выбить у него из-под ног мяч.
Во дворе было слышно только старательное пыхтение и могучий топот.
– Да по костылям, по костылям надо было врезать! – досадливо бормотал Витька. – Всё равно не увидят!
Никто так и не понял, как это получилось. Вова отнял мяч у нападающего, финтом убрал с дороги противника и резко пробил с полулёта. Мяч взмыл свечкой, по длиннющей дуге пролетел над головами игроков, миновал руки растерявшегося голкипера – и… пересёк отмеченную кирпичами линию ворот.
– Гол! – хрипло крикнул с балкончика парализованный дядя Моисей.
– Чистейший, мамой клянусь! – засмеялся Сейфали.
Противники спорить не стали. Даже они знали: стоит Сейфали взять в руки милицейский свисток отца – и на целом свете не найдётся более честного и справедливого судьи, чем он.
Вот и конец игры. Вова вдруг о чём-то вспомнил, подбежал к скамейке, на которую он ещё до матча положил маленький кожаный футляр.
– Снимок на память! – Вова умело построил всех в три ряда. Отступил на несколько шагов, склонил голову к правому плечу, пригляделся. – Улыбочка…
Фотоаппарат тихо щёлкнул, сверкнула вспышка.
* * *
Я перебрала старые выгоревшие снимки. На них все, кроме дяди Вовы. Строго сдвинув брови и зажав под мышкой ободранный кожаный мяч, прямо в объектив смотрит капитан команды, дядя Витя. Нападающий, дядя Алик, показывает рожки из-за круглой стриженой головы дяди Лятифа. Судья, дядя Сейфали, выпятил грудь, на которой блестит большой никелированный свисток. А в первом ряду, с закрытыми глазами, смущённо улыбается вратарь. Гарик. Мой папа. Он всегда боялся пропустить момент, когда нужно замереть с широко раскрытыми глазами. Готовился к этому изо всех сил, даже бледнел от волнения.
Но почти всегда получался с закрытыми глазами.
4
Дядя Вова никогда не обещал, как другие фотографы, что из объектива вот-вот вылетит птичка. Просто улыбался, на секунду присаживался на корточки, щёлкал затвором. А через несколько дней приносил родителям мои фотографии. В нашей бакинской квартире они висели на стенах, лежали в коричневом старом альбоме, стояли на маминых книжных полках. И даже на папином письменном столе в редакции газеты «Бакинский рабочий».
Я была поздним ребёнком. Родилась, когда папе исполнилось сорок, а у мамы в волосах начала появляться седина. Это папа предложил назвать меня Маргаритой. Он с гордостью говорил всем, что мое имя означает «жемчужинка». А мама добавляла, что так звали самую красивую французскую королеву – Марго.
Вот я в детском саду – с огромным надувным котом в руках. Вот в душном костюме медведя на новогодней ёлке. А это с классом на торжественной линейке. В руках табличка «Школа № 47, 5-й „Г”».
В десять лет мне ужасно хотелось быть мальчишкой. Пусть недолго. Хотя бы часик. И не таким, как мой сосед по парте, худенький очкарик Гриша Рубинер. А высоким, широкоплечим, сильным. Первым делом я подошла бы к долговязому кудрявому второгоднику Джаванширу Джафарову (он сидел за последней партой в правом ряду) и без всяких разговоров врезала бы ему разок-другой. За подпалённый хвостик моей косы, за разбитые Гришкины очки, за оплёванную спину старенького школьного вахтёра.
Джаваншир, ясное дело, ко всем без разбора не цеплялся. Со старшеклассниками и с нашей старостой, коренастой дзюдоисткой Наргиз Кулиевой, он никогда не связывался. Наргиз вообще все в классе слушались, потому что она, как говорил Гришка, была нашим формальным и неформальным лидером. Организовывала классные праздники, знала, где можно собрать побольше макулатуры. А иногда придумывала что-то особенное, за что потом на школьных линейках нашему 5 «Г» вручали грамоты.
Например, шефство над Домом ребёнка.
Однажды мы скинулись по трёшке, купили несколько игрушек, отпросились у директора и пошли к своим подшефным. У всех было отличное настроение: весна, тепло, с уроков отпустили… Даже Джаваншир не сбежал домой, а увязался за нами. Наргиз по дороге рассказывала о дзюдо, какие приёмы они «проходят» в секции, какой у них там строгий тренер:
– Он меня сначала не хотел принимать. Говорил, прихватят посильней, ты нюни распустишь. А я никогда не плачу. Даже когда руку на соревнованиях сломала. Ужасно больно было, а я и не поморщилась.
Конечно, мы всё сделали не так, как надо. Пришли не вовремя (у детей вот-вот должен был начаться тихий час), принесли не то, что требовалось (таких игрушек в Доме ребенка – навалом, а вот цветных карандашей и альбомов не хватает). Но Наргиз упросила директора, и нас впустили. Ненадолго, только чтобы посмотреть на своих подшефных. Это была старшая группа – трёх-четырёхлетние дети. На них уже натянули одинаковые байковые пижамки, уложили в кроватки. И тут входим мы, 5 «Г» в полном составе. Я никогда не думала, что в комнате может быть такая тишина. Дети молча разглядывали нас, а мы стояли, нелепо улыбались и протягивали им резиновых уточек, плюшевых медвежат, лупоглазых кукол. Вдруг один рыжий веснушчатый мальчишка вылез из-под одеяла, подошел к Грише, встал на цыпочки и потянулся к его лицу.
– Это из-за очков, – объяснил нам Гришка, подхватывая малыша на руки. – Маленькие знаете как очкариков любят?
Сразу стало шумно. Дети отбрасывали одеяла, подбегали к нам и, не обращая внимания на игрушки, карабкались на руки. Маленький темнокожий мальчишка крепко обнимал Джаваншира, прислонясь «каракулевой» головкой к широкой груди своего «шефа». У меня на шее висела хорошенькая девочка с шелковистыми светло-русыми волосами.
– Мама? – спрашивал у Наргиз стриженный наголо мальчишка.
У Наргиз по щекам текли слёзы, она вытирала их плюшевым медвежонком.
– Всё, спать, – распорядилась директор. – Марш по кроватям. Света, Армен, Боря, Эльдар, Федя!.. Шефы придут к нам ещё. Потом, когда не будет тихого часа.
Мы медленно отступали к дверям. Дети уже лежали в кроватках и смотрели на нас во все глаза. Поэтому мы пятились, не могли повернуться к ним спинами.
Игрушки мы оставили в кабинете директора. А когда проходили мимо спальни, оттуда выбежал босой Джаванширов негритёнок и начал совать нам цветные карандаши. Поломанные, отточенные, длинные, короткие… Мне достался жёлтый. А Джаванширу негритёнок подарил длинный хорошо отточенный красный!
5
Мой самый большой друг – Гриша Рубинер. Наша классная говорит, что мы с ним – как иголка с ниткой, везде вместе. Сидим за одной партой, болтаем на переменах, ходим друг к другу в гости. В классе к этому так привыкли, что уже года три как не дразнят нас женихом с невестой. А однажды, когда Наргиз предложила девчонкам объявить мальчишкам бойкот за то, что они сбежали с субботника, я отказалась. Как же я могу с Гришей не разговаривать?
Все в классе считают, что Гриша – жадина. Не мчится, как все, после уроков в кино или за мороженым. И ещё на переменах ест домашние бутерброды. Но я-то знаю, что жадность тут ни при чем. Когда мы скидывались, чтобы пойти в Дом ребёнка, он первый предложил сдавать не по рублю, а по трёшке. И даже мне одолжил. Просто Гриша копит деньги на книги. Он покупает их в магазинах, по макулатурным талонам, с рук. У него дома настоящая библиотека. Бо́льшую часть, ясное дело, купили родители. Но есть и Гришкины полки тоже. Гриша ужасно дорожит своими книгами. Если и даёт мне что-то почитать, каждый раз напоминает, чтобы я не забыла про обложку.
Раиса Иосифовна, Гришина мама, очень рада нашей дружбе. Она говорит, что это необычайно благотворное взаимовлияние. Мне Гриша не даёт скатиться на тройки, а я препятствую его превращению в дистрофика. Когда я прихожу к Рубинерам, Раиса Иосифовна немедленно усаживает нас за стол и заставляет съесть полноценный обед. Полноценный обед – это суп, фаршированная рыба или кусочек куриной грудки и чай с каким-нибудь «полезным» вареньем. Я уплетаю всё это за обе щёки. Глядя на меня, ест и Гришка.
Раиса Иосифовна иногда спрашивает меня про папину работу. Ей интересно знать, как папа пишет свои статьи. Действительно ли директор мебельной фабрики такой жулик, как про него напечатали, и не ожидается ли денежной реформы? Я стараюсь ответить на все вопросы подробно и аргументированно. Но однажды Гришина мама спросила у меня ужасно глупую вещь:
– Ну, что папа говорит про Карабах? Неужели до резни дойдет? Ужас! Сегодня на базаре такое говорили!..
Тогда мы все жили в одной стране, и Карабах был автономной областью Азербайджана. Говорят, когда-то он принадлежал Армении. Когда началась перестройка, карабахские и ереванские армяне потребовали Карабах обратно. А в Баку считают, что это исконная азербайджанская земля. И что армяне хотят присвоить чужое. И если так пойдёт дальше, то кое-кого придётся поставить на место…
– Раиса Иосифовна, не верьте всяким сплетням. Какая резня?! Мы же в XX веке живём! Ещё Варфоломеевскую ночь припомните! – ответила я.
Так говорил и папа, когда напуганная слухами мама возвращалась с базара. Но папа-то лучше знает! Он ведь у меня журналист, а значит, владеет самой достоверной информацией.
Услышав папины слова, я сразу полезла в энциклопедию. Что там за Варфоломеевская ночь такая? Ага: «События Варфоломеевской ночи – позорное пятно на славной истории французского государства…» В эту ночь французы-католики убивали французов-гугенотов. Представьте, из-за евангельских текстов! И ещё у них религиозные обряды отличались. Сколько же тогда народу погибло!
Но дальше шло, что Варфоломеевская ночь случилась несколько столетий тому назад. И мне сразу стало легче. Нет, папа прав: такое сегодня точно невозможно. Как-никак конец XX века на дворе…
6
Папа часто брал меня на демонстрации. 7 Ноября и 1 Мая мы шли в колонне редакции «Бакинский рабочий». Папа нёс транспарант, я размахивала розовым гигантским цветком из гофрированной бумаги. Радостные крики разносились по улицам. Я замечала в окнах улыбающиеся лица людей, оставшихся дома. Мы доходили до площади Ленина, оглушительно и дружно в ответ на «Да здравствует!» кричали «Ура!». А потом сдавали транспаранты и искусственные цветки и торопились домой. По дороге папа покупал для мамы тугой пучок холодных мокрых ландышей или пахучих пурпурных хризантем – в зависимости от того, весной или осенью происходило дело.
А в 1988 году демонстрации начались задолго до ноябрьских праздников. Из-за Карабаха. Папа то и дело повторял, что ничего ужасного в этих демонстрациях нет. Ведь сейчас не культ личности, не застой, а перестройка и гласность. А в демократическом обществе любой имеет право на выражение своего мнения, тем более нельзя запрещать мирные демонстрации. Но каждый раз, когда с улицы доносился тяжёлый мерный топот и ритмичное, по слогам: «КА-РА-БАХ!», мама бледнела и наглухо задёргивала занавески.
У нас в классе появилось двое новеньких. Годом раньше их, наверное, ни за что не взяли бы в наш класс, ведь у нас и так полно народу – тридцать четыре человека. Но несколько дней назад освободилось два места, и новеньких приняли. Они уселись за последнюю парту в среднем ряду. Молчаливые, неулыбчивые, без учебников и тетрадей.
– Из Армении, – сказал Гриша, осторожно оглядываясь назад. – Беженцы.
Теперь каждую перемену весь класс – кто незаметно, а кто и в открытую – рассматривал новеньких. Джаваншир вертелся около их парт, прислушивался к негромким разговорам, то и дело вставляя вопросы:
– А правда, что армяне там над вами издевались? А сколько азербайджанцев в вашем селе убили? Вы теперь за это бакинским армянам мстить будете?..
Новенькие не отвечали. Только изредка перебрасывались между собой короткими азербайджанскими фразами. По-русски они говорили плохо. Из-за этого учителя их почти не вызывали.
Раньше за этой партой сидели близнецы Даниеляны, Тигран и Ерванд. Они на переменах каждый раз какой-нибудь номер выкидывали: то разыграют кого-нибудь, то математичку изобразят. Мы все ухохатывались. И сейчас, чуть перемена, я по привычке поворачиваюсь к их парте. А там совсем другие, незнакомые ребята. Даниеляны ведь переехали в Краснодар.
Когда я дома про Тиграна с Ервандом рассказала, мама страшно всполошилась, сказала, что и нам стоит поискать варианты обмена. У нас ведь хорошая квартира, в центре города, с отдельными комнатами, со всеми удобствами… Но папа вдруг резко и отрывисто произнёс:
– Дезертиры! Бегут, как крысы с тонущего корабля. А я не побегу из этого города, мы никуда не поедем!
Мама тихо, как будто кто-то мог её услышать, сказала:
– Гарик, посмотри, сколько в Баку беженцев из Армении. Их же оттуда гонят. А вдруг и нас… так же?
– Кто «нас так же»? – удивлённо спросил папа. – Алик? Сейфали? Лятиф? Они ведь азербайджанцы, помнишь? Они, что ли, меня, армянина, из Баку выгонят?
– Нет, – грустно покачала головой мама, – не они. Но есть и другие… Теперь каждый день на площади Ленина митинги.
Родители ещё долго спорили. Мама доказывала, что в городе уже начались беспорядки, националисты по ночам врываются в квартиры бакинских армян, грабят, убивают. А папа с улыбкой качал головой:
– Назови мне имена, телефоны этих «пострадавших», и я с удовольствием напишу статью об этих «налетах». Не знаешь? Этого и следовало ожидать. Все пугают друг друга такими историями, но никто не знает имен «жертв». А все потому, что их нет.
В конце концов папа всё-таки переспорил маму. Было решено не паниковать, не слушать глупых сплетен, но меня на всякий случай одну из дома не выпускать.
7
На географии с последней парты правого ряда по классу пошли записки. Джаваншир без конца толкал в спину меня или Гришу и совал желтоватые, сложенные вчетверо листочки:
– Кулиевой Наргиз, Гаджиевой Нигяр, Аскерову Руслану, Салаеву Эльдару, – громко шептал он.
Вообще-то ужасно неохота было эти записки передавать. Известно, что Джаваншир в них изобразил. Нарисует, к примеру, свиную морду и подпишет: «Ах, какая я свинья, ведь написано „нельзя”!». Сложит листочек, а сверху громадными буквами нацарапает: «Секрет НЕЛЬЗЯ». Я такое послание от него в третьем классе получила. Очень остроумно!
Листочки медленно передавались из рук в руки, пока не доходили до адресата. Но, кажется, на этот раз записки были не из обычной серии. Наргиз, во всяком случае, свою очень внимательно прочла, потом аккуратно сложила и сунула в портфель. Руслан скользнул по своей взглядом, нахмурился, скомкал и бросил под парту. А Нигяр уставилась в листочек до конца урока, будто наизусть его выучить хотела. И всё плечом записку от соседки прикрывала.
На перемене Джаваншир влепил Руслану звонкий подзатыльник, поднял с пола листочек, разгладил и процедил сквозь зубы:
– Из-за таких, как ты, в этом городе до сих пор эти, – Джаваншир кивнул в мою сторону, – живут!
Отличник Эльдар только сейчас развернул свою записку: он никогда на уроках не отвлекается. Поправил на носу очки и начал читать. Я неслышно подошла к нему сзади и заглянула в листочек. Бледными типографскими буквами на нём было напечатано: «Карабах – исконные азербайджанские земли!», «Не оставлять в Баку ни одного живого армянина!», «Как истинный азербайджанец, ты обязан…» А внизу неровным Джаваншировым почерком было написано: «Ованесян Лёва, Манукян Марго, Багдасарова Аня, Арутюнян Карен, Саркисов Рафик, Цатурян Ася. Ете армяне до сех пор учаться в тваём класи!»
На следующий день в нашем классе началось «великое переселение народов». Так сказал Гриша, когда увидел, что Гаджиева Нигяр села не на своё обычное место рядом с Аней Багдасаровой, а устроилась на первой парте, с Ленкой Тучиной. Джаваншир, войдя в класс, одобрительно кивнул Нигяр и потащился к своей парте.
– Интересно, как теперь Нигяр будет писать диктанты, а Аня – контроши по математике? – усмехнулся Гришка.
Нигярку с Аней в нашем классе называли «твёрдая тройка». Это было прозвище не каждой девчонки по отдельности, а двух вместе. И не только потому, что по всем предметам, кроме физры, они получали по трояку и не больше. Каждой из них причиталась равная доля от этого трояка. Анька на твердую тройку знала всё, что связано с русским языком и литературой, а Нигяр «специализировалась» на математике. В общем, ужасно удобно, особенно на контрольных.
Через неделю на изложении Нигяр по привычке скосила взгляд вправо, но увидела только плотное Ленкино плечо, загораживающее страницу. А в среднем ряду Аня Багдасарова без конца поправляла на парте свою тетрадку, поворачивая её так, чтобы соседке слева было удобнее списывать.
В нашем классе, кстати, все друг с другом больше по-русски общались. Я азербайджанский язык неважно знаю. Гораздо хуже русского. Могу произнести несколько простеньких разговорных фраз, да в голове сидят вызубренные тексты из учебника. Не слишком-то приятно, когда в твоём присутствии разговаривают, а ты ничего не понимаешь. Гриша вначале по этому поводу шутил, но потом стало не до шуток. В разговорах то и дело слышалось слово «эрмяни». Можно не переводить, и так понятно, о ком речь идёт.
8
До чего мне не хочется идти сегодня в школу! Тащиться вместе с Гришей и Раисой Иосифовной, слышать в сотый раз, что мне жутко повезло. Я ведь совсем не похожа на армянку. Русые волосы, зелёные глаза, короткий вздёрнутый нос, светлая кожа.
– Если тебя когда-нибудь спросят, какой ты национальности, говори: русская. Или еврейка, – тихо шептала по дороге Гришина мама. – Слава Богу, детям паспорт не положен, никто не проверит.
На первом уроке всегда смотришь, кто из ребят ещё уехал. Обычно их места день или два бывают свободны. Никто на них почему-то не садится. Даже если парты около окна. Потом в класс приходят новенькие, беженцы из Армении.
Почему никто из наших ребят не говорит заранее, что завтра он в школу не придёт? Вернее, не завтра, а вообще больше никогда в нашу школу не придёт? Джаваншир говорит, что кишка тонка. Знают, что никто не захочет с ними прощаться. Выкатились, и ладно. Пусть радуются, что ноги унесли. Когда учителя на уроках перекличку делают, Джаваншир со своей «камчатки» раньше старосты Наргиз орёт, что Ованесян и Арутюнян больше в нашем классе не учатся.
Не хочу больше притворяться, что не понимаю, почему Наргиз с девчонками сразу замолкают, когда я к ним подхожу. Не хочу больше слушать, как наша историчка на каждом уроке как попугай твердит, что победа в Великой Отечественной войне была результатом объединённых усилий воинов разных национальностей. Мол, русские плечом к плечу сражались с латышами, украинцы с грузинами, а армяне с азербайджанцами. Она же не видит, как Джаваншир над ней смеётся и указательным пальцем у виска крутит.
Но не идти в школу нельзя. Ни в коем случае. Иначе мама поймёт, что дело совсем плохо. По вечерам, когда родители думают, что я сплю, папа, накапывая маме валокордина, говорит, что в городе, в общем-то, ничего страшного не происходит. Так, небольшие волнения. Иначе он ни за что не отпустил бы меня в школу. Папа думает, что я не замечаю, как он каждое утро потихоньку идёт за мной, Гришей и Раисой Иосифовной до самой школы.
7 декабря 1988 года мы с родителями узнали, что в Армении, в Спитаке и Ленинакане, произошло страшное землетрясение. По телевизору показывали развалины домов, застывшие машины скорой помощи, раненых на носилках, разбросанные по снегу листочки из яркой детской книжки, игрушки… Диктор что-то рассказывал о баллах по шкале Рихтера, о том, какие союзные республики и зарубежные страны направили гуманитарный груз в Армению. Длинные очереди в пункты сдачи крови. А мы с родителями молча смотрели на экран. На неподвижную детскую ручонку, высовывающуюся из-под бетонной плиты.
Я не хочу идти сегодня в школу! Ужасно не хочу!
– А, Руслан! Салам алейкум, поздравляю! – говорит на перемене Джаваншир. – Как это с чем?! Смотрел вчера новости? Мой брательник сказал, что мы этим эрмяни тоже гуманитарный груз должны послать. Составы со всяким мусором… Вот им от нас помощь!
Ну и что, что я не высокий широкоплечий парень пятнадцати-шестнадцати лет. Я достаю до ненавистной рожи Джаваншира и луплю по ней изо всех сил:
– Там же дети погибли! Ты же смотрел телевизор, видел кровь? Ты не человек, ты фашист! Гитлер!!!
Я не чувствую боли. Просто кожа на моём лице, руках и плече как будто заледенела. Но я ни за что не запла́чу. Я разлепляю разбитые губы и кричу Джаванширу:
– Помнишь того негритёнка в Доме ребёнка? Он тоже не азербайджанец. Иди, убей его! А ты стриженого мальчика помнишь? – кричу я Наргиз. – Его Армен звали, значит, он армянин. Он тоже пускай умрёт? Да?!
Джаваншир отталкивает меня и выбегает из класса. Гриша прикладывает к моему лицу что-то холодное. На шее и щеках у Наргиз загорелись неровные красные пятна. А Руслан без конца трёт о брюки правую ладонь.
Девятого декабря папин день рождения. Каждый год к этому дню из своих командировок возвращается в отпуск дядя Алик. Из Мурманска приезжает дядя Витя, приходит дядя Сейфали. На кухне будет печься пахлава, вариться плов (обычно папа ужасно не любит, когда мама подолгу стоит у плиты, ведь у мамы больное сердце). Дядя Алик притащит целую кучу заграничных сувениров, крепко обнимется со всеми друзьями, расцелует меня, маму. За столом снова будут вспоминать детство, старый двор, футбол, школу. Дядя Вова незаметно будет щёлкать фотоаппаратом, бормоча под нос привычное: «Фото на память».
В этом году у нас было совсем не весело. Вернее, дядя Алик, как всегда, улыбался, шутил, дядя Вова фотографировал. Но всё это – пока мама была в комнате. Когда она вышла на кухню заварить чай, в комнате начались совсем другие разговоры.
– Ребята, что происходит? В городе все как с ума посходили. Год назад, когда я уезжал на Кубу, ничего ведь не было, – озадаченно спросил дядя Алик.
– Гаврош, – негромко произнёс дядя Витя, – ты журналист, у тебя информация из первых рук…
Дядя Вова осторожно встал, заглянул на кухню, перебросился с мамой несколькими словами, прикрыл дверь и кивнул: можно.
– Думаете, до меня сразу дошло, что в городе происходит? – начал папа. – Я ведь как рассуждал: гласность, свобода слова, съезды депутатов. А на днях демонстрацию на улице встретил. Конечно, я и раньше их видел. Издалека. А вблизи – впервые. У них лица такие… Нет, не злые, а… спокойные, отрешённые, как у роботов. Прут широкой колонной, земля под ногами дрожит. Скандируют: «Армяне, убирайтесь!» Я статью написал. Наш главный редактор статью прочёл, а потом насмешливо так говорит, что у меня просто отличный слог, мне бы романы сочинять. С метафорами, сравнениями… А для работы в республиканском печатном органе я профнепригоден.
Дядя Алик вскочил со стула, схватил за руку дядю Сейфали:
– Мы сейчас сходим с Сейфали, поговорим с этим… главным. Мы ему…
– Тихо, – вдруг подал голос дядя Вова, – Ната на кухне, услышит.
– Может, – продолжил папа, – «Труд» или «Правда» такую статью захотят? Я бы её расширил, добавил свидетельства очевидцев. Тех армян, которых ограбили и избили… Ведь я бы всю правду, до последнего слова… Только вот снимков нет. Сделать бы несколько фотографий этих… лиц!