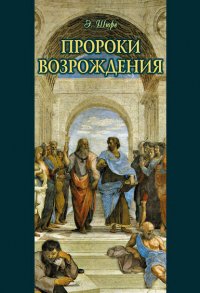Читать онлайн Жрица Изиды бесплатно
- Все книги автора: Эдуард Шюре
© ЗАО «Мир Книги Ритейл», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
* * *
Моей дорогой Матильде, хранительнице домашнего очага, посвящаю эту книгу
- Психея потеряла крылья
- И плакала в ночи.
- Но, крылья развернув свои,
- Амур сказал ей: «Посмотри!»
- Одним прыжком в лазури
- Он исчез,
- Взмахнув крылом.
- За ним умчалась и Психея.
Сомнение в ценности жизни и любви обусловливает упадок цивилизованных народов.
Книга первая. Завеса
Любовь есть высшая степень ясновидения.
Глава I. Гименей! Гименей!
– Гименей! Гименей!
Невидимый хор девических голосов звенел вдали под звуки систр, флейт и кимвалов. Доносимый легким ветерком и прерываемый смутным гулом толпы, гимн парил над узкими улицами. Волны его растекались по крытым навесам, террасам, висячим садам. Юный и влюбленный, он трепетал в знойном воздухе и терялся в ясной лазури неба, как взмах легких крыльев. На площади, где собралась празднично настроенная толпа, уже яснее слышались отдельные звонкие голоса, отчетливые слова.
– Гименей! Гименей!
И пестрая толпа гладиаторов, вольноотпущенников и рабов, женщин и детей, сгрудившихся на ступеньках базилики, увидев двигающуюся по улице Изобилия свадебную процессию, вторила долгими возгласами:
– Гименей! Гименей!
Чтобы видеть веселое зрелище, подонки и сливки общества собрались на обширном форуме, сердце и вершине нарядного греко-латинского города, в Акрополе Помпей.
Площадь представляла длинный прямоугольник. На южную сторону ее выходили три судилища с тенистыми портиками, в которых виднелись курульные кресла из белого мрамора. Налево – храм Аполлона; направо – аркады Курии и храм Августа. Повсюду портики, алтари, статуи. На противоположном, северном конце, на террасе из шестнадцати ступеней возвышался храм Юпитера. Отстроенное заново из окаменелой лавы и покрытое гипсовой штукатуркой после последнего землетрясения, величественное здание это господствовало над площадью, городом и его окрестностями. Коринфские колонны его, пурпуровые у основания и изрезанные во всю длину свою черными и красными желобками, расширялись вверху разноцветными капителями, похожими на листья и плоды. Щиты архитрава сверкали на солнце между триглифами. На лицевом фасаде группа цветных богов сверкала на лазурном фоне. Два орла с распростертыми крыльями сидели на подножиях. Бронзовая статуя Победы венчала здание.
Одинокий и величественный, этот храм с кровавым подножием и сияющим металлическим венцом, царил над городом наслаждений. В нем сияли пышность и могущество Рима императоров, украсившегося остатками порабощенного греческого гения. В нем торжествовала сила, непреклонная, как лик Цезаря или сама Судьба.
Под портиком храма, вверху террасы, беседовали три человека, смотря на кишащую на площади толпу.
Один, в розовой тунике и голубом паллиуме, в миртовом венке на блестящих от масла белокурых волосах, оживленно жестикулировал, обращаясь к своему соседу, худощавому человеку в черном плаще, с бритой головой и изможденным лицом. Третий держался в стороне, на краю террасы, небрежно прислонившись плечом к угловой колонне перистиля. Лицо юного военного трибуна с гордым изяществом выделялось на красном фоне массивного столба. Он был одет в широкую белую тогу с широкой пурпуровой каймой, и на черных волосах его лежал легкий бронзовый венок из дубовых бронзовых листьев. В толпе угодливых сенаторов, скучающих священнослужителей и циничных магистратов его лицо одно отражало душу римлянина. Широкий и упрямый лоб, глубоко сидящие, пристальные глаза под нахмуренными бровями, энергичный рот и выдающийся подбородок напоминали лицо Брута. Но тонкий, резко очерченный профиль, властный нос и сжатые губы делали его похожим на молодого тридцатилетнего Тиберия. Что таилось в этих жгучих глазах, смотрящих из-под упорного, как таран, лба: любовь к свободе или стремление к тирании? Ни один из его друзей не мог бы ответить на этот вопрос, и сам он, пожалуй, еще меньше других.
– Ну что же, Омбриций Руф, знаменитый наш трибун, вот ты вернулся с Востока, покрытый славой, увенчанный Титом, и находишься под особым покровительством Веспасиана, – скажи, о чем ты думаешь? Получив наследство после твоего дяди, старого ветерана, ты сделался одним из наших. Так что же доблестнейший из римских всадников думает о нашем городе, жемчужине Кампании?
– Ты смеешься надо мной, Симмий, – с горечью ответил Омбриций. – Ни моя доблесть, ни моя слава не могут возбуждать зависти. Я получил венок, это правда, но нахожусь в немилости, а наследство моего дяди – жалкая хижина в пустом поле, не стоящая простой таверны в Субурре. Что же касается до вашего города, то он показался мне совсем небольшим.
– Каковы же твои непомерные желания?
– Не знаю, но честолюбие мое слишком велико, чтобы удовольствоваться столь малым. Да, я стремился к славе. Она изменила мне и стала мне противна. Неужели же я проведу всю жизнь, смотря на недостижимый Капитолий?
– Попробуй предаться удовольствиям.
– Я был бы рад. Но нужно, чтобы это удовольствие было достаточно ярким и сильным, чтобы влить в мою душу забвение. Где найду я нектар, которому удастся погасить огонь, пожирающий мой мозг?
– Взгляни на этот город, распростертый у твоих ног, – сказал толстый и словоохотливый грек с жестом оратора, говорящего с высоты трибуны. – Взгляни на Помпеи с их дворцами, банями и театрами. По сравнению с ними Рим не более как старая матрона, сморщившаяся от пороков, а Афины – уличная куртизанка. Помпеи же – греческая гетера, играющая на кифаре и поющая, как Музы, и танцующая, как Грация. Им знакомы наслаждения, науки и искусства. Они предлагает тебе, как в корзинке, своих мимов, музыкантов и своих женщин. Ветви, цветы и плоды – все будет принадлежать тебе, если ты захочешь. Смотри и выбирай!
– Ну что же, хорошо! – сказал Омбриций, отходя, наконец, от своей колонны. И, хлопнув Симмия по плечу, он воскликнул: – Сегодня я сделаю выбор между славой и удовольствием!
– Как Геркулес между пороком и добродетелью? – смеясь, заметил Симмий.
– Не совсем. Порок предлагал Геркулесу лишь заурядные наслаждения. Мне нужно больше. Я хочу такого ощущения, которое стерло бы прошлое, удовольствия, которое убило бы мое честолюбие. Я хочу полной и безоблачной радости. По правде сказать, я не думаю, чтобы она существовала. Но если когда-нибудь она мне встретится, я узнаю ее по одному признаку.
– По какому же?
– По улыбке истинного счастья на человеческом лице.
– Ты увидишь их сегодня не одну, а сотни.
– Сомневаюсь. Я всматривался уже во много взглядов и во много лиц. Но никогда еще не приходилось мне видеть истинной радости, без примеси, бесконечной радости, бросающей вызов всему. Если я увижу ее сегодня, я прощусь с легионами, форумом и цезарем и примкну к религии Эпикура. Но, – с презрительной улыбкой закончил Омбриций, – я убежден, что не встречу этой богини.
– Шутка софиста, – прервал стоик Кальвий. – Вы говорите о славе и удовольствии, а забываете о философии, единственном пути к настоящему счастью.
– Шутка ритора! – возразил Омбриций. – Я тоже верил в добродетель и в высшее добро. Юношей я любил, как родного отца, моего учителя Афрания, тоже стоика, как и ты. Я внимал его поучениям, как божественным словам. Он перерезал себе жилы по приказанию Нерона. Какой же это имело результат?
– Великий пример! – сказал Кальвий, вытащив из-под черного плаща голую руку и воздевая к небу сухой указательный палец.
– Как бы нам не пропустить самого красивого момента в сегодняшнем дне, – прервал Симмий. – Вон едет невеста. Сойдем на площадь.
Три друга поспешно покинули перистиль храма, и голубой паллий грека, черный плащ философа и белая латиклава римского всадника смешались с толпой, стремившейся на противоположную сторону форума.
* * *
Все Помпеи желали видеть, как претор Гельконий введет дочь свою, Юлию Гельконию, в храм Юпитера, чтобы принести жертву сожжения, а затем проводит ее в дом ее супруга Гельвидия.
Предшествуемая хором музыкантов и танцовщиц, колесница невесты, запряженная двумя белыми конями, в гирляндах из зелени, показалась у въезда на площадь. Взгляды всех были устремлены на нее. В белом шерстяном пеплуме, в оранжевом покрывале, накинутом на голову и совершенно скрывающем ее черты, невеста царила, как безмолвный идол над шумной толпой и веселым кортежем. По обеим сторонам колесницы юноши в хламидах махали смоляными факелами. Позади колесницы дети патрициев несли в ивовых корзинах прялку, веретена и челнок из слоновой кости – эмблемы женского труда, которые девушка брала с собой из родительского дома в дом мужа. За ними следовали подруги невесты, образуя хор девушек. Потом шли должностные лица города с угловатыми и тяжелыми чертами лица, в волочащихся по земле тогах, старые матроны, закутанные, как весталки, в свои плащи, прекрасные патрицианки с искусно воздвигнутыми прическами, юноши с умащенными благовониями волосами и с повязками на лбу.
Кортеж остановился посреди площади. Народ отступал перед жезлами ликторов и образовал большой круг. Тотчас же зазвучали флейты и кимвалы, и хор девушек снова запел строфы гимна. В то же время танцовщицы в венках из плюща и аканта, шедшие впереди колесницы невесты, как Горы предшествуют колеснице Авроры, под ритмы пения сплелись в хоровод. Легкие ноги и переплетающиеся фигуры под прозрачным газом представляли как бы другую, дополнительную музыку. И торжествующий гимн, звуками и движениями чаруя неподвижную толпу, казалось, парил над городом:
- Гименей! Гименей!
- Супруга стремится к супругу,
- Как Юнона стремилась к Юпитеру,
- Когда боги Эрос и Гименей
- Привели белоснежную и голубоокую
- В венке из гиацинтов и роз,
- Алеющую, как Аврора,
- Под тучу, где сверкает золотая молния.
- Эрос! О прекрасный Эрос!
- Ты царил задолго до рождения мира.
- Будем петь: Гименей! Гименей!
Гимн колебался под вздохи флейт, под трепетанье систр. Сомкнутые руки Гор поднимались и опускались извилистыми линиями. Разноцветные шарфы взлетали над хитонами, спадавшими грациозными складками. С высоты своей колесницы невеста, сосредоточенная, как богиня, бросала в воздух лоскутки красного шарфа, порхавшие, как огненные искры. И толпа бросалась за этими кусочками ткани, видя в них залог счастья.
Очарованная толпа безмолвствовала.
Невеста сошла с колесницы, и весь кортеж направился к храму. Омбриций в мрачной задумчивости еще прислушивался к словам гимна, звучавшим в его душе. Он поддался очарованию его, не вникая в смысл, такой далекий и чуждый ему!.. Так пловец ощущает хлынувшую на него волну, не видя беспредельности океана:
- Эрос! О прекрасный Эрос!
- Ты царил задолго до рождения мира!
- Будем петь: Гименей! Гименей!
Откуда же исходит это трепетание радости, этот крик желания, этот страстный призыв счастья, издаваемый в глубине времен младенческими народами и украшенный искусством поэтов и жрецов? К какой цели стремится сквозь мрачные века этот крик, из которого ключом бьет жизнь и вырываются бесконечные поколения?
Омбриций издали смотрел на невесту, во главе процессии и вместе с отцом поднимавшуюся по ступеням храма. Он видел сквозь высокую дверь, как мрак храма поглотил огненное покрывало, приковывавшее к себе тысячи взглядов, и сказал себе:
– Неужели это пурпурово-оранжевое покрывало есть цель всех человеческих усилий, венец могущества, плод жизни? Зачем обоготворять эту деву, которая завтра будет похожа на всех остальных женщин? И за этим покрывалом скрывается ли улыбка счастья?
Потом недоверчиво прибавил:
– О обманчивый светоч любви, окутанный красным покрывалом желания! Люди бросаются на тебя, как неразумные насекомые на пламя факела, но только обжигают себе кожу и иссушают мозг. Убожество и горе, разочарование и отвращение, преступление и безумие – вот, что они находят в твоем светоче. О обманчивый светильник! О огненное покрывало, непроницаемое и жестокое!
Поглощенный своими мыслями, Омбриций затерялся в толпе. Между тем семья новобрачной, принеся жертву, вышла из храма. Геликония снова поднялась в колесницу, и процессия направилась к дому супруга. Горы, разделившись по три, двинулись вперед, а девушки, идущие за ними, запели вторую строфу:
- Гименей! Гименей!
- О девы, сестры, сплетайте гирлянды,
- Гирлянды из гиацинтов и роз,
- Тките пляску, сплетаясь ногами,
- Боги улыбаются, Горы танцуют…
- Лоза цветет, роза благоухает,
- Весь мир расцветает,
- Когда супруга стремится к супругу.
- Эрос! О прекрасный Эрос!
- Посланец богов летит с облаков.
- Будем петь: Гименей! Гименей!
С угла площади Омбриций следил взглядом за белым потоком тог магистратов, за движущейся пурпуровой фатой невесты и развевающимися шарфами пестроцветных Гор. Неведомое волнение охватило его. Эта толпа была ему чужда, чужды эти магистраты, чужда невеста. Но великолепие обряда, достоинство форм, грация движений свидетельствовали о священном порядке, о вечном ритме вещей. Не лучше ли, вместо того чтобы искать невозможного, смиренно подчиниться общему закону и быть звеном великой цепи, послушной нотой в гармонии вселенной?
В эту минуту навстречу процессии показались носилки, пересекавшие площадь. Шесть ливийских невольников, со зверскими лицами, гордо несли на плечах богатый паланкин. Из-за полураскрытых занавесок виднелась фигура женщины в лиловой одежде. Небрежно раскинувшись на пурпуровых подушках, она лениво обмахивалась широким опахалом из павлиньих перьев с ручкой из слоновой кости. Золотой гребень в форме диадемы возвышался над ее иссиня-черными волосами, завитыми в три ряда локонов. Раздувая ноздри, она вдыхала ароматы, струившиеся в воздухе. Большие глаза, вращаясь в орбитах, окидывали толпу взглядом отдыхающей пантеры. Гордая осанка и спокойный взгляд выражали полнейшее равнодушие.
Омбриций не мог оторвать глаз от этой гордой и роскошной красавицы. Носильщики громкими криками разгоняли толпу и толкнули трибуна. В эту минуту молодая женщина, повернув гибкую шею, склонила к Омбрицию свою царственную голову и пышную грудь. Глаза ее, черные и спокойные, как у дикой антилопы, метнули в него огненную стрелу, и на губах мелькнула легкая усмешка.
И сейчас же вслед за этим алая роза, брошенная невидимой рукой, скользнула по щеке Омбриция и упала за ворот его тоги.
– Ты знаешь эту женщину? – спросил Омбриций Симмия, когда носилки исчезли в улице Меркурия.
Глаза богатого грека вспыхнули, и чувственные губы его округлились в плотоядной улыбке.
– Гедония Метелла, богатая римлянка, вдова претора, ищущая мужа, самая развратная и самая честолюбивая женщина в Помпеях. Она достойна тебя, хитрый Омбриций. Потому что, по-видимому, у обоих вас ненасытная душа скрывается под бесстрастной маской.
Омбриций улыбнулся презрительной улыбкой, но душа его была взволнована. Только что, при виде процессии и невесты под покрывалом, он вспомнил прекрасные порывы своей юности к долгу и добродетели. Но под вызывающим взглядом роскошной патрицианки из глубины существа его поднялся какой-то пламенный пар, затуманивший его мозг. Наслаждение и честолюбие, между которыми он собирался сделать выбор, вдруг предстали перед ним объединенными в этом властном взгляде, казалось, влекущем его к неведомому блаженству. И он преисполнился таким жгучим желанием, какого не испытывал до тех пор.
– Если хочешь, мы можем пойти к ней? – сказал Симмий. – Я знаком с нею.
– Нет! – испуганно ответил Омбриций. И прибавил с грустью, изумившей легкомысленного грека: – Я хотел бы видеть новобрачную в ту минуту, когда супруг откинет ее покрывало. Быть может, на ее лице я увижу улыбку счастья, которую тщетно ищу!
– Ты увидишь гораздо больше, – сказал стоик Кальвий, только что нагнавший друзей. И, взяв мускулистую руку трибуна своей дряблой рукой, он прибавил вполголоса, таинственным тоном: – Когда фламин Юпитера совершит бракосочетание, у новобрачных состоится интимный праздник. На него приглашены только близкие друзья Гельвидия. Он знает тебя по имени. Ты будешь с нами, потому что достоин этого. Я говорил ему о тебе.
– Что же я должен сделать?
– Когда гости начнут расходиться, не отставай от меня. Мы останемся вместе с самыми близкими у очага предков.
– И что же я там увижу?
– Бракосочетание по ритуалу Изиды.
– По ритуалу Изиды? Что же это такое?
– Таинство. Мы увидим все.
– Кто же будет совершать его?
– Новый египетский иерофант, призванный декурионами в Помпеи для обновления культа Изиды. Его зовут Мемнон. Говорят, это мудрец и аскет. Он приехал в Помпеи три месяца тому назад вместе со своей приемной дочерью Альционой. Никто еще не видел лица иерофантиды, потому что она выходит, всегда закутанная в покрывало. Нынче вечером ее увидят в первый раз.
– Отлично, – сказал Омбриций, – сама судьба толкает меня. Две избранные девы, невеста и пророчица, покажут мне сегодня свое лицо и душу без покрывала. Если я не увижу в них ни счастья, ни истины, то Юпитер и Изида не более, как праздные слова. Пойдемте!..
– Предоставляю вас вашим тайнам, – сказал Симмий. – Нынче вечером мы выпьем за твое счастье, Омбриций, и ты расскажешь нам, кого выберешь в присутствии мимистки Миррины и двух флейтисток. До вечера у меня!
Глава II. Избранная чета
Служители, стоявшие перед домом Гельвидия, ввели Кальвия и его спутника в вестибюль, в котором стояли только статуя Минервы и бронзовый светильник. Оба друга прошли в атриум, находящийся под открытым небом. Промежутки между его ионическими колоннами были переполнены гостями. Под левым портиком выстроились молодые люди; под правым – девушки, которые должны были петь эпиталаму. Семья и гости теснились во второй зале, похожей на первую и называемой перистилем. Прибывшие не без труда пробрались, в сопровождении родственника Гельвидия, между широкими латиклавами магистров, шелковистыми хитонами женщин и тяжелыми шерстяными плащами матрон до полукруглого покоя со сводчатым потолком. Это было домашнее святилище, и здесь только что началась церемония бракосочетания.
Посередине, на маленьком мраморном алтаре, украшенном гирляндами цветов, горел яркий огонь. За ним, на колоннообразных подставках полукругом были расположены статуэтки предков из слоновой кости и глиняные фигурки Лар. Позади алтаря фламин Юпитера, старик в пурпурной мантии, поддерживал огонь, бросая в него из золотого дискоса крупинки фимиама. Невеста слегка приоткрыла на лице покрывало, и жених подал ей священный хлеб, фарреум, который они разломили на две части и съели, смотря на огонь, в то время как жрец бормотал непонятные слова на древнелатинском языке. Потом они по очереди отпили из чаши вина, смешанного с медом, и сделали возлияние на огонь. Дважды с треском взвивался огонь длинным ярким пламенем. После этого супруги протянули друг другу руки, пристально глядя один другому в глаза. Фламин произнес громким голосом:
– Во имя Юпитера, богов Пар и пламени очага, соединяю вас. Преломлением хлеба, вкушением вина и возжжением огня, отныне вы супруги. Юлия Гелькония, ты жена Марка Гельвидия. Его боги – твои боги, его дом – твой дом, его родители – твои родители, его друзья – твои друзья. Вы соединены по законам человеческим и по закону божественному.
Тогда супруг бережным движением снял покрывало с чела новобрачной и взял ее за обе руки. Они стояли неподвижно, смотря друг другу в глаза. Священнослужитель бросил на супругов несколько искр и окропил их очистительной водою со следующими словами:
– Юпитер, бог домашнего очага и клятв, один может разлучить тех, кого он сочетал.
Благоговейное молчание царило среди присутствующих. Все сосредоточенно следили за исполнением священного обряда, как будто каждое слово жреца обладало силой магического очарования. В эту минуту казалось, будто души предков присутствуют в этих статуях из слоновой кости, расположенных полукругом вокруг домашнего алтаря, и что через посредство горящего на нем огня они передают свои законы, добродетель и силы юной чете, которой предстоит продолжить их существование в бесконечной цепи земных поколений.
Между тем Гельвидий подвел свою молодую жену к боковой нише, расположенной между перистилем и храмом Лар. Здесь, на возвышении, к которому вели три ступеньки, стояли два седалища, покрытых бараньей шкурой. Он посадил ее рядом с собой на этот домашний трон. Юлия Гелькония была уже без покрывала. Волосы ее были причесаны наверх, в форме башни, как причесываются весталки. На ней был венок из вербены, символ девственной чистоты. Густую волну ее волос пронизывала золотая стрела, символ мужской силы. Неуловимая улыбка смягчала ее строгие и благородные черты. Гельвидий своими курчавыми волосами и бородой, ясным взглядом и широким открытым лбом напоминал дадуха или факелоносца, приветствующего богиню на элевсинских празднествах.
При виде этой прекрасной пары Омбриций не мог удержаться от чувства зависти. Он страдал от того, что лишен такого счастья, и еще больше от сознания, что оно недостижимо для него.
Жрец Юпитера удалился. После поздравлений и прощальных приветствий семья перешла в атриум, где беззвучно двигающиеся рабы наполняли вином кубки приглашенных. Около двенадцати человек друзей осталось в перистиле для того, чтобы присутствовать при бракосочетании по обряду Изиды. Дверь в атриум затворили. Уже стемнело, и домашний храм освещала только лампада, на медной цепочке спускавшаяся с потолка.
По знаку хозяина дома раб отпер маленькую дверку в святилище пенатов, выходящее в ксилос, или тайный сад.
Тогда из двери этой вышел пожилой человек с суровым лицом. За руку он держал девушку, одетую, как и он, в жреческое одеяние египетских священнослужителей.
Это были Мемнон и его приемная дочь Альциона.
Мемнон был одет в льняную хламиду жрецов Изиды; с правого плеча его спускалась шкура леопарда. Иерофант был высокого роста и чрезвычайно худ, с выпуклым лбом и впалыми висками, бритой седой головой, прямым носом, плотно сжатым ртом и острым подбородком. Пламенная мысль, сдерживаемая холодной волей, вычеканила это энергичное лицо и частыми молниями сверкала из его глаз, глубоко сидящих под нависшими бровями. В правой руке он держал жезл с крестом, отличительный признак служителей Изиды и Озириса. Символ посвященности, этот ключ от великих тайн, был сделан из сплава золота и серебра, который у александрийских греков назывался аргирокрузеон.
Молодая девушка, которую он вел за руку, представляла прелестнейший контраст своему учителю.
На ней было одеяние Изиды. Бледно-желтая туника, с длинными прямыми складками, целомудренно обрисовывала ее стройную фигуру. Голубой головной убор покрывал ее голову. Лопасти его, похожие на сложенные птичьи крылья, совершенно закрывали ее волосы. На лбу извивалась змея из чеканного золота. На перламутрово-белой шее покачивалась фигурка из черного базальта, прикрепленная цепочкой к ожерелью из опалов. Лицо с нежными неопределенными чертами, походило на лицо любопытной и пугливой Психеи. Глаза сияли кротким светом и, казалось, искали чего-то вдали, за пределами этой залы, наполненной людьми. В руках она держала сноп цветов лотоса.
Мемнон посадил Альциону на стул, напротив новобрачных, с левой стороны от брачной комнаты, в глубине которой сквозь отворенную теперь дверь виднелось ложе из слоновой кости, увитое розами.
Фигура жрицы поразила Омбриция своей неясной прелестью и чистотой. Он рассматривал ее с напряженным вниманием. Спокойно сидя на стуле, со сложенными на коленях руками, прислонившись откинутой головой к стене, она пристально смотрела на избранную чету. Взгляд ее струился сквозь веки с длинными ресницами. Только легкое трепетание ноздрей и несколько ускоренное дыхание под туникой выдавали ее душевное волнение. Со своей откинутой головой, причудливым профилем, чуть приподнятым кончиком носа, она напоминала девушку, заблудившуюся в священной роще, под густой листвой деревьев ощущающую гнетущее присутствие неведомого бога.
Вдруг веки ее вздрогнули и закрылись. Альциона спала глубоким сном.
Тогда Мемнон, встав перед домашним алтарем и держа в руке крест, заговорил медленно, торжественным тоном:
– По просьбе твоей, Гельвидий, я приношу привет тебе и твоей подруге, привет Изиды, привет мира и света. Высшая истина обитает на недоступных высотах, но лучи ее озаряют землю. Подобно нетронутой девственнице, целомудренная и лучезарная истина сияет из глубины веков. Она спит в храме, но просыпается при звуке голоса пророков и говорит только со своими избранниками. Вам шлет она луч своего величия и радости, вам приношу я послание Изиды. Только что вас соединили по земному обряду и для земли. Я же сочетаю вас божественным образом и для неба, по вашему желанию. Это для вас день испытания, решительный час. Действительно ли вы избранная чета, предназначенная свыше друг для друга? Их насчитывается лишь немного среди миллионов супругов и любовников. Или мечта ваша не более, как мираж земного желания, дым ваших взволнованных чувств, подобный тому, что охватывает бесчисленные пары, сливающиеся лишь во временном объятии? Если вы созрели для вечного брака, если вы готовы не только к плотским деяниям, но и к божественному творчеству, голос с неба будет вещать вам, и ваше сердце должно ответить ему. Голос с неба будет вещать вам, если пожелает, устами пророчицы. Тогда внимайте – и выбирайте. Ибо душа посвященного свободна – свободна, как огонь и воздух. Но выслушайте сначала послание.
«Души суть дочери Озириса, божественного духа, и Изиды, небесного света. Блестящие искры, они были зачаты несозданным светом и оплодотворены зиждительным огнем. Пожираемые жаждой жизни, они спускаются на землю и воплощаются в тысячи форм, потом, легкие, как пар, поднимаются на родное небо, чтобы затем снова спуститься, подобно каплям дождя, выпиваемым океаном и вновь притягиваемым солнцем. Но наслаждаются они или страдают, поклоняются ли они божеству или кощунствуют, поют ли они или кричат – все жаждут вернуться лучезарными к первоначальному источнику, в величественную и священную ночь, где уже нет более преграды желанию, нет более границы знанию, туда, где Изида и Озирис сливаются в неизмеримый океан звучного и живого света.
Пути душ в мирах разнообразнее полета ласточек. Мириады их носятся, нерешительные и ленивые, в тусклом лимбе, вечном полумраке. Тысячи питаются злом, их поглощает мрак, и они возвращаются в элементы. Небольшое число душ укрепляет свою силу в борьбе, и слабый свет их сгущается у края мрачной бездны. Эти души, переходя от усилия к усилию и от жизни к жизни, поднимаются вновь к чистому источнику вечной Зари и погружаются в родной свет, пронизываемый непрестанными молниями созидающего Огня. И с этого момента они делаются участницами божественного могущества и приобщаются к управлению миром.
Подобно телам, души имеют пол. Они бывают мужскими и женскими сообразно с тем, заимствовали ли они свои свойства больше от отца, творческого Духа, или от матери, живого и пластического Света. Им определено дополнять друг друга и жить парами, для того чтобы отражать совершенное существо, и каждая ищет свою неразлучную подругу, но увы… среди скольких заблуждений!.. скольких терзаний! скольких неудачных попыток и мучительных жизней!
На земле немного совершенных пар! Счастливы мужчина и женщина, которых при встрече объял священный трепет, как от божественного воспоминания. Счастлив супруг, узнавший и приветствовавший бессмертную супругу! Объятие их священно. Ничто не может их разлучить, ничто не может сломить их. Ибо они носят в себе светильник мудрости, науку любви, созидающий огонь, способность чувствовать, понимать и давать счастье.
Принадлежите ли вы к ним, ты, гордый Гельвидий, и ты, смелая Гелькония? Чувствуете ли вы в себе мужество принести великую клятву? Хватит ли у вас смелости пренебречь всеми возможностями и силами во имя силы души, не бояться ни змей зависти, ни Гемонских ступеней, посвятить вашу любовь божественному делу, быть уже и здесь избранной, чудесной четой?
Если да, то придите соединить ваши руки над крестным кольцом, над знаком бессмертной жизни, не боясь, что вас испепелит небесный огонь, к которому мы взываем!»
Гельвидий и Гелькония встали, держась за руки, бледные от волнения. Они, видимо, решились совершить это торжественное деяние, но в глазах их еще замечалось некоторое колебание, как будто бы то, что им предстояло сделать, должно было свергнуть их с берегов времени в провал вечности.
В эту минуту взгляд Омбриция привлекло движение Альционы.
Юная пророчица, спавшая на стуле, прислонясь головой к стене, не шевелилась до этого момента. Но вдруг она сильно вздрогнула и порывисто поднесла к вискам обе руки. Глаза ее по-прежнему были закрыты, лицо выражало мучительное страдание и тревогу. Губы ее шевелились, как будто она шептала бессвязные слова. Заметив это, Мемнон подошел к ней и дотронулся пальцем до ее лба с властностью учителя, чтобы отогнать ужасное видение. Но она оттолкнула его резким жестом, поднялась на ноги и повелительно воскликнула:
– Оставьте меня все!
При этом порывистом движении шапочка, покрывавшая ее голову, упала. Пряди волос, свернутых в узел, рассыпались по ее плечам рыжеватыми волнами и засверкали на плечах золотистыми кольцами. Обнаженные руки ее распростерлись, как бы обнимая пространство. Глаза, теперь открытые, расширились, потемнели и выражали смертельный ужас. Другая душа вселилась в молодую девушку. Это была уже не робкая дева, а пифия, находящаяся во власти своего бога.
Мемнон отступил назад.
Тогда прерывистым, но ритмичным и музыкальным голосом, похожим на звон струн теорбы, вздрагивающей в такт под пальцами служительниц Паллады, когда жрец поет священный гимн, Альциона заговорила, прерывая свою речь частыми вздохами и стонами:
– О злосчастный город! Помпеи!.. Помпеи!.. Город мягких лож и прекрасной живописи, город удовольствий и забвения… где веселится Рим… где преступление и сладострастие опять вместе на покрытых пурпуром ложах… замышляя новые злодеяния… какова твоя судьба? Какой огненный бич угрожает тебе? Какой мрак обволакивает тебя своим плащом?.. Ах, ты смеешься, пляшешь и торжествуешь… как вакханка, украшенная виноградными листьями, с повязкой на глазах… Но ничто, о нет, ничто не может спасти тебя от твоей судьбы… Я вижу море огня… потом ночь, непроглядная ночь и земля сотрясается в своих недрах… гром наверху… и гром под землей, еще страшнее первого!.. Все бегут! О, сколько мертвецов!.. И пепел падает на руки… на голову… наполняет рот… Я задыхаюсь!..
Пророчица пошатнулась, едва не лишившись чувств. Мемнон подхватил ее на руки. Голова ее склонилась, как колос под порывом ветра. Он коснулся крестом ее лба. При ощущении холодного металла она вдруг успокоилась и, постепенно выпрямляясь, продолжала, держась за плечо учителя:
– Зачем, о зачем, отец мой, ты привел меня сюда… в этот вертеп разврата? Так далеко от священного Нила с мирными излучинами? Зачем ты приносишь меня в жертву своей науке, ненасытный учитель… и бросаешь меня на сожжение этому проклятому городу?.. Видишь, там, за городскими воротами, на пути к гробницам… дымится мое брачное ложе, высокое, как пирамида… и я лежу на нем… ожидая моего супруга… А фимиам горит у подножия ложа… и голубой змейкой поднимается к небу… и смешивается с черным дымом вулкана…
При этих загадочных словах Альциона высвободилась из объятий Мемнона. Светлая радость залила ее лицо, преображенное экстазом. Она подняла руки, как птица, готовая улететь, поднимает крылья. И, как бы следя глазами за далеким и чудесным видением, скорее запела, чем заговорила:
– Барка… Барка Изиды!.. Она плывет по необозримому небу… Она спускается к нам!.. Как она прекрасна и лучезарна… легкая воздушная барка… Богиня сидит на корме… и правит рулем… А на носу стоит… кто этот прекрасный гребец?.. Это ты, мой Гений, мой возлюбленный… Антерос?.. Он делает мне знак… Да, я иду!
Альциона опять чуть не лишилась чувств от волнения. Мемнон и на этот раз удержал ее. Тогда, в порыве внезапной энергии, она обернулась к новобрачным. И громко, властным голосом произнесла:
– Вы – избранная чета… Соедините ваши руки над крестом Изиды… Принесите великую клятву… и вы войдете в барку… на миллионы лет… Придите сюда!
Гельвидий и жена его приблизились, как притягиваемые магнитом.
Руки их соединились на крестном кольце. Поверх них горел крест, и серебристое золото его, освещенное сверху огнем лампады, казалось, метало бледные молнии вокруг этих рук, заключающих брачный союз.
Мужественным голосом Гельвидий произнес клятву:
– Тебе принадлежу навеки!
Гелькония тихим, но твердым голосом прибавила:
– Где ты, Гельвидий, там и я, Гелькония.
Альциона, судорожно сжав их руки своей хрупкой, но ставшей крепкой, как тиски, рукой, продолжала торжественно:
– Вам – Любовь, Свет и Радость… мне – Страдание… Мрак… Смерть!..
Потом, закинув назад лицо, в отчаянии воздев руки к потолку, воскликнула:
– Барка поднимается… она исчезает… Антерос прощается со мною… Он покидает меня!.. Меня вновь берет земля…
Раздирающее рыдание сопровождало этот последний крик. Поддерживаемая Мемноном, Альциона, безжизненная и холодная, упала на стул. Глаза ее снова закрылись. Глубокая летаргия сменила экстаз. Гельвидий, его жена и их друзья столпились кругом нее, желая помочь ей. Но Мемнон отстранил их.
– Не тревожьтесь, – сказал он. – Принесите очистительной воды. Я окроплю ее, и через несколько минут она проснется спокойная и не сохранит никакого воспоминания о том, что она говорила и что произошло.
Омбриций следил за странной церемонией мистического брака и за еще более странными порывами Альционы, обуреваемый вихрем противоречивых чувств. Изумление и любопытство, ирония и недоумение сменялись в нем. Но, вопреки глухому возмущению, он все-таки не мог не поддаться непобедимому очарованию. Он не верил ни в богов, ни в бессмертную душу. Он не любил жрецов, считая их всех обманщиками или глупцами. Но как усомниться в этой иерофантиде и в неподдельности ее экстаза? Прежде всего его поразило внезапное преображение всего ее существа. Затем чудесная красота ее движений, порывистая стремительность ее крылатых слов увлекли его в неведомые области. Смысл ее предсказаний и ее видений ускользал от него, но разве он не видел на ее сияющем лице отблеска иного мира? Да, сверхчеловеческая радость, которую он искал так тщательно, улыбка божественного счастья на минуту блеснула на лице этой девушки, превратившейся в волшебницу, потом погасла, как луч солнца в океане туч, гонимых ураганом. Ах, как проникнуть в это святилище? Как переступить порог этой души? Как похитить этот луч? О, чего не отдал бы он в эту минуту за один взгляд Альционы!
Терзаемый этими мыслями, Омбриций вошел в атриум, куда только что вновь растворили дверь. Настала уже ночь. Звезды мигали над лишенным кровли атриумом. Музыканты и факельщики бродили вокруг девушек, которые должны были петь эпиталаму. Рабы разносили гостям замороженные фруктовые шербеты. Кубки с вином переходили из рук в руки среди шумных разговоров и веселого смеха. Омбриций быстро прошел сквозь эту толпу, вышел в вестибюль, где толпились вольноотпущенники и клиенты, и стал позади светильника. Он был уверен, что здесь ему удастся еще раз увидеть жрицу, когда она будет выходить из дома Гельвидия.
Действительно, она вскоре показалась вместе с Мемноном. Альциона снова приняла прежний вид испуганной Психеи. Голова ее была обнажена, волосы подобраны в узел. Факелы, которые присутствующие придвигали, чтобы лучше рассмотреть ее, зажигали огоньки в торсадах ее рыжих волос. При свете их яснее выступала ее алебастровая бледность. Молодые девушки с суеверным чувством прикасались к ее платью и целовали ее руки. Печальная и безмолвная, она улыбалась какой-то далекой улыбкой.
Спрятавшись за высоким светильником, Омбриций смотрел на нее со страстным желанием проникнуть в тайну этой души и погрузиться в нее взглядом. Очутившись в трех шагах от молодого человека, жрица встретилась с его пламенным и пристальным взглядом. Она остановилась и задрожала, и в глазах ее отразился страх. Тогда глаза Омбриция, как бы испугавшегося своей смелости, приняли страдальческое выражение, и невольным жестом он умоляюще сложил руки. Тотчас же взор Альционы смягчился, и упрямый рот ее, с тонкими и извилистыми губами, сложился в сострадательную улыбку. Улыбаясь, она выронила из рук лотосы. Одним прыжком Омбриций очутился возле нее, поднял цветы и передал их ей, низко склонив голову и опустив глаза.
Когда он поднял их, отступив на шаг, он увидел, что Альциона покраснела и опустила глаза. Покровительственным жестом Мемнон надел на голову своей питомицы синюю шапочку и заботливо закутал ее в серый плащ. В то же время он пронзительным взглядом окинул Омбриция. Потом жрец Изиды и его прорицательница медленной поступью вышли из дома новобрачных, мимо коленопреклоненных рабов.
В это время, в перистиле, девушки пели эпиталаму под торжественные звуки лир дорического напева:
- Гименей! Гименей!
- Сидя на ложе, подобно алтарю,
- Украшенном цветами,
- Супругу улыбается супруга, опустив глаза.
- Взмахнем факелами, рассыплем розы;
- Загораются очи, потушим светильники.
- В безмолвии лобзаний
- Обнажились сердца.
- Эрос! О, прекрасный Эрос!
- На ложе любви воздвигни свой яркий светильник.
- Будем петь: Гименей! Гименей!
Прозрачная ночь сияла над Помпеями, когда Омбриций, выйдя из дома Гельвидия, направился к себе. Он был слишком взволнован, чтобы идти к Симмию и смотреть на танцы знаменитой мимы. Лавки были заперты, с террас сняты велумы. Редкие прохожие, закутанные в плащи, шли по пустынным улицам с бледными фонарями. Временами из таверн вырывались вакхические крики, и над темными садами там и сям реяли смутные голоса и замирающие звуки струнных инструментов или флейт. Усталый от наслаждений и отяжелевший от дремоты город засыпал, в то время как миллионы звезд снопами искр прорезывали беспредельный свод небес.
Охваченный каким-то необычайным, почти сверхчеловеческим волнением, которого он никогда дотоле не испытывал, Омбриций думал: «Что же такое случилось со мною? Неужели моя жизнь и течение моих мыслей отныне изменятся? Неужели вселенная сразу увеличилась? И за этим видимым миром существует другой? Ах, суждено ли узнать это когда-либо? Плотная черная завеса прикрывает тайну жизни. Но вот неизвестная мне девушка хрупкой рукой своей отодвинула край этой завесы… и из отверстия сверкнул ослепительный луч!.. Где найти снова этот свет, если не в глазах Альционы? Но увижу ли я ее когда-нибудь еще?»
Он перешел безлюдный форум, населенный в ночном безмолвии лишь неподвижными статуями консулов и императоров. Дойдя до главной аркады, он бросил взгляд на горы, море и небо, как бы ища у них утоления своей душевной тревоги. Сероватый конус Везувия, над которым забился красноватый свет, слабо дымился. Широкий залив простирал в беспредельность свои берега, похожие на две призрачные руки. Звезды мерцали обманчивым светом. Величественный и непроницаемый мир дразнил пытливый ум, скрывая под волшебной красотой чудесную и страшную тайну вещей.
Завеса снова опустилась.
Глава III. Омбриций
Дом Омбриция, полученный им в наследство от дяди-ветерана, находился вне Помпей, недалеко от Сарнских ворот, среди поля, засаженного виноградом и оливками. Развалившаяся хижина служила жилищем управителю и рабам, обрабатывавшим землю. К дому хозяина вел портик из окаменевшей лавы, построенный без всякого стиля. Обстановка дома была бедна и уныла. На ветхих стенах, на расшатанных колоннах висели ржавые сабли, продырявленные щиты – воспоминания давних войн. В глубине стояла маленькая статуя Августа, которой старый ветеран воздавал культ. Налево находилась узенькая спальня с походной кроватью. Направо – комната, несколько побольше, со столом, несколькими деревянными сиденьями и очагом, служившая одновременно и кухней, и столовой.
В этой-то комнате и расположился Омбриций, вернувшись домой. Разведя огонь из сухих виноградных лоз, он зажег глиняную лампу и поставил ее на стол, рядом с блюдом чечевицы, до которого не дотронулся утром. Этот день и эта ночь возмутили в нем все его прошлое, уже покрывшееся пеплом. Первым его чувством было раздражение против своей бедности, дикое возмущение против несправедливости судьбы. Но жгучие мысли, возникшие в его мятежной душе, заставляли его замкнуться в своей берлоге, чтобы пересмотреть всю свою жизнь и постараться провидеть будущее.
О, как беспокойна, бурна и непостоянна была эта жизнь! Он был сыном вольноотпущенницы и ветерана, служившего в легионах Тиберия и произведенного в римские всадники. Отец его владел поместьем в Тускуле. Печальное детство его совпало с кровавым царствованием Нерона. Ранняя юность Омбриция была омрачена атмосферой диких оргий и чудовищных преступлений, исходивших в то время от трона цезарей и тяготевших над миром, как отравленная туча. И все же этот период был самым чистым в его жизни, только он один был озарен лучом света. Желая посвятить себя ораторскому искусству, он посещал уроки римских риторов. Но настоящим его учителем был Афраний, старый философ-стоик, живший в уединенном домике на горе Тускула и обучавший там нескольких учеников. Этот бедный человек, почти нищий, высланный Нероном из Рима, питавшийся луком и черствым хлебом и живший в жалкой крестьянской хижине, заставил его пережить самые возвышенные волнения юности, пробудил в еще незапятнанной душе его чистые порывы к добродетели. В тот день, когда Афраний развил перед ним и несколькими молодыми людьми основную мысль философии Зенона о том, что единственное благо души заключается в ее собственном свободном суждении, что высшее добро заключается в ее власти над самой собою, в уме его зародилось новое представление о человеке и о жизни. Впоследствии, когда Омбрицию было уже шестнадцать лет, Афраний, обращаясь к нему непосредственно, воскликнул: «Омбриций Руф, если ты хочешь быть счастливым, если хочешь быть свободным, если хочешь иметь великую душу – откажись от всего. Тогда ты сможешь гордо держать голову, потому что будешь свободен от всякого порабощения. Осмелься поднять глаза к Богу и сказать ему: «Делай со мной, что хочешь!» При этих словах Омбриций затрепетал мужественной гордостью. На следующий день он спросил учителя, не жалеет ли он о Риме, откуда его изгнал Нерон. Тогда Афраний показал ему на горизонте семь холмов Вечного города, казавшихся с высоты Тускула ниже маленьких бугорков, и сказал: «Если ты понимаешь мысль Того, Кто управляет вселенной, если ты повсюду носишь ее в себе самом, то можешь ли ты сожалеть о нескольких булыжниках и о красоте камней?» Юный ученик пришел в восторг от твердости учителя, и душа его показалась ему, действительно, величественнее этого Рима, откуда его изгнал Нерон, которого он умел так хорошо презирать. Но в особенности восхищало ученика мужество учителя, равное его учению. Гораздо ярче, чем картины сражений, героических битв, в которых впоследствии он и сам принимал участие, в памяти его запечатлелась одна сцена, как высшая степень трогательного человеческого благородства.
Однажды испуганные крестьяне прибежали в жилище философа с криками: «Спасайся! Беги! Центурион Цезаря с двумя ликторами ищет тебя!» Это была почти верная смерть. Афраний спокойно ответил: «Покажите им дорогу». В сопровождении учеников он встретил центуриона у двери своего жилища и обратился к нему с вопросом: «Зачем ты пришел ко мне?» – «Цезарь узнал, что ты его не боишься, и спрашивает тебя, что ты считаешь своей лучшей защитой?» – «Вот это», – ответил Афраний, вынимая из-под тоги кинжал, который всегда носил при себе. «Ты обратишь его против Цезаря?» – «Нет, только против себя, если он поставит преграду моему слову или моей свободе». – «Тогда дай его сюда!» – со свирепым видом сказал центурион, выхватывая кинжал у стоика. Ученики побледнели, думая, что посланный Нерона сейчас убьет их учителя. Афраний не двинулся и спокойно сказал: «Поблагодари Цезаря, благодаря ему я обрету наконец свободу!» Но преторианец возвратил оружие философу с двусмысленной улыбкой. «Возьми его, – сказал он, – он скоро тебе понадобится. Цезарь хотел только испытать тебя, но если ты увидишь меня еще раз, не надейся более ни на что». Посланный Нерона исчез, ученики бросились на колени перед учителем, целуя края его потертого плаща. Он кротко поднял их и запретил говорить что-либо об этом случае. Потом сел на краю маленькой террасы, лепившейся у выступа Апеннинской горы, с которой глаз обнимает простор Лациума до моря и безбрежность пространства, которое уже заполнял темный свиток сумерек. И в течение части ночи, под далекими светилами небесного свода, Афраний говорил своим ученикам о Высшем Добре, о Провидении и о Душе Мира, в которую с блаженством после смерти погружается человеческая душа, если она жила согласно с божественным законом.
В эту ночь Омбриций обещал себе сделаться достойным своего учителя. Но это решение удержалось в нем недолго. Уже вскоре, живя в Риме, молодой человек узнал, что его учитель был обезглавлен наемными убийцами Нерона, приказавшего доставить ему голову философа. Тирану захотелось иметь эту беседу с мудрецом, в которой последнее слово оставалось за ним, и он мог таким образом быть уверенным, что победил своего противника. В то же время все философы были изгнаны из Рима. Подавленный этим несчастьем, Омбриций спрашивал себя, какая польза во всем их мужестве. И в возмущении своем против человеческой судьбы он проникся сожалением к своему учителю и усомнился в философии. Отвлеченная мысль, не могущая преобразовать мира, показалась ему праздным и суетным трудом. Он захотел приобрести власть, чтобы самому располагать жизнью и смертью и судить по своему усмотрению. Тогда, с какой-то яростью, он устремился в военную карьеру.
Он поступил в армию Веспасиана, потом в армию его сына, Тита, командовавшего войсками на востоке. Он познал суровые труды военной жизни, ее мужественные радости и мучения, суровые переходы, бессонные ночи накануне битв, бесконечную усталость и неприятность повиновения беспощадным начальникам, но познал также и удовольствие от ощущения самодовлеющей силы, возбуждение опасности, волнение битв и упоение победы. И особенно познал радость от сознания своей власти, когда бросал в бой или удерживал свою когорту. И так как стремление к господству составляло основную черту его характера, в нем развилось ненасытное честолюбие.
Надо приобрести, думал он, большую власть, чтобы стать могущественнее Афрания и отомстить за него, раздавив в то же время своих собственных врагов. Он легко добился степени военного трибуна в легионе Тита при осаде Иерусалима. Он считал уже, что ему остался всего один шаг до высших отличий, как вдруг одна неосторожность сразу разрушила все его смелые надежды.
В одном сражении в Сирии был убит военачальник, командовавший легионом. Омбриций вскочил на его коня, принял на себя командование и одержал победу. Тотчас же солдаты провозгласили его начальником легиона. В то время каждый легион желал иметь своего цезаря, и один из его легионеров крикнул: «Да здравствует император!» Вместо того чтобы наказать солдата, Омбриций наградил его. Об этом было донесено Титу, ревниво оберегавшему империю для своего отца. Вместо того чтобы назначить Омбриция начальником легиона, Тит исключил его со службы, наградив почетным венком и крупной суммой денег.
Тогда Омбриций Руф, в то время уже осиротевший, поехал в Помпеи, чтобы вступить во владение наследством, оставшимся после дяди. Преисполненный горечи и ожесточения, обманутый в своих честолюбивых мечтах, пылкий юноша уже готов был вернуться к философии, ища в ней забвения своих неудач, когда встреча с Гедонией Метеллой вновь пробудила в нем прежние желания перспективой новых возможностей. Одного взгляда патрицианки, раскинувшейся в носилках, было достаточно для того, чтобы перед глазами его вновь восстали все недоступные наслаждения, связанные с консульским достоинством и императорским пурпуром. И как будто этот образ был недостаточно властен, чтобы смутить его, его сменил другой, проникший до неведомых глубин его существа. Жрица Изиды после патрицианки… Альциона после Гедонии Метеллы!.. Разве она не была уголком глубокого и ясного неба после мрачного блеска императорского ада? Неожиданное зрелище! И какой простой и чудесной явилась эта детская и ясновидящая душа. Она скользнула по его душе, как дуновение райского мира. Она сразу перенесла его далеко от кровавой арены, от гнусной оргии, какую представлял свет. Как назвать женщин, которых он знал до сих пор? Низкими орудиями наслаждения или опасными животными. А мужчины? Звери в касках и кирасах, вооруженные хитростью и умом, или несчастные загнанные животные, жертвы своих палачей, или презренные царедворцы, плетущиеся за стаей хищных зверей. Даже сам Афраний, благородный стоик и его учитель, представлял ли он что-либо иное, кроме бессильного разума в жалком теле? Альциона же была душа. Небесная и трепетная душа в перламутровой белизне прекрасного девственного тела. Она сверкала, эта душа, в ее нездешних глазах, струилась в ее золотых волосах, как огненная вода. Он видел и слышал эту человеческую лиру, тонких струн которой касался какой-то невидимый гений, и колебания их были дыханием из другого мира, дыханием неосязаемым, но сладким, пробуждающим рой смутных мыслей и далеких воспоминаний. А позади Альционы, наивной и бессознательной прорицательницы, таился целый мир, невидимый мир, о котором говорят поэты и которого никто не видел, – быть может, единственно истинный мир… Ах, если бы он действительно существовал, какое предстояло бы завоевание, какая радость и какая власть, несравнимая с радостью и властью обладания империей! Омбриций дрожал всем телом, загораясь этим новым желанием. Любил ли он уже эту девушку, ответившую на его повелительный взгляд кротким и печальным взором? И любит ли его Альциона? При этой мысли у Омбриция закружилась голова, как при виде разверстой бездны, залитой светом.
Он лихорадочно мешал огонь обломком сухой лозы. Огонь погас. Масло в лампе все выгорело, и пламя светильни бросало лишь красноватый отблеск в глубокий мрак. Омбриций встал, глубоко вздохнул, и из груди его вырвался хриплый стон. Потом вышел на двор. Пройдя несколько шагов, он очутился у границы своего владения, глубокой канавы, по которой протекала Сарно. Маленькая речка молчаливо разъедала крутую скалу, поросшую по обоим склонам оливками и виноградниками. За цепью Апеннин белела заря, залив оставался тусклым и темным. Помпеи виднелись темной массой, над которой возвышались башни, храм Юпитера и триумфальная арка. При виде этой картины в воображении Омбриция снова восстала фигура Гедонии Метеллы, лежащей на носилках.
Но ее сейчас же сменило восторженное лицо Альционы. Затем трибун мысленно увидел своего учителя Афрания, который строго смотрел на него, и ему показалось, что он слышит его торжественный голос, говорящий: «Иди в храм Изиды, чтобы быть в числе посвященных».
Тогда, при мерцании звезд, в виду спящего города и все еще дымящегося Везувия, Омбриций громко сказал, обращаясь к безмолвию и ночи:
– Хорошо, я пойду.
Успокоившись на этом решении, утомленный трибун лег спать на ложе ветерана.
Глава IV. Мемнон
В эту ночь Мемнон тоже не спал и был взволнован и встревожен не менее, чем Омбриций. Поспешно вернувшись домой со своей приемной дочерью, он нашел старую нубийку у входа в храм. Альциона погрузилась в состояние оцепенения, обычно следующего за лихорадочным возбуждением экстазов. Мемнон поручил ее верной служанке, которая повела ее через обнесенный стеной портик в курию Изиды, нечто вроде внутреннего двора, окруженного несколькими комнатами, совершенно закрытого от посторонних и недоступного ни для кого, за исключением иерофанта. Иерофантида шла усталая, покачиваясь и опираясь на плечо старухи. Тем временем жрец по внутренней лестнице вышел на террасу, расположенную на крыше храма, – обычное место его ночных размышлений.
Храм Изиды задним фасадом был прислонен к театру и находился в южной части города, неподалеку от ворот Стабии. Терраса приходилась на уровне крыш домов. Позади нее высился огромный амфитеатр, казалось, готовый раздавить ее своей каменной громадой. Маленький храм прилепился к величественному зданию, как гнездо ласточки. Поднявшись на крышу храма, Мемнон долго вдыхал прохладный ночной воздух, вглядываясь в звездное небо. Но вместо успокоения, какое обычно проливали в его душу созвездия, вид их только увеличивал его беспокойство.
Он думал о странном экстазе Альционы, о ее мрачных пророчествах и о том, какой сильной толчок испытало все его существо при встрече с дерзким незнакомцем. Эти неожиданные события, подобные сверканию непрерывных молний, принимали в его глазах страшное значение сверхъестественных символов и грозных предупреждений. Они не только освещали все его прошлое, перемешав все самые глубокие и самые темные слои его души, но бросали устрашающий свет и на будущее. Он переживал один из тех часов, когда под грубыми ударами жизни судорожно сжавшаяся душа собирается с силами у очага загоревшегося сознания. Для того чтобы понять события, ему необходимо было сосредоточиться.
Он вздохнул еще один раз и огляделся вокруг. Перед ним нагроможденные дома закрывали вид; сзади – его давила окружность амфитеатра. Чтобы не задохнуться, ему нужно было больше воздуха, больше простора, больше неба. Тогда он вспомнил, что декурион Гельвидий, поселяя его несколько недель тому назад в храм Изиды, показал ему в толстой стене в конце террасы ржавую бронзовую дверь, ведущую в прилегающее здание. Дверь эта выходила в коридор, через который можно было проникнуть внутрь театра и подняться в идущую вдоль стен его галерею, откуда открывался вид на море и часть залива Неаполиса. Ключ висел у его пояса, и он отпер дверь. Пройдя бесстрашно по темным переходам, он быстро достиг амфитеатра и поднялся в крытую колоннаду, венчавшую здание.
Огромный амфитеатр и сцена были пусты. В эту безлунную ночь театр казался впадиной, похожей на кратер вулкана. Вдали, под беловатым светом звезд, простирался залив, окутанный легкой дымкой. Крайняя оконечность капреи сливалась с мысом Соррентума. На противоположной стороне он видел маяки Неаполиса, древнюю Парфенопею, маяки Путэоли и Мицены и, совсем вблизи, пирамидальный остров Пифекузы, похожий на призрак, скорчившийся в открытом море. Мемнон сел под открытой колоннадой. Некоторое время он смотрел на раскрывшийся перед ним вид с заливом, морем и небом, колыхавшийся в его глазах, как колеблемый ветром занавес. Он опустил голову и заглянул в темную воронку с круглыми ступенями, зиявшую у его ног. В эту минуту бездна его души показалась ему не менее мрачной, чем этот огромный амфитеатр, сооруженный людьми для того, чтобы вызывать в душах своих ближних возвышенные химеры поэзии. Вскоре под его упорным взглядом образы прошлого выступили из бездны. Перед ним предстали главные сцены его жизни, сначала разрозненные, потом объединенные в группы и, наконец, связанные в живую цепь. И трагический хор торжественными движениями направлял нити его судьбы, запутывая и перевивая их по своему усмотрению.
Он был сыном малоазийского грека. Обладая большой жаждой знания, он поступил в школу александрийских философов. Страстное стремление к трансцендентальной истине пронзало всю его юность и всецело подчинило себе его зрелый возраст. Вначале он был ослеплен красноречием учителей и блестящим нагромождением систем, которые они строили, разрушали и воздвигали вновь наподобие искусных зодчих. Но в конце концов он одинаково разочаровался и в рассуждениях стоиков и эпикурейцев, учеников Платона и Аристотеля, и в праздных хитросплетениях риторов и софистов. Ему преподносили слова и абстракции, тогда как ум его жаждал глагола, который открыл бы ему мир и наполнил бы душу бессмертной жизнью. Однажды, когда он прогуливался с одним старым египтянином по берегу Мареотидского озера, человек этот сказал ему, что учение Гермеса, в том виде, в каком оно некогда преподавалось в храмах, и которого современная египетская религия является лишь грубым искажением, одно способно дать удовлетворение уму, подобному его.
«Ибо, – говорил старик, – это учение не только просвещает разум величием и обоснованностью своих построений, но еще присоединяет практику к теории и опыт к мысли, постепенно заставляя проникать ученика к источнику вещей, в невидимый мир, где находится ключ всего». – «Где же найти это учение и этих учителей?» – спросил Мемнон. «Увы, – ответил египтянин, – учение существует по-прежнему в книгах Гермеса, хранящихся в некоторых храмах в Фивах, Мемфисе и Нижнем Египте. Но оно остается мертвой буквой, потому что жрецы, умевшие оживотворять его, исчезли. Вот уже много веков как наука о тайнах мироздания утратилась, оттого что находилась в руках недостойного духовенства. Гнусный Камбиз приказал убить величайших пророков этой религии и сжечь их книги. Птолемеи относились довольно терпимо к оставшимся в живых последователям этого учения, но римские цезари истребили их, угадывая в них тайных врагов своего могущества. И теперь настоятели храмов, хотя и носят громкое название «пророков», в сущности, не более как алчные владельцы огромных богатств и невежественные хранители непонятной науки. Они строго соблюдают древние обряды и вместе с тем являются презренными сообщниками цезарей и их проконсулов». – «Неужели не осталось ни одного, которому было бы ведомо предание и который обладал бы истинным знанием?» – спросил Мемнон. «Да, есть один – это старый Саваккий, изгнанный Тиберием; он живет в древней гробнице в Ливийских горах на краю пустыни, неподалеку от одной из тех пирамид, что тянутся в море песка позади пирамиды Мемфиса». – «Нельзя ли мне повидать его?» – «Сходи к нему и скажи, что это я направил тебя. Он даст тебе совет».
Среди желтых обрывков Ливийских гор Мемнон нашел Саваккия на пороге пещеры и рассказал ему о своем намерении. Суровый, почти дикий на вид пустынник взглянул на пришельца пронзительным взглядом и сказал: «Ты ищешь истины, молодой человек? Знаешь ли ты, чего стоит в наше время любить ее? Так вот, взгляни на меня. Я был богат, могуществен. У меня был собственный храм, стада и поля, у ног моих был целый город. И видишь, кем я сделался, потому что любил истину ради нее самой и превыше всего. Нравится ли тебе мой путь и представляется ли тебе завидной моя цель?» – «Да! – воскликнул Мемнон с юношеским воодушевлением. – Бог мне свидетель, я согласен на все, лишь бы добиться света!» – «Хорошо, – сказал Саваккий, после того как долго всматривался в его лицо проницательным взглядом. – Ты отправишься в храм Изиды Севинитской с этой таблицей, на которой я напишу несколько знаков. Первосвященник Смердис примет тебя в качестве иерограммата. Он даст тебе книги Гермеса, так как он один владеет подлинными, и научит тебя священному языку. Это все, что он может для тебя сделать. Если ты захочешь идти дальше, то должен будешь искать один. Ибо ты должен знать, что всякий человек становится посвященным лишь благодаря самому себе. Истина имеет только один храм, но в него ведут тысячи тропинок, и каждый должен найти свою». Мемнон взял таблицу, испещренную иероглифами, старик схватил его за руку и, сильно сжимая ее, заглянул ему в глаза. «Я вижу, – сказал он, – душа твоя чиста, чувства твои целомудренны, ты победил сладострастие. Это очень много, но это не все. У тебя страстная душа и слишком нежное сердце. Я боюсь, как бы ты не поддался слабости… Тот, кто хочет завоевать истину, должен любить ее твердым сердцем и непоколебимой волей!» И Мемнон почувствовал, как пальцы старика стиснули его руку, словно огненным кольцом, а горящий взор его впивался ему в глаза, как острый меч. «Еще одно, – прибавил старик, – когда ты достигнешь порога третьей сферы, приходи ко мне, потому что дальше ты не сможешь проникнуть». – «Что такое третья сфера?» – робко спросил Мемнон. – «Узнаешь, когда минуешь две первых». С этими словами Саваккий поднялся со своего места. Он положил свою худую, почти бесплотную руку на голову Мемнону, и молодой человек почувствовал, как мозг его залила теплая волна, проникшая дальше во все тело. Глубокое волнение, безмолвная жалость отразилась на минуту во властном взоре старика. Но, как бы боясь поддаться нежности, он встряхнул своими лохмотьями и воскликнул с повелительным жестом: «А теперь ступай!»
Мемнон спустился, не оглядываясь, по каменистой горной тропинке. Он прошел полосу белого, гладкого песка, отделяющего в этом месте цепь Ливийских гор от зеленой ленты Нила. Вскоре он увидел женщин и детей, копошившихся на клеверном поле среди коз и овец. Шумными и радостными криками они приветствовали незнакомца, побывавшего у отшельника, святого исцелителя. Он сам испытывал какую-то радость, смешанную со страхом. Он свободно избрал свою участь, и мысль о ней преисполняла его необычайным воодушевлением. Но в то же время он чувствовал, что в жизни его отныне будет нечто роковое, неизбежное. Судьба железным кольцом сковала его руку с рукой учителя.
Храм Изиды Севенитской возвышался в открытом поле, в обширной равнине дельты, на правом берегу Нила, в двадцати милях от его устья. Входом к нему служил большой пилон; он был окружен низкими домами, в которых жили священники со своими семьями, и представлял большой прямоугольник, обнесенный высокой стеной. Храм господствовал над всей местностью. Из перистиля его с тяжелыми колоннами, увенчанными капителями наподобие папирусов, на необозримое пространство раскрывался плоский горизонт, с каналами, маисовыми полями и пастбищами. Посреди этих возделанных участков Нил катил свои воды длинными излучинами между поросшими тростником берегами. Покрытые пальмами островки там и сям пестрили его гладкую, как у озера, поверхность. При приближении к морю величественная река, отец Египта, сама расширяется, как море, и, по-видимому, заботится только о том, чтобы отражать небо со всеми его дневными и ночными красками.
Здесь протекли лучшие годы Мемнона. Первосвященник Смердис, осторожный и робкий человек, принял его благосклонно по рекомендации Саваккия. Александрийский грек сумел завоевать его доверие. В короткое время он изучил язык иероглифов и сделался первым писцом храма. Смердис разрешил ему изучать книги Гермеса, написанные на свитках папируса, хранившихся в потайной комнате храма. Он проникся ими, переводя их на греческий язык. Знакомство с этим учением явилось для него своего рода откровением. Ему казалось, что он присутствует при рождении и постепенном развитии мира на протяжении тысячелетий. Периоды мира медленно раскрывались перед ним, как белые, розовые и голубые лотосы, закрытые венчики которых каждое утро всплывают на поверхность Нила и распускаются один за другим под лучами солнца. И так же, лепесток за лепестком, раскрывалась и его душа на поверхности великой реки жизни. В течение нескольких лет это страстное изучение удовлетворяло его ум. Потом снова наступило утомление. Видеть возможную истину – значит ли это обладать великой тайной, или это лишь игра его ослепленного ума? Нет, это не значило знать, это значило лишь отдаваться более пламенной и более прекрасной мечте. И это не значило приподнять плотную завесу, прикрывающую то, что таится по ту сторону видимого предела, не значило шагнуть за завесу и войти в великую лабораторию душ, существ, жизни!
Нет, он еще не пил из источника вещей, и жажда его оставалась по-прежнему неутоленной.
Глава V. Альциона
Через некоторое время после этого в жизни Мемнона произошло великое событие, послужившее источником его безмерного блаженства и бесконечных мучений.
Однажды ночью, гуляя по берегу Нила, он увидел большую барку, стоявшую на якоре в бухте. По форме ее он признал в ней финикийскую галеру, на которых привозят в Египет пурпур, сирийские ароматы и персидские ткани. Две тонкие реи, изогнутые как крылья, делали ее похожей на ястреба, опустившегося в тростники. Движимый любопытством и точно привлекаемый какой-то непобедимой силой, Мемнон подошел ближе. С берега на галеру были проложены мостики. Жрец Изиды поднялся по ним. На палубе не было никого. Гребцы веселились в соседней деревушке, а пьяный шкипер спал на пустом винном бурдюке. Тогда, при свете луны, заливавшем барку, Мемнон увидел у кормы ребенка, спавшего на подстилке из сухих водорослей. Это была девочка лет двенадцати, одетая в рваное платье, почти в лохмотья, кое-как накинутые на ее худенькое тельце. Золотистые волосы ее перемешались с водорослями, и вся она походила на птичку с перешибленным крылом. Вдруг она застонала во сне. И стон этот был так жалобен, выражал такое страдание, что Мемнон громко спросил: «Что с тобою, дитя мое?»
Низкий голос священника имел металлический звук тех щитов, что висят в храмах и при ударе в них заставляют вибрировать все лиры и треножники святилища. Каким-то волшебством прозвучал он в лунном сиянии этой дивной ночи, при котором Нил, озаренный розовым светом, его серебристые острова и далекие берега походили на берега райских морей. Наступило продолжительное молчание. Неуловимый ветерок пробежал по тростникам, как долгий вздох… и девочка встала. Обеими руками она отвела от лица пряди золотых волос. Широко раскрыв глаза, она подошла к священнику и потрогала его руку, как бы для того, чтобы убедиться, что перед нею живое существо. «О, это ты, это ты!» – прошептала она глухим голосом. Потом упала на колени и с мольбой, простирая к нему руки, воскликнула: «Спаси меня, спаси меня от этих людей! Они хотят продать меня!» Глубоко взволнованный, Мемнон поднял девочку и, прижимая ее к себе, сказал: «Не бойся ничего, пойдем со мною!»
Жрец Изиды и маленькая гречанка, уцепившаяся за его руку, поспешно отправились к храму. Дорогой девочка часто оборачивалась назад, посмотреть, не бегут ли за ней злые гребцы, чтобы отнять ее у ее спасителя. Она успокоилась только тогда, когда они прошли большой пилон и когда дверь ограды захлопнулась за ними. Тогда она рассказала свою историю. Она была родом из Самофракии. Во время кораблекрушения ее родителей выбросило вместе с нею на риф в Эгейском море. Их убили пираты, а девочку отдали купцам из Тира, чтобы они продали ее в невольницы в Верхнем Египте. Грубые моряки обижали и били девочку. Однажды ночью, обезумев от их угроз, она хотела броситься в море. Но на носу барки к ней подошел незнакомый человек и остановил ее, подняв руку, потом исчез, как тень. Неделю спустя, когда перед нею явился жрец Изиды, она узнала в Мемноне видение, которое ей явилось на барке. «Тогда я поняла, – сказала она, – что ты мой спаситель, новый отец, которого мне посылают боги!»
Мемнон, в свою очередь, убедил себя, что этот ребенок, наделенный двойным зрением, послан ему в награду за его усилия, дочь, подаренная его сердцу, лишенному нежности, – живой светильник, который ему даруют верховные силы для того, чтобы повести его, быть может, в таинственные области потустороннего мира. Это был слабый, еще колеблющийся свет, но он мог разгореться и окрепнуть в его руках. Он также, увидев спящего в барке ребенка, увидев, как девочка встала и, точно во сне, пошла к нему, содрогнулся до глубины души, и ему показалось, будто он узнал ее. Ах, в какой иной жизни встречал он эту душу? Вечная тайна для его настоящей жизни! Но это глубокое, мгновенное сходство было несомненно. И существовала эта надземная связь, более сильная, чем все иные. Ибо никакое предыдущее волнение не могло сравниться с тем, которое он испытал, заключив в свои объятия это дитя. Ведь Платон говорит: «Узнать – значит вспомнить»; а неизвестный мудрец прибавляет: «Нет ничего священнее тайны воспоминания, ибо любовь двух душ есть воспоминание о жизни их в Боге». Перебирая свое прошлое, Мемнон снова вздрогнул от изумления и радости. Он вспомнил, что, когда он обратился однажды к дельфийской прорицательнице и спросил ее: проникнет ли он при жизни своей в тайну другого мира, оракул ответил: «В стране Изиды морская чайка принесет тебе ключ от души». А разве он не нашел эту дочь Греции в барке похитителей, как чайку в плавучем гнезде? И он назвал ее Альционой.
Вначале Мемнон без рассуждений отдавался счастью иметь дочь. Крупной суммой денег он успокоил тирских купцов, с криками явившихся требовать у него свою добычу. Затем он без труда добился у своего начальника позволения поселить свою питомицу вместе с женами и дочерьми египетских священников, прислуживающими в храмах. Женщины эти принимали участие в церемониях культа, в жертвоприношениях, в священной музыке, а если они обладали редким даром ясновидения, ими пользовались для целей тайной науки. Альциона была отдана на попечение старой нубийке по имени Нургал, которая должна была выучить ее играть на теорбе. Мемнон взял на себя преподавание священных гимнов, поэзии и истории богов. С первых же дней маленькая гречанка проявила странный характер. Обычно робкая и пугливая, по временам она впадала в почти безумную веселость. Тогда глаза ее из голубых становились фиолетовыми и приобретали странный блеск. Движения ее, ее непроизвольные жесты всегда исходили из глубины ее существа; они выражали ее душевное настроение и чувства и прорывались иногда, как молнии. Она переходила резкими скачками от одной мысли к другой. В ней уже ясно намечались две отдельные личности. Гуляя в полях со своей нубийкой, она резвилась среди молодых колосьев и козлят, как маленькая вакханка. Но в храме, с Мемноном, лицо ее становилось строгим, манеры сдержанными. Уже с первого дня она чувствовала себя в храме, как дома. Бесстрашно осматривала статуи богов. Жадный взгляд ее взбегал вверх по огромным колоннам, покрытым раскрашенными фигурами и иероглифами до самых разноцветных капителей, поддерживающих крышу храма своими связанными в сноп пальмовыми ветвями, похожими на колоссальных размеров цветочный венчик. Взгляд ее подолгу останавливался на потолке, где царят, как на новом небесном своде, символические знаки зодиака. Безмолвная, восхищенная, но не удивленная, Альциона, по-видимому, признавала эту область своей родной. Она не могла долго следить за какой-нибудь идеей или распределять по своим местам все части огромного целого, но иногда сразу схватывала самую сущность предмета. Угадывания ее были внезапны, мгновенны и непредвиденны. Однажды она сказала про статую Озириса: «Он никогда не смеется, потому что пришел из страны мертвых». В другой раз, стоя перед статуей Изиды, она заметила: «Она улыбается, потому что сошла с неба».
Мемнон проводил с нею чудесные часы в прохладе полутемного храма. Она слушала его, внимательная и покорная, в различных позах, то лежа у его ног, опершись головой о его колени, то стоя перед ним, то расхаживая крупными шагами, как будто ей необходимо было выразить в движениях ощущения и волнение, которые вызывали в ней слова священника. Легенда об Озирисе и Изиде обладала свойством погружать ее в состояние грезы. Иногда она прислонялась к какой-нибудь из гигантских колонн, скрестив над головой руки, закругленные, как ручки амфоры. Поглощенная своими мыслями, она, казалось, старалась припомнить иной мир. Если в храм прорывался косой луч солнца через какое-нибудь отверстие архитрава и озарял юную девственницу в этой позе, она казалась тогда ионической лирой, с ручками из слоновой кости и золотыми струнами, – живой лирой, ожидающей руки артиста. Иногда после таких периодов мечтательности молодая девушка резким скачком возвращалась на землю. Случалось, что она обнимала рукой руку Мемнона и, улыбаясь своими тонко изогнутыми губами, говорила: «Ах, отец, ведь мы уедем когда-нибудь в барке с красными парусами и отправимся на голубые острова великого моря?» И Мемнон, в порыве счастья, прижимал к себе голову сиротки, приглаживал ее волосы и отвечал: «Да-да, моя Альциона, моя беленькая чайка, когда-нибудь, когда-нибудь мы уедем вместе!»
Время от времени приходилось давать чайке полетать. Изредка Мемнон позволял Альционе покататься в барке по Нилу под охраной старой нубийки. Окрашенный голубой краской челнок, в форме гондолы, был совершенным подобием священной барки, употребляемой при религиозных церемониях. Тонкий остов ее оканчивался на носу чашечкой лотоса. На корме кусок полотна, перегнутый в форме раковины, покрывал своей тенью катающихся. Два гребца и надежный рулевой управляли этим челноком. Все нильские лодочники знали привязанную у храма барку и относились к ней с благоговением, как будто в ней каталась сама богиня. Они считали святотатством не только дотронуться до нее, но даже и подъехать к ней чересчур близко. Поэтому Альциона и старая нубийка мирно разъезжали, как две царицы, по огромной реке. Часто они приставали к противоположному берегу, где вереницей проходили верблюды и ручные страусы. Или высаживались на тенистых островках, где дикие газели резвились между пальмами.
Так прошло несколько лет. В расцветшей девушке зарождалась женщина. Альционе было семнадцать лет. Зимой, когда солнце умаляет зной своих лучей и покрывает Египет зеленью ранней весны, во время убыли вод, возобновлялись прогулки по Нилу. Среди речных островов был один, который особенно нравился Альционе. Она постоянно ездила туда. Остров Камышей был больше других. Густая заросль папируса опоясывала его плотной лентой. Внутри на нем был пальмовый лес и обширные луга, куда дети бедуинов пригоняли пастись своих коз. Паромщик, переправлявший путников с одного берега реки на другой, приставал и к этому острову. Барка Альционы подплывала к нему со стороны тихой бухты. На берегу великолепная сикомора венчала дерновый холм, отбрасывая на большое пространство свежую тень своих жестких листьев. Тростники папируса окаймляли холм и бухту с виду непроницаемой оградой вдвое выше человеческого роста. Но сквозь чащу их влажные тропинки, известные одним только пастухам, вели к пальмовому лесу и на пастбища острова. В этом-то зеленом приюте, открытом небу и всем ветрам, но защищенном от солнца, Альциона любила отдыхать, в то время как нубийка и кормчий дремали в привязанной к берегу лодке. В первый же день водяные птицы, белые ибисы и розовые фламинго кольцом уставились на песчаном берегу бухты, с любопытством глядя на молодую девушку, как будто она была птицей другой породы, но, несомненно, птицей. Она стала привозить с собой хлеба и зерен маиса и бросала их птицам. Тогда крылатое племя начало слетаться целыми стаями – аисты и журавли, окрестные голуби и даже морские чайки, залетевшие в дельту. Она разговаривала с ними, звала их, отгоняла, как будто эти воздушные существа были ей более близки, чем люди, – и они, по-видимому, понимали ее, потому что слушались очаровательницу. Стоя на краю бухты, она мановением своего шарфа привлекала стаи ласточек, которые прилетали покружиться с минуту над ее головой, затем стремглав уносились и таяли в сверкающей лазури.
Заинтересовавшись этими тучами пернатых, постоянно спускавшимися все в одном и том же месте, маленькие бедуинские пастушки, десяти-двенадцатилетние мальчики, пробрались сквозь тростники к бухте, едва осмеливаясь просунуть свои смуглые головенки из зарослей папируса.
Почти с религиозным страхом они смотрели, как «дочь Изиды» – как они ее называли – кормила птиц. Но так как она не смеялась над их смущенными жестами и над их варварской речью, они мало-помалу осмелели и стали приносить ей соты меда, фиги, завернутые в длинные листья, и маленькие дудочки собственного изделия. Они останавливались на почтительном расстоянии и, преклонив колена, клали эти дары на дерн. Взамен она привозила им амулеты из храма, скарабеев из сиенского камня или маленькие изображения Озириса из черного базальта. Тогда ребятишки бросались ниц с радостными криками и странными возгласами.
Несколько раз во время этих сцен Альциона слышала как бы шорох человеческих шагов в чаще камышей. Метелки папируса наклонялись и поднимались от легкого прикосновения. Однажды густая завеса их раздвинулась и дочь Греции увидела молодого человека необычайной красоты. Поверх туники на нем была накинута баранья шкура, а в руке он держал пастушеский посох. Но вьющиеся волосы и лицо чистого греческого типа указывали на то, что он не бедуин. Большие влажные и задумчивые глаза блестели под густыми бровями, как звезды в темной ночи. У него было мужественное выражение лица, и он напоминал переодетого пастухом Эрота, из мальчика ставшего мужем. Едва Альциона заметила его, он исчез в камышах. Но она увидела его еще раз при следующих обстоятельствах. Среди бедуинских мальчиков был один шалун с головой сатира. Он один исподтишка посмеивался над «дочерью Изиды». Однажды он поймал за крыло любимую голубку Альционы, клевавшую корм из ее руки. Альциона вскрикнула от страха, но мальчик убежал в камыши, унося с собой свою добычу.
Альциона залилась слезами, но вдруг, к великому изумлению своему, увидела, как из камышей вышел незнакомый пастух, ведя за ухо маленького воришку. Он заставил его стать на колени перед Альционой и отдать ей голубку. В то время как она с восторгом прижимала к своей груди перепуганную и дрожащую птицу, незнакомец сказал серьезным голосом на чистом ионическом наречии:
– Счастлива ли теперь Альциона?
– Да, но кто ты, чудесный пастух, ты так хорошо знаешь меня, но я тебя не знаю.
– Я изгнанник.
– Из какой страны?
– Из твоей.
– Почему ты сделался пастухом?
– Пастухи живут одни. Никто не обращает на них внимания.
– Значит, ты хочешь всегда оставаться один?
– Да.
– Зачем?
– Я не могу сказать.
– Вернешься ты сюда?
– Да, если кто-нибудь будет угрожать тебе.
– Как тебя зовут?
– Здесь меня зовут Гором Бедуинов. Я чужеземец, не имеющий ни семьи, ни состояния, ни имени.
– Ты не покинешь этого острова?
– Не знаю, но если бы я исчез… знай, что Гор всегда оберегает Альциону…
С этими словами чужеземец грустно улыбнулся. Потом его большие, темные и мечтательные глаза вспыхнули мгновенным огнем, как погасший факел, раздутый порывом ветра. Альциона сделала умоляющее движение, как бы говоря: «Не уезжай!» Но незнакомец ответил, протянув руку, как бы указывая, что их разделяет непреодолимая преграда. Потом поспешно исчез в камышах.
Несколько дней спустя Альциона попросила у Мемнона позволения снова совершить прогулку по Нилу. Священник позволил, но странный блеск в глазах его питомицы внушил ему подозрения. Он видел с берега, как гондола пристала к острову Камышей. Он тотчас же кликнул паромщика и приказал отвезти себя туда же, но причалить с противоположной стороны. Сквозь чащу камышей он пробрался к бухте. Все было спокойно и безмолвно. Нубийка, сидя в барке, дремала над своим опахалом. Кормчий и гребцы вдалеке ловили рыбу, стоя по колено в воде. Альциона спала под сикомором. Мемнон долго стоял неподвижно. Устыдившись своей подозрительности, он уже решил уходить, как вдруг услышал шорох в чаще камышей. Метелки папирусов раздвинулись, и из заросли вышел незнакомый пастух. Он оглянулся по сторонам и, убедившись, что в бухте никого нет, опустился на колени возле Альционы. Спала ли она действительно или только делала вид, что спит? Она не двигалась. Пастух осторожно приподнял легкую ткань, покрывавшую лицо девушки, и, склонившись над нею, долго смотрел на нее. Незаметно губы его приблизились к лицу Альционы. Мемнон, задыхаясь и с вытянутой шеей, готов был ринуться на него, чтобы помешать роковому поцелую. Но тайная сила удержала его, приковав на месте. Однако губы незнакомца не дотронулись до лба девушки, обвеваемой его дыханием. Он поднял голову, взял несколько цветов из принесенной корзины и положил их на грудь спящей, потом бережно прикрыл ее газом, предохраняющим от москитов. После этого он удалился, несколько раз оглядываясь дорогой, и, наконец, исчез. Альциона спала по-прежнему. Но вскоре она проснулась, глубоко вздохнула и стала звать свою нубийку. «Нургал! Нургал! – крикнула она. – Откуда эти розы?» – «Они упали с неба; это дар Изиды», – запинаясь, проговорила прибежавшая старуха. «Нет! Они от него!..» – прошептала Альциона, глядя в камыши. Мемнон бросился бежать. Он знал то, что хотел.
Вечером этого дня жрец Изиды повел свою приемную дочь в храм и спросил ее, кого она видела на острове Камышей. Она рассказала сначала о маленьких бедуинах, потом, по настоянию Мемнона, рассказала, не покраснев, эпизод с голубкой, о появлении Гора и свой единственный разговор с ним.
– Ты не видела его больше с тех пор?
– Нет.
– И не хочешь увидеть вновь?
Помолчав с минуту, Альциона ответила просто:
– Ах, нет, хочу!.. Я люблю изгнанников.
С этими словами голубые глаза ее, в которых блестели слезинки, устремились к расписанному потолку храма, где темная фигура Нефтис, богини ночи, с грозным видом обнимала небесный свод своими черными руками, распростертыми среди знаков зодиака. Слеза, повисшая на длинных ресницах Альционы, не скатилась по ее бледной щеке, но глаза ее стали фиолетовыми, как ручей, когда его рябит ветерок или когда туча закроет солнце. Ах! Эта легкая дымка на небесном взоре! Мемнон испугался ее, как моряк, который среди безмятежной лазури видит маленькое облачко, предвещающее бурю!
Стрела пронзила сердце жреца. Альциона принадлежала уже не ему одному! Неведомая сила завладела ею. Кто же этот несчастный смельчак, осмеливающийся оспаривать у него его сокровище? Он не сделал никакого упрека своей приемной дочери, ни одного слова не было сказано об этом происшествии, но молчание легло между ними легкой дымкой.
В следующие дни Мемнон посылал живущих при храме пастофров к бедуинам, на тот берег реки, навести справки о незнакомце. Он узнал, что юноша приехал из Александрии « попросил принять его в пастухи. Начальник племени бедуинов принял его хорошо ввиду благородства его осанки, а особенно потому, что он обладал способностью врачевать больных. Он сам сказал, что имя его Гор, и его стали звать Гором Бедуинов. Некоторые говорили, что он совершил страшное преступление и потому должен был покинуть город и скрываться. Он жил в черной палатке из верблюжьей шерсти; единственным его развлечением было чтение свитков папируса, которые он привез с собой в шкатулке, а по вечерам, на закате, прислонившись спиной к стволу пальмы, он слушал слабые трели бедуинских мальчиков, игравших на свирели в полях зеленой пшеницы, над которыми вились парами голуби. Должно быть, думал Мемнон, преступление этого молодого человека очень велико, если он вынужден согласиться служить бедуинам.
Прошла неделя. Однажды утром Мемнон до восхода солнца гулял по аллее сфинксов, ведущей от храма к пилону, когда сторож пришел сказать ему, что у калитки ограды стоит какой-то чужеземец и желает поговорить с ним. Мемнон пошел туда. Велико было его изумление, когда он увидел таинственного гостя бедуинов. Лицо его похудело и было серьезно, но фигура в пастушеском одеянии имела гордую военную осанку. Мемнон почувствовал какой-то толчок в сердце. Он сказал себе: «Вот враг, который хочет похитить у тебя твое сокровище. Берегись!» Опершись на посох, чужеземец смотрел на жреца испытующим и мрачным взглядом. Между ними произошел следующий разговор:
– Что привело тебя сюда?
– Я чужеземец, беден и гоним. Быть может, эти три причины дают мне право на совет жреца Изиды?
– Говори, чего ты хочешь?
– Я прошу, чтобы меня приняли служителем храма, а впоследствии, если ты признаешь меня достойным, я желал бы, чтобы ты посвятил меня в тайны твоей науки.
– Прежде чем ответить, я должен знать твое имя.
– Меня зовут Гор Бедуинов. Другого имени у меня нет. Я изгнанник, ищущий гавани.
– Но откуда ты родом? Какова твоя история? Причина твоего изгнания?
– Я не могу сказать больше ничего.
– Тебя обвиняют в крупных злодеяниях. Говорят, что ты преступник, скрывающийся под чужим именем?
– Если ты веришь этому, я не скажу больше ничего.
– Нельзя принять в храм чужеземца, не имеющего имени, ни семьи, ни поручителя.
Глаза незнакомца сверкнули мрачным огнем.
– Кто же ты, – сказал он, – если не умеешь верным взглядом читать в душах? Значит, ты не принадлежишь к посвященным.
Повелительным движением Гор указывал на голову жреца. Рассерженный, тот ответил таким же жестом, говорившим: «Ступай прочь!» Они смотрели друг на друга с вызовом. Но Мемнон овладел собою и заговорил спокойным тоном:
– Знай, неосторожный и дерзкий молодой человек, что я священник, живущий ради истины.
– Что ты называешь истиной? – спросил незнакомец, скрестив руки, с улыбкой горького презрения. – Неужели эта истина учит тебя отказывать мне в пристанище? Если так, то наука твоя бедна и ложна. Ну, что же, пусть так, прощай. Живи для своей истины… за мою… я сумею умереть.
И, повернувшись спиной к жрецу, он удалился быстрыми шагами. Не размышляя о смысле этих странных слов, Мемнон вздохнул, как человек, избавившийся от огромной тяжести. Чтобы лучше насладиться своей победой, он поднялся по внутренней лестнице на высокую террасу пилона, откуда глаз на далекое пространство обнимал поверхность дельты. Солнце поднималось над обширной долиной Нила, и серебристые каналы и красноватая – потому что было время поднятия воды – река сияли металлическим блеском. Гор Бедуинов решительными шагами направлялся к Нилу. Мемнон с удовлетворением смотрел на его удалявшуюся фигуру. Единственный противник, грозивший его чудесному счастью, уходил. Теперь жрец чувствовал себя безусловно властителем Альционы. Никто не отнимет у него жемчужины Самофракии. Какое блаженство сознавать, что он избавился от коварного и смелого похитителя, бродившего вокруг нее, и видеть, как он убегает – навсегда! Он видел, как юноша сел в лодку перевозчика, и успокоился совершенно, когда он исчез на противоположном берегу. Только тогда Мемнон вспомнил о необычайной красоте юноши, о его благородной и величавой осанке и спросил себя, не оттолкнул ли он одного из тех богов, переодетых пастухами, о которых говорит Гомер. Но это угрызение совести продолжалось недолго и совершенно исчезло, когда он увидел, что Альциона – слава богу, не знавшая ничего об утреннем приключении – встретила его с ясной улыбкой.
Глава VI. Иерофантида
Несколько недель спустя Мемнон узнал, что незнакомец, скрывавшийся под именем Гора, покинул страну. Бедуины не знали, что сталось с ним. Между Мемноном и Альционой больше не было речи об острове Камышей. Она никогда не заговаривала об нем. По-видимому, она даже позабыла о своих катаньях по Нилу, о своих ручных птицах и о грезах под сикомором. Всякая опасность, казалось, была устранена. Альциона вступала в новый фазис своей таинственной душевной жизни. Она забросила теорбу и сделалась невнимательна к урокам приемного отца. Поглощенная собственными переживаниями, она бежала от людей и забиралась в самые глухие уголки храма, как будто испытывая потребность сосредоточиться во мраке, вдали от всех видимых предметов.
Однажды она исчезла. Нубийка видела, как она вошла в храм, но никто из служителей храма ее не видел. Утомившись от поисков, Мемнон спустился в подземелье, дверь которого, по случайности, оказалась отворенной. Некогда жрецы Изиды приводили сюда неофитов, которых посвящали здесь в тайны своей науки. Место это стояло заброшенным с тех пор, как утратилось искусство посвящения. К великому своему изумлению, Мемнон нашел свою приемную дочь в глубоком сне у подножия центральной колонны склепа, освещенного сверху узкой отдушиной. Колонна эта представляла колоссальную статую Озириса, высеченную из цельной глыбы серого гранита и поддерживающую свод подземелья высокой тиарой, венчающей голову изваяния. Бог, повелевающий своим последователям молчание, прижимал к губам своим палец. Альциона лежала на пьедестале статуи и спала глубоким сном. Мемнон склонился над нею. Очень бледная, с полураскрытыми губами, она едва дышала. Черты ее лица, ставшего совершенно прозрачными, казались преображенными и как бы освещенными внутренним огнем. Мемнон вздрогнул. Неужели оракул сказал правду? И Альциона наконец проявит перед ним свой пророческий дар? Жрец почувствовал трепетное дыхание Невидимого.
В эту минуту раздались торжественные звуки теорбы. Они доносились сверху, сквозь отдушину. То был гимн богу солнца, Амону-Ра, пастофор играл его на священной арфе в перистиле храма. При этих звуках Альциона постепенно поднялась, не выходя из своего волшебного сна, и встала перед Мемноном в торжественной позе. Глаза ее раскрылись, но ясно было, что их расширенные зрачки не видят реального мира и взгляд их погружен в беспредельную светозарную атмосферу. Мемнон не шевелился. Он чувствовал, что стоит перед высшим существом. Наконец, подобно лотосу, при первых лучах солнца всплывающему на поверхность Нила, сама Душа, светлая, не запятнанная землей Дева, божественная Психея, предстала перед ним во всей своей красе. После долгого молчания он сказал:
– Это ты, дочь моя, Альциона?
Тогда Альциона заговорила тихим, но более низким, чем ее обычный, голосом. Слова вылетали из ее уст нараспев и в определенном ритме, напоминая мелодию сопровождавшей их вдали теорбы. Она говорила:
– Да, я Альциона, твоя дочь, твоя иерофантида… По молитве твоей боги послали меня тебе, чтобы ввести тебя в страну душ… в священную ночь великого Озириса… Ты будешь видеть через мое посредство, очи моей души будут твоими глазами… Ты же должен направлять и охранять меня…
– Каким образом?
– Воля твоя будет баркой Изиды. Будь верным кормчим… Неси душу мою в своих руках… и мы войдем, сквозь страну мертвых, в страну воскресших!..
– Я готов. Вот ключ. Вот жезл с крестом.
– Ах, берегись!.. Нам угрожают страшные опасности… Надо начертить вокруг меня заповедный круг и защитить меня от демонов… Мы должны миновать океан теней.
– Видишь ли ты, куда мы пойдем?
– Мы минуем кольцо теней.
– А потом?
– Мы поднимемся в кольцо света.
– Пойдем ли мы дальше? В солнечное кольцо, в кольцо героев и полубогов, дарующих силы и могущество?
– Да… если позволит мой Гений.
– Кто же твой Гений?
– Я не знаю его имени. Я не вижу его лица. Оно закрыто покрывалом. Но на лбу его блестит звезда, и в руке он держит жезл Меркурия.
– Спроси, как его зовут!
– Ах, он очень далеко и так высоко!.. Я вижу только его звезду и его жезл… Он зовет нас… Поддержи меня, я слабею, я упаду.
Звуки теорбы умолкли. Поддерживаемая Мемноном, Альциона снова лежала на каменном ложе, скованная летаргией. Он нежно согревал ее пальцы и положил руку на ее холодный, как мрамор, лоб. Мало-помалу он согревался. По прошествии часа она проснулась.
Она чувствовала себя несколько утомленной, но к ней снова вернулась девическая улыбка, и лицо ее приняло прежнее детское выражение. Она нисколько не удивилась, увидев возле себя Мемнона.
– Помнишь ли ты, о чем грезила во сне? – спросил он.
– Я не помню ничего, кроме того, что была далеко, очень далеко, – ответила она.
– Тебе нравится спать в подземелье?
– Да, когда ты со мною. Не оставляй меня там одну.
С этого часа начался светлый период в жизни Мемнона. Каждый день, когда солнце исчезало за цепью Ливийских гор, бледная Альциона спускалась вместе с учителем в мрачное подземелье, освещенное спускавшимся со свода нефтяным светильником. Жрец приносил с собой теорбу, и ему достаточно было взять несколько аккордов, чтобы иерофантида заснула. Вскоре она спала глубоким сном, но не переставала отвечать на вопросы учителя и говорила ему все, что видела. Во время волшебного сна Альционы Мемнон испытывал чистое и высокое наслаждение, гораздо более яркое, чем чувственные наслаждения. Это было чувство тайного и полного душевного слияния с его приемной дочерью. Вступив в первую фазу сна, в фазу легкой дремоты, Альциона становилась для него прозрачной и пластичной. Мысль его переливалась в ней без слов и без движений, как незримая влага. Он чувствовал эту душу в своих руках, мягкую, как воск, из которого можно слепить любую форму. Она же, в свою очередь, читала в его душе, как в раскрытой книге, и улавливала даже самые мимолетные оттенки его чувств. Когда же затем Альциона впадала в глубокий сон, в ней развивалась новая способность, и она видела вокруг себя целый мир неведомых существ. Тогда приходилось защищать ее от них, отстранять их словами и жестами. Духи или видения, души или призраки – эти существа, невидимые Мемнону, грозили заполнить и погубить ее. Но когда она поднималась в высшую сферу и приближалась к состоянию экстаза, отношения между ясновидящей и ее руководителем изменялись. В ее лице и в ее движениях вдруг обнаруживалась более сильная и более светлая душа. С уст ее сходили более высокие мысли, властные приказания. Теперь уже она приказывала учителю. Вдохновенная прорицательница повелевала иерофантом. В эти редкие мгновения Мемнон слушал Альциону, неподвижный и безмолвный. Он слушал ее стоя, но с коленопреклоненной душой. Он чувствовал тогда, что находится перед лицом изумительнейшего откровения. Мог ли он допустить, что видения Альционы лишь бредовые грезы чрезмерно возбужденного мозга? Ибо каким образом могла она знать об этих чудесах, и как объяснить их логическую последовательность, их великолепную совокупность и возрастающее величие. Ум Мемнона не мог допустить, чтобы видения Альционы были исключительно созданием наивной девственницы. Быть может, эти видения переводили в формах, доступных нашему воображению, реальности, превышающие силы ума. Но их последовательный порядок соответствовал ряду поразительных и высоких идей. В них можно было видеть нечто вроде восходящей панорамы всемирной жизни. Нижняя часть ее была окутана мраком, середина представляла переход от тени к свету, а верх тонул в ослепительном сиянии. По мере того как развертывалась эта панорама, земной мир приобретал новый смысл. Видимое нашими физическими чувствами представляло лишь звено в цепи миров, самую грубую форму материи и жизни среди бесконечных форм, в которых развивается мировая душа. Вокруг этой земли мир, невидимый телесным очам, но видимый очам духовным, распростирался увеличивающимися кругами, все более воздушными, все более лучезарными поясами. Быть может, он доходит до центрального солнца чистого духа – источника всех вещей? Ах, если бы проникнуть в эту сферу и жадно упиться знанием и могуществом, думал Мемнон. Какое блестящее завоевание! Перед этой возможностью, в конце которой сверкала яркая цель всех его желаний, жрец Изиды преисполнялся беспредельной гордостью и беспредельной радостью и забывал обо всем – не исключая и души своей дорогой Альционы! Она была для него не более как чудесный челн, на котором он переплыл бы бурные волны неведомого и совершил бы великое путешествие в бесконечность. Начало этих опытов было трудно, тревожно, иногда даже страшно. В первые разы, когда Альциона погружалась в магнетический сон, она не могла выйти из темного круга, из мрачного хаоса, где двигались смутные и странные формы, которые она описывала Мемнону бессвязными, но яркими словами. Тщетно жрец Изиды чертил вокруг нее в воздухе подземелья круг своим священным крестом, произнося формулы заклинания, заключающиеся в Книге мертвых