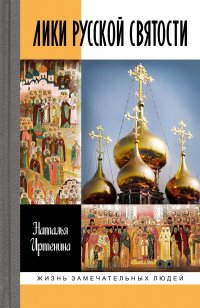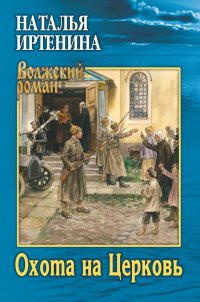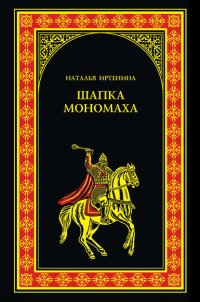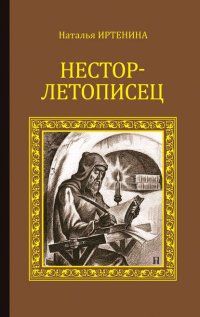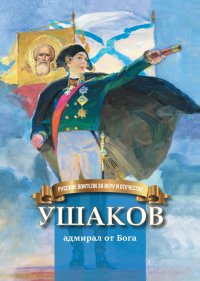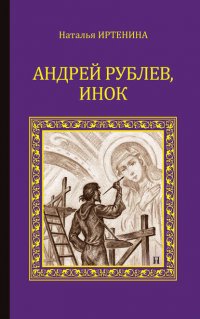
Читать онлайн Андрей Рублёв, инок бесплатно
- Все книги автора: Наталья Иртенина
Об авторе
Книга «Шапка Мономаха» московской писательницы Натальи Иртениной продолжает линию исторических произведений, начатую романом «Нестор-летописец» (2010). По словам доктора исторических наук С.В. Алексеева, научного консультанта обоих романов, «автору удалось поистине вжиться в мир Древней Руси – и развернуть панораму этого мира перед читателями… Книга наследует лучшие стороны русского романтизма, обращая читателя к корням его культуры». При этом Иртенина «создает нечто большее, чем просто исторический роман. Ее цель – создание Легенды, в которой сплетены исторические события, темы русского героического эпоса, христианская мистика, противопоставляемая темному языческому наследию…»
Несколько лет назад Наталья Иртенина получила известность именно как автор «литературы чуда», в которой органично сплетаются земная реальность и иная, высшая. Этот литературный формат, развиваемый некоторыми современными писателями, получил удачное название «христианского реализма», сразу подхваченное критиками.
Не любя однообразия, Иртенина пробовала себя в разных жанрах – альтернативной истории (роман «Белый крест»), романа-притчи («Меч Константина»), историко-философского детектива (повесть «Волчий гон»), в биографическом жанре (эссе о Ф.И. Тютчеве в сборнике «Персональная история», книга «Патриарх Тихон»). Участвовала в коллективной научной монографии «Традиция и Русская цивилизация», развивающей концепции философии истории, в частности философии русского традиционализма.
В рамках художественных построений Иртенину интересует то позитивная модель христианского государства, то смысловые стержни русской истории. А, например, в романе «Царь-гора» автора волнует не только прошлое России, убитой после 1917 года, но и ее будущее, ее шанс на воскресение, поэтому линия Гражданской войны тесно переплетена в книге с линией современности. Поиск ответов на сложные вопросы человеческой истории и личных судеб, философская заостренность в яркой художественной форме, доля тонкого юмора – визитная карточка произведений Натальи Иртениной. А в последних своих романах она демонстрирует умение уютно «обжиться» в мире Древней Руси, среди князей Рюриковичей, бояр, монахов, дружинников, торгового люда – ни на йоту, как дотошный исследователь, не отступая от исторической достоверности летописного «эпического века».
Наталья Иртенина
Член Союза писателей России, Иртенина время от времени выступает также как публицист и автор статей на культурно-исторические темы в московской журнальной периодике и книжных изданиях. В полемике по литературным вопросам, на семинарах историко-литературного «Карамзинского клуба» она проявляет крайнюю жесткость и принципиальность, за что критик Лев Пирогов однажды в шутку отозвался о ней как о «…княжне Мышкиной на балу лицемеров».
На поприще художественно-исторических реконструкций Наталья Иртенина стала обладателем литературных премий «Меч Бастиона», «Карамзинский крест», премии Лиги консервативной журналистики имени А.С. Хомякова, награждена знаком «За усердие» историко-культурного общества «Московские древности». Роман «Нестор-летописец» в 2011 году номинировался на Патриаршую премию по литературе имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Избранная библиография Натальи Иртениной:
«Белый крест» (2006)
«Меч Константина» (2006)
«Царь-гора» (2008)
«Нестор-летописец» (2010)
«Шапка Мономаха» (2012)
«Патриарх Тихон» (2012)
«Андрей Рублёв, инок» (2013)
Часть первая
Владимирская Богоматерь
1.
1410 г. по Рождестве Христовом
В руки варваров отданы судьбы империй…
Эта неприятная мысль давно и часто посещала философа Никифора Халкидиса. С тех самых пор, как год назад он отплыл из константинопольской гавани в свите нового русского митрополита Фотия. И так часто, что невозможно было не впасть в горчайшую печаль, утоляемую лишь чтением «Родосских песен любви» и повестей о влюбленных, мучимых негодником Эротом.
Полгода в убогом литовском Киеве и два месяца в Москови, где даже посреди города растет лес! Все это время книжные злоключения Каллимаха и Хрисоррои, Велтандра и Хрисанцы служили сладостным напоминанием о прекрасных временах в Мистре и Фессалонике. Но что сравнится с ними здесь, в дикой Роси, будто проклятой богами? Пытливые взоры бледных москвитянок, настороженно выглядывающих из вороха одежд? Невежество высшей аристократии? Темное церковное суеверие? Оному суеверию тут отдаются с таким же воодушевлением, с каким Хрисанца выпрыгивает из окна в объятия Велтандра – и совершается то, что страстно желалось обоим.
Разве будет здесь цвести подлинная поэзия, произрастать ученость и разве не проржавеет от таких печалей доспех философского бесстрастия?..
– Бессмысленное существо с ослиной мочой вместо разума! Бесчувственный варвар, ленивее которого только цирковой питон! Глиняный истукан, вылепленный криворуким гончаром! Зловонный сосуд, исполненный нечистот! Самый упрямый мул в конюшне моего дяди, великого скевофилакса Иосифа Халкидиса, обладает большей рассудительностью и послушанием, чем ты, невежественное животное!..
Молодой холоп, коему адресовался этот гневный поток, слушал с мечтательным видом, моргал и успокаивающе гладил морду хозяйского коня. Из всей речи, произнесенной на греческой молви, он уловил лишь знакомое имя Халкидис и понял по-своему: митрополичьего грека обидел в церкви кто-то из бояр, вот и ушел с обедни прежде срока. А обедня ныне праздничная, троицкая, не абы какая. Великий князь со всей своей меньшой братией нынче в сборе. Бояр понаехало, княжьих да боярских служильцев со всей Московской земли! Теснота в церкви, вестимо.
– Почему я так долго звал тебя и искал? Ты должен быть там и ждать меня!
Никифор перешел на русскую молвь и требовательно простер длань к неказистому на греческий вкус Успенскому собору, откуда глухо доносилось клиросное пение. Широкий рукав греческой далматики махнул холопа по носу.
Ивашка от внезапности, с какой словеса грека стали внятны, бухнул неприветливо:
– Так не искал бы, боярин. Чего из церквы-то убег? Нехристь ты, что ли, а не православный? Ну толкнули, может, нечай, так то не по злобе, а по усердию…
Никифор Халкидис задохнулся в изумлении. Потянул притороченную к конскому седлу плетку, занес руку. Ивашка отшагнул, вжал голову в плечи, зажмурился.
Плеть все не опускалась, и он приоткрыл глаз.
– Сейчас я тебя ударю, – медля бить, непонятно пригрозил грек. – Но раб должен знать, за что наказываем. Говори!
От коновязей посреди Никольской улицы на них пялилось с ухмылками три десятка рож, принадлежавших боярским слугам и холопам.
– Откуда ж мне знать, боярин, что тебе поперек встало, – обиделся Ивашка на непонятность и выпрямился.
– Сколь раз твердил, не звать меня боярином, бессмысленное создание! – Грек опять замахнулся. – Никифор Халкидис – ученый и ритор, а не придворный лицедей. Обращаться ко мне – кирие!..
– Кири, так кири, – усмехнулся Ивашка. – А хочешь бить – бей.
– Так вон она какая, афинейская премудрость, – громко раздалось из-за спины философа.
Гнев стерся с короткобородого лица грека, и на его месте водворилось холодное величие. На высоком лбу под черными курчавыми волосами явились две складки самого философского вида. Кириос Никифор поворотился, коснувшись груди пальцами, унизанными перстнями:
– Клянусь божественным Платоном!..
Перед ним в широко распахнутом малиновом опашне, подбитом камкой, и бархатной шапке стоял боярин Юрий Васильевич Щека. Неспокойные глаза княжьего наместника рыскали по греку, будто что потеряли на нем, и густой пшеничный ус подрагивал, как у боевитого кота.
– Эллинская мудрость! Что в Московии знают о ней?
Выражение лица Халкидиса стало еще более ледяным, совсем удивительным для этого полуденного народа. Тому была своя причина. Боярин великого князя и наместник бывшей русской столицы, Владимира-Залесского, оказался виновником неприятного происшествия в Успенском храме.
Никифор Халкидис, приписанный к свите Фотия без чина и должности, на церковных службах появлялся лишь изредка. Но сегодня, на Троицу, его привело в соборный храм дело. В сей день на большой праздник по обычаю съезжались все братья из княжеского рода, сыновья одного отца, поделившие меж собой Московское княжество. Однако после того, как забасили дьяконы и густой ладанный дым защекотал в носу, философа постигло разочарование. Из четверых удельных Дмитриевичей в Москву прибыли только трое. Отсутствовал тот, кто интересовал Никифора более всего, второй по старшинству, князь Звенигорода Юрий. Рассмотрев младших, Андрея, Петра и Константина, одетых столь же пышно, что и великий князь, но послушно стоявших позади, грек под возгласы бесчисленных «паки» и «паки» намеревался покинуть церковь.
Исполнить это оказалось непросто. Невеликий храм был полон. Путь к выходу закрывала толпа провинциальных аристократов, высокомерно оттертых назад московской знатью. Посреди же этого собрания, осенявшегося крестами, к уху Никифора склонился владимирский наместник Щека. Пока дьякон тянул ектеньи и хоры пели антифоны, он успел громким шепотом поведать греку о многом. О том, что звенигородский князь Юрий из-за давней ссоры со старшим братом в Москве не появляется. Что на своем подворье в Кремле помирает их двоюродный дядька старый князь Владимир Андреич, серпуховской владетель, уберегший недавно Москву от татар. Что от той татарской рати, приведенной на Русь позапрошлой зимой темником Едигеем, вся земля опалилась, оскудела, обезлюдела. Во градах имение сожжено и пограблено, а которое не досталось татарину, пошло на погребение тысяч трупов, на прокорм живых, на плотников и иных мастеровых, ставших великой ценностью. Известно, что татарская нечисть оставляет после себя – голод да мор от непохороненных мертвецов, да горелые руины. На все серебро потребно, а где взять? Великий князь и тот от горести и нужды в церковную казну заглянул, отъял некую часть…
Во время этого долгого шептанья на боярина и митрополичьего грека оборачивались. Оглядывали, хмуря брови, но почему-то лишь одного Никифора, молча внимавшего рассказу. Иной раз грозно шикали. А затем на спину философа обрушился удар, от которого едва не подкосились ноги. Исполнившись многоразличных и недостойных ученого чувств, грек обернулся. Но узрел мирно, с опущенным взором молящегося Фотиева боярина Акинфия Ослебятева, а возле него монаха в схиме с тростью, увенчанной костяным навершием. Взгляд схимника был обращен внутрь, и гнев Халкидиса не проник за молитвенную завесу чернеца.
Как выбирался из собора, протискиваясь меж аристократических тел, каждое из которых было недвижным, как скала, Никифор уже не помнил.
– Сомлел, кирие? – с участием спросил боярин Юрий Васильевич. – Духота ноне, гроза будет.
Нутром снятой шапки он утер лицо от пота. Слуга, стоявший сзади, сунул в его протянутую руку корчажец.
– На-ко, охолонись, друже, – предложил Щека. – Недобрая она, эта твоя эллинская мудрость, – продолжал он, глядя, как грек жадно глотает холодный квас. – Огрел бы плетью, вразумил холопа. А ты, кирие, измываешься. Тут Русь, – боярин отхлебнул из другого корчажца, – по любви живем, а не по учености.
– Благодарю за угощение, – ответствовал грек, но так, будто угощение представляло собой ту самую ослиную мочу. – И за приятную беседу в церкви. – Движением пальца он отослал своего холопа. – Однако тот разговор был прерван…
– Вот! – Щека усмехнулся. – В корень зришь, кирие. Недоговорили мы с тобой.
Он щелкнул сопровождавшим его дворским. Боярину подвели коня в дорогой попоне. Несмотря на грузность, являвшую скорее следствие постоянных упражнений с оружием, нежели бездельного жития, Щека легко забросил себя в седло. Худосочному греку, привыкшему к колесницам, возноситься на коня было все еще непривычно, и потребовалась помощь Ивашки.
– Итак, о чем ты хотел поведать, кирие Георгий?
Никифор догадывался, какая забота нудит великокняжьего придворного снисходить до несановного философа, которого московские вельможные мужи вовсе не замечали. Неспроста Щека завел разговор о церковной казне, куда запустил руки не только великий князь. Фотий, едва осев в Москве, обнаружил, при догляде своего казначея Акинфия Ослебятева, огромные бреши во владычном хозяйстве. Села, погосты и волости, значившиеся по росписям в разных уделах Московии, не слали дань, житницы и амбары на митрополичьем дворе стояли пусты. В ризницах и рухлядных кладовых собиралась только пыль да ветшали старые облачения. Три с половиной года, пока послы ездили в Константинополь за новым митрополитом вместо умершего Киприана, здешняя знать времени даром не теряла, саркастично размышлял Никифор. С таким же простодушием, с каким веровали, русские грабили свою Церковь и нисколько не почитали оное за грех. О столь странном веровании Халкидис был бы не прочь пофилософствовать в ином месте и, быть может, даже счесть подобное явление многообещающим. Но то, с чем подступал к нему боярин Щека, требовало вовсе не изящества и глубины мысли, а совсем другого.
Кони медленно стучали подковами по мощеной улице, переходившей в Соборную площадь, мимо двора младших удельных князей, обнесенного крепким тыном.
– …С оглядкой бы владыке на своем настаивать, – внушал греку владимирский наместник, в чьем почти полновластном ведении обретался не только бывший стольный град, но и обширная его округа. – Неровен час поссорится с великим князем. Да и среди сильных бояр недругов наживет. Акинфий Ослебятев небось не станет его о том упреждать. У самого рыло в пуху, верно о том знаю. Казну теперь не вернешь – неоткуда, все в Едигеево разорение ушло. Сергиеву Троицкую обитель и ту не на что возрождать!.. Э, да ты и не знаешь, кирие, что за Сергий у нас на Руси был. Его и доныне князья чтут как отца духовного. Юрий звенигородский, крестник его, слезми обливался, когда татары спалили Сергиеву пустынь под Радонежем. Да разве б не расстарались они оба, Василий с Юрьем, чтоб монастырь Троицкий возродить! – Щека тяжко вздохнул и перекрестился на купольный крест одноглавого Успенского храма. – Молитвами Сергия Русь доныне устояла. В Куликовом побоище более половины войска легло, а Мамая с его ордой прочь погнали. Вот что сильное Сергиево слово творило. Сказал – победим, так оно и вышло! Святой старик был, чудеса являл. И доныне являет, хотя давно в земле лежит.
Слушая это хвалебствие неведомому монаху, в котором русское невежество обрело святого, Халкидис прикидывал в уме, сколько деревень, погостов, починок, пастбищ и покосов увел из митрополичьего владения дородный боярин. Сколько платяной и меховой рухляди, ценной утвари, амбарного запаса и иного не досчитается Акинфий Ослебятев, когда вместе с Фотием доберется до Владимира.
– …Так ты, кирие, донеси о том владыке. У нас тут Русь: по любви живем, не по казенным росписям. А иначе как? То татары, то мор, то пожар, то недород, а либо иная беда. У нас без любви никак. Полюбовно решать надо. – Щека скосил хитрый глаз на грека. – С Акинфием мне про это баять неможно. А из всех греков, что Фотий с собой привез, ты один по-нашему толмачишь. Обучился-то где?
– Купил на невольничьем рынке смышленого русского раба. Разумному человеку не зазорно перенимать знания и у раба, коль тот обладает ими.
Над Соборной площадью, которую они почти миновали, заполненной служильцами, слугами, праздным людом, нищими и калечными, взмыл быстрый колокольный звон. Из Успенского храма поплыла, разрезая вмиг сгустившуюся толпу, чреда архиереев в зеленых ризах. Впереди шел седобородый митрополит Фотий и с отрешенным выражением на лице раздавал в обе стороны благословения. За иерархами ступил на площадь великий князь в парчовой ферязи с золотым кружевом и в круглой княжеской шапке. Василий был невысок ростом, но широк в кости, с короткой, на литовский манер бородой и острым, режущим взглядом. Стремянный подвел ему каурого коня, разубранного в серебро. Утвердившись в седле, не оглядываясь на братьев, князь шагом направил жеребца к своему дворцу, мимо церквей Архангела Михаила и Благовещенья.
– Вишь, великий стороной объезжает владыку, – кивнул Щека на Василия Дмитриевича. – Не сошлись по любви. Докука для князя твой Фотий, кирие. Дотошлив не в меру…
Скопление родовитой аристократии всех чинов и духовенства понемногу рассеивалось. Но вдруг по площади, как ветер по ржаному полю, вновь прошло оживление. Поднялся шум, паперть Успенского храма густо облепил люд. Не успевшие отъехать бояре и служильцы на конях рассекали толпу.
– Что там происходит? – осведомился Никифор.
– Сухорукий прощен!.. От гроба чудотворца Петра!.. – донеслись возбужденные крики.
Щека направил коня вперерез бежавшему сломя голову мальчишке.
– Исцелился от гроба! Сухорукий исцелился! – вопил тот во все горло.
Боярин, нагнувшись с седла, поймал огольца за шиворот.
– Сам видел, – орал от восторга мальчишка. – Сухая была рука, за пояс заткнутая, а как от гроба восстал, рука ожила!
Вырвавшись, босоногий малец поскакал разносить весть. Щека подъехал к Никифору, коротко изъяснил:
– Чудо. О прошлом годе такое же было. Баба расслабленная прощена была, своими ногами пошла.
– Чудо? – с пренебрежительной улыбкой переспросил философ. – У нас в Мистре таких исцеленных мошенников бросают в темницу и держат до тех пор, пока не признаются в столь грубом обмане. – Он стал поворачивать коня. – Я много обрел ценного в твоих речах, пресветлый кирие Георгий, но не могу обещать, что Фотий прислушается к твоим советам. Русская церковная казна нужна ему для пополнения пустых хранилищ во дворце константинопольского патриарха.
Коротко кивнув, грек пустил своего гнедка трусцой вдоль тына митрополичьего двора, примыкавшего к Соборной площади. На отдалении за ним плелась холопья кобыла с зевающим Ивашкой.
Щека плюнул философу вслед и, приложив короткой плетью жеребца, стал прокладывать путь к успенской паперти, где волновалась чернь. На ступенях лицом к дверям, коленями в каменные плиты стоял ражий мужик и усердно бил поклоны, размашисто крестясь.
– А ну покажь руку! – зло крикнул Щека, раздвинув конем черный люд.
Мужик, поднявшись, закатал правый рукав, вытянул длань и воззрился на нее как на некую драгоценность. Плоть на костях была иссохшей, твердой, перевитой застарелыми шрамами.
– Эт ничо, нарастет мясо. Совсем уж пропадал… женку, детишек кормить нечем… Кузнец я, с одной рукой куда… Зарок дал – крест пятиаршинный выковать… – одуревший от радости людин ронял в бороду слезы.
Правя коня прочь от бурлящей площади, боярин бормотал сквозь зубы:
– Хоть самому… к чудотворному гробу… И пошто татарва клятая Владимир стороной обошла? Пожгли бы, и концы в воду… – Съезжая на Никольскую мостовую, он ворчал: – У них в Мистре… ишь ты… А у нас на Руси так… И где эта самая Мистра?..
2.
Велик посадский торг на Москве. Тянется вдоль стен Кремля за рвом от Угловой башни до самой Фроловской, и уже дальше, за Ильинскую улицу перешагивает. В рядах чего только нет со всего свету, и самих рядов каких только нет. Суконный, сурожский, шубный, рухлядный, кожевенный, гончарный, бондарный, плотницкий, кузнецкий, оружный, бронный, пирожный, хлебный, мясной, рыбный, питейный, сермяжный, берестяной, рукодельный, книжный, иконный… Речь кругом слышна греческая, фряжская, татарская, бухарская, ловит ухо новгородское цоканье и говор литовских украин. Лавошники друг друга перекрикивают, выхваляясь товаром. Гомон, смех, крепкая брань, бабье визгливое недовольство, сплетни, плеванье лузгой подсолнуха и опруживанье бесчисленных кружек квасу.
В иконном ряду тише, покойнее. Лавошные сидельцы не хватают за полы и за руки, не рвут на себе рубахи, доказывая, что лучше товара на всем торгу не найти. Здесь степенно показывают то, что просят, а лишнего не навязывают. Знают: и самые дешевые земляные краски, и беличьи хвосты для кистей, и свертки паволоки, и листовое серебро да скатный жемчуг, полосы ажурной скани для драгоценных окладов ждут только своего покупателя и к другому, случайному, не уйдут. Знают это и покупатели – не торопятся, тщательно изыскивая то, что нужно только им и никому иному…
– Нету, – со вздохом молвил чернец в долгой мантии поверх подрясника и клобуке. За спиной у него висела грузная, доверху полная заплечная торба. – Пойдем, Алексей.
На вид ему можно было дать и сорок лет, и тридцать, а то и менее. Сдвинет брови, куда-то убежит мыслью, ссутулит плечи, и станет похож на светлого старца. А разгладит лоб, улыбнется одними глазами неведомой грезе – и сделается отроком, не успевшим познать вполне всех радостей мира.
Второй был послушник в сером подряснике и шапке-скуфье, тоже с сумой на плечах. Он лишь недавно отрастил щуплую бороду, но хотел казаться старше и безотчетно подражал монаху, так же сводя брови. Однако это делало его не старше и видом не мудрее, а попросту угрюмее.
– Да что искали-то, Андрей? Скажи толком. Битый час впустую ходили.
– Почему впустую? Вон сколько всего накупили. – Чернец заглянул себе за спину. – Вохры, земли, киновари, медянку. Черлень. Голубец подходящий нашли. И мела в запас взяли.
– То-то ты все краски на каждом прилавке жадно перебирал, как женка – свою златокузнь.
– Жадно? – озадачился Андрей. – Пожалуй, ты прав, Алешка, не стоило жадно.
– А искал-то что? – повторил отрок.
Монах запрокинул лицо в небо, сиявшее полуденной голубизной.
– Вот что искал.
– Небо?
Андрей покачал головой.
– Небо всякому дано. Лазорь небесную искал. Да не нашел.
– Да вон же ее сколько, – пожал плечами молодой, возвращаясь к последней в ряду лавке. Под цепким доглядом сидельца стал вытаскивать из большой коробьи сколы земляных пород – павлиньего камня малахита и голубца. Камни разной величины, всех оттенков синевы и празелени, бледные, густоцветные, с прожилками, с темными крапинами. Андрей легко прикасался к ним длинными пальцами:
– Это в зелень уйдет. Этот не даст хорошего цвета. Этот, если крупно растереть… да нет, все равно серый порошок будет… Нету той сини, о которой грезится, Алешка. На это не голубец надобен, а лазорь настоящая.
– У-у, редкий товар, – покрутил головой лавошный сиделец. – В Москве не видал. Разве в Новгороде найдете, по цене золота. Там немцы продают, а к ним от турских и персидских агарян привозят. А уж к тем от дальних бухарских и самаркандских ордынцев попадает. Очень далеко.
– Пойдем, Алексей. У нас с тобой и богатства такого нет, чтоб о лазори мечтать.
Они вышли из рядов и направились мимо торга к Варьской улице.
– А князь? – спросил отрок. – Может великий князь добыть той лазори?
– Наверно, может. Да только зачем ему? – Подумав, Андрей продолжил: – Пустой разговор, Алешка. Князю опять ордынский выход платить. Видишь, осерчал на него Едигей, что дань перестали давать, сам пришел и взял сполна.
– А я бы… – послушник умолк, будто поперхнулся.
– Смотри-ка, бегут куда-то.
Андрей оглянулся на шум, нараставший позади. У Ильинского крестца что-то кричали, туда быстро направлялся люд. Выходили с торга, останавливали спешащих, спрашивали и тоже бежали к Ильинке.
– Идем посмотрим, что случилось, – монах потянул спутника.
Они нагнали нескольких торопившихся, от них узнали: на постоялом дворе купца Тютрюма опять заплакала слезами икона Богоматери, предвещая недоброе.
– А в прошлый-то раз к чему было? – вопросил кто-то из мужиков.
– Аль забыл?! К войне с литвинами! Ровно в то же лето псковские к князю приезжали, рассказали, как поганая литва поплененных женок и детей сгубила на морозе. Про две лодьи мерзлых младеней…
– И Максимка-юродивый надысь грозил чем-то.
– А верно! Сам слышал: блаженный баял, будто как помрет князь Владимир Андреич, так скоро и другого князь-Владимира черед настанет. Где труп, там и стервятники, баял. Налетят, мол, поклюют человечину.
– Какого это другого князь-Владимира? Нету такого. Впустую грозил, юрод.
– Максим впустую рта не раскроет!
Андрей схватил послушника за руку, крепко, до белизны закусил нижнюю губу.
– Идем!
– Не хочу. – Алексей вырвался. – Иди один, если охота. Эка невидаль…
– Да ты что, Алешка? Это ж Богоматерь!
Но молодой его не слушал, упрямо шагал обратно. Чернец, стоя на месте, смотрел то на бегущих к Ильинке, то в исчезающую средь люда спину послушника. Потом бросился догонять.
Какое-то время шли молча, свернув на Варьскую улицу. Шлепали, не разбирая, по лужам. Отрок, сердясь, дышал все громче, пока не выпалил:
– Хоть и молчун ты, Андрей, а знаю, что сказать хочешь. Что не выйдет из меня чернеца, что непокорлив я. Келарь мне все уши прозвонил этим. А разве покорливость – добро? Разве не зло это, что покоряемся татарам? Что князья перед ними спину гнут, коней ханских под уздцы водят, у стремени стоят? Да Литве отдаем один град за другим!
– Богу не захотели покориться, – тихим голосом ответил чернец, – покорились татарам и земли растеряли.
Эта тихость умирила послушника. Измарав подрясник в очередной луже, он буркнул:
– Зачем же ты за мной пошел, а не к Тютрюмову двору?
– Да затем, что твоя правда, Алешка. Не стоит монаху за толпой бежать и за зрелищем. И непокорство бывает нужно в свое время.
Отрок, тая невольную улыбку, отвернулся. И тут же встал, будто вкопанный. Из узкого проулка прямо на них вышагнул юродивый. В нечесаных, криво обрезанных волосьях застряли репьи, которыми в него бросали мальчишки. Худое голое тело было грязным, в ссадинах. Он смотрел на монаха, не замечая испуганного послушника.
– Скажи митрополиту, пусть едет на Сеньгу. – Блаженный тянул корявый палец к Андрею. – В лесу на болотах пускай умаливает Владычицу… – Из глаз его полились быстрые слезы. – А ты руками своими молись Ей!
Дав страшный и непонятный наказ, юродивый отступил в проулок и стремительно пошел прочь.
– Что он сказал, Андрей?! – молодой теребил застывшего чернеца. – Какие болота?.. Как это руками молиться?.. Да как же тебе попасть к самому митрополиту?!
– Не знаю, Алешка. – Монах зашагал вперед. – Забудь, что он сказал.
– Как забудь?! – недоумевал отрок. – Он же тебе это сказал!
– Вот я и буду помнить, а ты забудь. А то спать ночью не сможешь, – прибавил Андрей, улыбнувшись, как умел только он – одними глазами.
Дошли до конца Варьской улицы, нырявшей в ворота высокого частокола. Городьба была старая, посадский пожар и Едигеевы татары ее не затронули. Здесь Москва кончалась. За сухим рвом вилась дорога на Кулишки и дальше, в Заяузье. По обе стороны раскатанной до ям и ухабов колеи зеленели просторы, темнели перелески и слободы. От далекой слободской кузни доносился тихий перестук металла. Пели жаворонки.
Молодой искоса поглядывал на спутника.
– А правду говорят, Андрей, – решился наконец, – что ты ангелов видел?
– Пустое, Алешка. Сергий я разве, чтобы ангелов зреть? Помнишь, рассказывал тебе, как некто из троицких иноков видел однажды светозарного мужа, служившего обедню с Сергием?..
– Зачем же говорят, – нетерпеливо перебил отрок, – что тебе ангелы являлись?
– Ну что ты прилип, как банный лист, – вздохнул чернец. – Старая княгиня признала на моей иконе ангела, который велел ей к смерти готовиться. Вот и говорят попусту. А я лишь по рассказам отцов троицких запечатлел ангельский вид.
– А не всякий же со слов так запечатлеет? – упрямо гнул послушник.
Андрей промолчал. Впереди из-за остатков соснового бора показалась высокая главка Всесвятской церкви на Кулишках. Дорога сворачивала к Яузе.
– А Сергия ты видал?
– Видал. Два года тому. Перед Едигеевой ратью, когда с дружиной Успенский собор во Владимире подписывали. Сергий пришел по осени и не велел в Москву возвращаться. Хотели иконостас будущим летом писать, чтоб не в холоде, а пришлось зимой. Народу в собор набивалось… спасение у Богоматери вымаливали… тепло было. А наш монастырь здесь татары выжгли, братия разбеглась.
– Так он… помер давно? – Отрок, заслушавшись, вдруг взъерошился и сдвинул брови: – Смеешься ты надо мной, Андрей?
Однако знал: иконник и улыбается по-настоящему редко, а смеха от него подавно не дождешься.
– Помер. А по земле ходит. Вот как мы с тобой, Алешка.
– Вспомнил, – все еще недоверчиво хмурясь, сказал послушник. – Говорили еще, будто Сергий троицких монахов увел тогда из обители, от татар.
За Кулишками дорога огибала обширный Васильевский луг, где безземельные посадские запасали на зиму сено. Теперь травы только набирали силу и рост, но уже обещали своей густотой и дружностью, что покос этим летом будет веселый. Андрей, засмотревшись на разноцветье, сошел с дороги, углубился в духмяные поросли. Скинул с плеч торбу, уселся наземь.
– Иди сюда, Алексей! Смотри, какая красота.
– Жарко.
Молодой устроился рядом, развязал суму, вынул глиняный корчажец. Отхлебнул затеплевшей воды. Гудел, трудясь, шмель. С криками резали воздух стрижи. Парило после дождей.
– Трава не знает, для чего растет и для чего ее скашивают, – ожесточился вдруг отрок. – Так и люди. Тысячами мрут. Как мухи на зиму. А кто-нибудь ведает, для чего все это?
Андрей лег на спину, сорвал былие и стал кусать, глядя в небо.
– Для Бога, Алешка.
– Мрут для Бога?
– И живут, и мрут. Трава, зверье, люди. Все.
– Блажной ты, Андрей. – Отрок запнулся. – Это не я, а старец Михей так говорит… А для людей-то что?
– А для людей – красота. Вот хоть ты, Алешка. Хоть скрытен ты, и норовом силен, и горд бываешь, и душа твоя будто стылая, будто опустелая… а люблю я тебя. Что от Бога и для Бога, то все красиво.
– А может, я не для Бога? – искушаясь, спросил молодой.
– Балуй, – хмыкнул иконописец. Он сжевал одну травинку, выплюнул и взялся за другую. – Вот послушай. Был я мальцом, к краскам тянулся. А матерь с отцом не позволяли. Из служилого рода я, прозваньем Рублёв. Таким же княжьим служильцем, как отец, должно мне было сделаться. Да только стало мне являться невидимое и дальнее. Что в соседней волости случалось или хоть на соседском дворе – видел как наяву. А то грезилось еще не случившееся, чему только суждено проявиться. Лет семь мне было, на исповедь уже ходил. Матери поведал, она в испуг. Отец, узнавши, за конскую узду схватился, пороть хотел. Тоже от страха за меня. Матерь не дала, укрыла. Повезли к Сергию в Троицу. Старец на меня поглядел и услал погулять. С родительми разговаривал.
Алексей слушал завороженно.
– А дальше?
– После того мне уж не запрещали бегать к нашему иконнику. Отца с матерью скоро язва моровая прибрала. Меня в Москву взяли. Когда возрос немного, перестал невидимое зреть.
Андрей умолк, поднялся и взял свою торбу.
– Что это мы тут разлеглись. Пойдем, Алексей. Игумен корить будет.
– А дальше-то что? – нагнал его у дороги послушник.
Не ответив, монах заговорил о другом:
– Ты, Алеша, знай – в монастыре нашем нет другого такого грешника и своевольника, как я. Ничему ты хорошему по духу от меня не научишься. Данила вот, чист сердцем и многий опыт духовный стяжал, и тот не сумел из меня дурь мою вынуть. Старец Михей напутал что-то. Какой я блажной…
– Ну, нашелся грешник, – пробормотал молодой. – Видали и похуже.
Вскоре поперек дороги заблестела зеленоватой гладью Яуза. Невдалеке, у пристани в устье реки разгружали торговые лодьи. Перейдя мост, пошли через Никитскую слободу вдоль Яузы.
– Смотри, не проговорись братии, – предупредил Андрей, – о словах Максима блаженного.
– Да мне и вспомнить про него страшно, – содрогнулся отрок.
Миновав слободу, дорогу побежала вдоль обрывистого берега. Ныряла в заросли орешника, потом выводила на простор, стекала в овраги и снова пряталась под сень березовых рощ. За изгибом Яузы на высоком месте прилепился к земле Спас-Андроников монастырь, по обету поставленный более полувека назад митрополитом Алексием. Прилепился и потянулся вверх Спасской церковью, которую за эти полста лет отстраивали уже в третий раз после прошлогоднего татарского сожжения. Но тына вокруг еще не было. Только створки ворот меж двух столпов указывали, что не всякому человеку и не со всяким намереньем стоит сюда забредать. Под самым монастырем плескал ручей – Золотой Рожек, прозванный так митрополитом Алексием в память о плавании в Царьград.
– Так ты говоришь, твой отец также служильцем был? – вдруг спросил Андрей.
– Он был служилый кня…
Отрок, понуро шагавший всю последнюю часть пути и не ждавший подвоха, от неожиданности клацнул зубами. Прикусил язык, отвернулся.
– Ничего я не говорил.
– Лицом говорил. Когда я рассказывал, у тебя был взгляд… осиротелого волчонка.
Монах тронул послушника за плечо.
– Как ты попал в ордынский плен?
Алексей, не оборачиваясь, процедил сквозь зубы:
– Отца зарезали, как пса. И мать…
– Татары?
– Хуже татар.
Он повернулся. Губы у него дрожали.
– Отстань от меня, Андрей! – Отрок рванулся и побежал вперед, к воротам, оглядываясь: – Блажной! Отстань от меня, блажной! Какое тебе дело…
– Да постой же, Алешка!.. – отчаянно звал иконник, спеша следом. – Ну прости меня, дурного… Я же только хотел… чтоб тебе легче…
3.
В сонный послеполуденный час по улице от Троицких ворот Кремля двигалось необычное шествие. Состояло оно из единственного человека и длинной, на два десятка саженей свиты. Человек был в монашьей одежде, с суковатой палкой вместо посоха. Время от времени он оборачивался на свое сопровождение и качал головой. Свита хранила молчание. Только когти цопали по бревнам мостовой и изредка раздавался нетерпеливый взвизг. Монаха, за которым волочился хвост из нескольких десятков псов со всей Москвы, стража на воротах сперва не хотела пускать. Чернец уговорил их впустить его одного, а свиту удержать, что и было исполнено. Каким образом вся свора вскоре просочилась за ворота, стражники не сумели бы ответить даже на Страшном суде. Псы самых разных мастей проявили недюжинную хитрость и теперь следовали за монахом к владычному двору, радостно виляя хвостами.
Митрополит Фотий исполнял в этот час дневное молитвенное правило. С древней иконы, которой его благословил, отправляя в Константинополь, старец Акакий, взирал на русского владыку Христос и пытливо вопрошал: «Исполнишь ли волю Мою?». «Господи, на какую казнь Ты послал меня сюда?» – мучился в ответ Фотий, моля вразумить, умудрить и ущедрить дарами долготерпения. Вырванный мирскими событиями из тишины своей пустыни близ Монемвасии, скитский инок Фотий внезапно сделался владыкой обширной и богатейшей русской митрополии. Это ли не искушение Господне? Это ли не мука для того, кто жаждет молитвенного безмолвия и бесстрастия?
Русь казалась безумной и страшной в своем безумии. Господь казнил ее из века в век – за какие нечеловеческие преступления? Пока плыли от града Коломны до Москвы, насмотрелись на пепелища, едва начавшие оживать. Столицу и доныне окружали чернеющие руины слобод и деревень с печными трубами, горестно взывавшими к небу. Едигей, объяснили митрополиту. Хитрый степной волк, обманувший московского князя лицемерными словесами. Едва не пленивший самого князя. Снарядивший погоню за ним далеко на полночь, под самую Кострому. Сжегший десятки градов, а сел без счету. Уволокший в степи многотысячный полон. А перед тем мор. И трехлетняя война с литовским господарем Витовтом – то поход, то перемирье. А после того голод. И всегдашние пожары, слизывающие целые города. И свои, межкняжьи свары, грызня до крови с Новгородом, с Нижним. С Рязанью и Тверью, хвала Богу, у Москвы давно мир. Но и там местное княжье друг на друга злобится.
Семилетняя осада Константинополя турецким султаном Баязетом в сравнении со здешними Божьими казнями казалась уже Фотию невеликим испытанием.
Через слюдяное оконце проник собачий лай. Он возник вдруг и сразу стал многоголосым, нестерпимо громким. Откуда столько псов? – подумалось Фотию. Где тут взяться молитвенному покою! Он с сожалением отложил книгу с канонами и грузно поднялся с колен, выглянул за дверь кельи. По сеням бежал келейник с перекошенным от ужаса лицом.
– Владыко преосвященный… – заблажил он. – Все бесы преисподней собрались там на дворе. В собак вселились, вот те крест, владыко…
– Зачем пустили? – растерянно молвил Фотий.
– С чернцом проникли, с монахом злонамеренным! И как только его земля носит, окаянного…
Фотий справился с волнением.
– Чернеца ко мне, псов гнать.
– Да как же, гнать, – келейник порысил обратно, – их только святой водой и можно…
Лай за окном утихал. Наконец и совсем пропал, а в келье преосвященного предстал старый-престарый монах. Лицо и руки были изъедены морщинами и казались дублеными. Однако кожа не потемнела от ветхости, а оставалась светлой. Будто даже светящейся, как у отрока-доростка.
– Павлом прозывают, – поклонясь в пояс, ответил монах на строгий спрос владыки. – Павлом-пустынником.
Русской молвью митрополит не владел. Знал лишь болгарское наречие, но на Руси оно давно уже было невнятно. Перетолмачивал с обоих языков келейник Карп.
– Пошто псов привел? – еще более строжился Фотий. – Поглумиться хотел?
– Николи, – отверг монах. – Увязались за мной, пока к тебе шел. Видно, прознали, что я со зверьем дружен. Всякую Божью тварь приласкаю. А что разгавкались, за то прости, владыко. Твои слуги стали их метлами гнать, вот псы и разобиделись. Насилу уговорил их умолкнуть да за воротами меня ждать.
– Уговорил… Прознали… – Фотий сник и уже не имел сил для сурового внушения пришельцу.
Вот еще одно испытание в этой бедственной стране, с мукой думал он. Монах имел вид сущего простеца. Но за простотой его преосвященному виделось обычное здесь, на Руси, лукавство, свойственное народам младенческим, неразвитым. И все то же русское безумие, соединяющее в себе истовость веры со святотатством.
Павел-пустынник тем временем излагал просьбу, с коей пришел из далеких галичских лесов, с северной речки Обноры.
Равнодушно кивая словам келейника-толмача, Фотий оживил в памяти одно из первых своих искушений в этом городе. Пасхальный крестный ход вокруг белокаменного Кремля, страшная усталость с непривычки, огромное скопление люда. Но живая вера русских, простодушное усердие, горенье духа – как было не возрадоваться такому. Однако радость сменилась ужасом. К воротам, через которые возвращались в Кремль, какой-то нищий привязал дряхлую лошадь и бил ее палкой. Кобылка пала наземь, а он все бил и бил, кричал, бесновался. Фотий в отвращении потребовал остановить злодейство и перевести, о чем вопиет безумный. Нищий был гол, на чреслах болталась ветхая тряпица. Митрополиту объяснили – кричит срамное, непереводимое. В подтверждение сего убогий, бросив бить животину, сорвал с себя тряпку и… Фотия, взяв под руки, быстро втащили в ворота. Он гневался, тоже кричал, стучал оземь посохом. Велел упрятать похабника под затвор, посадить на сухой хлеб и воду для покаяния. За нищего вступились, назвав блаженным. Известен, мол, всей Москве, ест и так один черствый хлеб, и под замок его нельзя, ибо человек Божий, народ его любит. Зимой ходит в дырявой вотоле на голом теле и срамное временами творит, и грядущее, бывает, пророчит. А то и совсем непонятно куролесит. Сбываются проречения? – позже спросил Фотий, умирив дух. Сбываются. В Едигееву осаду пообещал, что татары быстро схлынут. И верно – всего три седмицы простояли в Коломенском селе, ушли, хоть и обещались сперва всю зиму стоять. В тот же день владыке донесли: блаженный Максим долго плакал над побитой кобылой, стоял на коленях и обнимался с ней, каял себя. Христосовался с ледащей животиной. «Как?! – вновь ужасался митрополит. – Как христосовался? С бессловесной тварью?!» Он вспоминал древние рассказы о ромейских юродивых стародавних веков и нынешних шарлатанов, выдававших себя за таковых. Неужели безумная в своей простоте Русь переняла тот древний дух юродства? – мучился страшными сомнениями Фотий и еще жарче молил небеса о даровании ему разумения.
Пустынник Павел просил грамоту на основание монастыря. Иноки давно живут в глухом лесу общиной, а церкви нет.
– Игумен кто у вас? – спросил митрополит. – Муж разумеющий и духовный?
– Я, владыко, о себе такого не ведаю, – глядел долу монах.
– Так ты прочишь себя в настоятели, простец? – вскинулся преосвященный. – Ни книгам не обучен, ни страха Божия не имеешь, псов на святительский двор приводя! Скоморох! Глупец! Да знаешь ли, что монашество, а паче игуменство – труд велик и изнурителен?! Где твои труды, притворщик? Лицом светишь, аки луна в ночи, аки сребреник начищенный. С глаз моих! Вон!
Отвернувшись к оконцу, он стал твердить Иисусову молитву. Полсотни раз. Тихо скрипнула дверь кельи.
– Солнце да не зайдет во гневе вашем, – сказал после сам себе.
Но в груди тяжело ворохнулось опять сомнение: а вдруг и этот – юродивый?
Откуда-то долетел звон – медленный печальный перебор колоколов от мала до велика.
В келью вновь поскребся Карп, перекрестился.
– Старый князь Владимир Андреич преставился. У Предтечи звонят.
…В этот же час из ворот митрополичьего двора выехал человек, плотно укрытый с головой широким плащом. Его сопровождал конный слуга, безбожно зевающий на ходу.
– Ворона влетит, – предупредили холопа на воротах.
– А, – отмахнулся тот. – Чего звонят-то?
– Князь Владимир помер.
– Вот жалость! – Ивашка стянул с головы шапку-колпак. – Хороший был князь, храбрый… Москву от татар упас.
Пока ехали до Фроловских ворот, мимо Чудова и Вознесенского монастырей, всех встречных – кремлевских служильцев, младших дружинников, иноков, простолюдинов и даже баб – Ивашка оповещал о смерти любимого горожанами князя. Меньшего среди потомков Ивана Калиты, зато великого в ратных трудах – татар и литву бившего не жалея живота своего. Ивашка, хотя и грустил по князю, был горд своей кратковременной значимостью – его весть производила на всех большое впечатление. Но как ни важно было известие для града, на выезде из Кремля пришлось огорченно умолкнуть. Кириос Никифор желал остаться на посаде неузнанным и велел холопу не раскрывать рта.
Ивашка теперь ехал впереди, показывая путь: за рвом мимо торговых рядов до Ильинского крестца. Далее по кривым переулкам, что соединяли, перетекая один в другой, главные улицы посада – Ильинскую, Никольскую, Варьскую, за которой, ниже к реке, проулки становились будто вовсе пьяными, изгибистыми, совсем неожиданно выводя на Великую улицу и приречный Подол. Но так далеко ехать Ивашке и его хозяину не требовалось. Усадьба купца-сурожанина Ермолы Васькова стояла посредине между Ильинкой и Варьской улицей.
Дом и двор при нем были богаты. Двухъярусный терем на высоком подклете, с широким гульбищем на резных столпах. В окнах на самом верху даже цветные стекольца вставлены для игры света. В пристройках и отдельных клетях – службы. Поварня, челядня, молодечная, своя кузня, конюшня, житные амбары, медуша, погреба с надпогребицами. Лабазы для купеческого товара. И все это отстроено заново с позапрошлой зимы, когда все московские посады выжгли по приказу князя Владимира Андреича, чтобы не было татарве безнаказанного доступа к кремлевской крепости. Купцы-сурожане, торговавшие широко, со многими странами света, куда можно доплыть по рекам и морям, были первой статью на московском посаде. Богатством опережали всех прочих торговых людей Руси, не считая разве новгородцев. Хотя прозывались по фряжской Сугдее, древнему греческому Сурожу в Таврии, но возили товар и в Царьград, и в Бухару, и в туретчину.
Тут уж Ивашка, оставленный на дворе, дал себе волю – всякого из прислуги и домашней купцовой чади оглоушивал печальной вестью. Однако иные из Ермоловых домочадцев не особо жалели серпуховского князя. Доныне не могли простить ему сожжение посада. Татарве как бы еще Бог дал злобиться тут, а княжьи служильцы не щадя жгли, с жесточью дело свое делали.
Скоро во всей усадьбе остался единственный человек, не ведавший о смерти старого князя. Хозяин дома заперся с приезжим греком в большой горнице наверху, где обычно обговаривал и обсчитывал с тиунами-прикащиками торговые дела. Не звал слуг, не просил ни квасу, ни морсу, ни калачей с пирогами или моченой брусники, как бывало. Холопа на дворе пытали: кто таков его хозяин, и откуда, и каковы ведет дела, да отчего такая тайна за дверьми. Ивашка, щедро угостившийся пивом и медом с оладьями, поведал о пришлеце много странного. При митрополите-де ни то ни се, как блоха на кочерге. Ни с духовными, ни с мирскими делами не знается, в церкву как нехристь забредает редко-редко. Дни проводит марая пергамен либо праздно шатаясь по Кремлю. Особо любит захаживать на двор великого князя и разглядывать там часовую башню, что сербин Лазарь поставил. А ночами иногда палит до зари свечи, но всяко не молится, потому как и святых образов в своей клети не имеет. Вместо икон у него неведомые книги, а в тех книгах – Ивашка заглядывал тайком – знатные зрелища, писанные красками. Пышные каменные хоромы, румяные девицы, конные воины, змеи огнедышащие, снова девицы, уже в объятьях воинов. Никакому Феофану Гречину, украшавшему стенным письмом церкви и княжьи палаты, такие зрелища не написать.
– Ну, тут ты, паря, врешь, – сказали Ивашке те из домочадцев, кои были грамотны. – Что грек твой – латынский басурманин, это ясно. А что Феофану, иконнику княжьему, зело премудрому, яко змей, такие узоры не изобразить – то глупая напраслина. Он и саму Москву напечатлел в хоромах князя Владимира Андреича, земля ему пухом.
Пока таким образом судачили на дворе, хозяин дома Ермола Васьков испытывал большое затруднение. Чем более он слушал словообильного грека, тем острее становилось у купца желание позвать слуг и вышвырнуть незваного гостя за ворота усадьбы. Но исполнить этого было нельзя.
– …Мессир Джанфранко Галеаццо поведал мне, что русские купцы очень влиятельны в своей стране. Они выкупают из татарского плена князей и участвуют, как свидетели, в великих сражениях…
– Мой отец, Василий Капица, был в числе тех десяти, кого князь Дмитрий Иванович взял с собой на Дон, пойдя против безбожного Мамая, – через силу подтвердил Ермола.
Голос грека был любезен, но глаза взирали темно и холодно.
– Русские купцы также решают, кому сесть на московскую митрополию.
Ермола поежился – что-то и в самом деле потянуло холодом. Пробирает и под суконным азямом.
– И даже могут влиять на семейные дела великого князя. Им, к примеру, может не нравится его выбор невесты…
– Лживы твои слова! – не стерпел Ермола и резко поднялся с ларя, устланного мягким расшитым покровом.
– А младенцы у великой княгини Софьи отчего не живут, мессир Ермола? – усмехнулся грек. – Не от колдовства ли? Если князь Василий увидит точный список с того пергамена, который показывал мне мессир Джанфранко… И услышит о жиде, коего приютил в своем доме Василий Капица как раз в те дни, когда великий князь справлял свадьбу…
Купец бессильно опустился на ларь.
– Чего ты хочешь?
– Немногого. – Кириос Никифор расстегнул суму на поясе и извлек свернутый в трубку пергамен, туго перетянутый тесьмой. – Это как можно скорее должен получить князь Нижнего Новгорода Данила Борисович.
– Изгой Данила? – нахмурился купец. – Его род боле не владеет Нижегородским княжеством. Василий Дмитрич перекупил ярлык в Орде.
– Мне известно, что князь Данила живет в некой крепости… в глухом лесу, где обитает дикий народ…
– Мордва да черемисы, – угрюмо сказал Ермола. – Крепостица Курмыш за Сурой-рекой. Данила там как сыч сидит, татарву казанскую да жукотинскую к себе зазывает.
Грек кинул пергамен на стол.
– Для твоего спокойствия, мессир Ермола, я бы осмелился посоветовать не читать это письмо.
– Есть у меня один татарин для таких дел, – принужденно молвил купец, еще больше помрачнев.
– Я и не сомневался, что мы поймем друг друга, мессир Ермола.
Кириос Никифор покидал купеческую усадьбу под неприязненные взоры многочисленной дворовой и домашней челяди, плевавшей вслед. Холоп Ивашка сделал все, чтобы о его хозяине здесь составилось самое крепкое впечатление и чтобы разговоры о басурманском греке еще долго будоражили здешних обитателей, а может, разошлись бы и по всему посаду.
Хозяину дома, вышедшему на крыльцо, поднесли чашу малинового морсу. А после как выпил, доложили о вести из Кремля.
– Беда не ходит одна. – Ермола вздохнул, осенился крестом. – От князя Владимира много добра было. Упокой Господь его душу. – И велел ключнику: – Карачайку ко мне зови. Дело для него есть.
В небе от закатной стороны медленно надвигались тучи, обещая вскоре гром и хлывень. Какая Троицкая седмица без хорошей грозы?
4.
В монастыре, не догнав отрока, Андрей пошел в иконную кладовую, оставил там купленное на торгу. Шагая к келье, рассудил, что Алешка отсидится где-нибудь в амбарных клетях, а не то, как любил он, средь могил ратников, павших на Куликове. Там и утихомирится быстрее. Только б на глаза никому не попал, а то ведь и надерзить от уныния может. Не раз уже игумен оставлял его на хлебе и воде смирения ради. Как-то позвал к себе Андрея, завел разговор о послушнике. Негоден, мол, в чернецы, стать не та, в миру ему надо жить. Андрей и сам понимал. Но Алешка недаром был упрям: решил, что быть ему монахом и никем более. Хлеб и воду, и многое иное терпел молча – а в толк взять не хотел, что иноком не через упрямство становятся, а через самоукорение и отсечение своей воли.
В монастырь его привезли прошлым летом люди купца Ермолы Васькова, ходившие лодейным обозом до Сарая и обратно. Передали просьбу купца выходить отрока. Рассказали: нашли в затоне на Волге, в камышах, едва живого. Прятался там, бежавши из плена, где пробыл два года, как сам после поведал. Шел по степи без еды и воды, добрел до реки, схоронился и стал кончаться. Помереть ему не дали, но и на ноги не подняли. Ермола, благоволивший Андроньеву монастырю, велел свезти отрока туда, чтоб, если выживет – Бога благодарил да за радетеля своего молился. На выживание и иные нужды купец присовокупил к просьбе калиту, полную серебра. После татарского разора серебро обители кстати пришлось.
Отрок поднялся, осмотрелся и надумал остаться. Привязался к Андрею, набился к нему в подручные по иконному делу, а вскоре надел послушничье платье. Но с прочими насельниками монастыря всегда был настороже, держал себя в отдалении от всех. И ничего не рассказывал о себе, даже того, какие труды и тяготы понес в плену. За что прослыл несмиренником.
Подходя к келье, которую издавна делил с Данилой, тоже иконником, Андрей услышал, что у них гость. Из открытых в сени дверей, будто пар из кипящего котелка, вырывалась на волю шумная, многословная речь старого изографа Феофана, звавшегося на Руси Гречином. Андрей вошел, смахнул с головы на спину клобук и, подперев ободверину, ждал, когда мастер заметит его. В давние времена Феофан, ведавший княжьей мастерской по украшению книг, учил его премудростям линий и красок в книжной росписи. Позже открывал ему тайны вохрения, приплесков и белильных движков в иконописи, секреты стенного письма. Бок о бок пять лет назад, с Прохором городецким, подписывали Благовещенский собор в Кремле. Там же и пролегла между ними трещина непонимания. Не сумели сойтись в едином мнении, в одном видении соборной росписи. Феофан подчинял себе, навязывал свою волю. Андрей, не споря, мягко уходил из-под нажима, творил хоть и в едином духе, но наособь. Пока работали, Гречин сдерживался. Довершили дело, и Феофан сказал свое слово:
– Ты не монах, Андрюшка. Монах послушание держит, а ты прекословишь, хоть и молча. Будешь искусником, сейчас уже видно, но больших работ тебе не видать. Ни со мной, ни с кем другим после меня. Попомни!
Три года после того разговора так оно и было. Ни в Тверь, ни в Можайск, ни в Симонов монастырь, ни еще куда его не звали. А потом великий князь задумал к приезду митрополита поновить древний Успенский собор в стольном Владимире, и Феофана под рукой не оказалось. Крупнее этой работы на Руси не нашлось бы. Главный храм всей Залесской земли!..
– Ну здоров, блудный сын. – Гость наконец приметил его, прервал речь. Феофан был в дорожной накидке-вотоле и крепких сапогах. Рядом лежала сума. – Чего стоишь, садись. Места хоть и немного в вашей конуре, да, чаю, поместишься.
– Что так долго, Андрей? – Данила подвинулся на лавке.
– Здравствуй, Феофан.
– Воды глотни с дороги. Больше-то у вас ничего нету. Все общее, ни куска хлеба своего в кельях. Хотел и я когда-то монахом стать, на Афоне подвизаться. Да и хорошо, что не стал. Не сумел бы укротить себя. – В низкой полутемной келье густой голос Гречина гудел, как в бочке. – Попрощаться я зашел. В Серпухов иду. Князь Владимир, на смертном одре лежа, упросил поновить там обгоревший храм. Оттуда в Новгород поплыву, так что и не увидимся более. Навсегда ухожу из Москвы. Я ведь на тебя, Андрей, в обиде, сам знаешь. Воспользовался ты моей хворью. Если б не та немочь, владимирская роспись мне бы досталась. А ты бы мог и отказаться, пождать, пока я на ноги встану. Нет, не пождал… Ну да, теперь же только Андрейка Рублёв умеет лик Спасов и ангелов писать, никому иному не дано. – Феофан стал желчен. – Если князь Василий вспомнит обо мне, так и скажите: ушел, мол, иконный философ Гречин, забытый и оплеванный за все свои службы владетелю московскому.
– Да что ж говоришь-то, Феофан, – всплеснул руками Данила. В андроньевской иконной дружине он был старшим, но Гречин пенял отчего-то лишь младшему. – Славнее тебя на Руси нету изографа.
– Нету, так будет. Он вот, – показал пальцем в Андрея, – на мое место подбирается. Да я не ропщу. Пожил свое. Жизнь моя строптивая, мятежная. Ты думаешь, Данила, я не знаю, что зело тщеславен? Чести всю жизнь ищу! Да не только ее. Хотел добиться мирской славы через виденье и отображение Божественного света. Чтоб свет на моих иконах и росписях в оцепененье приводил! Чтоб в трепете перед величьем Бога повергались!.. – Голос Феофана возгремел, но тут же упал. – Обвык я на Руси писать светоносные образа – да все это не то. Что на деле тот Божественный свет узреть можно своими очами – разуверился. Сколь ни тщусь, не зрю его. На иконах пробела пишу, вохры досветла плавлю, а не верю боле, что свет тот неизреченный в самом деле есть!
– Безумие – пытаться увидеть свет, в котором Бог пребывает, – проговорил Андрей. – Смириться надо, а прочее – дело Божье.
Сказал и потупился под Феофановым взором. Гречин был премудр и богословием мог сыпать, как иные – шелухой подсолнушной. Чем всегда поражал не только простонародье, собиравшееся в церквах, когда там работал и сплетал словеса Феофан, но и книжных монахов.
Однако изограф не стал противоречить. Видно, и впрямь надломилось что-то в нем.
– А я и во всем мирском не вижу более света. Страшно мне стало, Андрюшка. К месту я тут прирос, а ведь раньше не мог долго усидеть. Дух вольный из меня вон вышел, Русь меня высосала. Да не Русь – Москва! Отяжелел я тут в заботах века сего, родней, имением оброс. Князь московский меня узами опутал, женой повязал. Вам, чернецам, того не понять, сколь родня женина дух отягощает. Да и какая родня – боярский род! Одно хорошо – Бог жену прибрал, в приплоде одна дочерь. С девкой видеться не дают, на порог дома не пускают. Не в чести у них такой сродник, философ мятежный. Замуж отдадут, и не узнаю за кого. Да я на них не в обиде. – Гречин махнул рукой. – Пущай спаривают девку с кем хотят. Хошь с татарином немытым.
– Что ж, в Новогороде – иначе, Феофан? – спросил Данила.
– А я и там не задержусь. Жизнь наша суетна, что обрящу в ней? Замысел лелею. Пойти с новгородцами на их ушкуях и юмах в Студеное море, сподобиться там рай узреть.
– Откуда ж там рай? – осторожно возразил Андрей.
– Слыхал я про это, – покивал Данила. – Однако, думаю, новгородцы лишнего прибавляют. Известно – где новгородец, там и сказ про чудеса.
– Не верите. – Феофан потянул с лавки суму. – Ну да я знал, что моим словам здесь веры не будет. Куда мне с моим умишком о рае мудровать. И говорить-то не хотел, да само с языка слетело. Архиерею новгородскому больше у вас обоих веры будет? Вот! – Он потряс толстым пергаменным свитком и принялся разматывать его. – Грамоту сию списал Епифаний, когда сидел в Твери, бежавши из Москвы от татар. А на Афон отправляясь, отдал мне в сохранение. Послание Василия Калики, епископа новгородского, Федору, епископу тверскому, о рае. Зачту малость… «А то место святого рая находил Моислав-новгородец и сын его Иаков. И всех их было три юмы, и одна из них погибла после долгих скитаний, а две других еще долго носило по морю ветром и принесло к высоким горам. И увидели на горе изображение деисуса, написанное лазорем чудесным и сверх меры украшенное, как будто не человеческими руками созданное, но Божьею благодатью. И свет был в месте том самосветящийся, даже невозможно человеку рассказать о нем. И долго оставались на месте том, а солнца не видели, но свет был многообразно светящийся, сияющий ярче солнца. А на горах тех слышали они пение, ликованья и веселья исполненное…»
Феофан бережно скрутил пергамен, спрятал в суму.
– Слыхали: деисус, писанный лазорем чудесным. Не человечьими руками созданный! И свет самосветящийся!
– Ну, коли уж епископ новогородский… – колебался Данила, теребя бороду с обильной проседью. – Деисус, положим, в любой церкви есть. Но чтоб один иконостас без церкви на острову стоял… Ты как думаешь, Андрей?
Младший иконник не отвечал. Только губы двигались, и взгляд, устремленный прямо, смотрел в неведомое. Данила, подождав немного, подтолкнул его локтем.
– Что зришь-то? – спросил он, привычный к таким состояниям товарища.
Данила и не пытался узнавать, что творилось в душе Андрея в эти мгновенья. Тот все равно не смог бы передать на словах. Но иногда рассказывал, а еще реже – воплощал на досках рожденное в наитии. Даниле тогда ничего не оставалось, как повторить сказанное некогда Творцом о своем творении: «Хорошо весьма!».
– Деисус лазоревый. Пречудный и изощренный, – заговорил Андрей. – Данила! – Он развернулся и схватил того за руки. – Нам нужна лазорь! Непременно нужна!
– Да где ж ее взять?!
– Ну, у вас свои чаянья, у меня отныне – свои. – Закинув суму на плечо, Феофан порывисто, как делал все в своей беспокойной жизни, шагнул к двери. – Прощайте, дети мои. А ты, Данила, присматривай за Андрюшкой. Неровен час – воспарит в небо, так ты его сей же миг хватай за ноги и на землю сбрасывай.
Он крепко притворил за собой дверь кельи. Оба монаха, поднявшись вослед, безмолвно смотрели друг на друга. Будто не верили, что Феофан Гречин, знатный мудрец и отменный изограф, странник и философ, некогда пришедший из Греческого царства на Русь в поисках великих трудов, отныне навсегда исчез из их жизни.
– А ведь не за прощанием он приходил, – удрученно вымолвил Данила, садясь за стол. – Он, верно, хотел, чтобы ты просил его вернуться.
– Феофан утратил надежду, – тихо отозвался Андрей.
Он растерянно поглядел в раскрытое волоковое оконце. Потом черпнул ковшом воду из бадейки, отпил.
– Что же ты не сказал ему остаться на Москве?
– Не сказал. Оттого что иначе все будет. Не так, как он думает. Не так, как мы думаем.
– Мудреный ты человек, Андрейка, – вздохнул Данила. – Иной раз и не понять, о чем говоришь. А я ведь тебя как облупленного знаю. Иноком новоначальным тебя пригрел в своей келье.
– Прости ты меня, Христа ради, Данила! – Андрей развернулся к иконному углу и в порыве перекрестился. – Сам себя не знаю. Нынче Алешку до слез довел. Феофан на меня в обиде. А я и не ведаю, как с ним примириться. Со всех сторон грешен!
– Пошли-ка молиться, – предложил старший. – Молитва от всех бед совет да ответ. Вечерня уж скоро.
– Лазорь нужна! – будто не слыша, вдохновенно повторил Андрей.
Резко стукнула дверь. В келью ввалился, чуть не рухнув лбом на пол, послушник. Упасть ему не дала рука, неласково державшая отрока за шиворот. Следом через порог ступил старец Касьян, в другой руке державший кривую суковатую трость.
– Окаянство расплодили в обители! – гневно возгласил старик. – Послушники неподобь творят, во образец от прочих!
Он отпустил Алешку. Тот забился в угол между лавками, потирая загривок – старец Касьян известен был железной хваткой.
– Сперва под дверью подслушивал, яко бес нечистый. После за Феофаном вашим до ворот увязался, за конем его поспешал, будто песий хвост. А все ты, Андрюшка! – ругался Касьян. – Суету мирскую с ног своих не отрясаешь, сам осуетился! Вестимо, в чести у князей, у бояр ты – гордыня-то и утешается! Фарисействуешь! Гроб изукрашенный, внутри поганства исполненный! Тьфу! – Старец обильно харкнул на пол и ткнул клюкой в грудь Андрея. – Смотри! Краски твои – прах, когда сам в нечистотах!
– Да что несешь, старый… – Алексей рванулся, сжав кулаки.
Данила ухватил его, толкнул обратно.
– Не лезь не в свое, – внушил коротко и негромко.
– Да в каких нечистотах?.. – чуть не плакал отрок. – Андрей, скажи ему. Что он все время тебя поносит! Скажи, Данила!..
Послушник вцепился в подрясник Данилы, широко от изумления раскрыв глаза. Младший иконописец, не сказав ни слова себе в оправдание, склонился в пояс перед лаявшим его монахом.
Старик, стуча тростью, убрался.
– И зачем ты, Алешка, за Феофаном увязался? – повернувшись, спросил Андрей. Он был весел. – Зачем подслушивал?
– Так сказали, будто сам Феофан Гречин здесь, – засопел отрок, все еще переживая, – я и хотел поглядеть. Это для вас он знакомец. А я в Новгороде его росписи видел. Помирать буду – не забуду того блистанья, каким его праведники светятся. Будто молниями насквозь пронзены!
– Он давно так не пишет, – сказал Данила, надевая клобук.
– Отчего?
– Отчего, Андрей? – переспросил Данила, обернувшись у двери.
– Феофан к небу вопрошал. А ответа не услыхал. Свеча погасла… Данила!
– Да знаю, знаю, – откликнулся тот из сеней. – Лазорь нужна. Куда ж без нее…
Над монастырем плыл хриплый звон клепала, сзывавший на молитву. От Москвы, накрытой лиловой теменью туч, докатывалось громовое ворчанье.
5.
Гончары в Москве издавна селились у реки, ближе к воде, которой требовало ремесло. Но гончарный конец на посаде не стоял на месте. Росла Москва, раздвигался Великий посад, и гончары с течением времени перемещались все дальше от Кремля. Нынче они занимали местность, звавшуюся Острый угол – между поречьем с купеческими пристанями и краем посада, за церковью Николы Мокрого. Дальше за ними, подпирая посадскую городьбу, селились только кожеделы, распространявшие вокруг такой запах, что жить поблизости никто больше не соглашался.
Ермола Васьков был единственным на Москве, кто держал гончарную мастерскую в самом центре посада. Для купца-сурожанина, грузившего на свои лодьи меха, лен, воск, зендень и шелк, заморскую златокузнь и брони, поливные ордынские изразцы, сорочинское пшено, – гончарное дело было прихотью. В мастерской, пристроенной к дому, стоял всего один круг. Горшков, корчаг, рукомоев, крынок, братин, ковшей и кружек, которые Ермола самолично выделывал на нем, не хватило бы и в хозяйстве одной усадьбы.
– Для утехи верчу, – объяснял он, вращая ногой нижний круг, а на верхнем сминая и вновь вытягивая ком глины. Одет купец был обиходно, в домотканые порты и рубаху с закатанными рукавами, поверх – кожаный передник. Черные волосы перетягивал на лбу гайтан, как у мастеровых. – После раздаю кому ни попадя.
– В чем же утеха? – не понимал Андрей. Сурожанин усадил его на лавку против гончарного круга, чтобы любовался и слушал. – Этак крутить и крутить. Голова закрутится. А горшки-то выходят кривобокие.
С сурожанином он был знаком с тех лет, когда в митрополичьих кремлевских палатах узорил буквицы и писал клейма в книгах. Для Ермолы он выполнил заказ на украшение вкладного престольного Евангелия. С той поры купец приглашал его писать деисусы для церквей, которые строил своим попечением, заказывал иконы, иногда присылал поновить старые, темные образа.
Андрей разглядывал глиняные творения купца. На нижних полках стояли совсем сырые, просыхающие, выше – те, что уже отвердели и ждали череда пойти в печь на обжиг. У стены напротив тесно громоздились готовые, крытые глазурью, заполняя несколько полок. Среди них были и пристойные с виду, расписанные узорами, и простые, неказистые, и совершенные уродцы, невесть для чего годные.
– Не скажи, Андрей. Вертеть круг – это как, знаешь… – Ермола вставил кулак внутрь глиняной болванки и начал истончать стенки, – да вот как мир из праха сотворять! Хочу – творю, хочу – порушу и снова вылеплю. Хоть кривобокие, да мои.
– Бог над горшками. Завидное, наверно, звание среди торговых людей.
– А ты не смейся, – сказал купец, хотя чернец даже не улыбнулся. – Сам-то попробовать не желаешь?.. – Он ровнял и вытягивал стенки сосуда, округлив на его боках ладони. – А впрямь – попробуй, Андрей.
Круг медленно остановился. Купец отнял руки от горшка, обтер ветошью.
– Да не получится у меня.
– Уважь, Андрей! Коли пришел ко мне с просьбой, так и моей просьбой не погребуй.
Иконописец нехотя развязал мантию, оставил ее на лавке и пересел на место Ермолы. Смочив руки водой, утвердил их на стенках горшка. Ногой завращал маховик. Сосуд стал тереться о ладони.
– Сильней прижимай, – советовал из-за плеча купец, – тяни вверх.
Горшок начал кривиться и покрываться вмятинами. Потом и вовсе стал оплывать, вместо того чтоб расти.
– Легче, не жми так! Круг быстрее вращай. Не напрягай ладони. Экие у тебя руки неловкие, как деревянные. И как ты ими лики на иконах пишешь? – горячился сурожанин. – Горшок – он что баба, ласку любит. Оглаживай его, как бабий бок, тогда он пойдет…
Монах остановил круг и смял окривевшую болванку в ком. Сидел, будто закаменев, неподвижно глядя на руки.
– Ты чего, Андрей?!
– Пойду я, Ермола.
– Обиделся, что ли? – недоумевал тот.
Иконник вытер ладони тряпьем, вышагнул из-за гончарного стана, подобрал с лавки мантию.
– Прости ради Бога, – сказал, не поднимая взора.
Купец с досадой сильно ткнул себя кулаком в лоб.
– Зачем я про бабу-то… Бес меня за язык потянул, Андрей, прости! – Он стянул через голову передник, сорвал гайтан, бросил. – Ну их, клятые горшки, пойдем в дом. Расскажешь, для чего тебя митрополит к себе во Владимир зовет. Гонца, говоришь, прислал? Данилу тоже зовет?
– Данилу не зовет. А зачем – не сказано.
Выйдя из гончарной в сени, Ермола распорядился челяди крыть на стол в верхней гостевой горнице. Поданным рушником утер лицо, сменил потную рубаху и вдел руки в короткие рукава долгополой чуги из синего атласа с бархатной отделкой. Выслушал слугу, доложившего, что вернулся татарин Карачайка, просит неотложного разговора с хозяином.
– Пожди, Андрей, в горнице. Не уходи только!
Карачайка был взволнован. Сновал по клети, а увидев купца, заговорил быстро, проглатывая половину слов, тараща черные, как смородина, глаза.
– Погодь, не тараторь, – остановил его сурожанин. – Языком, что помелом, полощешь. В Курмыше у князя Данилы Борисыча был?
– Был, как не был! И князя видал, и темника его, Семена…
– Это какого Семена? Воеводу нижегородского? Карамышева?
– Его, Карамышева, с ним говорил.
– Ну да, ты же с ним одного роду-племени. Его дед таким же послом по хитрым делам был, как ты, только у князя, у буйного Бориса Костянтиныча. Что тебе Семен сказал?
– Ничего! Карачайка сам все узнал! Сам прочитал. Письмо распечаталось… невзначаем. Я не хотел…
– Ври, невзначаем, – охмурел купец. – Случаем да нечаем только голова от тулова отделяется… Что в письме было?
Грамоте Ермола учил Карачайку самолично – пронырливый татарин, умеющий читать и писать, в иных делах полезнее, чем только говорящий и слушающий.
Карачайка сунулся к двери клети, выглянул, убедился, что никого нет. Но вслух все равно говорить не стал. Пошептал купцу на ухо. Отпрянул, будто опасаясь вреда себе от хозяйского кулака за плохую весть.
Ермола сделался белым, как стена, крытая известью.
– Ты сжег письмо? – в ужасе спросил он.
– Зачем? Карачайке никто не говорил жечь. Отдал как ты велел, хозяин. Семену отдал. Он сказал, передаст князю.
– Что твоя дурья башка наделала! – Сурожанин выкатил очи в точности, как татарин в начале разговора, и схватился за волосы. – Лучше б ты не знал ни аза! Лучше б я изорвал о тебя ту Псалтырь, по которой учил читать! Почему тебя не продырявили в дороге дикие черемисы или бродники! Знаешь, что ты сделал, глупая татарская рожа?! Убил меня. Наповал убил! Без ножа зарезал. В своем же доме!..
Уронив голову и не видя ничего вокруг, Ермола похоронным шагом шел по сеням. Мысли были тяжелые, как жернова. Что делать? Послать к митрополиту? Самому ехать? Рассказать – не поверит. Какой-то сурожанин, какое-то письмо. Голословный навет на грека из владычной свиты… Великий князь ускакал в Кострому, смотреть, как рубят на Волге новый град Плесо. Наместник Юрий Щека. К этому тем паче нельзя. Единственный, кто б мог разрешить задачу, – князь Владимир Андреич. Да и тот помер.
А может, ничего, обойдется? Вдруг вспыхнула надежда. Ничего же верного, решенного в письме не было. Только намеки да замыслы. Сговора еще нет, а даст Бог и вовсе не сладится.
Укрепясь этой думой, Ермола поднялся наверх, в горницу, где просил быть иконописца. Но Андрея не оказалось. Ушел, не став ждать ни купца, ни праздного угощенья.
– Живо догнать! – Купец озарился новой мыслью, выбежал в сени и оттуда на гульбище. – Анфим, Прошка! – крикнул во двор. – Андрея-иконника мне верните!
Два отрока, игравшие на дворе в бабки с хозяйскими сыновьями, вывели коней. Без седел поскакали за ворота. Вернулись небыстро – иконописец успел отшагать на две версты, до самых ворот посада. Едва уговорили его повернуть вспять и провожали пешего. Сесть на коня наотрез отказался.
Сурожанин закрылся с чернецом в той же клети, где секретничал с Карачайкой. Долго хлебал из ковша квас. Еще дольше ходил от двери к окну и обратно, опасаясь зачинать разговор.
– Вот что, Андрей. Некстати зовет тебя Фотий во Владимир. Откажись. Не ходи! Если мне веришь – не ходи. Нельзя тебе туда. Никак нельзя.
– Я тебе верю, Ермола.
Серые глаза иконника смотрели из-под клобука безмятежно и сосредоточенно.
– Не пойдешь? – купец перевел дух.
– Пойду. Отчего же нельзя?
Ермола, утомясь от волнения, поместился на лавку, широко расставил ноги в домашних черевиках.
– Не знать бы тебе этого… А может, – купец размышлял, – и к лучшему. Если Фотий тебя призывает – так ты сам скажи ему, чтоб он ехал оттуда. Чем скорей, тем надежней. И ты с ним уезжай Бога ради!
– Темны твои слова, Ермола. – Андрей стал печален и тревожен. – Что-то знаешь, а сказать не хочешь. Совсем как Максим-блаженный.
– А пусть хоть как блаженный! – встрепенулся купец. – У него не спрашивают, почему да отчего, и меня не пытай. Э-э! – сдосадовал он. – Зря я тебя с дороги вернул. Кликушей юродивым пред тобой выставился. Уходи, Андрей. Ступай с Богом. Просьбу твою о лазори самаркандской помню. Ежели мои люди не оплошают – будет она у тебя.
– А я за тебя век молиться стану, – обещал иконник, светлея ликом. – Лазорь, чистота небесная, она ведь не мне нужна…
– Как не тебе? – нахмурился сурожанин. – Кому иному?
– Всем! – убежденно заговорил Андрей. – Князю, и ратным, и людям посадским. И женкам. И смердам. И Алешке-послушнику. И Феофану заскорбевшему. Все на Руси погорельцы. У всех душа обгорелая.
– Женкам и смердам, говоришь, – усмехнулся Ермола. Но заверил твердо: – Достану.
Сурожанин кликнул сенного челядина проводить Андрея. Оставшись один, удрученно завздыхал, тихо, чтоб не услышали, стенал, хлебал квас.
И вдруг изошел громким хохотом. Вспомнил, как учил чернеца оглаживать горшок, будто это бабий жаркий бок.
Оплошал! Ввел в искушение. Но до чего знатная шутка вышла.
Ничего, где грех, там и молитвы. Отмолит.
Андрейка Рублёв о себе не думает. Он обо всех думает, за всех душу томит. Вон как широко хватил – и князей, и смердов. Такой отмолит. И не себя одного.
Только б не захлопнулась владимирская ловушка…
6.
Роща звенела на разные лады: цвикала, трещала, свистела, стрекотала и гудела. Шелестела на ветру. Нагоняла сон.
Ждали, не сходя с коней, вслушиваясь и оглядываясь.
– Семен, а если Щека обманет? Пришлет своих дружинников на нас?
Спрашивавший был молод, с надменностью в узком лице, но в лихо, как у простого ратного, заломленной шапке. То и дело одергивал на себе короткополую свиту, будто не привык к такой одежде, расхристывал ворот рубахи под ней. Жаркий день душил, томил в собственном соку.
– Не обманет, князь. У него своя корысть. А ехать не торопится – так тем честь свою перед тобой кажет. У князя Василия он из набольших бояр.
Второй, по-татарски чернявый, в суконном полукафтанье, был зрелых лет. От низкорослой коренастой фигуры исходила спокойная уверенность, а взгляд казался обманчиво сонным – под полуопущенными веками играли искры огня.
– Что мне его честь. – С досады молодой князь прикусил навершие плетки. – Василий мне ровня, а отцу моему – племянник двоеюродный. Не его боярам пред нами величаться. Изгоним москвитина из Нижнего и Суздаля, еще поглядим, кто кому честь воздавать должен. На владимирское княжение мой отец имеет не меньше права.
– Так-то оно так. Да у Василия серебра больше. Князья из самой Литвы к нему на службу переходят.
– Переходят. А потом обратно бегут, татарвы испугавшись. – Князь плюнул. – Свидригайло литовский с каким звоном на Москве объявился! С прочим княжьем литовским. Василий на радостях ему аж стольный Владимир в прокорм пожаловал. И где тот литвин теперь? От Едигея побежал, пятками коваными сверкал, да московские рубежи с разбегу пограбил… Татарами надо Василия прижимать, вот что! Нынче у него нету сил против ордынцев.
– Пощупаем, князь. И татар, думаю, много не надобно. Сотни три?
– И своих столько же. – На лице молодого появилась сумрачная улыбка. – Не все же серебро московское татарам отдавать. Так, воевода?
Он насторожился, привстал в стременах. Из лесу послышалось фырканье лошадей.
Гибкие ветви кустарника пропустили нескольких конных. Впереди ехали двое оружных, глядевших с опаской. За ними – плотно укрытый плащом владимирский наместник боярин Юрий Щека. Служильцы открыто держались за рукояти сабель на боках, озирались.
– Здравствуй, Иван Данилыч, – с достоинством, покровительственно молвил наместник, выезжая вперед. – И ты, Семен, здрав будь.
Щека сделал знак дворским. Те отъехали, но глаз с нижегородцев не спускали.
– И тебе, Юрий Василич, без убытков жить, – с усмешкой отозвался князь на боярскую спесь.
– Ты ведь, Иван Данилыч, и позвал меня сюда, чтоб обдумать, как нам вместе убытков избежать. Так понимаю?
– Верно понимаешь, боярин, – заговорил воевода Семен Карамышев. – Дума у нас с тобой будет нетяжелая. И трудов от тебя, Юрий Василич, не много потребуется. Езжай себе спокойно по делам из Владимира, душу не томи зря. В вотчину свою какую ни то нагрянь. Либо волостицу иную проведай по княжьей надобности. А мы тут и сами управимся.
– Добро, – сощурясь, молвил наместник. – Людьми моими как распорядитесь? Всех с собой взять не могу.
– Оставь самых надежных. Пускай за митрополитом приглядят, не дадут ему сильно испугаться да убежать куда ни то. А в знак, что тобой оставлены и упреждены, пускай шапки навыворот наденут. Целее будут.
– Добро, – повторил Щека, но на скулах заиграли желваки. – В успенские ризницы и подклети особо загляните.
– А много ли там осталось, чтоб туда заглядывать? – заухмылялся Карамышев.
Вдали прокуковала кукушка. Щека прислушался. Продолжил разговор:
– О том спросите ключаря Патрикея. Этого пса сторожевого еще Киприан-митрополит поставил. А я с ним не подружился. Теперь он на меня Фотию и Акинфию Ослебятеву клевещет. Наказать бы эту вошку примерно.
– Не тревожься, Юрий Василич. Все сделаем, как душа твоя хочет.
– А если князь Василий паче чаяния на тебя, боярин, опалиться вздумает, – добавил Иван, – то мой отец окажет тебе честь. Будешь сидеть среди первых нижегородских бояр.
Щека отвесил ему легчайший поклон.
– Благодарствую, Иван Данилыч. Мне и на Москве хорошо сидится. А в лесной крепостице, боюсь, дела для меня не сыщется.
– Отец вскоре отберет Нижний у Василия! – полыхнул гордой злостью князь. – Ханский ярлык он уже получил.
– Когда отберет, тогда и речь поведем. Да по совести сказать, Иван Данилыч, Нижний теперь – обломок прежнего. Сродники твои сами в пыль разнесли свой стольный город. Сперва дядька твой, Семен Дмитрич, татар навел. А в Едигееву зиму и отец твой, Данила Борисыч, татарского царика Талычу науськал на свою отчину. Не за эту ли службу Едигей вернул Даниле ярлык? Не жалко было кровушки христианской?
– Пока в Нижнем сидят наместники и воеводы Василия, – с яростью процедил Иван, – ни одна московская собака не смеет судить нас за кровопролитие.
Щека, вспыхнув и забагровев, откинул полу плаща, потянул из ножен меч. Князь сжал рукоять своей сабли. Владимирские служильцы изготовились взять вперерез Карамышева. Но тот, стремительно вздыбив коня, вклинился между наместником и Иваном.
– Тише, тише, боярин. Охолони, не дуркуй. Не буди лиха. И ты, довлат, не горячись, – по-татарски назвал он князя, – дело загубишь.
Наместник, поколебавшись, задвинул меч. Иван выдохнул.
– Так-то лучше, – одобрил Семен. – У тебя, Юрий Василич, с собой двое ратных, а у нас десяток в лесу схоронен. Дурное бы дело вышло.
– Да и моих у дороги не меньше.
– Мои люди проверили. – Карамышев растянул рот в щербатой ухмылке. – Слышал кукушку? На дороге никого нет. Побоялся ты, Юрий Василич, много воев с собой брать.
– Черт с вами, – выругался Щека. – Все обговорили, или еще что?
– Твой отъезд, боярин, будет нам знаком, – бросил воевода, разворачивая коня.
Князь Иван молча скрылся в лесу.
– За собаку сочтемся еще, довлат, – сдавленно пообещал Щека. – Отатарился, казанский прихвостень, русской крови ему не жаль. Тьфу!
Роща невозмутимо пела на разные голоса.
…Курмышскую крепость в мордовских лесах Засурья отстроил еще отец нижегородского изгоя Данилы Борисовича. Князь Борис жизнь прожил путаную, нерадостную. Чего-то добивался, чему-то завидовал, спорил со старшим братом, отнимал у него города и волости. Подбивал на раздоры с Москвой. И сам не спешил склоняться ни перед светлым старцем Сергием, радонежским игуменом, посланным Москвой на уговоры, ни перед угрозой церковного отлучения всего Нижнего Новгорода. Только московская ратная сила могла ненадолго смирять его да старость обуздала мятежный дух князя. И кончилось все плохо. Василий московский завладел Нижним, а Бориса свел на меньший суздальский стол, где тот и умер от позора и бессилия.
Данила Борисыч испробовал в своей жизни еще больше позора. Бежав от Васильева притворного добра, готового обернуться пленом, десять лет жил в Орде. Простирался ниц на голой степной земле пред полудюжиной ханов, быстро сменявших один другого, выпрашивал себе княжение на Руси. С Едигеевыми татарами прошелся по своей земле как хозяин – казня и милуя. После чего от Нижнего осталось безнадежное и безлюдное пепелище. Но – свое! Ярлыком от хана заверенное. Однако по-прежнему недоступное. Едва схлынула Едигеева рать, московский князь второпях прислал туда войско с новым наместником. Даниле Борисычу и мелкой деньги не перепало со своей отчины. Поблазнилась на миг удача, да хвостом махнула перед глазами.
Ушел от московских людей в дикое Засурье, засел в Курмыше и стал копить силы. А тут и удача вновь поманила хитрой улыбкой.
– Грамота не подписана. Но татарин, что привез ее, клялся, будто она составлена кем-то из Фотиевых бояр. Прочти, свояк.
Князь Данила разгладил на столе мятый пергаменный свиток. Сидевший напротив него человек придвинул ближе свечу, стал разбирать писанное. Буквы непривычно круглились, цеплялись одна за другую лишними хвостиками и целыми оглоблями.
– Отвык я в Орде от грамоты. – Тот, кого назвали свояком, отринул от себя пергамен. – Зачти ты, Данила Борисыч.
– Долго ль ты в Орде пробыл, свояк, – усмехнулся князь. – А мне только и дела было там, что книги читать. Не то б и говорить по-русски разучился. Письмо явно греком писано. А греки народ словоблудный. Если самую суть брать, то сказано здесь так. – Данила заглянул в харатью. – Княжий наместник во Владимире боярин Щека не станет, мол, возражать против того, чтоб благоверный великий князь нижегородский, суздальский и городецкий Даниил Борисович… расстарался грек, ничего не забыл, – удовлетворенно отметил он. – …Чтоб благоверный великий князь Даниил Борисович взял причитающееся ему со своей отчины серебро и имение с Владимирского города и!.. Слушай, свояк, слушай… И в залог добрых соседских отношений с великим князем московским Василием Дмитриевичем… это с Васькой-то, добрых отношений, – хмыкнул Данила. – В залог, значит, оного взять с собой из города Владимира преосвященного митрополита всея Руси Фотия и держать его у себя в надежном убережении, сколько потребно времени для умягчения великого князя Василия… и для возобновления русской старины, порушенной московскими владетелями… Грек, видать, непростой, ежели знает, как на Руси прежде было. До того, как Москва начала себя первой мнить и чужие отчины под своего князя тянуть.
– Какое дело какому-то греку до русской старины? Не ловушка ли это московская, чтоб тебя выманить?
Человек, разговаривавший с курмышским хозяином, был желчен и мрачен. Его лицо годами свыкалось с выражением уязвленной гордости и жёсткого равнодушия, превратившись почти в личину из холодного металла. Но металл был исщерблен: лоб, кроме морщин, проложенных частым гневом, перечеркивал глубокий давний шрам.
– Не похоже, свояк. – Данила задумчиво сворачивал пергамен. – Не посмели бы московские хитрецы приплетать Фотия. Слыхано ли – митрополита в полон брать. Если б ловушку задумали для меня, не стали б такой опасной приманкой заманивать. Серебром владимирским – да, а владыкой… Да и зачем мне самому голову туда совать? Людей у меня разве нет?
– Так ты возьмешь Фотия?!
Оба собеседника были примерно равных лет, каждому перевалило за полвека. И судьбы казались схожи. У каждого были взрослые сыновья, которым нечего оставить в наследство. А за плечами – изгнание, бесчестье, предательства тех, кого считали верными людьми, плен родни, скитания в Орде, бесприютность… и наконец, проблеск безумной надежды. Высокородная княжеская кровь кипела в обоих. Накипь жестокой обиды давно оседала в душах. Но у курмышского гостя с лицом-личиной кровь была много выше, древнее, чем у правителей Залесской Руси. Эта кровь веками напитывалась мятежным своеволием, нещадным произволом, бесстрастием ко злу, небрежением к милосердию. Став почти черной, она день за днем и год за годом отравляла последнего из рода смоленских князей, потерявшего в конце концов и смоленский стол, и семью, и родовую честь… а за ней и честь собственную.
– Возьму, Юрга, – с холодной улыбкой произнес Данила Борисыч. – От такой выгоды грех отказываться. Если даже Фотиевы церковные греки на моей стороне. Пускай Церковь будет судией в моем споре с Василием.
– Митрополиты сто лет держат сторону Москвы, – усомнился смоленский изгнанник. – За московских князей они и к татарам в заклание пойдут, как Алексий полвека назад. Тот же Алексий тверского князя хитростью в московскую темницу заточил! Не будет тебе пользы от Фотия. Разве самого в темнице истомить для сговорчивости.
– Томить не стану. Но и на волю не пущу, пока добром не склонит Ваську отдать мне Нижний и сам не благословит меня сесть на своей отчине.
– Как благословит, так и анафемой проклянет, едва отпустишь. Да и сколько ждать будешь, пока Фотий сопреет на твоих хлебах.
– А у тебя какая дума, свояк? – потемнел взором Данила.
– Пригрозить Василию, что Фотия татарам продашь, – жестко отмолвил смоленский князь. – После разгрома на Куликове они русских попов как прежде не жалуют, сам ведаешь. Монастыри Едигей жег за милую душу и чернецов в полон набрал. А уж Орда такой выкуп назначит, что Василию всю свою казну придется вытряхнуть, да по сусекам скрести.
Данила Борисыч долго обдумывал его слова, взирая на дальнего родича с опасливым сомнением.
– Что смотришь? – ощерился Юрий Святославич. По-иному улыбаться он давно не умел.
– Смотрю: впрямь ты безумен, свояк, как говорили, или от бед своих думать разучился? Да ежели хоть волос упадет с головы Фотия или хоть пригрожу Василию этим волосом, он мне житья не даст. Не то что Нижнего. Не только митрополиты за Москву стоят, Москва за них глотку перегрызет. Фотием с Васькой торговаться все равно что смерть себе кликать. А я еще жить хочу. И на Руси, как князь, а не в степях, как волк.
– Смерть кликать, говоришь? – глухо переспросил смоленский изгой. Данила отодвинулся подале от стола, увидев, как жесткое лицо Юрия медленно, с натугой перекосилось. Заплясавшее пламя свечи усилило впечатление. – А на мне уже могильная земля лежит. – Пристально глядя, он проскрежетал: – Отдай Фотия мне!
– Выпей меду, свояк, – так же жестко ответил курмышский князь. – Фотия тебе не отдам. И запомни: поперек мне пойдешь, последнее пристанище на Руси потеряешь. В лесах будешь гнить.
Юрий первым отвел взгляд.
– Запомнил.
– Ну и аминь. Спать пойду. – Данила кончил разговор. – Завтра, если хочешь, с Иваном перемолви.
– Он вернулся?
– Вернулся. С Талычой уже сговорили. Знака ждать надо.
Зевая, он ушел. Смоленский князь не двигаясь смотрел, как оплывают остатки свечи в глиняной плошке. Когда пламя, задрожав, стало никнуть, он накрыл его ладонью. Клеть погрузилась во тьму.
– Врешь, Данила, – пробормотал князь. – Это ты в лесах гниешь и мертвечиной кормишься. А мне хоть раз еще свежатины отведать… напоследок.
Он вышел в сени, где тускло мерцали на стенах масляные светильники. Спустился по изогнутой скрипучей лестнице. Отстранил холопа, сунувшегося с немым вопросом. Курмышские хоромы Данилы Борисыча были невелики. В Смоленске такие строили себе небогатые купчишки-лавошники и ремесленники. Юрий сошел с крыльца во двор, постоял, слушая. Направился к длинной низкой халупе, которую звали здесь молодечной. Из открытых узких волоковых окон несся храп с присвистом. Нижегородская дружина – полсотни отроков здесь, еще три сотни по дворам во всем Курмыше. Остальная сила Данилы – татары из Жукотина и Казани, дикая мордва, зимой бегающая на лыжах, а летом пешая. С этим – воевать против Москвы?
Юрий прошелся вдоль молодечной, повернул за угол. Навстречу выступила тень.
– Не спится, Булгак? – тихо спросил князь.
– Заснешь тут, – буркнула тень. – Не привыкши мы под одним кровом с княжьими служильцами спать. Рука сама к засапожнику тянется. Лучше б ты своего Невзора взял, он-то из дружинных. А мне свою рожу для чего светить?
– Заткнись, Булгак, и слушай. С рассветом уходи. Скажешь Головану, что я велел перейти в другое место. Пусть изгоном уводит всех на Клязьму. Всех, кроме баб и холопов.
– На Кля-азьму!.. – Булгак присвистнул. – Далековато, атаман. Чего мы там не видали? То ж владимирские края.
В руке у князя стремительно явился нож. Булгак ощутил на горле острие клинка.
– Исполнять, как велю. Будете ждать меня на Сенежских болотах. Коней запасных возьмите. Невзора завтра отошлешь ко мне. На Сеньгу придете, пусть Голован отправит двух человечков на конях во Владимир. Как начнется в городе тревога, пускай скачут к Золотым воротам. Там меня встретят. Все понял?
– Понял, – просипел Булгак.
Юрий убрал нож.
– Поживиться там будет чем.
Он выглянул из-за угла, обозрел двор. Брехал где-то пес, окликали друг дружку сторожевые. Смоленский князь не прячась пересек дворище и скрылся в доме.
7.
В конце концов митрополит Фотий вынужден был признаться. Если не великому князю, то хотя бы себе: во Владимир он попросту бежал.
За два месяца житья в Москве стольный город Руси поверг владыку в греховное малодушие и уныние. Душа этого народа была темна, непроглядна и противоречива. Русские любили долгие стояния в церквах, величавые крестные ходы, блистанье куполов и деревянное узорочье храмов – и с великим усердием опустошали церковные кладовые в пользу своих хозяйств. В пояс кланялись, спорили меж собой, кому первее быть у владычной длани с крестом и благословеньем, трепетно внимали проповедям – и наговаривали великому князю, нашептывали, что митрополит-де заглядывается на княжью казну, что честное-де имение иных московских бояр ругает ворованным, что поносит-де князя поносными словесами пред своими людьми, и даже приводили на ухо те самые словеса. Вокруг града и даже в градских посадах еще не избыли следы страшного татарского разора, пустыри на месте былых дворов зарастали травой, безлюдье и скудота лезли в глаза повсюду – а на московском приречье весело, озверело сходятся толпа на толпу в кулачных боях и редко не оставляют покалеченных да убитых. Без креста ни к какому делу не приступают – а могут и срамословить, осеняясь знамением. Казнями Иоаннова Апокалипсиса их не проймешь – куда там, тут к своим казням привычные. Притерпелись и во мраке живут будто под солнцем, радуясь, любя свои тесные, сумрачные храмы…
Во Владимире Фотий встретил совсем иную Русь. Какой она была когда-то, до татар. В той Руси было больше света, просторности, искусности. Она была шире, богаче, вольготнее, благодатнее. От той страны и того народа остались чудные белокаменные храмы, похожие на резные ларцы, полные загадок. Золотые врата, еще помнившие свой царьградский прообраз, хотя занесенный сюда не из Константинополя, а из древнего Киева, где собственные Золотые ворота давно стояли печальной руиной. Огромный Успенский собор, показавший свое пятиглавие задолго до того, как лодья причалила к пристани, и продолжавший расти ввысь и вширь, пока Фотий ехал на коне по городу, в древний владимирский кремль.
Осознав, что сей град, хотя и запущен, хранит дух былого, владыка потребовал в сопровождение книжного человека. Такого немедленно нашли – долговязого монаха, знающего греческую речь и старые русские хронографы, кои здесь зовут летописями. Монах водил Фотия вокруг собора Димитрия Солунского, толкуя тайнопись каменной резьбы на стенах: китоврасов, сиринов, алконостов, грифонов, райских дерев. Повез в Боголюбовское село, открывал тайны львов и барсов на гульбище храма Покрова, изумлял секретами древних зодчих. Показывал развалины княжеского дворца и завлекал в лестничную башню, устрашая повестью о зловещем убийстве князя Андрея. В этой истории Фотию краем приоткрылась другая сторона той, прежней Руси. Надменный правитель Андрей, бросавший свои и союзнические полки на Киев и Новгород, сподобившийся чуда от иконы Богоматери, назвавшийся Боголюбским… Этой стороной прежняя Русь смыкалась с нынешней, где злодейство и святость ходили рука об руку, а простодушие было неотличимо от грубого лукавства.
К громаде Успенского храма Фотий подбирался не спеша. Лишь на третий день, осмотрев все прочее, вошел в него. Уже знал, что собор состоит как бы из двух – большого и малого. В наружном, как в коробе, спрятался изначальный храм, возведенный князем Андреем, рассевшийся от древнего пожара и укрепленный новыми стенами. Митрополит обозрел во внешнем поясе собора гробы старых русских князей и церковных владык. Шагнул под срединные своды. Запрокинул голову. И позабыл самого себя.
А вспомнил, когда задеревенела, заныла шея. Подозвал долговязого книгочея. Выплеснул на него изумление:
– Или ты солгал мне, или храм не горел. Он не мог гореть!
– В Батыево нашествие весь город погорел, владыко, – возразил чернец. – На этом самом месте татары огонь развели. На хорах люди прятались, все задохнулись от жара. Стены были местами черны от пламени.
– Черны! А эти фрески? – Фотий употребил латинское слово, которого русский книжник не знал. – Эти росписи?
– Старого письма только малая часть осталась, прочее сгибло в огне. А сие поновление сделано по велению великого князя два лета назад, когда ждали тебя, владыко.
– Поновление! – воскликнул Фотий. – Ты все-таки лжешь мне. В московских храмах нет подобных росписей. У вас так не пишут. И нигде не пишут! Так писали, должно быть, когда на Руси не было всех этих ужасов. Когда еще не обременели грехами и не ведали, аки младенцы сущие, о карающей деснице Господней!
– Краски-то свежие, погляди, владыко.
Монах не понимал, отчего так волнуется митрополит.
– Сам вижу, что свежие. Это и дивно мне! Смотри! – Фотий потащил чернеца под западные хоры. – Это второе и страшное пришествие Христово?! Что второе вижу, а где страшное? Где трепет и восторг ужаса? Где грозное величье? Это Суд?! Почему апостолы так светлы и спокойны?! – Он потянул монаха дальше. – Почему Павел так размахался дланью, будто не праведников в рай ведет, а рыболовов на реку? А Петр с Иоанном будто беседу завели в дальней дороге. Почему праведные жены похожи на сердобольных русских баб? Откуда сия простота душевная? Почему в грешниках столько упования? В адовой бездне – тишина и покой, а не скрежет зубовный! Почему антихрист тощему псу подобен?! Кто б дерзнул ныне написать такое?
– Андрей Рублёв с Данилой из московского Спаса Андроникова, – оробевши, отвечал чернец. – К твоему приезду писали, преосвященный владыко. Иконостас они же делали.
Фотий растерянно посмотрел на алтарную преграду с высоченными четырехаршинными иконами деисуса. Зачем такая высота? Даже в Святой Софии Константинопольской намного ниже. О чем думали мастера, творившие это?
– Они безумны, как и все тут, – пробормотал он и тихо побрел из собора.
На паперти велел подвернувшемуся дьяку:
– Отпиши в Москву, в Андроньев монастырь. Иконнику Рублёву без промедления быть здесь.
…Седмицу спустя во владычных покоях Фотий разглядывал стоявшего пред ним иконописца. Знал о нем по расспросам уже довольно: числится в первых на Москве иконных умельцах, князем излюблен, прежним митрополитом Киприаном обласкан, молитвенник и смиренник, зело книжен и премудр, но показывать того не любит – в иконах философствует. И в довесок к сему наговорили преосвященному странное: в простонародье будто молва ходит, что Андрей-иконник отмолил-де град в позапрошлую зиму и татары прошли мимо. Последнее Фотий счел неполезным суеверием.
– Садись, – кивнул владыка, стаскивая с запястья кипарисовые четки. – Не гадай, зачем позвал. Говорить с тобой хочу.
Он надолго замолк, перебирая зерна четок. Шумно вздохнул. И принялся рассказывать. Как ужаснул его юродивый Максим. Какой тяжестью легла ему на душу Москва. В какую глухую тоску повергают его русские. Поведал о пустыннике Павле из галичских лесов, с речки Обноры. О своре псов на владычном дворе. И о страхе, поднявшем его в ту ночь с постели.
– Голос звучал в моей голове как колокольный набат. Никто иной его не слышал. Мне было велено разыскать монаха, напрасно мной оскорбленного… – Молчание, четки. – В Константинополе я слышал, что некогда великий патриарх Филофей Коккинос отзывался о русских как о святом народе. Но я вижу здесь только юродство… Скажи, иконописец, разве росписи в здешнем соборе делал не тот же человек, что видит повсюду столько бед и зол?.. Почему твои святые так доверчивы, подобно детям?
Андрей слушал, беспокойно сцепив руки на колене и не поднимая взгляда.
– Не один я писал, владыко. С Данилой. В дружине пятнадцать человек трудились. Двое померли. Черная смерть приходила. Было – до сотни в день хоронили со всего города.
– Черная смерть! – Фотий ужаснулся. – Как можно расписывать храм во время мора?! Но тем паче не должно быть в этих фресках… такой светлости! Будто не Страшный суд писали, а идиллию! Будто не по грехам казнится Русь! Немного я святости увидел в твоем народе, иконописец, чтобы не напоминать ему о воздаянии! Что за вера такая у вас, русских? В одного ли Христа, грядущего судить живых и мертвых, веруем или в разных?
Андрей поднял взор, но Фотия словно не видел. Заговорил спокойно, ровно:
– Был у нас в недавние времена князь. При Киприане-митрополите. В Смоленске княжил, с литвинами всю жизнь воевал. Несколько раз терял свой город, а возвращал себе стол – своих же смольнян кровью умывал. В последний раз не сумел от литовского Витовта отбиться, побежал в Москву, потом в Новгород. Князь Василий дал ему во владение Торжок. Юрию, так его звали, служил подколенный вяземский князь. Юрий однажды захотел взять себе его жену. Зарубил мечом Семена Вяземского. Взбесясь, накинулся на Ульянию. Она его ножиком поранила. Князь рассвирепел, позвал слуг. Велел им рубить ей ноги и руки, а потом в полынью на реке бросить.
Фотий в отвращении содрогнулся.
– Через несколько дней он бежал из города. Тайно, в ночи. От злодейства своего бежал, от себя. Окаянством своим гонимый. В Орде объявился. И там покоя не нашел. Вернулся на Русь, обрел приют у монаха-пустынника в рязанской земле. Там и помер в покаянии. Трех лет еще нет, как это было… Ты про веру спрашивал, владыко. Вот тебе ответ: народ мой грешит как злодей и разбойник, а кается как монах. Вместо воды слезами омывается. Такая у нас вера.
Фотий в глубокой задумчивости перебирал четки.
– Мне надо размыслить над твоими словами, иконописец. Позже вновь призову тебя, ступай. Нет, погоди, – вспомнил он о чем-то. – Я ведь с тобой по-гречески говорил. Откуда знаешь язык?
– У Феофана-изографа научился, – смутился Андрей. – И так, по книгам греческим.
Он подошел к Фотию и опустился на колени, принял владычное благословение. Но вставать не торопился.
– Просить хочешь?
– О блаженном Максиме хочу молвить.
Фотий отмахнулся четками.
– Ступай. Не надо. И так довольно о нем говорено.
– Наказ он мне дал, – заторопился Андрей, – сказать тебе, владыко, чтоб ты ехал на Сеньгу.
– Юродивый велит мне ехать! – Брови митрополита поползли вверх. – Да ты ополоумел, иконописец. Для чего мне слушать его? Где эта Сеньга? Что мне там делать?
– Молиться Пречистой, в лесу, на болоте, – упавшим голосом докончил Андрей.
– Час от часу не легче! – рассердился Фотий. – На болоте! Может, там хотя б часовня имеется, чтоб молиться? На болоте твоем?
– Не ведаю сего, – почти шепотом проговорил чернец, глядя прямо и взволнованно. – Только… послушаться б тебе, владыко. Худа-то не будет.
Митрополит несильно толкнул его в грудь.
– Скройся с глаз. Слыхано ли: простой монах учит архиерея послушанию!
– Прости мя, грешного, владыко!
Андрей с горящим лицом торопливо вышел из покоев. Задевая слуг, спешил по длинным сеням, вниз по лестнице, снова по сеням. Выбежал на двор, остановился. Вдыхал паркий после ночного дождя воздух. Шептал молитву.
– Поговорил с преосвященным, Андрейка?
Дружинный подмастерье Кузьма, по мирскому прозванию Рагоза, напросился идти с ним во Владимир. Досаждал игумену, чтоб отпустил: «Вместе Успенье владимирское подписывали, почему одному Андрейке идти? Ну и пускай не зовут! Данилу и того не позвали. Фотию, может, и не сказали доподлинно, сколько там народу труждалось. А всю честь Андрейке? В хоромы владычные не позовут, так я рядом побуду, авось и про меня вспомнят!».
– Ну что владыка? Хвалил? Восторгался? – наседал Кузьма. Андрей молча смотрел в небо. – Говорил, что николи подобного не видел? А про иконостас что сказал? Не великоват? Да не безмолвствуй ты, аки гордынник!
– Не хвалил.
– Ругал? – охнул Рагоза. – Гневал?
– Нет, не ругал.
– Да что ж ты из меня душу тянешь, молчун окаянный?!
– О вере говорили.
Андрей направился в гостиный дом при владычных палатах, где их поселили.
– Пошто о вере? – не отставал Кузьма. – Не по канонам писали? Ереси подпустили?
– Ты бы, Кузьма, лучше б учился вохрой по санкирю работать да живцы класть, – не останавливаясь, сказал Андрей. – И цвета ладно соединять. Тогда б хвалили.
Рагоза остановился, будто наткнулся на камень.
– Вон что!.. Из-за меня владыка не похвалил. Я, значит, вохрить не умею, цвета худо соединяю… Да я, может, – крикнул он в спину Андрею, – лучше тебя вохры кладу! А не завидуешь, оттого что я при тебе с Данилой никто!.. Али завидуешь? А, Андрейка?! Токмо скрываешь!..
Размашистым шагом осерчавший Кузьма пошел вон со двора.
В доме, в клети за столом сидел над книгой Алексей. Чадила свеча – мутное слюдяное окно совсем не пускало свет. Послушник кивнул Андрею, но отрываться от чтения не стал.
– Чему поучаешься?
Иконник черпнул ковшом воду из ведра, отхлебнул.
– Слово о земном устроении. Дивно мне, Андрей, как тут писано о земле.
– Ну-ка зачти.
– Земля ни четвероугольна есть, ни треугольна, ни паки округла, но устроена есть яйцевидным устроением. Висит же на воздуси посреди небесной праздности, не прикасаясь нигде небесному телу…
– Ну и что тебе дивно, Алешка?
– Как же говорят, что земля на опорах стоит? А небо – твердо и на нем звезды укреплены?
– То древние язычники говорили. А кто сейчас за ними повторяет, тот и в Святое Писание не заглядывал. Сказано же в Книге Иова: Бог повесил землю ни на чем…
Послушник уткнулся в книгу – не хотел сознаваться, что и сам не разумеет толком Писание.
– Забрал ты свою вещь, Алешка?
– Нет еще. Потом, когда возвращаться будем.
Отрок, как и Кузьма, навязался иконнику в спутники. Довод у него оказался короткий: «Надо одну вещь забрать». Андрей, однако, догадывался, что послушник просто не хочет с ним расставаться. Потому переупрямить его сейчас не надеялся. Но все же попробовал:
– Забирай, Алексей, свою вещь ныне же и завтра с утра отправляйтесь с Кузьмой в Москву.
Отрок поднял голову от книги, посмотрел на него осудительно.
– Никуда я без тебя не пойду, Андрей. Мне тебя в целости надо в монастырь вернуть. – Он фыркнул: – Да еще с Рагозой!
– Ты что же, Алешка, – подивился чернец, – охранять меня надумал? Я ведь не боярин, не епископ. Зачем мне сторожа? У меня и красть нечего, кроме кистей. Да и те в Андроникове оставил.
– Сказал, не пойду.
Упрямец уткнул очи в пергамен.
– Ты послушник, Алешка. – Андрей привел последний довод. – Должен слушаться.
– Скажешь игумену, как вернемся, чтобы посадил меня в темную, на хлеб и воду за непослушанье.
– Ну что с тобой делать, – вздохнул иконник.
– А Фотию-то, – вспомнил отрок, – Фотию сказал?.. Про болото в лесу?
…Душа была не на месте. И молитва не могла успокоить митрополита. «На болоте! Молиться!» И лезла на ум та ледащая скотина, истерзанная юродивым у воротной башни Кремля. Что разумел блаженный под этой лошадью? Если его разум не помутнен и не грязен, а чист, как прозрачное небо…
«Это же я – та лошадь!» – вновь пронзило Фотия ужасом.
Он кликнул келейника, велел позвать боярина Зернова. Когда тот явился, спросил:
– Есть ли какое митрополичье владение на Сеньге?
– Имеется. Преображенский погост в волости Сенег. У Сенежских озер. Прежний владыка Киприан построил там церковь Спаса-Преображенья. Любил наезжать туда. Места тихие, созерцательные.
– Есть ли в той церкви какая чтимая икона Божьей Матери?
– У нас все иконы чтимые, – пожал плечами боярин.
– А болота вокруг погоста есть?
– Болота? – Зернов напряг память. – Поблизости, сколь знаю, нет, владыко. Подалее в лесах разве могут быть.
Фотий решился.
– Распорядись, Григорий, собираться и готовить коней. Отслужу вечерню и сразу в путь.
– Куда ж на ночь глядя?! – всполошился келейник Карп. – А трапезовать, владыко?
– В дороге оттрапезуем. В селе каком заночуем. Боярин Щека не сказывал, когда вернется?
– Не сказывал. Прежде отъезжал – так и месяцами не объявлялся.
– Вот и хорошо. – Фотий прикрыл глаза, успокоившись. – А шума не поднимайте. Тихо поеду. На богомолье…
Шум все же случился. Владыка выходил из хором, облаченный по дорожному, когда на дворе вспыхнула перебранка. Митрополичьи служильцы сцепились с наместничьими. Те незнамо как прознали об отъезде Фотия и явились выспрашивать, куда он собрался. Но спрашивали грубо. Дружинники митрополичьего двора недолюбливали дворских наместника, люди Щеки платили им той же монетой. На уздцах коня, впряженного в колесный возок, повис один из них – хотел разворачивать. Его отдирали келейник Карп и владычный служилец. Еще трое дворских Щеки, заголив сабли против четырех противников, готовились боем решить спор. Пятый, забравшись на тын, спрыгнул на круп коня и свалил наземь седока. Оба мутузили друг друга кулаками. Над ристалищем висела отборная брань.
– А ну мечи в ножны, аспиды! – надтреснуто закричал Фотий.
Его не слышали или не понимали. Карп, занятый потасовкой, не толмачил.
– Молчата, изуверие! – Владыка от волнения заговорил по-русски. – Ножны в мечи! Крови не позволята!
На него оглядывались, но дело бросать не спешили. Из дому вышел, замешкав, боярин Григорий Зернов и с витиеватой речью чуть было сам не кинулся в бой.
– Прокляну!! – на чистейшей русской молви криком пригрозил митрополит.
Драка поутихла. Дворский, отдиравший ворога от коня, добился успеха, врезал супротивнику в зубы. Тот упал и стал отползать. Сабли, успевшие поплясать, легли в ножны.
– Вон!!! – Фотий указал перстом направление.
Сплевывая и раздавая обещания, наместничьи люди выдворились за ворота.
Митрополит уселся в возок. Рядом устроился келейник. Боярин и служильцы оседлали коней.
– Сразил, владыко, – восхищенно промолвил Карп. – Единым словом извергов сразил!
Фотий сердито велел умолкнуть и ему. Нащупал под мантией четки и стал молиться.
8.
На посаде били в надрыве колокола. Внизу, за валами верхнего Мономахова города, поднимался гул. Нарастая, он нагонял конного, что во весь опор мчал по улице, взбиравшейся на кремлевский холм. Улица, населенная торговым владимирским людом, была пустынна. В полуденный час ворота всех дворов запирались, а их обитатели предавались заслуженному сну. На заполошные крики конного заспанные головы дворовых слуг выглядывали не сразу и не везде.
– Татары! – рвал глотку вестник, одетый лишь в исподние порты и нательную сорочицу. – Татары на нижнем посаде! Оборужайтесь, люди! Бегите в лес!
Набат оборвался, но был подхвачен другими звонницами посада и верхнего города.
Внутри древнего Мономахова вала, окружавшего холм, жилые дворы стояли теснее. Здесь уже не спали, всполошил набат. Полуодетыми впрягали коней, бросали в возы детей, хватали попавший под руку скарб.
Конный, разносивший весть, скакал дальше, в кремль, давно, еще в Батыево время лишенный стен. Громыхал кулаком по воротам монастырей, прислонившихся к владычному двору.
– Молитесь, отцы! – орал страшным голосом. – Татарва по наши души явилась!
На Большую улицу с грохотом выкатывали телеги с ревущими детьми и тревожно гомонящими женками.
Вестник влетел в распахнутые ворота митрополичьего двора. Горстка дружинников, остававшихся там, спешно натягивали кольчуги, разбирали оружие.
– На посаде резня, скоро здесь будут!
– Сколько их, Гриня? Рать?
– Рать!
– Дождались, слава те, Господи, – мрачно высказался старый десятник, подвязывая под бородой шишак. – А то думали – за что нам такая пощада от Едигея? А ты, Гриня, порты свои у зазнобы оставил? Грозен ты в исподнем для татарвы.
Ратные, заржав, тут же посерьезнели. Гриня, не слезая с коня, поймал брошенную ему саблю, положил перед собой поперек седла.
– Куда?! – рявкнул десятник.
– Людей упредить. В том конце поди не ведают еще, – отмахнулся Гриня и исчез за воротами.
Тревога ворвалась в раскрытое окно кельи гостиного дома. Алексей, бросив книгу, кинулся к двери. На миг задержался, торопливо развязал сермяжный пояс, стянул подрясник. В портах и нижней рубахе выбежал из дома.
– Андрея-иконника не видали? – заметался он на дворе.
…Сыпля бранью, Гриня торопил коня между телегами.
– Куда столько нагрузили! Коз-то зачем? Своих голов не жалко, православные?!
Ворота княжьего двора возле Дмитровской церкви, занятого наместником, были глухо заперты. Служилец со всей силы барабанил по створу, надрывал глотку. Наконец скрежетнула задвижка, в большой воротине медленно, со скрипом растворилась дверца. Однако никто не вышел. Гриня выругался, соскочил с седла и ворвался в ворота.
На полушаге остановился, шатнулся. Его поддержали, не дав упасть. Закрыли дверцу, оттащили тело в сторону и бросили. Один из дворских пнул убитого, плюнул ему в лицо и вытащил из груди нож. Обтер о рубаху мертвеца.
– Шволочь. Жубы мне вщера выбил! Теперя квиты.
– Чегой-то он без портов?
– Шо штраху потерял.
– Пойди коня его отгони, – ухмыльнулся второй. Он вынул из-за пояса шапку и, вывернув мехом внутрь, надел. Отобрал у мертвого саблю.
Улица полнилась шумом, ревом, грохотом, воплями, блеяньем и надсадным лаем псов. Кони сбивали пеших, сталкивались телеги. Алексей, продираясь сквозь этот поток, бежал к Успенскому собору.
– Андрей! – отчаянно звал, вертя головой.
Далеко позади взвился исступленный вой и визг. В Мономахов город ворвались татары. Толпа колыхнулась и издала гулкий стон.
– Андре-ей!
Отрок бежал наверх, к собору. Впереди спешили туда же несколько чернецов, простолюдины, бабы. Из домов клира устремлялись к храму успенские попы со своими домочадцами. На звонницу забрался пономарь, запоздало ударил в колокола.
– Сюда, сюда! – У входа в собор махал руками встрепанный ключарь. – Всех спрячу! Поспешайте, христиане! Туда, к лестнице!
Спасавшиеся проталкивались внутрь, бежали ко всходу на хоры. Алексей налетел на ключаря:
– Андрея-иконника не видал?
– Кого видал, все тама! – крикнул в ответ Патрикей и пропихнул послушника в притвор. – Давай и ты туда!
Отрок добежал до деревянной лестницы, приставленной к отверстию в верхнем перекрытии. Нетерпеливо дождался своего череда, вскарабкался. Из внешнего пояса собора ход вел на хоры во внутренней, древнейшей и срединной части храма. Здесь уже битком было людей – женки, дети, клирошане, чернецы, милостники, кормившиеся при соборе, слуги. От лестницы на хоры передавали по рукам ризничные богатства: ларцы с драгоценной кузнью, золотые мощевики, утварь, Евангелия, обложенные златом и каменьями, напрестольные кресты, шитые пелены.
– Андрей!
Иконника не было. Алексей скатился вниз и, размазывая пот по лицу, побежал дальше. С Большой улицы неслись вопли, татарские и русские кличи. Он повернул на задворки, помчался, сбивая лопухи, между тынами двух монастырьков. Завидев верх церкви, свернул в узкий проулок, добежал до конца и вылетел на площадь перед каменным Спасским храмом. Здесь тоже метались люди, но их было немного. Зато в церкви набилось гораздо – бабы, старики, отрочата. Все на коленях. Поп возглашал молебен о спасении от поганых.
Алексей протиснулся к боковой стене, к каменному гробу безымянного князя из прежних веков. Рухнул на колени, сунул руку в тесную щель меж гробом и стеной. С усилием вытянул холстяной сверток, густо покрытый пылью и паутиной. Смахнул грязь, прижал к груди. Прошептал:
– Спасибо, княже, что сохранил!
Стал выбираться. Всклокоченный полубезумный дед попытался уцепить за ногу, потянул узловатые пальцы к свертку. Алексей отпихнул его.
Отбежав от церкви, размотал холстину. Долгим взглядом прошелся по мечу – от рукояти с измарагдом в навершии до кончика посеребренных, с чернью, ножен. Затем оторвал кусок холста и обмотал рукоять, скрыв каменье, крепко завязал. Огляделся. Снова припустил по улице. Неподалеку высилась другая церковь, Георгиевская, также ставленная из камня при древних князьях. Пробежав мимо, Алексей резко остановился, обернулся.
У стены возле храма стоял иконник. Вдумчиво щипал короткую бороду и отрешенным взором глядел перед собой. Мимо спешно протопали мужики с топорами и рогатинами.
– Андрей! – возбужденно кричал отрок. – Я по всему граду тебя ищу! Татары!
– Татары?.. Почему? Откуда? – Монах рассеянно смотрел на него. – Вот отчего шум? Все бегут куда-то… А знаешь, здесь поновили иконостас. Хороший иконник работал. Нам надо бежать?
– И быстро! – надрывался послушник, хватая его за руку.
Поторапливаясь за ним, Андрей недоумевал:
– Откуда у тебя меч?
– Отцов, – коротко бросил Алешка.
Проулками они неслись к Торговым воротам верхнего города. Иконник навертел на руку мантию, мешавшую бежать. Но скоро, запыхавшись, остановился.
– А Кузьма?! Где он?
– Не знаю я, – с досадой крикнул послушник. – Зачем тебе?!
– Надо найти его. Я пойду. А ты беги, Алешка. Схоронись в лесу. Потом возвращайся в Андроньев.
Монах обнял ошалевшего отрока. Зашагал обратно.
– Я с тобой, Андрей!
Послушник нагнал его. Молча пошел рядом. Когда вернулись к Георгиевской церкви, Алексей потянул его к задворкам. Не успели. Увидели скачущих от Большой улицы четверых татар, побежали что было сил. Нырнули в проулок. Сзади догонял конский топот. Алексей обернулся. За ними гнался только один татарин, раскручивал веревку с петлей.
Отрок споткнулся. Петля пролетела дальше и поймала Андрея. Веревка натянулась, чернец опрокинулся навзничь. Степняк издал клич. Алексей рванул из ножен меч, перерубил веревку.
Ордынец вздел саблю, налетел. Отрок отбил удар, извернулся, пролез под брюхом коня. Попытался достать всадника мечом, но получил ногой в грудь, отлетел. На узкой дороге между тынами конному было неудобно драться. Татарин спрыгнул с седла, осклабился. Разрубил перед собой воздух и нанес удар снизу. Алексей увернулся, скрестил меч с татарским клинком. Сделал вращение, отбил саблю, ударил по ногам. Татарин подпрыгнул. Алексей занес меч в ложном замахе и внезапно полоснул снизу по открывшемуся противнику. Довершил колющим ударом, воткнув меч в глотку ордынца. Враг рухнул лицом наземь.
Иконник сидел на земле и будто удивленно смотрел на убитого. Послушник стянул с него веревку.
– У нас есть конь. Вставай, Андрей.
– Он мертв?
– Мертвее некуда.
Алексей перевернул труп и расстегнул кожаный с медными накладками пояс. Надел на себя, сыромятным татарским ремешком укрепил меч.
– Вот теперь ладно, – негромко сказал самому себе.
Он сел на чалого татарского коня, освободил стремя, чтобы забрался монах.
– Держись!
Низкорослый степной жеребец помчал меж дворов.
– Как же Кузьма? – страдал Андрей.
– Вспомнил: видел его на хорах в соборе, – солгал послушник. – Там укрылся.
У Спасской церкви лежало много мертвых тел. Из самой церкви несся бабий вой. Там затихала резня. Несколько татар волокли добычу: пленных, алтарные сосуды, ризы от образов, жертвенную кружку. Заметив двух беглецов на одном коне, они засмеялись, но преследовать не стали.
До Торговых ворот татарская лавина докатиться еще не успела. Пронеслись через них. Алексей горячил чалого, правил прямо, по улице, утекающей к Золотым воротам нижнего города. Здешний посадский люд не тратил время на возы и нажитое добро. Бежали кто как мог: на своих двоих, с детьми в охапку, на конях по двое-трое. Мужики и парни с секирами, вилами, рогатинами в руках хмуро оглядывались.
Навстречу проскакали два оборуженных ратника. Один в кольчуге и шлеме, закрывавшем пол-лица, второй в стеганом ратном полукафтанье. Алексей засмотрелся им вслед.
– Куда там! – пробормотал. – Вдвоем-то…
Впереди вырастала мощная башня ворот, остававшихся золотыми лишь в памяти градских людей. Дубовые створы и купол надвратной церкви давно не сверкали золочеными пластинами. Все ободрали еще Батыевы татары полтораста с лишним лет назад. От деревянной городьбы, примыкавшей когда-то к башне, тоже остались только насыпи. Стену, съеденную последним пожаром, так и не поставили заново.
Покидая обреченный город, люди уходили с дороги в поля и дальше в леса, густо окружавшие некогда великую столицу Руси. Колокола давно смолкли. Из-за холма, на котором высился Успенский собор, всплывали черные клубы дыма…
Смоленский князь спешился на ступенях паперти. Снял шлем, отдал служильцу, тряхнул темными с проседью волосами. Переступая через обломки выбитых дверей, вошел в собор. Татары въезжали сюда на конях. Рассыпавшись по храму, они хватали покровы с гробов, медные подсвешники, тащили из алтаря иконы в драгоценных ризах, утварь, серебряные сосуды бросали на пол и плющили ногами. Здесь были воевода Семен Карамышев и казанский царик Талыч, не слезавший с седла. Оба наблюдали, как пытают соборного ключаря. Невесть где добытую огромную сковороду, перевернув, поставили на чурках посреди храма, развели под ней огонь. Голой спиной уложили на нее ключаря. Держали за связанные руки и ноги.
Несколько татар, орудуя ножами, сдирали золотую ризу с опрокинутой на пол большой иконы Богоматери.
– Та самая? – громко спросил Юрий у Карамышева, пересиливая крики ключаря, мучившегося на сковороде. – Владимирская?
– В Москве список оставили, – подтвердил воевода и показал на Патрикея. – Не хочет показывать, пес, где схоронил добро.
Юрий поморщился, вдохнув запах подгорелого мяса. Татарин, раздувавший огонь под сковородой, навис над ключарем.
– Говори, урус собака, где золото?
– Господи, помилуй… Что ж вы за нелюди… Господи, помилуй… – твердил Патрикей с вытаращенными глазами, пока не впал в забытье.
– Фотия взяли? – спросил Карамышев.
– Иван сказал, его нет в городе. Вчера выехал на Преображенский погост. Дворские Щеки не смогли задержать.
Воевода грязно и длинно выругался.
– Иван отправил туда людей. Дороги на несколько часов.
– Не уйдет, – кивнул Карамышев.
Двое татар занялись руками ключаря. Развязали, приставили к пальцам остро наколотые щепы и стали вбивать под ногти. Патрикей пришел в чувство, его крики гулко отдавались от стен.
– Говори, урус скотина!..
Юрий ушел от неприятного зрелища под своды хоров, принялся оглядывать росписи. Рассмотрел спускавшегося с небес Христа. Усмехнулся апостолам, сидящим на скамьях. Точь-в-точь бояре на думе, склоняются друг к другу, шепчутся. Постоял под огромной десницей, сжимавшей человеков: «Души праведных в руце Божией».
Крики стихли, сменившись судорожными всхлипами:
– Заступи, спаси… Пречистая, помоги… Люди же там…
Смоленский изгой разглядывал бабу с гробом в руке и русалку, покрытую до ног волосами, державшую греческое судно с парусами. Прочитал надпись: «Земля и Вода отдают мертвых на суд». В голове князя нарастал шум, гудела кровь. Крики ключаря мешались в уме с другими, пронзительными, бабьими. Юрий стиснул ладонями виски и стоял, сильно сжав веки, пока не умолкло. Тогда открыл глаза. И увидел ее.
Она смотрела на него из толпы праведных жен, идущих на испытание последнего суда. Жены казались доверчивыми, потому что не ведали за собой вины. И непреклонными, потому что шли обличать своих мучителей.
Кто-то приблизился, стал говорить. Юрий не слышал. Он смотрел на нее. Шептал имя, ставшее для него проклятьем. Не видел, как сзади провели коня с привязанной к хвосту веревкой. На конце ее волочился по полу ключарь. Веревку продели в ноги, прорезав за сухожилиями. Татары гомонили, понукая коня.
– …чернец Андрейка.
Юрий очнулся, узрел рядом Семена Карамышева.
– Что?
– Говорю, московская дружина малевала. Князь Василий присылал. Данила-иконник и Андрей Рублёв. Наш городецкий иконный умелец Прохор божился князю, будто они лучшие на Руси.
– Семен, здесь больше ничего нет, – подъехал на коне Талыч. В его словах с сильным татарским выговором был упрек. – Ты обещал, что в этой церкви много золота. Упрямый урус ничего не сказал. И эти урусы на досках тоже ничего не скажут. – Царик показал пальцем на разбросанные по полу, ободранные от риз иконы и засмеялся шутке. – У них такие же упрямые глаза.
– Пускай твои люди в гробах поищут, Талыч.
– Э, Семен, хитрый ты. Почему мои люди, а не твои? Там лежат ваши урус покойники.
Курмышские служильцы, сопровождавшие воеводу, переглянулись.
– Я в гробы не полезу, – отрубил один.
– Ладно, Семен, я пошутил, – рассмеялся Талыч. – Что найдут – все мое.
Татары, оживленно переговариваясь на своем наречии, занялись каменными саркофагами, что во множестве стояли в углублениях стен во внешнем поясе храма. Поддевали клинками тяжелые крышки, сдвигали, разглядывали прах. Подцепляли на острия сабель остатки одежд и покровов. Смеялись. Карамышев опять стал бубнить Юрию об иконописцах:
– Так я мыслю, вот бы добыть этих чернецов для нашего князя. Данила Борисыч мазню уважает. А в Нижнем ничего не осталось, погорело и облупилось. Сам Феофан Гречин наши церкви подписывал.
Вдруг раздался вопль. Татарин, двигавший крышку гроба, грохнулся об пол. Прочие, отпрянув, в ужасе смотрели на пламя, вырвавшееся из саркофага. Оно взвилось высоким красным столпом, мелкими языками заплясало на крышке. Огонь помалу оседал.
– Э, Семен, – раздался среди молчания испуганный голос Талычи, – сам открывай свои гробы. Ваши урус мертвецы шибко злые.
Вслед за казанским цариком татары повалили из собора. Смоленский князь и воевода Карамышев зачарованно смотрели на огонь, пока пламя совсем не исчезло в гробу. Затем, не глядя друг на друга, пошли к выходу.
Юрий забрал у своего служильца шлем с личиной, надел. Кроме нижегородского князя, нескольких его бояр да трех десятков лесного сброда только мертвецы знают, что он еще жив. Всем остальным знать об этом совсем не нужно. Смоленский изгнанник поскакал прочь от собора, проклиная виденное там. На дороге, спускавшейся с соборного холма, лежал истерзанный труп ключаря.
Еще один мертвец, который будет свидетельствовать о нем на суде. Князь со злобой ожег коня плеткой.
9.
– Хоть бы какой путник попался, – бурчал Алешка. – Хоть бабы-ягодницы! Этак заедем с тобой, Андрей, в неведомую глушь. А не то в те самые болота…
Дорога вилась посреди леса и была заколоделой, давно неезженной. Разве только пешие мужики и бабы из деревенек и погостов топтали на ней траву, и то редко.
– Сколько едем, а все глухомань. Ты как, Андрей? Терпишь?
– Терплю.
Хотя тело ныло и стонало. Иконник был непривычен к езде в седле, а тем паче позади седла.
– Погоди-ка. Вроде кто скачет?
– Скачет, – подтвердил Андрей. – В лес, Алешка!
Укрыли коня за густой бузиной и сами легли в соседнем малиннике. Проводили взглядами торопившегося верхового. То был свой, русский, из служильцев. Алексей рванул ему вслед.
– Эй! – заорал, выбежав на дорогу. – Стой! Да стой же!
Дружинник развернулся и поскакал обратно.
– Ты откуда, паря? Чего орешь?
Алешка наскоро объяснил, что бегут из Владимира, от татар, заплутали в лесу, выбрались на незнаемую дорогу. Андрей тоже вышел из малины, показался.
– Здесь короткий путь на Сенег, к озерам и Преображенскому погосту. За владыкой погоню выслали, я туда, упредить, чтоб уходили.
– Зачем татарам митрополит? – недоуменно вопросил Андрей.
– Там не одна татарва орудует, – зло перекосился служилец. – Свои же нехристи с ними, нижегородского Данилы Борисыча люди. Он и навел. А вам с этой дороги лучше сойти, от греха. Езжайте сквозь лес, версты через две выйдете на другую, до Ильинского погоста.
Андрей отказался снова садиться на коня, шли пешком. Набрели на ручей в овражке, напились, умылись. Привязанный к дереву конь щипал траву.
– Слыхал, Андрей? – Послушник раскинулся на земле. – Будет митрополит на болотах Богородице молиться.
– Скажи лучше, Алешка, – не сразу откликнулся монах, – что мне теперь делать? Ты ведь из-за меня человека убил. Пусть татарин некрещеный, а все равно человечья душа.
– А ты тут при чем? – нарочито сгрубил Алексей. – Я убил, не ты.
Долго молчали.
– В монастырь не вернешься? – спросил Андрей, чуя неладное.
Отрок сел. Свесив голову, не отвечал.
– Пусто у тебя внутри, Алешка, – жалея, проговорил иконник. – Ты от этой пустоты к жизни холоден. Огня в тебе нет, погас. Ты вон, смотрю, на меч свой любуешься. А глаза потухшие. Тебе ведь что чернецом, что служильцем быть – все едино. А так не должно.
– Я твоим огнем греюсь, – хрипло отмолвил Алексей. – Мне и того довольно.
– Ну и слава Богу, – закруглил монах. – Соснуть разве? – Он развязал на горле мантию, сложил рядом. Сам растянулся на склоне оврага в густой травяной зелени. – Набегались нынче.
– Набегались, – сумрачно колыхнулся отрок. – А там полгорода как скот вырезано. Татарина поганого жалеешь, а этих?..
– А за убитых радуюсь, Алешка, – спокойно ответил иконник. – Они сейчас на небо всходят. Чистые, в крови омытые. Живых жальче.
Послушник скосил на него взор. Долго думал, что ответить.
– Хорошо тебе, Андрей.
И завалился спать, отвернувшись.
Пробудился оттого, монах тряс его.
– Тсс. Слушай!
Тихо журчащий родник приносил человеческие голоса. Оба, не сговариваясь, поползли по склону оврага вверх и дальше, через поросли кустов вдоль ручья. Саженях в пятнадцати впереди мелькнул просвет елани. Совсем близко подползать не стали.
Людей было четверо, все конные и оружные.
– Вон те двое, – шепнул Андрей, приглядевшись, – те самые, что попались навстречу в городе. Помнишь?
Всадник, избавившийся от кольчуги и надевший плащ, держал шлем с личиной в руке. Двое, с которыми он говорил, имели сильно заросшие лица, а одеты были в татарские длинные кафтаны и русские шапки-колпаки. Кони под ними казались деревенскими клячами.
Дунувший ветер донес немного слов, среди них было имя митрополита Фотия.
– Нижегородские? – предположил иконник.
Алексей молча пожирал взглядом всех четверых, даже привстал, чтобы лучше видеть. Монах дернул его наземь.
– Ты что, Алешка?!
Отрок был бледен. Губы тряслись, а в глазах разгорался огонь. Рука потянулась к мечу на поясе.
Андрей, навалившись, вжал его в мох. Алешка побрыкался и затих. Губами стискивал мох и тихо, надрывно мычал.
С ветром прилетело еще несколько слов. Говорили о дороге на Ильинский погост. Затем четверка разъехалась: двое в одну сторону, двое в другую. Отрок оттолкнул Андрея, вскочил на ноги и побежал обратно, к оврагу и коню. Ветки хлестали его по лицу, но он их не чувствовал. Чернец в тревоге спешил за ним.
Алексей торопливо отвязал чалого.
– Жди меня здесь, Андрей! – наказ прозвучал жестко.
– Алешка, – в волнении спросил иконник, – кто они?
– Я… Я не могу… Я потом тебе…
Смотреть в глаза монаху он избегал. Конь, поднимая брызги, поскакал по кромке ручья. Когда стих его топот, Андрей подобрал мантию и отправился следом.
…Они не ушли далеко, да и не могли на своих заморённых конягах. Выехав на Ильинскую дорогу, Алексей увидел их вдали. Нагнать не составило труда, татарский конь хоть и был коротконог, бегал быстро. Заметив его, они и не думали скрываться в лесу.
– Тебе чего, паря?
Они стояли друг против друга. Двое против одного. Алексей сорвал с пояса меч вместе с ножнами. Разбойные рожи потянули свои сабли.
– Вот, – тяжело дыша, проговорил отрок, – князь велел отдать.
– Что-то ты брешешь, молокосос. Какой еще князь? Зачем нам твоя махалка?
– Погоди, Булгак, – заинтересовался один, прищуренно изучая меч. – Ножны-то посеребренные. А ну-ка ветошку развяжи.
Алексей сорвал с рукояти холстину. Сверкнул густой чистой зеленью измарагд.
– Князь велел… тебе, Голован, – с усилием выдавил отрок. – За Фотия. Наперед.
Голован оглянулся на дружка, приосанился.
– Слыхал? Уважает князь. – Он вдел саблю в ножны и потянулся за подарком. – Давай сюда.
Алексей держал меч на вытянутых руках. Едва Голован приблизился, он рванул клинок из ножен и рубанул сплеча. Рассеченное у шеи тулово разбойника завалилось на круп коня, брызжа кровью.
Второй злобно ощерился, выставил вперед саблю. Но держал ее так, будто это дубина.
– Вона, значит, как, паря… Князь, говоришь?
– Князь. – Теперь Алексей был спокоен. – А тебя, Булгак, я отпускаю. Хоть ты и мерзок.
– Узнал я тебя, гаденыш. Жаль, не сразу. – Булгак кружил на коне вокруг него. – Зря не удавили тогда.
– На полгривны позарились, – криво усмехнулся отрок. – Продешевили.
– Что ж тебя, щенок, ушкуйники в Орде не продали? Аль вывернулся?
– Хватит, Булгак, – отрезал Алексей. – Ты знаешь довольно. Я хочу, чтобы ты сказал тому, с кем вы встречались в лесу. Князю. – Это слово он выплюнул с ненавистью. – Скажи ему вот что: кровь праведных вопиет к отмщению. Только это. И сам помни: если попадешься мне еще раз, уже не отпущу тебя.
Булгак, шипя и оглядываясь, пустил свою клячу вскачь по дороге.
– В другой раз и ты попадись мне только, гаденыш.
Алексей смотрел ему вслед, пока разбойник не исчез за поворотом дороги. Тогда и сам скрылся в лесу, слез с седла и тщательно оттер травой кровь с меча. Навязал снова тряпицу на рукоять. Только после этого отправился обратно. Путь запомнился хорошо, и к истокам ручья он вышел скоро. Через полверсты увидел знакомый овраг. Спешась, искал Андрея, звал, продирался сквозь заросли, в сердцах рубил клинком колючий малинник.
– Андре-ей!
Лес отзывался птичьим свистом и дробью дятла. Ведя чалого в поводу, Алексей побрел наугад. Время от времени он оглашал лес отчаянным зовом, на который никто не откликался.
…Места были совсем глухие. Давний бурелом порос густым мхом. Поршни на ногах отсырели – при каждом шаге ступни выдавливали болотную жижу. Тень становилась гуще, солнце уходило. Андрей понял, что накрепко заблудился.
Он сел на мшистый ствол и задумался. Но как ни пытался, не мог вспомнить, в какую сторону пошел после того, как увидел на дороге убитого и кобылку, пасшуюся невдалеке. Уверенность в том, что это сделал Алешка, погнала его прочь, не разбирая пути.
Надо было хотя бы выбраться из болота. Молясь, он направился в ту сторону, что казалась немного светлей. Но свет быстро меркнул, а чащоба нисколько не расступалась. Однако вода под ногами перестала хлюпать. Пока не стемнело совсем, Андрей выбрал место меж двух молодых елей и набросал наломанных листвяных ветвей, в изголовье положил мантию. Жажда его не мучила, напился воды на болоте, сделав ямку. А с утра можно поискать ягод. Диких зверей он не опасался. Вспомнились рассказы старых троицких монахов про то, как Сергий, еще бывши не старцем, а молодым отшельником, потчевал хлебом приходившего к келье медведя. Правда, угощать, если пожалует кто из лесных хозяев, нечем. Но это не беда, зверя, как и человека, можно и словом попотчевать.
Тревожило одно. «Господи, не погуби душу раба твоего Алексея…»
…Рассвет в сумрачном ельнике лишь едва разогнал ночные тени. Но над головой звонко гомонило птичье царство. Андрей сел на своем лиственном ложе, повел ладонью по лицу. Перед ним на карачках стоял человек в сермяге нараспашку и усмешливо скалил зубы. Перед тем он не то будил его, осторожно трогая, не то шарил в поисках чего-нибудь.
– Бог в помощь, – сказал Андрей.
– Ну и в дебреня ты забрался, чернец. Едва сыскал.
– Ты кто, Божий человек?
– Я-то? Был когда-тось Божий, а ноне я ничей. Аль, можно сказать, лесной.
Он поднялся с карачек и сел на старый, оплывший мхом пень. К поясу под сермягой был подвязан длинный нож. Возле пня приткнулась заплечная торба. Путаные волосы лезли лесному жителю в глаза, а бороденка была куцей. А в лице, невзирая на одичалость, Андрею чудилось нечто знакомое.
– Жрать небось хочешь?
Он выудил из торбы краюху ржаного хлеба и отломил половину. Бросил Андрею.
– Спаси тебя Бог. – Как ни был голоден, иконник не стал все же набивать рот. Так и держал в руке. – Почему ты искал меня?
– Дружок твой, малой, до ночи по лесу шатался, тебя выкликал. Сопли по роже размазывал. Огорчился, знать. Видел я тебя с ним, как на одной лошади трусили. Я тут все лесные ходы знаю, а вечор к бабе своей наведывался.
– Что же ты не с бабой живешь?
– Дык она здесь, а я с бойниками промышляю, – снова оскалился лесной житель.
– Ты разбойник? – Андрей оставался спокоен. – А зачем я тебе? Мне даже за хлеб отблагодарить нечем.
– Говорю ж, узнал тебя. Андрейка ты, иконник московский. Собор тутошний расписывал два лета тому. На-ка, хлебни воды.
– Так ведь и я тебя, верно, знаю. – Монах приблизился к нему и вгляделся. Взял протянутую баклажку. – Ты звонарь успенский! Тот, что исчез в Едигееву зиму, когда в ризницах поймали грабителей.
Он сделал несколько глотков и вернул баклажку.
– Был звонарь, – усмехнулся знакомец. – А теперь я Ванька Звон, бойник лесной. Пошли, чернец. Выведу тебя на дорогу. А брать у тебя, если б и было что, не хочу.
Закинув торбу на плечо, он зашагал впереди. Андрей смотрел, как он идет – мягко ступая ногами в лаптях, подныривая под ветки и обтекая телом сучья, чтобы ничего не хрустнуло, не заломалось. И путь на глазок подбирал хотя не самый короткий, кружной, но легкий, чтоб не продираться сквозь чащобу.
– А ты вечор чуть в самую гнилую топь не угодил, – довольным голосом рассказывал Ванька Звон. – Я по следу твоему пошел, едва заревать стало. Ночевал тоже в лесу, чтоб спозарань тебя найти. Тут ноне беспокойно. Мог набрести на кого не надо. Курмышские люди недалече сторожи раскинули. Фотия-митрополита на погосте не сыскали, убег от них. Еще и с рассвета рыщут, верно. Али на бойников бы моих напоролся. Тоже неладно.
– А в городе что, знаешь?
– Не был там. Баба моя с детями к родне на Власьевский погост перебралась. – Ванька повествовал охотно, будто соскучился в лесах по доброму разговору о житье-бытье. – Блядет, вестимо. Дык я ее прощаю. Оно и ясно: тошно бабе в соку при живом муже вдовой быть. Пару раз вожжой по ней пройдусь, да и ладно. Опосля жалею ее на сеновале. Отходчивый я. А женка у меня утешистая, на любы горячая. – Он обернулся и посмотрел с хитриной в глазах. Андрею в его словах слышалась изрядная скоморошина. Будто не просто так рассказывал, а нащупывал в человеке слабину, чтобы потом только в нее и бить со смехом и глумами. – Полюбовник ее давеча до городу наведывался. Быстро вернулся. Баял, весь град огнем запален, а татарва полоняников через реку погнала.
– Много ль? – взволновался Андрей.
– С полтыщи, сказывал. Данила нижегородский племяшу своему, князю московскому отомстил, – заключил Ванька. – Колоколы жалко. Разольются в пожаре. Мне ночами снится, как я звонарю… А все из-за пары гривенок. Страшно охочий я до серебришка. Пришли ко мне те двое, которых потом в соборе повязали, выложили две гривенки на стол. Так, мол, и так, дело есть, и еще больше получу, ежели подсоблю. Князь, мол, некий платит за то, чтоб пограбить чуток успенские ризницы. Ковчежец, мол, некий нужен ему, особенный. Ну да мне что, князь так князь. Мало, что ль, на Руси княжья. Пошел к ключарю Патрикею да напоил его вином, ключи забрал. Отворил ночью ризницы, пустил татей. Пошарили там, ларец мне передали, сами пазухи стали набивать. А тут заполошило, зашумело. В колоколы забили. Пономарь доглядел, тревогу поднял. Взяли татей, а я схоронился. Домой пробрался, с бабой, детями попрощался и в бега. Ковчег тот прихватил. Думал, обогатею, новый дом, женку помоложе заведу. В лесах вскрыл его, а там – тьфу. Тряпье архиерейское, разве что золотом шитое. И за ковчег много не выручишь – серебро позлащенное. Закопал его, место приметил. Подался в вольные люди. Князя хотел того сыскать, да имя его не ведаю… А не знаешь, чернец, зачем тому князю ветошь церковная?
– Не знаю.
– И я ни сном ни духом. Может, тати напутали. Не тот ларец взяли. Вот так мне жисть перекосило, за две гривенки… А с другого боку глянуть – так, может, ноне в том татарском полоне ноги бы себе бил. Или зарезанным бы во граде валялся. Женку бы снасилили да опять же в полон уволокли б, детей моих туркам бы продали. А так целы все… Ну вот она, дорога.
Перед ними лежала узкая тропка, терявшаяся обоими концами в густоте и утренней звонкости леса.
– Выйдешь через версту к озерцу, обойдешь кругом, там сыщешь иную дорогу. Иди по ней встречь солнцу верст пять, упрешься в большак, повернешь на левое плечо. Там и до города недалечь. А что ты там на пожарище делать станешь, то уж не мое дело. А лучше в лесу день-два отсидись. Мало ли. Ну прощай, иконник. Богу про меня пошепчи, что ли.
Разбойник скорым шагом отправился по тропе в другую сторону.
– Постой, Иван, – крикнул Андрей. – Хочешь, я замолвлю за тебя слово перед владыкой? Ты ведь под церковным судом ходишь, не под княжьим. Ну, вернешь тот ковчег, в темнице на покаянии отсидишь полгода. Зато потом снова звонарить будешь.
Тем же торопливым шагом Ванька вернулся, подошел близко, пристально всмотрелся в лицо Андрею.
– Думаешь, чернец, я тебя по доброте из дебрей вывел? А нету во мне никакой доброты! И каяться перед попами не буду. – Он сотворил пальцами глумливый шиш и ткнул им в грудь иконника. – Я с бойниками и людишек резал, и церквы грабил. И монашек насилил, и дома жег. По мне кнут с топором плачут, а не владычная темница.
– Для чего же ты мне столько добра соделал? – не дрогнул Андрей.
– А для того, что помню, как ты в ту зиму в соборе перед чудотворной иконой ночами молился. Татары нас и не тронули тогда. А долг платежом красен!
– Да разве я это?.. – ошарашенно промолвил монах, невольно схватив бойника за сермягу. – Да как бы сумел-то!.. Себя отмолить не могу, а тут целый град!.. Ты что это придумал, Иван?!
– Да не я, – махнул рукой Звон, – народишко владимирский. Народишко, он хребтом чует. На два лета ты его отмолил. А теперь, знать, срок вышел.
Потрясенный, Андрей не находил более слов. Так и стоял молча, пока лес не скрыл от него разбойника.
К полудню он вышел на открытое поле предградья. То, что вчера было живым, полнокровным, ныне стояло мертво и пепельно-черно. В дыму кое-где рыжели языки пламени. Над городом безмолвно кружило воронье, еще опасаясь снижаться к тлеющим развалинам. Андрей смотрел на собор, взнесенный над городом. Стены его казались грязно-серыми, но отсюда было не понять, вытемнил их огонь или окутали пепел с дымом.
У валов он приметил телеги и людей. Несколько человек стояли на валах и глядели на город. Другие копали землю. Андрей направился к ним.
10.
Великий князь Василий Дмитриевич прибыл во Владимир через седмицу. Гонцы посланы были в Кострому конные, а князь приплыл на лодье – притоками Волги и Клязьмы почти по прямой. Осматривал погорелый град с реки, от одного конца до другого. В воздухе стояла гарь, летели с ветром ошметья пепла, и, вглядываясь в остатки престольного града, князь страдал от рези в очах.
Но это страданье было ничтожно в сравнении с тем, что испытывало сердце. Отец, великий князь Дмитрий Иванович Донской, в завещании назвал Владимир своей отчиной и благословил ею старшего сына. Никто из прежних московских князей, начиная с Юрия Данилыча, старшего брата Ивана Калиты, не мог так сказать о городе, которым они владели лишь по ханскому ярлыку. При Дмитрии великокняжеский Владимир стал неотторжимым владением Москвы. Тверские, суздальско-нижегородские князья оспаривали московское приобретение в Орде, но ничего не добились. Теперь один из хилых потомков этих князей нанес подлый удар в спину Москвы.
Василий с деланным спокойствием слушал боярина Степана Дмитрича Минина, вернувшегося из города. Несколько сотен казанской татарвы и русских! И никакого отпора. И две с лишним тысячи трупов, на которые не хватает живых, чтобы хоронить. И до полутысячи полона. И без счета награбленного золота, серебра. Двое бежавших полоняников рассказали, как татары делили меж собой добычу, отмеряя мелкое серебро шапками. И устрашенный митрополит, впавший в великое уныние. И оскверненная Владимирская Богоматерь, пред которой пятнадцать лет назад вся Москва едиными устами молилась о спасении Руси от Железного Хромца, поганого Темир-Аксака с его полчищами. Тогда Пречистая уберегла. И от Едигея город упасла. А ныне поругана безбожными и своими же христианами.
Господи, за что казнишь так, попуская и великим святыням быть опоганенными?..
– Вот о каком князе Владимире пророчил блаженный, – сказал Василий, оборвав речь боярина. – Щека не приехал?
– К вечеру будет, скорого гонца прислал, – ответил боярин Борис Плещеев.
– Почему сам на скорых не скачет?! – огневал князь.
Плещеев развел руками. Степан Минин продолжил рассказ. На хорах в Успенском соборе пересидело татарву и пожар с полсотни человек. От них стало известно о мученической смерти ключаря Патрикея, спрятавшего там же ризничные святости и золото. Мучили немилосердно. Один дьякон спустился с хоров поседелым от пытошных криков. Девка малая впала в блажное помешательство. Детям зажимали рты, чтоб не выдали ревом, иных при том едва не придушили.
– Не все татарам досталось, князь, – утешал Минин. – Сберег ключарь успенское золото.
– Знаю об этом Патрикее из жалобной грамоты Фотия на Щеку, – задумчиво молвил Василий. – Не хотел я верить обличениям преосвященного, зело настырен владыка и ядовитыми словесами сыпал. А ныне принужден. Кровь умученного ключаря вопиет. Верный в малом, верен и в великом. Не за золото он муки принял, Степан. За человечьи души.
– Купцов бы послать в Казань, князь, – подсказал думный боярин Федор Сабур. – Пленных выкупать.
– Пусть Тимофей составит грамоту, – покивал Василий Дмитрич, – и снаряди гонца в Москву, Федор. Купцам даю дозволение половину выкупленных, покуда сами не выкупятся, посадить на своей земле, в своих вотчинах, у кого есть. У кого нет, тем заплачу из своей казны. И другую грамоту пусть напишет. Литейным работникам не медля лить колоколы и везти сюда. Тебе, Борис, поручаю исполнить. Дабы немым граду не стоять. Где колокольный звон, там жизнь, так, мужи бояре?
– Так, князь.
– С Фотием не знаю, как быть. Говоришь, Степан, на погосте сидит и съезжать не хочет?
– Велел привезти тело ключаря, там похоронил. На болотах, где пересидел погоню, хочет ставить Богородицкую церковь.
Василий, подумав, распорядился:
– Отправь сей же час дворских. Пускай хоть силой привезут Фотия. Нужен он мне здесь! Молебен сотворит, тогда отпущу.
Но ждать было долго. Князь, взяв сына Ивана, сошел по сходням на берег. Коня подвели нестатного, но глядеть на это не стал – не до того теперь, да и где здесь ныне хорошего взять? Городское стадо и табун коней с заречных пастбищ татары первым делом угнали.
На пожарище едва теплилась жизнь. Трупы с главных улиц убрали, но запах тления еще доносился с окраин, мешаясь с гарью в остро-приторный смрад. Средь руин на посаде копошились уцелевшие. Увидев великокняжью свиту, выходили, стояли немым укором, с низко опущенными головами. Многие были едва одеты. В верхнем городе живых почти не осталось. Татарва с курмышскими лютовали здесь сильнее. Лишь возле Успенья к князю вышли несколько десятков здешних людей, спасенных от смерти ключарем.
Василий спрыгнул с коня. Снял шапку и атласную летнюю однорядку, расстегнул серебряный наборный пояс, скинул все на руки Федору Сабуру. Остался в синей, расшитой тесьмами рубахе. Сошли с седел бояре. Повторяя за отцом, с бледным, серьезным лицом все то же проделал княжич Иван.
– Кайтесь, православные! – промолвил Василий, оглядев людей. Не веление отдал, а просьбу высказал. – За грехи наши беда приключилась.
Медленно, склонив голову, он шел ко входу в собор, в котором ранее был лишь однажды. Двадцать лет назад надел здесь золотую шапку великого князя владимирского и московского. Даже поновленные росписи еще не видел, после Едигеева разорения все недосуг было.
Пожар, сжегший дворы вокруг, собора не затронул. Внутри после татарского разбоя подчистили, благообразили, окропили святой водой. Ждали митрополита, чтобы заново освятить оскверненный алтарь.
Высоченный, до подкупольных сводов иконостас с ходу поразил князя размахом и величьем. Но впереди иконостаса, сбоку амвона стояла Владимирская Богоматерь, ободранная и изрезанная. Василий упал перед образом на колени.
– Ведаю, Господи, – тихо произнес, так что слышал лишь сын Иван, опустившийся рядом, – не их ты казнил нашествием поганых и огненным попалением. Не людей моих – меня! Видно, не услышал я Тебя, не уразумел всего, когда татары сожгли благословение старца Сергия, монастырь его Троицкий. Искуплю, Господи! Только народ мой истерзанный пожалей!
– Пречистая Матерь Божья, – ломающимся голосом взмолился отрок Иван, – заступи и спаси моего отца, великого князя московского Василия.
– Раба Божья Василия, – поправил князь. – И сына моего, единственного, наследника московского раба Божья Ивана, – это возгласил громко, чтоб все услыхали.
Князь поднялся и с чувством приложился к иконе. Отойдя, объявил владимирскому люду, стоявшему позади московских бояр:
– Прощайтесь с образом. С собой забираю для поновления. Быть ему отныне на Москве, а не во Владимире.
От горожан, оглушенных известием, выступил вперед успенский поп.
– Как же так, князь-батюшка… – растерянно проговорил он под причитанья баб. – Осиротишь ведь нас. И так город наказан, а ты чудотворной лишить нас хочешь…
– Иконника своего пришлю вам, – обещал Василий, – сделает список. Андрейку Рублёва!
– Так ить он здесь был, Андрейка тот! – перепугалась какая-то из женок.
– Как здесь?! – изменился в лице князь.
– Тута, тута он был, – заговорили владимирцы. – Владыке занадобился, из Москвы пришагал намедни.
– По церквам опять ходил, иконы глядел.
– А посля пожара видел его кто?
– Дак это… не видали…
– Может, в лесах доныне хоронится?
– У преосвященного на погосте?
Голоса становились все неувереннее и наконец смолкли.
Посреди растерянного молчания охнула баба.
– Вспомнила я. Вот вам крест, вспомнила! – затараторила она. – Тогда-то, как увидала, из головы все вылетело со страху, натерпелась я, сперва под телегой лежала, будто убили меня, себя не помнила, вокруг же одни мертвые, в голове-то все и перемешалось…
– У тебя, баба, и до того, и опосля того в голове крапива растет, – рявкнул на нее боярин Плещеев. – Чего вспомнила, говори!
– Ох, батюшки. Да как что? – прижухнулась с испугу женка. – Татарин поганый чернца-иконника вервием к седлу вязал. В полон угодил он, вот вам крест честной!
– Обозналась, может? – не поверили бабе свои же, владимирские. – Чернецов тут много было.
– А вот и не обозналась! Видала я его допрежь, на владычном дворе, когда от портомойни со стиранным портищем шла да подслушала, как он сам с собой про каки-то вихры, а то ли вохры разговаривал. Подивилась еще, как он на эти вохры будто серчает.
– Ну, – с жалостью сказали владимирцы, – пропал иконник.
Великий князь в молчаливой горести пошел из храма. Возле коня облачился. Хотел было сесть в седло, но тут доложили о наместнике Щеке. Василий и сам уже заприметил боярина. Тот стоял, набычив обнаженную голову и пряча взор.
– Поди-ка сюда, Юрий Василич, – недобрым голосом позвал князь. – Чего там в сторонке прохлаждаешься. Дай-ка я тебя в испарину вгоню, боярин!
Щека приблизился.
– Прости, князь, – хрипло проговорил, – недоглядел.
– Недоглядел?! – жестко переспросил Василий, щуря на боярина глаз. – Это ты, Юрий Василич, называешь – недоглядел! За год, что здесь кормишься, можно было две городьбы вокруг града поставить! Где хоть одна?! – князь сорвался в крик. – Где градская сторожа?! Почему ратных в городе нет?! Почему ополчения нет?! Отчего владычные житницы и амбары пусты?! Почему села, погосты и земли, еще моим дедом отписанные церковной казне, вдруг оказались твоей куплей?! У кого ты их купил, боярин? У самого себя?!
Из собора, поглядеть и послушать, как великий князь праведно гневается на своего наместника, вывалилась жидкая толпа владимирцев.
– Все вернешь, боярин, до последней деньги! И еще своего приложишь! За Патрикея умученного! За полон, татарами взятый! За колоколы разлившиеся! За Андрея-иконника Рублёва! Вон с глаз моих!! Отбираю у тебя владимирское кормление. В вотчинах своих сиди, если не надумаю их забрать у тебя!..
Уничтожив таким образом Щеку, Василий передумал возвращаться на реку и снова пошел в собор.
Утихомиривал взбаламученную душу взираньем на дивную работу своих искусников.
Многое тут было непонятно. Как сумели они соединить вместе надмирную неподвижность и взволнованное движение? Толпа праведных, ведомая в рай Петром и Павлом, будто и в самом деле шествует, движется, колышется. Будто вот-вот сойдут со стены и заполнят собор, и зазвучит вдохновенное многогласие. Почему так радостно смотреть на апостолов, севших с книгами на скамьях, чтобы судить мир за его преступленья? Отчего столь знакомы лица у мучеников, святителей, преподобных, праведных жен? Словно видел их где-то недавно, может быть, даже тут, во Владимире…
– Отец, почему московские князья венчаются на княжение здесь, а не в Москве?
– Потому что, сын, – не задумываясь, ответил Василий, – за этот город пролито слишком много русской крови.
– Татарами?
– И татарами. А больше – своими.
Удоволенный росписями, князь напомнил Федору Сабуру о выкупе полоняников. Особо велел выкликать среди пленных иконника Андрея. Может, жив. Может, не попустит Бог и не сгубят поганые столь даровитого умельца. «Феофана, истратившего силы, думал им заменить, и вот тебе!..» – досадовал князь, едучи к пристаням.
Ночевал на лодье. Наутро служильцы привезли удрученного, затосковавшего митрополита. После нового освящения собора совершили молебен, чудотворный образ с честью, пением и слезами понесли на пристань. В крестном ходе великий князь шел рядом с Фотием.
– И так сто семьдесят лет? – вопросил вдруг владыка. Келейник Карп, всунув меж ними голову, перетолмачил для князя.
На посеревшем от переживаний лице Фотия проступал ужас. Василию на ум взошел тревожный помысел: не помешался ли преосвященный? Но митрополит продолжил:
– Сто семьдесят лет от нашествия язычника Батыя. Два столетия без малого! И как еще жив твой народ?
– Татары приходят ратью не всякий год. – Нисколько не успокоив этим владыку, князь добавил: – Даже не всякий десяток лет. – И уточнил: – Но это редко.
– Этот народ поистине свят, если Бог посылает ему такие испытания и дает ему столько сил для терпения! – горестно воскликнул Фотий.
– Так чего ж, владыко, унываешь? Народ свят, и земля обильна. Паси усердно паству свою.
– Страшусь, князь, пасти такую святость. Ныне на болотах два дня и две ночи от нее спасался!
– За твое болотное поругание, владыка, я Даниле Борисычу сполна возмещу! – мрачно пообещал Василий.
Чудотворную внесли на лодью, плотно укрыли холстом и кожей. Князь и бояре взошли следом. Насад отплыл по Клязьме к Москве. Владимирский люд, горюя, разошелся по своим пепелищам. Митрополит Фотий, поместившись в возок, возвращался на Сенежские озера. Дорогой вспоминал московского юродивого, показавшего ему самую суть народа Руси. Народа, который отныне должен стать ему, Фотию, своим. За который держать ему перед Всевышним ответ…
Ничего этого не видел чернец, перепачканный землей, день за днем у городских валов копавший вместе с другими могилы. Мертвых было слишком много. Не успевали рыть ямы, и трупы с телег складывали рядами поблизости. Попы, отпевая, кадили ладаном, но благовонный дым уходил в небо, а трупный запах оставался. От него и от копания без продыха кружилась голова – самому бы не свалиться в яму. В первый день на ладонях заволдырились и прорвались мозоли, пришлось обматывать руки ветошью. Здесь же в котлах готовили жидкое варево, которое жадно хлебали, не обращая внимания на смрад вокруг.