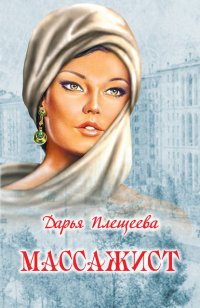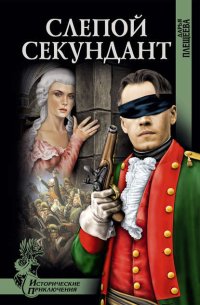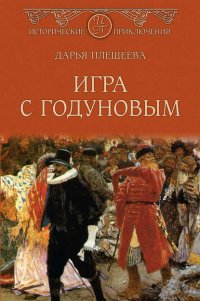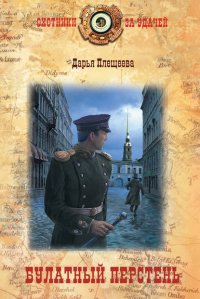
Читать онлайн Булатный перстень бесплатно
- Все книги автора: Дарья Плещеева
Глава первая
Мокрый Купидон
Случается, что нужно вложить всю силу в оплеуху. Не в удар дубиной или иным предметом, а именно в оплеуху – чтобы вышла чувствительной и сногсшибающей.
Александре это удалось – вертопрах Каменский отлетел на сажень, завалился в лопухи, прокомментировав выходку дамы самым недостойным кавалера образом.
– Поговори мне еще, – пригрозила Александра. – Ишь, купидон сыскался. – И пошла прочь, потирая правую руку.
Смех разбирал ее – до чего же нелепы мужчины, полагающие себя красавцами! Тонконогий и узкоплечий Каменский сам себе казался Антиноем и был убежден – не родилась еще женщина, способная устоять перед его чарами, а коли кобенится и кочевряжится – то знак – иди на приступ, ибо ей приятно сдаться на милость победителя. Даром он, что ли, бродил за ней с утра и осыпал двусмысленными комплиментами?
Вот и схлопотал по заслугам. Мог бы отделаться звонкой пощечиной, если бы просто полез целоваться. Но ему почему-то втемяшилось, что дама предпочтет атаку с тыла и ловкое задирание пышных юбок. Оплеуха, данная с разворота, сильно возмутила ухажера. Он искренне не понимал, как Сашка Денисова, уже не девица, а вдова почтенных лет, может отвергнуть его – великолепного, страстного, опытного, двадцатилетнего!
В жизни госпожи Денисовой это была не первая оплеуха – и, Бог даст, не последняя. Она казалась мужчинам доступной: потеряв мужа в двадцать два года, Александра вторично замуж не спешила, и что могли подумать кавалеры? Только то, что дама хочет вволю нагуляться.
Александра потрогала пройму правого рукава (от резкого движения шов, конечно, разошелся), оправила юбки и пошла прочь, оставив Каменского барахтаться в лопухах. Парк вокруг усадьбы Вороновых невелик, но причудлив – есть где побродить, развлекаясь искусственными развалинами, гротами с росписью на античный манер, китайским мостиком над прудом и прочими затеями.
Походка у нее была быстрая, а сражение с Каменским случилось, как она потом сообразила, на северном краю парка – там, где регулярные клумбы, боскеты и аллеи кончались. Справа находились оранжерея и домики садовников при ней, а слева – просто зелень и нечто вроде тропинки. Эта тропка подвернулась Александре под ноги. Выяснилось, что за оранжереей отсутствует ограда, и Александра поняла, что идет куда-то не туда, лишь оказавшись на речном берегу.
Точнее, это был берег излучины, где узкая речка раздалась вширь, отменное место для купальни, и Александра затосковала – в своем Спиридонове она бы, по случаю неожиданной майской жары, уже сидела по уши в воде или плавала наперегонки с девками, и даже ныряла. А тут изволь расхаживать по парку, прячась под широкополой шляпой, обливаясь потом, затянутая в корсет в погоне за тонкостью стана.
Решила хотя бы прогуляться босиком по мелководью, вздернув юбки повыше. Все-таки некое облегчение. Александра пошла вдоль берега, ища проход в кустах, чтобы спуститься к воде и не испортить платье.
Но эта затея не удалась. У противоположного берега дурачились какие-то мужчины – балуясь, топили друг дружку, кричали, хохотали. Их было трое, судя по голосам – молодые. Лютая зависть овладела Александрой – этим можно купаться нагишом, а если подобное позволит себе кто-либо из дам, гостящих у Вороновых, – заклюют.
Она встала за кустами, в тени, прислушиваясь. На излучине завязался спор – кто далее проплывет под водой. Мужчины встали – воды им было по грудь. Выбрав направление – прямиком к Александре, – по команде нырнули.
Нырять Александра умела, но проплывала под водой не более двух сажен. Подруги считали, что для женщины это подвиг, но «подвиг» из разряда ненужных. Но плавать в мужском обществе ей не доводилось, и на что способен опытный и сильный пловец, она не знала.
Этот пловец возник в трех шагах от берега. В жажде первенства последнюю часть нырка он не столько плыл, сколько полз по дну. Наконец он вынырнул и обернулся. Заметив головы соперников на порядочном от себя расстоянии, вскочил на ноги.
Перед взором Александры возник мужчина такой стати и красоты, что встречается лишь на полотнах древнегреческих живописцев. Это был атлет в самом что ни есть античном понимании слова – широкоплечий, широкогрудый, с мощными мускулистыми ногами, той бронзовой смуглоты, какая возможна разве где-нибудь на Кипре или Крите. Если поставить рядом с ним хилого Каменского, зрелище вышло бы презабавное. Вообразив эту картину, Александра едва не расхохоталась, но зажала себе рот и хрюкнула самым простецким образом.
Атлет понял, что из кустов за ним наблюдают.
Без единого слова он повернулся к Александре спиной и в два шага оказался на достаточной глубине, чтобы не смущать даму своим откровенным видом. Лишь тогда он обернулся.
Она, показавшись, улыбнулась, улыбнулся и он. И тут Александра поняла, что счастлива.
Этот жаркий день, и комическая сценка с Каменским, и сверкающая река, и белый шиповник на берегу, и тайное желание роковой встречи, – все сплавилось и образовало сгусток горячей радости, в сердцевине которого – двадцативосьмилетняя женщина, чернобровая и румяная от природы, сильная телом и духом, ощущающая свою силу как торжество, гордая этой силой и лишь не знающая, на что бы ее употребить.
А в воде стоял тоже сильный, тоже гордый человек, не считая нужным скрываться под унылой, модной, тесной одеждой.
Атлет вдруг поднял руку – это был знак: подожди. И быстро поплыл на другой берег.
– Я не дура, – сказала себе Александра, – нет, я не дура.
Пусть радость продлится еще немного.
Атлет появился очень скоро. Он выплыл на мелководье и встал. Александра сперва растерялась: не каждый день к ней среди бела дня так решительно устремлялись нагие кавалеры. Но она ошиблась – незнакомец сделал себе набедренную повязку из рубахи.
– Разрешите представиться, сударыня, – сказал он. – Ее императорского величества фрегата «Мстиславец» капитан второго ранга Михайлов.
– Так вы моряк, сударь! Вот почему вы так ловко ныряете.
– Хотите спуститься к воде?
– Хочу, но не могу понять, где тут тропинка.
– Сделайте шагов десять вправо, за ивой – спуск.
Несколько удивленная спокойной, простой и толковой речью капитана, совершенно не смущенного своим видом, Александра приблизилась к иве и, придерживаясь за накренившийся ствол, стала спускаться. Он протянул руку и помог, даже высвободил оборку светло-васильковой юбки.
– Трудно вам, дамам, – сказал Михайлов. – Признайтесь, вам ведь страсть как хочется искупаться. А приличия не позволяют сбросить всю эту броню.
– Да, я бы охотно сплавала на тот берег, – согласилась Александра. – А приличия тоже необходимы. Иногда.
– Вы имеете в виду мой вид, сударыня? Но поверьте, через сто лет все будут так ходить. Набедренная повязка – все, что нужно естественному человеку, живущему в гармонии с природой. И то не во всех случаях жизни.
– Разве что человеку, живущему близ экватора, сударь, – возразила Александра. – А в нашем климате зимой нужны шуба и меховые сапоги.
– По той причине, что мы находимся в разладе с матушкой-природой. Если наши дети и внуки привыкнут расхаживать в набедренных повязках, то их кожа сделается не чувствительной к холоду. И родится поколение, для которого снег – украшение пейзажа, а не Божья кара. Они будут нырять в сугробы и ощущать блаженство.
– В моем Спиридонове мужики и бабы, выскакивая из бани, кидаются в снег, и он им вреда не приносит. Но потом они надевают тулупы. А что может быть натуральнее, чем наши поселяне, которые чуть не до Покрова бегают босиком? – спросила Александра.
– Да, поселянин – тот самый естественный субъект, которого имел в виду господин Руссо. Но предрассудки мешают единению человека с природой. Вы видели, как купаются деревенские девки, не снимая рубах?
– Видела. Но природная стыдливость…
– А она нужна – стыдливость? Чего стыдиться?
– Однако вы, сударь, не осмелились явиться без набедренной повязки!
Михайлов улыбнулся.
– Это так, – согласился он, – потому что стать полностью естественным человеком в наш век невозможно. Потому хотя бы, что господин Руссо писал о диком лесном жителе, не имеющем не токмо жилища, но даже внятного языка. Он не ведал добра и зла, а мы ведаем. Поэтому из философии Руссо о естественных людях следует взять то, что годится для нашего времени – или же потребуется грядущему обществу, когда исчезнут предрассудки. Отчего непременно нужно прикрывать тело одеждой, если погода вопит благим матом: дамы и господа, разденьтесь, не то испечетесь заживо?
– Но если послушать вас – чем будут заниматься люди через сто лет? Хотя бы мы, женщины? Прясть, ткать, вышивать, вязать не будет нужды – разве что раз в год изготовлять набедренные повязки для своих домочадцев. Не станет швей, сапожников, ювелиров, придут в упадок ремесла и торговля, неужели все сделаются пейзанами? – перешла в наступление Александра.
– Об этом я пока не думал. Но о том, что тело освободится от ненужных покровов, а его красота и гармоничность станут предметом гордости, я думал много. И здесь я не одинок – еще Гельвеций писал, что человек есть произведение природы и не может от нее освободиться, а в природе красиво все, что означает телесное здоровье…
Тут Александра осознала комизм ситуации – она стоит с почти голым мужчиной, и он рассуждает о Руссо, Гельвеции и, чего доброго, доберется до Платона с Аристотелем. А меж тем солнце и ветер сушат его волосы, они закручиваются колечками, и становится ясно, что они – русые с легким золотистым отливом. Глаза же у капитана темные, видимо, карие, не понять – глубоко посажены, а лоб – высокий, широкий, открытый… Красавцем не назвать, черты лица грубоваты, нос мог бы быть и потоньше… но взгляд, взгляд…
– Жаль, я не доживу до того времени, когда дамы освободятся от шнурованья, – вздохнула Александра.
– Вам, чтобы искупаться и снова одеться, непременно нужна горничная, – согласился моряк. – Но сейчас такая жара, что можно купаться и ночью. Вы могли бы прийти сюда без этих доспехов…
– А вы бы ждали меня здесь в набедренной повязке?
– Знаете девиз аглицкого ордена Подвязки? – спросил он.
– Знаю – «да будет стыдно тому, кто дурно о сем подумает».
– Ну вот – я готов поучить вас нырять, сударыня, и только. Со мной вы в безопасности.
– Тогда будьте тут ближе к полуночи, раньше я не смогу удрать от любезных хозяев. Постарайтесь не замерзнуть в «мундире» естественного человека.
– Постараюсь. Но если в потемках придется вас окликнуть… Как, сударыня, к вам обращаться?
– Друзья зовут меня Сашеттой.
– Мадмуазель Сашетта?
– Мадам.
– Значит, ближе к полуночи?
– Да, господин Михайлов. – Александра улыбнулась, кивнула и направилась к иве. Взбираться было невысоко – одну ступеньку образовал древесный корень, другую – островок голой земли среди травы. И очень скоро она оказалась в парке.
Сейчас Александре захотелось собрать пестрый букет. Она обещала маленьким дочкам госпожи Вороновой, что напишет прехорошенькие акварели для детской. А что предложить девочкам, кроме цветов?
Возле оранжереи довольно высокую оградку вокруг грядок заплел вьюнок, и его розоватые раструбы очень были бы хороши на бумаге, если передать игру света и тени. Но цветок уж больно нежен – не успеешь донести до комнаты, до стакана с водой, как сморщится – и рисовать уж нечего. Разве прийти сюда со всеми принадлежностями, но это можно сделать завтра, а сегодня чем развлечься?..
На обочине рос тысячелистник. Александра обыкновенно не обращала на него внимания – цветок скромный, неяркий, серенький какой-то, порой желтоватый, однако ведь можно совместить его с другими, и его зонтики станут отменным фоном для алых лепестков… где взять алые лепестки?..
За сбором тысячелистника и возней с жесткими стеблями ее застала кузина Пашотта (Прасковья, в просторечье, но кто же называет кузин на русский лад?). Пашотта была с кавалером и светилась радостью – ей уже давно следовало быть замужем, и всякий, кто вел ее танцевать на домашних приемах, тут же зачислялся в незримый список женихов.
– Вас тетушка искала – сказала она по-французски, жеманясь. – Подите к ней, она сидит на террасе.
– Да, сейчас иду.
Беседа с теткой Федосьей Сергеевной была главной причиной, по которой Александра приняла приглашение Вороновых погостить с недельку. Тетка летом жила у них постоянно. Кроме Александры, приехал и двоюродный брат покойного мужа, Лев Иванович, и недавно овдовевший дядюшка Григорий Семенович Волошин. Предстояло решить судьбу девицы Мавры Сташевской, смольнянки, которую пора было забирать из Воспитательного общества благородных девиц, но куда девать дальше – никто понятия не имел.
Александра, выйдя замуж в двадцать лет потому, что быть в эти годы девицей неприлично, попала в семью, где было очень мало женщин. Ее супруг имел двух родных братьев и ни одной сестры. Оба брата служили в армии и погибли в турецкую войну, оставив сыновей, которых родня отдала в кадетский корпус. Имел он также двоюродного брата, старого холостяка Льва Ивановича. Батюшка супруга, свекор Александры, незадолго до ее свадьбы похоронил жену и сдружился с ее кузиной – Александра так и привыкла считать эту кузину, Федосью Сергеевну, теткой. А была у него еще одна кузина, она родила единственного сына и померла. Сын выдался непутевый, женился на бесприданнице, потом и вовсе утонул. Бесприданница родила ему дочь – эта дочь и была Мавренька Сташевская. Но горячих материнских чувств к дитяте дама не питала – сильно беспокоилась, что ребенок отпугнет женихов: и так денег негусто, а тут еще кроха за подол держится, и нет бабок-нянек, кому бы ее отправить и вздохнуть с облегчением.
Происхождение позволяло шестилетней девочке поступить в Воспитательное общество благородных девиц, которое попросту называли Смольным монастырем. Туда ее и отдали, а мать вышла замуж, уехала с новым супругом куда-то в провинцию и там затерялась – не писала и знать о себе не давала, жива ли – неведомо. Вот и получилось, что Мавреньке, выйдя из института, некуда было податься. Сперва думали, что ее заберет к себе семейство Волошиных, родня с материнской стороны, но супруга Григория Семеновича скончалась, а поселять девицу в доме, где нет женщины пожилой или средних лет, чтобы за ней присмотреть, было уж вовсе непристойно.
Когда Александра взошла на террасу, Федосья Сергеевна пила по глоточку какой-то неимоверно вонючий декохт, а мужчины толковали о будущей войне – так, как толкуют о ней пожилые господа, прослужившие в молодости несколько лет в гвардии и на том основании мнящие себя великими стратегами.
– Густав не посмеет напасть на нас, – говорил Лев Иванович. – Не для того его наша государыня деньгами дарит, чтобы воевать нас собирался.
– Он спит и видит, как бы забрать у нас финские земли, как только на трон сел.
– Так ведь у шведов конституция. Она запрещает королю начинать войну наступательную, а позволяет вести лишь оборонительную.
– Он додумается, как обойти конституцию!
Александра политических бесед не любила и не понимала. Не то чтоб ей было совсем безразлично, как ссорится и мирится наша государыня со шведским Густавом, но, как всякая женщина, она больше интересовалась, будут ли свадьбы. У государыни растут внуки, Александр и Константин, растут внучки – Александра, Елена и Мария, великая княгиня Мария Федоровна непременно еще детей нарожает – ей ведь всего-то двадцать восемь. Еще лет шесть-семь – и начнутся свадьбы, и все будут гадать о женихах и невестах. Отчего бы не породниться со Швецией? Тогда уж точно будет мир с их сумбурным королем.
Куда важнее было сейчас придумать букет с тысячелистником, найти два ярких цветка, чтобы оживить его, таких, чтобы по цвету уравновешивали друг друга, а по форме – находились в противоречии.
Оба стратега меж тем костерили на все лады шведского Густава, называя его сумасшедшим и полоумным, по примеру самой государыни. Разве не безумец? Своей демонстрацией готовности к войне хочет задержать на Балтике флот Грейга, которому велено идти в Средиземное море воевать турок. И за то ему платят якобы французский король и турецкий султан.
Александра не особо прислушивалась к политическим рассуждениям, но мелькнуло слово «масоны». Масонских лож развелось немало, в чем их суть она не докапывалась: смысл? – дам в ложи не допускали, хотя господин Калиостро, сказывали, пытался учредить дамскую ложу, но окончилось это каким-то невозможным развратом. Калиостро куролесил в российской столице лет десять назад, и Александра была слишком молода, чтобы иметь о его подвигах свое мнение. Но того, что Калиостро со скандалом выставили из Санкт-Петербурга, и того, что сама государыня не поленилась – написала комедию о его мошенничествах, для Александры было довольно.
Поэтому она и не стала вникать, какое отношение имеют масоны к российскому флоту, а села возле госпожи Вороновой и тетки, Федосьи Сергеевны, с самым кротким видом. Тетка ее по-своему любила и однажды даже сказала:
– Ты, дурочка, резвись, пока молодая. Коли что – не выдам, прикрою.
Такую тетушку следовало холить и лелеять. Даже невзирая на то, что от нее за версту несло «Венериным маслом», которое успело выйти из моды еще при прежнем царствовании; сам по себе запах был неплох, да больно надоедлив.
– Ну, что, сударыни, начнем, благословясь? – спросила Федосья Сергеевна. – Ох и тяжек крест – молодых девок пристраивать. Вся надежда на тебя, Сашка. У тебя ведь кавалеров множество, ты и в театры ездишь, и на гулянья. Левка! Григорий Семеныч! Хватит в солдатики играть. Что скажете?
– То скажу, матушка, что не след было Маврушу отдавать в институт. Кто не знает, что невесты из монашек прескверные! – отвечал Лев Иванович. – Я в сем деле помогу деньгами, и только. Где для набитой дуры искать жениха – не знаю!
Монашками смольнянок прозвали потому, что Смольный институт государыня велела устроить в здании, которое строилось для женской обители.
Их образование считалось для девицы избыточным. Ну, языки – куда ни шло, в гостиной хорошо блистать по-французски, неплохо понимать по-немецки, модно – по-аглицки, по-итальянски – разве что для тех, кто итальянскую оперу любит. Рисование – тоже отменное дамское ремесло, при нужде и прокормить может. А физика девицам на что?!
К тому же девушки, отнятые от родителей, чтобы в семье не набраться всяких глупостей, к восемнадцати годам о пошлости не ведали, да и жизни не знали, были наивнее шестилетнего дитяти. И не то беда, что девицы мало годились в супруги, а то, что в свете очень скоро это распознали. И ладно бы еще за смольнянкой давали хорошее приданое! Мавра Сташевская приданое пока что имела самое скромное.
– Деньгами – само собой, не отвертишься. Ей нужно бывать там, где можно подцепить женишка, – сказала тетка. – Слышишь, Сашетта? Беда в том, что ей не всякий поглянется. Солидного господина с набитым кошельком она, пожалуй, пошлет искать ветра в поле, если он не разбирается в итальянской опере и не рисует цветочки акварелью. А заставить ее мудрено, коли голова полна возвышенных чувств и прочей дребедени.
И тут Александре пришел на ум «естественный человек». Вот была бы пара для смольняночки! Они непременно должны поладить… Впрочем, отдавать девчонке смуглого атлета не хотелось, она, поди, и не поймет, в чем его красота и привлекательность…
Александра, вспомнив мокрого Михайлова в набедренной повязке, невольно улыбнулась.
– Что смеешься, матушка? – спросила недовольная тетка. – Ты немногим лучше Маврушки! Тоже одни цветочки на уме, а замуж давно пора!
– Так чего же лучше – обеих невест вместе поселить? – спросил Григорий Семенович. – Александра Дмитриевна – вдова, поведения примерного, слухов о ней не распускают. А чтобы женихам было веселее, я буду на Маврушино содержание каждый месяц по двести рублей давать. Это немало. И в духовную впишу Маврушу.
– Может, так и решим? – предложил Лев Иванович. – Ты, сударь, дашь двести в месяц, а я оплачу Мавруше гардероб. Сколько платьев нужно девице на лето и осень? А осенью-то, чай, и жених сыщется.
– Сашетта, ты посмотри, что у нее в сундуке, разберись, составь список, прикинь по деньгам, – велела Федосья Сергеевна. – А я подарю серьги и браслеты, у меня их полон ларец. У них оправа немодная, но камни чистой воды. Отвези к хорошему ювелиру, пусть сделает на новый лад. Эти же побрякушки пойдут и в приданое Маврушке. А иное можешь сейчас продать, чтобы хоть с тысячу рублей уже было живыми деньгами. Да я еще в духовной ей Пустошку откажу. Деревенька мала, душ полсотни, ну да все одно – не кот начхал.
– Я могу ей дать мебели. Муж согласился купить новые, а те, что у меня в гостиных и в спальне, еще совсем хороши. Я велю их до поры свезти в Вороновку, – пообещала госпожа Воронова. – И есть у меня комнатная девка Павла, обучена рукоделию и за барыней ходить. Забери ее, Сашетта, будет горничная Мавруше. Прямо теперь и забирай. Бумаги потом выправим.
– Дело говоришь, – одобрила тетка. – Вот, с Божьей помощью, общими силами девку приданым обеспечим и пристроим.
При этом Федосья Сергеевна с неподобающим возрасту лукавством метнула взор Сашетте и получила ответный: все-де понимаю и веселюсь с вами вместе, любезная тетушка. Девка Павла была слишком хороша собой, чтобы держать ее при тридцатилетней барыне, постоянно брюхатой. Ни один муж такого соблазна не выдержит – а господин Воронов, сдается, и не пытался бороться с соблазном.
– Сударыня тетушка, я не умею за девицами смотреть, – сказала Александра. – Места дома хватит, угловая комнатка свободна, только какая из меня воспитательница? Может, я Мавруше от себя денег дам, тысячи две сразу? А при себе ее держать – увольте!
– Больше некому! – рявкнула тетка. – При мне она от скуки помрет! Надобно, чтобы ее в свет вывозили, чтобы дома кавалеры кишмя кишели! Нешто ко мне кавалеры потащатся? Разве что мои одногодки, из ума выживши! Да это и ненадолго. Помнишь, к тебе сватался Зверков? Он еще у тебя бывает?
– Приезжал с Пасхой поздравить.
– Он мне по нраву, основательный господин. Ты с ним потолкуй. Скажи – красавица, чуть не вдвое тебя моложе, а приданого хотя нет, да родня на свадьбу сделает хорошие подарки, – велела Федосья Сергеевна.
– Потолкую, тетенька, – Александра вздохнула. Будь господин двумя пудами легче и десятью годами моложе – то можно было бы вносить его в жениховский список.
– Да про институт поменьше рассказывай! Особо, как она там в комедиях кавалеров играла! Ты больше про то, что скромница и красавица, поняла?
Тут тетка Федосья была права – кто ж на кавалере из французской пасторали женится?
Вечер все общество провело на террасе, туда были поданы напитки, бламанже, мороженое, конфекты, земляника со сливками. Услышав доносившийся из гостиной бой напольных часов, Александра поднесла руку ко лбу, призналась дамам – бродила по парку, искала цветы для акварели и, видать, несмотря на шляпу, ей напекло голову. Ей в один голос наказали тут же идти в свою комнату и лечь.
Она спустилась и перешла во флигель, где во втором этаже ей отвели комнату, достаточно большую – там ширмой выгородили местечко и для горничной Фроси, которую Александра взяла с собой.
В комнате сидела при свече Фрося, штопала чулок и пела.
– Ну-ка, живо рассупонь меня, – велела Александра. – Подай новую сорочку, ту, с шитьем, как венецианское кружево. И расчеши меня скорее! Косу заплети, без затей…
Она сообразила, если со взбитыми и высоко поднятыми волосами нырять в речной воде, образуется настоящий войлок – хоть валенки из него потом катай.
Проблему набедренной повязки Александра решила: сорочку следует поддернуть повыше и подпоясать, получится хорошо и в воде не соскользнет.
– А теперь покажи лестницу, по которой вы, девки, сбегаете, – сказала она.
– Так та лестница к службам ведет, к поварне, голубушка-барыня, к заднему двору.
– Покажи. Ты ведь там, поди, уже все облазила.
– Да куда ж вы, голубушка-барыня, на ночь глядя?
– В парк ненадолго. Ты меня выведешь и потом встретишь, поняла? Шаль возьми, орешков возьми, чтоб не скучать.
Фрося была горничная испытанная, не болтливая, – за то Александра оставила при себе. Вторая горничная, Танюшка, и кухарка Авдотья, и прочая дворня были оставлены стеречь петербуржскую квартиру.
Главное было – так пробежать по парку, чтобы с террасы не увидели, и никто из охотников до ночных прогулок по дороге не попался. Как на грех, Александра прихватила с собой только одежду модных светлых тонов, какая пристала летнему времени. А тут бы не помешало маскарадное черное домино. Она оглядела комнату и заметила тонкое темно-зеленое покрывало для кровати, которое было свернуто и лежало на стуле.
– Доставай иголки с нитками, да ленты! Сейчас епанчу соорудим!
Епанчу они в четыре руки смастерили просто – заложили край покрывала мелкими складками, прихватили их лентой – крупными стежками, чтобы потом с легкостью распустить, а длинные концы ленты оставили для завязок.
– Сойду этак за крапивный куст, – сказала Александра. Фрося засмеялась – знала, что голубушка-барыня с малоприятными мужчинами – та еще «крапива».
На туалетном столике стояли пузырьки с баночками. Александра взяла большой флакон лонделаванда, понюхала и усмехнулась: кто ж поливается ароматной водой, собравшись лезть в воду? Потом, балуясь, мазнула влажным стерженьком пробки Фросю по шее, та радостно взвизгнула.
Было то странное время, когда небо еще светлое, но внизу под ним – почти ночной мрак. Фрося провела барыню за длинным каретным сараем, за конным двором и вывела в парк, а сама села ждать ее в боскете на лавочке. Условным сигналом был свист – свистеть Александра научилась еще в детстве, у деревенских мальчишек.
Александра бежала по аллеям, держась поближе к деревьям. Главное было – не ошибиться и выйти к тому месту, где нет ограды.
Блуждать в потемках под кронами кленов и лип она не привыкла, поэтому двигалась осторожно, и о близости реки догадалась потому, что ухватилась за куст белого шиповника – он только там и рос.
– Господин Михайлов! – позвала Александра.
– Мадам Сашетта?
– Где вы? Я ничего не вижу.
– Пройдите вперед. До спуска не более пяти шагов, я приму вас… – Моряк протянул руки и попросту снял Александру с заросшего кустами откоса. – Я вижу, вы не раздумали купаться.
– Нет. Я весь день мучилась от жары. В этом доме не любят плавать – есть только маленькая купальня для детей, там, выше по течению.
– Идем. Не бойтесь, на мелководье – прямо парное молоко, а дальше пуститесь вплавь, верхние слои еще теплые.
Александра потянула ленты, узел распустился, епанча соскользнула с плеч на траву.
– Что это на вас? – спросил Михайлов.
– Сорочка, подпоясанная на мужицкий лад, а вы думали – я тоже в набедренной повязке?
– Признаться, плавать в повязке, сделанной из рубахи, не так удобно, как хотелось бы.
Александра хотела было сказать, что в потемках, да еще и в воде, попытки соблюсти приличие нелепы, но вовремя сдержалась. Делать авансы кавалеру в такой обстановке опасно.
Оставив туфли на траве, возле епанчи, Александра ступила на серый речной песок и потрогала носком воду.
Михайлов преспокойно, в несколько шагов, забрел по пояс и пустился вплавь.
«Вряд ли это деликатность кавалера, не желающего, чтобы дама смущалась из-за своего фривольного наряда, – подумала Александра. – Просто в воде ему теплее, чем мокрому и голому – на берегу».
Она пошла следом, ощущая границу воды и воздуха, которая все поднималась и поднималась, до колен, выше, замерла на бедрах.
– Ну, что же вы? – спросил Михайлов. – Плывите сюда!
Александра сделала еще несколько шагов, легла на воду и поплыла.
Мир человека, плывущего ночью, резко меняется. Река, которую, казалось, можно пересечь днем в несколько гребков, вдруг раздается вширь, берега исчезают, и остается лишь бескрайняя водная равнина.
– Каково? – спросил, подплыв, моряк. – Вы ногами, ногами бойчее шевелите, у пловцов вся сила в ногах. А устанете – ложитесь на спину отдохнуть.
– Как это – отдохнуть? – удивилась Александра.
Плавать она училась вместе с деревенскими девчонками: саженками, по-собачьи и по-лягушачьи, о других «стилях» поселяне Спиридонова и не подозревали.
– А вот так, – моряк, перевернувшись и раскинув руки и ноги растянулся на воде, позволяя течению нести себя. – Главное – уравновесить тело и сохранять правильную ватерлинию, проходящую через ухо.
– Я этих ваших морских слов, сударь, не понимаю, – обиделась Александра, торопясь за ним привычным образом.
Михайлов пустился в объяснения и поклялся, что опасности никакой нет, стоит лишь преодолеть страх, как все получится. Затем подвел руки под спину Александры, помогая ей поймать верное ощущение.
Но итог его педагогики оказался неожиданным – Александра вдруг рассердилась.
Они были вдвоем, наедине, почти полностью раздеты – облепившая тело мокрая сорочка уже преградой не являлась. А этот «естественный человек» словно не понимает, что рядом с ним молодая женщина! Он даже не пытается чуточку сжать пальцы, чтобы это походило на ласку! Ей нужно было совсем немного – попытка объятия, чтобы убедиться – они не играющие в реке детишки, а женщина и мужчина. Азарт – великая сила, подвигающая человека порой на экстравагантные поступки. Как – непонятно, может, и впрямь что-то испугало Александру, какой-то водяной житель, пробиравшийся по своим рыбьим делам.
– Что это было?! – вскрикнула Александра, ухватившись за плечи моряка.
– Ничего страшного. Осьминоги здесь не водятся.
Михайлов поддерживал Александру так, словно рядом какая-то перепуганная восьмидесятилетняя старушка. И это было невыносимо.
– Ах, опять, опять! – воскликнула Александра, приникая к широкой груди извечным движением испуганной женщины, ищущей спасение в мужском объятии.
– Может, щука? – неуверенно предположил Михайлов, все еще не понимающий игры.
– Я не знаю! Скользнуло вдоль ноги, такое толстое…
– Давайте-ка выйдем на берег, – предложил моряк.
Но на берегу повторить проказу Александра бы не смогла.
– Нет, не надо… не съест же меня эта щука!.. – запротестовала она.
– Ну, тогда есть еще одно решение! – и Михайлов подхватил Александру на руки. Волей-неволей она должна была обнять его за шею. И тут на нее напал смех: – Мы как греческие водяные божества! Тритон и наяда! – пояснила она. – Отчего никто не рисует их с мокрыми волосами? Вот была бы потеха!
Ее коса уже давно намокла и отяжелела, а русые кудри Михайлова от воды развились и прилипли к щекам.
– Тритон – это тот, что с хвостом? – осведомился моряк. – Наяда в мокром хитоне, который являет все ее формы?
– Да…
И они стали целоваться.
Если в тот миг где-то поблизости находился Купидон, то он не летал, а плавал вокруг молодых людей со своим луком, и даже нырял, целясь золотой стрелкой не в сердце, а куда как ниже…
Глава вторая
Два перстенька
Шведскому королю возжелалось мировой славы. Получив от турок сколько-то денег, сказывали – чуть не пять миллионов золотом в неведомой монете, он возомнил, отомстить России за турецкое поражение в прошлой войне. А удачный исход прославила бы его имя и в Азии, и даже в Африке.
На что Густаву слава в Африке, кой с нее прок для Швеции – неизвестно. Он, верно, и сам этого не знал, когда сообщал о своих планах другу, барону Армфельду. Пятидесятитысячная армия была готова – требовался лишь повод, и сгодился бы любой, даже дурацкий.
Повод дал российский посол в Швеции граф Андрей Кириллович Разумовский. Выполняя распоряжение государыни, он писал к министру иностранных дел, прося объяснить желание Швеции вооружаться. Слова, коли перевести на русский были таковы: «Императрица объявляет министерству его величества, короля шведского, а также и всем тем, кои в сей нации некоторое участие в правлении имеют, что Ея императорское величество может только повторить им уверение своего миролюбия и участия, приемлемаго Ею в сохранении их спокойствия».
Видимо, граф слишком хорошо угадал мысли государыни – коли она считает шведского Густава полоумным, то обращаться к нему разумнее через его голову – к тем, кто покамест в своем рассудке. И тем очень обрадовал Густава – тот увидел в миролюбивом послании «казус белли». Разумовский был объявлен в Швеции persona non grata[1] и выслан за вмешательство во внутренние шведские дела и связь с некими мифическими заговорщиками-шведами, противниками короля. Были ли таковые на деле – неведомо; или придуманы для сей оказии сознательно.
А за день до изгнания посла Густав отправил государыне ультиматум: сперва наказать Разумовского, затем вернуть Швеции все, что Россия отняла у нее, начиная с первых побед Петра Великого, и, наконец, чтоб не мелочиться, – вернуть Турции Крым, завоеванный в 1783 году.
Планы Густава были достойны Александра Македонского: начать военные действия на юге Финляндии и одновременно разгромить русский флот у Кронштадта, сам Кронштадт сжечь, после чего очень легко будет взять двадцатитысячный корпус в Гельсингфорсе, высадить на побережье между Красной Горкой и Ораниенбаумом, а потом взять с налету российскую столицу.
В этом злодейском замысле был резон: основные части русской армии и лучшие генералы находились на турецком фронте и в Польше, только под Выборгом стояло войско в двадцать тысяч человек, которым командовал генерал-аншеф Мусин-Пушкин, далеко не лучший из полководцев Екатерины. Кроме того, угроза Санкт-Петербургу могла бы задержать на Балтике эскадру Грейга, имевшую приказ идти в Средиземное море, и тем Густав оказал бы помощь турецкому султану.
А эскадра уже стояла на кронштадтском рейде под вымпелами, готовая к отплытию. Королевский ультиматум получил единственно возможный ответ – государыня объявила войну Швеции. И, разумеется, капитан второго ранга Михайлов обязан был принять в этой войне участие вместе со своим сорокачетырехпушечным фрегатом «Мстиславец».
Роман с Александрой прервался внезапно. 5 июня три фрегата – «Мстиславец», «Ярославец» и «Гектор» – были отправлены в разведку – поглядеть, чем занимаются на Балтике господа шведы. «Мстиславец» и «Гектор» обшаривали Финский залив за Гогландом, в направлении Карлскроны, где, по донесениям лазутчиков, шведский флот уже стоял на рейде, а «Ярославец» пошел к Ревелю.
Михайлов служил на «Мстиславце» с 1885 года. Фрегат был новенький, только год назад спущен на воду в Соломбале, и штурман гордился, что причастен к судьбе этакого красавца. Побывав с эскадрой Чичагова в далеком плавании, добравшись до итальянского города Ливорно, он счел, что долг перед самим собой вроде как выполнил, в Средиземном море побывал и может с чистой совестью травить моряцкие байки, вроде «…когда мы шли Гибралтаром»…
Однако Михайлов был из тех чудаков, кому неймется – они изобретают себе всякие занятия, иной – от скуки, иной – потому что приятели приохотили, а случается, что и со злости.
В случае с Михайловым это была именно злость – по милости пьяного штурмана ему как-то довелось провести трое суток на судне, севшем на мель не в самую скверную погоду – шторм грянул позже. И он сперва, стоило ощутить подошвами сушу, заехал пьянчужке в зубы, а потом как-то неожиданно сдружился со старым штурманом Ефремом Осининым, который было совсем собрался списаться на берег и нянчить внуков.
Осинин был в чине капитана, что отнюдь не давало ему права командовать судном: штурманам присваивались общеармейские чины, и капитанство было лишь чином. Он окончил Морской корпус и на себе испытал все последствия дурного предписания Адмиралтейств-коллегии, по которому с 1745 года дворян к штурманскому ремеслу не допускали. Итогом предписания стало высокомерие офицеров по отношению к штурманам, а молодые люди, пожелавшие служить во флоте, наотрез отказывались обучаться в штурманской роте, и эту должность на судах часто исполняли люди ленивые, малознающие и небрежные – других-то взять было негде.
Именно этот ветеран показал Михайлову карты, собственноручно вычерченные, и несколько томов лоций Балтики с такими подробностями, как повадки лифляндских рыбаков, собравшихся на лов трески и камбалы. А среди книг нашелся сущий раритет – напечатанная в 1721 году по распоряжению государя Петра Великого лоция под названием «Книга морская, зело потребная, явно показующая правдивое мореплавание на Балтийском море и пр.». Сколько помнили старые морские волки, это было первое такого рода издание в России.
Получив в наследство от ветерана эти сокровища, Михайлов увлекся тем, что стал их выправлять и дополнять. Новая служба тому способствовала – на «Мстиславце» не переводились кадеты и гардемарины, и он бороздил Финский залив на манер плавучего учебного класса.
Поскольку война не была еще формально объявлена, Михайлов плаваньем наслаждался и даже внес поправки в лоцию, когда проходили остров Гогланд. Там была одна-единственная бухта, и удалось сделать новые промеры у входа – мало ли для чего понадобится она во время войны.
«Мстиславцу» повезло – шведский флот у Карлскроны был замечен издали. Подойдя почти на выстрел, загнали на мачты самых глазастых матросов, те насчитали пятнадцать кораблей и пять фрегатов, то бишь – двадцать вымпелов, после чего сильно недовольный капитан Хомутов приказал взять курс на Кронштадт.
Придя туда, узнали – война уже объявлена, а «Ярославец» с «Гектором» не вернулись. И в порту – суматоха, потому что дело предстояло жаркое, а людей мало, особливо простых матросов.
Михайлов вдруг осознал, что военные действия на море – не шутка. Но близость опасности произвела на него неожиданное действие. Он, отпросясь на сутки, решил сделать два визита и нанял для этой цели в купеческой гавани ял. Лодочников в Кронштадте не обижали, следили только, чтобы они от шкиперов иностранных судов не брали для передачи в столицу частных писем – это был прямой убыток казенному почтамту.
Первым делом Михайлов отправился на Васильевский остров – навестить семью, пока дети не забыли совсем батиной физиономии. Заодно следовало убедиться, что с ними все благополучно, и устроить дела на случай, если не суждено вернуться с войны.
Дома его встречали по заведенному чину – все пять дочек спешно выстроились по ранжиру, строй замыкали мамка Матвеевна, вырастившая всех, и Наталья Фалалеевна, любезная теща, мать его покойной жены, Аграфены. Старшая дочь уже заневестилась – ей было четырнадцать, младшая, семилетняя, держала за руку потрепанную куклу.
Девиц своих Михайлов любил, хотя в глубине души желал бы еще пару сыночков породить. Он всех поочередно расцеловал, выслушал новости (кошка принесла шестерых котят, Даше и Маше требуются новые башмачки, у соседей Егоровых скоро играют свадьбу, Танюша от зависти подрезала косу Наташе на целых полтора вершка), после чего сообщил о войне, перепугав тещу с мамкой до полусмерти.
– И что, свейский король на Питер пойдет? – в ужасе спросили они. – А мы тут с девками! Ахти, надо уезжать, пока не поздно.
– Густава мы сюда не пустим, – пообещал Михайлов и уединился с тещей в ее комнатушку, потолковать о печальном – на всякий случай.
– И слушать не хочу! – рассердилась она. – Вот твердила тебе, Алешка, походил вдовцом, срок соблюл – женись! Была бы в доме молодая баба, ею бы и командовал! С нее бы и спрос! А то – один да один! От соседок стыдно – спрашивали, не порченый ли!
– А может, и женюсь.
– Есть кто на примете?
– Да.
– Кто такова? Какого роду-племени?
– Роду дворянского, собой хороша, молода, рано овдовела, ну так и я вдовец, умница, и ей не противен.
Такой супругой, как Александра, всякий мог бы похвастаться, а теща довольно знала зятя, чтобы по улыбке понять: он своим выбором гордится, более того – откровенно бахвалится. Но теща зятя любила и маленькие слабости охотно прощала.
– Звать-то как? – только и спросила.
– Александрой. К ней сейчас поеду.
– Погоди-ка! Точно собрался свататься?
– Точно, – подумав, сказал Михайлов.
Теща вытащила из-под кровати большую укладку, оттуда – ларчик, из ларчика – узелок, развязала пестрый лоскут, выложила на стол кольца и серьги. Это были украшения покойной жены, которые Михайлов полагал когда-либо разделить между дочками.
– Вот, перстенек возьми, а то как же без подарка?
– Вы ангел мой, матушка Наталья Фалалеевна, – серьезно сказал Михайлов. – У кого еще такая теща есть?
– Ангел-то ангел… а как бы впрямь к ангелам в гости не отправиться… Хворь меня гложет, Алешенька. Коли что – как с девками быть? Нужна молодая хозяйка. Что хошь делай, в ногах валяйся, а женись.
Она улыбалась, а личико, обрамленное стареньким пожелтевшим кружевцем чепца, было нерадостное и точно больное. «Все деньги на внучек тратит, – подумал Михайлов, – на себя уж рукой махнула. И тут надо что-то предпринять».
– Так не успею повенчаться, я на сутки из Кронштадта еле выпросился.
– Она к тебе приедет, там повенчаетесь. Я знаю, в Кронштадте и Преображенская церковь есть, и Андреевская! И Успенская! Ты только сговорись, а потом дай мне знать. Я к ней с визитом поеду! Лет ей сколько?
Михайлов крепко задумался.
– Лет двадцать пять, поди… – неуверенно произнес он.
– А тебе тридцать четыре. По годам очень даже хорошо подходите. И коли сговоритесь – на то тебе мое родительское благословение.
Теща и впрямь заменила ему мать, которую Михайлов помнил очень плохо.
– Поторопись с этим делом, – сказала Наталья Фалалеевна. – Не то вовсе бобылем останешься. Девок замуж отдашь, мы с Матвеевной помрем, с фрегата тебя спишут за ненадобностью – что тогда? А жена будет тебя и старенького ублажать.
Он усмехнулся – Александра не очень-то была похожа на кроткое создание, смыслом жизни полагающее ублажение супруга. Может, со временем, когда-нибудь – тогда, когда буйная плоть уже не попросит ночных купаний…
Но других невест у него на примете не было.
Кабы не шалость Александры, вздумавшей тогда выучиться нырять, – сейчас и вовсе ни о ком бы не вспомнил, чтобы срочно посвататься. Две кронштадские вдовушки, к которым он иногда захаживал, не в счет, – на таких не женятся.
– Женюсь, но с уговором. Чтобы вы, матушка, хорошего врача позвали. Хватит травками отпаиваться, нужно настоящие лекарства принимать.
– Да больно дорого немцы за визит берут, – вздохнула теща.
– Ничего, от врача не разоримся.
Михайлов наскоро поужинал с семейством, взглянул в окошко, еще не прикрытое ставнями, и понял – пора собираться. Хоть белые столичные ночи и заставляют забыть о цифирках на часах, однако свататься заполночь – как-то не по-людски.
Полагая, что предстоят страстные объятия, он не стал обременять голову пудрой. Вьющиеся волосы убрал в косицу, надел свежую рубаху, чулки и счел себя готовым к подвигам. Еще с утра жених искупался, и не у гаваней, а в приятном местечке на северном берегу Котлина, где вода была чиста, а поверху не плавала всякая дрянь.
Морские офицеры одевались нарядно – белоснежные мундиры мундиры с зелеными лацканами, воротниками и подбоем, с золотым галуном по борту, с золотой кистью на левом плече; камзол со штанами также были зеленые. Белый цвет Михайлову был к лицу – теща о том не раз говорила.
Он расцеловал и благословил дочек, сам подошел под тещино благословение и поспешил к ялу, ждущему у мостков.
Петербуржцы гордились таким природным дивом, какого не было ни во Франции, ни в Англии. Белые ночи выманивали из дому всех, а поскольку со времен царя Петра заведено было иметь свои лодки, шлюпки, ялы, яхты, йолы, то Нева, Мойка, Фонтанка, Большая и Малая Невки в это время становилось сущим променадом. Иной барин сам плыл впереди, а следом – полная лодка дворовых музыкантов, иной вывозил на Неву и роговую музыку, под которую нарядные дамы пели и веселились.
Роговая музыка, изобретенная примерно сорок лет назад капельмейстером Яном Марешем, служившим у гофместера Нарышкина, звучала главным образом летом – ее можно было слушать только под открытым небом и только на значительном расстоянии, так громок был звук, что не удивительно, ибо музыканты дули в медные рога, предназначенные, чтобы подавать сигналы охотникам, разбежавшимся в лесу на несколько верст. Чтобы исполнить простенький модный контрданс – и то требовалось с полсотни человек, из коих каждый тянул свою ноту.
Михайлов, улыбаясь, смотрел вперед. Он предвкушал встречу.
Подобных встреч после ночного купания было три. Александра нарочно не спешила в свое Спиридоново, чтобы капитан мог навещать ее в Санкт-Петербурге, когда вздумается. Это было хорошим знаком – стало быть, рада ему, и его мужские качества пришлись ей по душе. И спаленка Александры куда как лучше речного берега – забрать бы там счастья про запас, чтобы на всю войну хватило вспоминать…
О войне в Кронштадте говорили по-разному. Одни полагали – коли Грейг еще не увел эскадру, победа над шведами – дело трех-четырех недель. Другие сомневались, и Михайлов тоже считал, что лишь ледостав прекратит военные действия. Однако в победе он был уверен – еще недоставало на Балтике уступить шведам!
Ял с невского простора вошел в устье Фонтанки и за Летним садом повернул в Мойку. У той излучины, что была ближе к Миллионной улице, имелся каменный спуск к воде – совсем маленькая пристань. Михайлов велел причалить и ждать себя до рассвета. Сам ловко выскочил на ступени и старательно одернул на себе мундир – хотел явиться во всей красе.
Дорога была знакома – три ночи он приходил сюда, бывал впущен и заключен в объятия, из которых выбирался только ближе к рассвету.
Михайлов засвистел соловьем – пусть соседи гадают, что за дурная птаха завелась по соседству. Фрося этот сигнал знала и выглянула в окошко. Но не ответила привычным знаком – мол, сейчас тебя, сударь, впущу! – а тут же пропала.
Она появилась в окошке минут пять спустя и поманила рукой. Михайлов побежал к черному ходу. Там Фрося его и встретила.
– Подарочек тебе привез, – сказал он, вручая фунтик конфект.
– Благодарствую, – смущенно отвечала Фрося. – Пожалуйте в дом.
Она потихоньку провела Михайлова в знакомую спальню. Однако Александра на сей раз не поспешила навстречу – радостная, полураздетая, как это обычно бывало. Она, причесанная и одетая, словно только что вернулась с бала, сидела в кресле с пасмурным лицом и поднялась как-то неохотно.
– Саша, здравствуй, свет! – весело сказал Михайлов. – Что стряслось? Не больна ли ты?
– Голова разболелась, – лениво и тоскливо ответила Александра.
За все время их знакомства у нее не случалось никаких хвороб, а над мигренями – модной болезни избалованных малокровных девиц – она смеялась.
– Знаешь новость? – спросил он.
– О войне? Слыхала.
– Я оттого не приходил, что был в разведке и лишь утром вернулся в Кронштадт, – доложил Михайлов. – Наше счастье, что Грейг еще не увел эскадру бить турок. У шведов вымпелов более, чем хотелось бы, и лазутчики доносят – людей под ружье поставили немало.
Александра смотрела на него так, словно говорила: и что мне до той войны, до тех шведов?
– Они нацелились сперва на Кронштадт, потом на Санкт-Петербург, – продолжал Михайлов. – Сама государыня забеспокоилась. И «Ярославец» еще не вернулся, и «Гектора» мы где-то потеряли, а ему бы следовало разом с нами прийти.
– Я поеду в Спиридоново. Все равно в столице летом делать нечего, – сказала Александра.
– Ты захворала? – предчувствуя недоброе, спросил Михайлов.
– Да.
– Я пришел не вовремя? Ты мне не рада?
Не стоило задавать такие прямые вопросы, но капитан не умел разговаривать с дамами.
– Я не ждала тебя, Алексей.
За краткое время их романа она ни разу не назвала его по имени.
– Что-то случилось?
– Как тебе объяснить…
– Да уж говори, как есть.
– Мы поторопились тогда. Мы совершенно не знали друг друга. Это было безумие. А всякое безумие кончается тем, что возвращается рассудок.
– К тебе вернулся рассудок?
– К счастью. Я хотела написать тебе письмо, но ты пришел… Так даже лучше…
– Ну что же. Не стану обременять! – выкрикнул Михайлов. И сам не понял, как оказался на улице.
Упрашивать женщину сжалиться – что может быть отвратительнее?! И даже не попыталась удержать…
Михайлов не шел – какая-то сила несла его, подталкивая промеж лопаток.
Он понимал, что все амуры с Александрой кончены, и ставил чугунный крест на романе, и в то же время пытался угадать: почему, в чем его ошибка, можно ли загладить оплошность?
Мысль о том, что какой-то столичный вертопрах перебежал дорогу, в голову штурману, конечно, заглядывала. Но он уже довольно знал Александру, чтобы уразуметь: на дешевые ужимки она не клюнет. Выходит, влюбилась в более достойного человека? Но Михайлов считал себя весьма достойным и в спальне сил не жалел, зная также, что Александра пылала к нему неподдельной страстью. Что же это был за ангел в человечьем облике, если она столь разительно переменилась к бывшему любовнику?
Неведомая сила влекла его по ночной столице, оберегая одновременно от встреч с малоприятными людишками: штурман сейчас охотно бы выбил последние зубы налетчику, вздумавшему избавить его от кошелька. Наконец Михайлов очнулся на невской набережной. Теперь следовало или, перелетев через ограду, нестись по воде, аки посуху, или угомониться, идти к Мойке, где у маленькой пристани ждет ял.
Не было никакого сомнения, что моряк и в тяжелом суконном мундире, и в туфлях с пряжками, сверзившись в воду, запросто переплывет реку. Но незримая сила развернула его в другую сторону и погнала по пустынной набережной… пустынной ли?..
Странный силуэт явился его взору – словно бы неимоверной величины ворон присел отдохнуть на ограде. Больших птиц Михайлов видывал – как-то на палубу «Мстиславца» опустился серый орлан-белохвост, промышлявший над волнами в поисках еды. Размах крыльев у этой пташки – две сажени и более, желтый четырехвершковый клюв, внушающий почтение, мощные когтистые лапы – какими и теленка можно подцепить и унести, и Михайлов, наглядевшись, велел матросам прогнать гостя, пока не загадил палубу.
Но орлан вьет гнезда на высоких деревьях прибрежных лесов, и странно, что этакое чудище залетело в столицу, да и силуэт скорее воронов…
Михайлов невольно замедлил шаг, боясь спугнуть странную птицу. А когда она пошевелилась, стало ясно – пернатые тут ни при чем, а просто некий человек, забравшись на одну из каменных тумб ограды, сидит на корточках.
Тут моряк, невзирая на свой душевный сумбур, задал себе вопрос: что можно делать ночью, на ограде набережной, в столь странной позе?
И зрение, и слух у него, как у всякого настоящего моряка, были отменные. Потому-то он и уловил за три десятка шагов характерный звук: человек, изображавший птицу, взвел курок пистолета.
– Стой, дурак! – заорал Михайлов и помчался к тумбе.
Человек резко повернулся на голос, пошатнулся, взмахнул руками и едва не слетел вниз, но моряк был уже рядом.
– Совсем сдурел? – спросил он сердито. – Вот тоже выдумал! А ну, слезай, слезай!
Он стащил бедолагу с тумбы, усадил наземь и первым делом отнял пистолет.
– Кой черт тебя принес? – возмутился несостоявшийся покойник.
– Ты пьян? – Михайлов принюхался. – Вроде не пьян. Что за дурь на тебя нашла?
– Не дурь… иного выхода не осталось…
По речи и выговору Михайлов признал в самоубийце человека если и не своего круга, то вполне благовоспитанного. Белая ночь прибавляла загадочности простецкому, худому, губастому лицу, в последний раз выбритому дня три назад, так что щетина виделась отчетливо. И эта щетина подсказала Михайлову – человек был занят до такой степени чем-то важным, что о себе не помнил.
– Пойдем отсюда прочь, сударь. Давай руку.
– Оставьте меня. Судьба моя решена.
– Вставай, вставай! Чудила грешный! Знаешь, что на том свете самоубийц ждет?
– Мне все равно.
Моряк был достаточно силен, чтобы подхватить под мышки и поставить на ноги даже очень крупного человека, а спасенный был по части дородства – пуда на три с половиной, может, не более. Но с ним вышла какая-то загвоздка – Михайлов сперва решил, что тот не желает выпрямляться, потом понял, что и не может: на шее у бедолаги была петля, а к ней прикреплен порядочный булыжник в веревочной оплетке.
– Разумно, – одобрил моряк. – Коли пулей себя не до смерти порешишь, так эта дрянь на дно утащит. Но ты должен был проявить последовательность и выпить впридачу какой-нибудь отравы.
– Отвяжись ты от меня, сударь, – проникновенно попросил спасенный. – Не приведи тебе бог вот этак булыги искать.
– Нет уж. Пошли! Найдем какой-нибудь не совсем заблеванный кабак, и там я тебя напою до положения риз.
– Зачем?
– Чтобы в башке прояснение наступило.
– Мне с того прояснения легче не станет.
– Это ты что за узел завязал? – спросил Михайлов, пытаясь отцепить каменюку от самоубийцы. – Погоди, сейчас я эту холеру кортиком… как Александр Македонский… руки убери!..
Кортик морского офицера – вещь, полезная в сражении, где мало места для замаха и удара, однако пилить им впотьмах веревки – унизительное для клинка испытание. Наконец пудовый булыжник повис на ниточке, и Михайлов тут же бросил его в воду вместе с оплеткой – от греха подальше.
– Идем, – приказал он спасенному. – Мне тоже есть что залить вином. Однако ж не стреляюсь и в воду не бросаюсь.
– Да у тебя, сударь, пустяк по сравнению с моей бедой.
– У меня пустяк? – тут Михайлову пришло на ум, что беда у обоих одинаковая. – Бросила меня невеста – это ли не горе? А коли и твоя избранница умом повредилась, так мы – братья по несчастью.
– Невеста! – с презрением воскликнул самоубийца. – Невеста – чушь, ерунда, мелочишка! Пук тряпок и фунт белил! Невест на каждом углу по дюжине! А у меня погибло то, чего более в мире нет!
– Душу ты свою бессмертную, что ли, загубил?
– Душу… А ты, сударь, кто таков?
– Я капитан второго ранга Михайлов с фрегата «Мстиславец», а ты?
– А я оружейный мастер, тульский. Звать – Ефимом Усовым.
– Вот и славно. Идем, Усов, авось нам повезет и найдется питейное заведение.
– Не надо. Мне вином не поможешь.
– Да что у тебя стряслось?
– Эх, – вздохнул Усов. – Впрочем, ты-то меня, Михайлов, как раз поймешь. Ты – моряк, и со всяким железным прикладом привык дело иметь. Ты цену металлу знаешь.
Вместо кабака им попалась та маленькая лодочная пристань, где стоял михайловский ял с задремавшим экипажем. Издалека доносилась музыка – словно кто-то вздумал посреди Невы танцевать контрданс. К воде вели ступеньки; они уселись на них рядышком, и Усов приступил к своей печальной истории.
– Ты наши дамасковые стволы видал? – начал Ефим. – Ружейные, пистолетные?
– Тульские, что ли? Ну, видал. Славные стволы, легкие, прочные. Жаль, дорогие.
– А отчего они узорные – знаешь?
Михайлов страх как не любил признаваться в незнании.
– Слыхивал.
– Дамаск мы ковать научились. Да только что – дамаск? На стволы хорош, а на клинки – нет. На клинки нужен булат. С виду он таков же, да не таков! Булатные клинки издавна были на Руси, назывались тогда харалужными. Ты кавказские и персидские сабли видывал? А бухарские ножи?
– А как же, – туманно отвечал Михайлов, избегая слова «да», ибо это было бы враньем.
– У нас в Туле их собрано – не счесть. Подержать, полюбоваться – милое дело. Так ведь зло берет! Отчего они могут, а мы – нет?
Михайлов насторожился – такая злость была ему знакома и мила.
– И узор у нас вроде тот же, а металл не тот. В ствольном дамаске главное – ковка, а на те сабли и ножи шел дорогой булат. А булат сварить – этого у нас еще никому не удавалось. А нужен! Ты на хороссанский булат взгляни! Нет художника, чтобы такое диво изобразил. Есть булаты с золотым отливом, есть с красным. Вот хотел бы ты, чтобы по твоему кортику шел золотой узор, да не наведенный, а словно изнутри проступающий?
– Для чего? – спросил Михайлов.
– А это – знак, что клинок прочен и остер. Хотя этот золотой отлив сразу не разглядишь – надобно уметь так под свет клинок поставить, чтобы он заиграл… Дай-ка, покажу…
– Нет уж!
Давать оружие в руки, которые совсем недавно смастерили оплетку для булыжника, Михайлов не пожелал. И тратить слишком много времени на беседы о хороссанском булате он не мог. Раз уж не судьба свататься к Александре – нужно возвращаться в Кронштадт. А если не медлить – то вскоре можно будет поймать слабый утренний бриз.
Однако родство душ много значит. И Михайлов как-то удачно сообразил, что можно сделать для несостоявшегося покойника, чтобы тот, помахав ручкой спасителю, не поплелся отыскивать новую булыгу. Доставить его к Новикову! И пусть там разглагольствует о турецких саблях! Новиков гостям рад, опять же – дома у него собрание самых неожиданных предметов, бог весть откуда вывезенных, ему будет любопытно послушать Усова. А Михайлову и без того тошно…
– Вот что, сударь. Не в питейное заведение пойдем, а в гости, – твердо сказал он. – Там и расскажешь, каким образом вздумал стреляться и топиться из-за булата.
– А что рассказывать – его у меня украли…
– Идем, идем.
Погрузив Усова в ял и растолкав сонную команду из трех человек, Михайлов велел возвращаться к Васильевскому острову – там недалеко от порта жил старый приятель, ушедший в отставку лет пять назад и в любое время суток доступный.
Домовладельцем этот приятель по фамилии Новиков сделался случайно. Помер дальний родственник, перед смертью озлился на племянников и вспомнил, что есть еще один наследник – служит во флоте; правда, носа не кажет, да и пакостей не творит, интриг не плетет, сплетен не разносит. Завещание чуть ли не в последний миг было переписано, родные племянники чуть не лишились рассудка, Новиков – тоже, но придраться было не к чему, по форме последняя воля была высказана правильно, и тридцать тысяч рублей как с неба свалились на моряка. К тому времени у него начались неприятности со здоровьем – совсем брюхо расстроилось и морского провианта принимать не желало. Посоветовавшись с друзьями, Новиков подал в отставку и, желая жить поближе к порту, купил хороший дом на Васильевском острове, перевез туда жену и полагал, что теперь, на покое, займется приращением семейства основательно. Однако новиковская супруга, невзирая на все усилия, никак не могла забрюхатеть, а скорее всего – и не больно-то хотела. Прок от вынужденной отставки был один – хорошее питание да присмотр доктора-немца, да травки, которых у судовых лекарей не водилось, спасли ему брюхо.
Семейная жизнь Новикова сложилась так, что половину дома он предоставил супруге и встречался с ней крайне редко, а другую преобразил в настоящую кунсткамеру. Он был талантливый рисовальщик, что в годы службы не раз пригождалось, и его рисунки Михайлов даже вклеивал в свои лоции. Теперь же Новиков рисовал корабли, и произведения эти пользовались спросом среди моряков: всякому приятно иметь дома изображение родного фрегата. Из-за этих картинок иногда случались горячие ссоры и споры: не приведи Господь ошибиться в количестве пушек или люков для весел. Еще он таскал с собой альбомчик для портретов, которые набрасывал очень быстро, и они получались у него пресмешные.
Детки были большой бедой Новикова. Он женился, рассчитывая вырастить хоть бы полдюжины. Но супруга Настасья оказалась хворой и рожать отчего-то не могла. Муж, уходя надолго в плаванье, оставлял ее одну в твердой уверенности, что кавалеров отогнать сумеет, и точно – кавалеров вокруг нее не маячило ни единого, зато кумушек, соседок, бабушек, тетушек, приблудных богомолок – рой не хуже комариного, и они обратили женщину к божественным мыслям. Уже не младенца ей хотелось, а съездить на богомолье в какую-нибудь особенную обитель, завести новые знакомства среди инокинь, послушать проповедь особо говорливого батюшки.
В таких обстоятельствах умнее всего было бы взять сиротку на воспитание. Но сироток супруга не желала, от них шум и баловство, а она построила свою жизнь так, что для детей, тем более чужих, места уже не было.
Новиков сперва думал о разводе, но заниматься этим хорошо, когда сидишь на берегу, поскольку дело сие хлопотное и требующее денег. А когда на берегу бываешь лишь зимой, и то не каждой, то помечтаешь, помечтаешь о свободе и молодой жене да и махнешь на все рукой. Потом же, осев на Васильевском острове, он вынужден был заботиться о своем здоровье, устраивать дом, и стерпелся со своим нелепым положением.
Как-то вышло, что в яле воцарилось молчание. Михайлов слушал плеск весел, который на всякую взбаламученную душу действовал умиротворяюще, а Усов время от времени тяжко вздыхал. Наконец причалили у мостков. Новиковское жилище было неподалеку.
Михайлов, зная, что калитка на ночь закрыта, перемахнул через забор и постучал в ставню.
– Кого черти несут? – спросил любезный хозяин.
– Принимай, свои!
– Алешка?! Ну, вовремя! У меня чай поспел!
Михайлов содрогнулся – Новиков имел особые привычки в области чаепития, которые обыкновенного человека могли до припадка довести. Заварку он сыпал прямо в стакан и, выхлебав крепчайший горячий настой без сахара, зажевывал его чайными листьями, утверждая, что от них исходит бодрость, позволяющая рисовать хоть до утра.
Минуты две спустя дверь отворилась и на пороге воздвиглась фантастическая фигура в зеленом камчатном халате и в голубой, атласной, обшитой черной каймой шапочке, с верхушки которой свисала увесистая серебряная кисть. Это добро Новиков привез, кажись, из Греции, и там же приобрел турецкие туфли с загнутыми носами и без пятки, обтянутые пестрой парчой.
– Заходи, брат, заходи!
– А что ты в такую ночь все щели законопатил и все дырки задраил? Испечешься ведь. Окно хоть открой.
– Да? А мне и невдомек… – круглая физиономия Новикова излучала полнейшую искренность.
– Со мной человек, которого надобно выслушать и утешить, – сказал Михайлов. – У него беда. Чуть сам себя не порешил сдуру. Сам бы помог, да только я часа через полтора отбываю в Кронштадт.
Новиков, шлепая туфлями, поспешил к ставням, а Михайлов пошел отворять калитку.
– Усов! Усов!.. Сбежал, черт!
– Тут я…
Оружейный мастер отлепился от забора. Михайлов втащил его в дом и чуть ли не пинком отправил в новиковский кабинет, где было все на свете, включая подвешенного к потолку сушеного крокодила.
– Садись, сударь, сюда, сейчас чашки принесу. У меня для гостей новомодные, фарфоровые, с цветочками, – похвалился Новиков. – Гарднеровские! И самовар – лисицынский…
– Слышь, Усов? Твой, тульский!
Моментально все рисовальные принадлежности были сдвинуты к краю стола, явились чашки, расписанные шиповником и незабудками, явился медный небольшой самовар в виде бочонка на ножках. Откуда-то из-под кучи книг Новиков извлек помятую серебряную сухарницу с маковыми сухарями каменной прочности.
– Гаси свечи, чудак, – сказал Михайлов. – И без них – хоть бисером вышивай.
И вздохнул – в такую бы ночь жизни радоваться, держа в объятиях любимую женщину, а не сбылось, не сбылось, и напрасно воспарил душой – как раззява-матрос с рея о палубу, грянулся оземь…
Усова усадили и велели заново рассказывать печальную историю. Первую ее часть – о том, как и почему оружейному мастеру возмечталось сварить булат, – Михайлов знал и потому рассеянно перебирал новиковские картинки. Ему было не до железа. А Усову как раз хотелось выговориться.
– А что ж не варить? Для него, как я понял, нужна особая руда – в Индии она есть, там мастерам посчастливилось ее в дело пустить. В Персии есть. А у нас вокруг Тулы разных руд – множество, неужели правильной не подберу? Здоровенными глыбами бурый железняк добывают! У нас железо издавна варили, когда-то в каждом селе горны были. И железные заводы, и медеплавильные были, и лес на уголь жгли, все было! А теперь леса стало мало, уголь вздорожал, а как сенатским указом запретили все заводы вокруг Москвы на двести верст, и железные, и стекольные, и винокуренные, так и руды остались из земли не выбранные. У нас с полдюжины доменных заводов, чтобы оружейникам было с чем работать. А руды-то есть! И разные, понимаете, судари мои, разные! Есть из чего выбирать, есть что пробовать! – Усов совсем разбушевался, говорил звонко, с отчаянием, Новиков согласно кивал, даже вопросы задавал, убеждая при этом жевать чайные листья.
– И металл вскоре потребуется. В будущем году завод перестраивать станут. Новые станки поставят, и вертельные, и точильные, и для оттирания, новые водяные машины. А железо и сталь – что, все те же, сибирские. Не дело это! Я сговорился со знающими людьми, они мне все болота облазили, стали мы пробовать то так, то сяк. Дробленый чугун добавлял, меня этому кузнецы научили. Да что наши кузнецы! Я к цыганам советоваться ходил! – с непонятной гордостью сообщил Усов.
– Надули! – уверенно сказал Михайлов.
– Нет, и они про чугун толковали. У них приемы не наши, особые, старинные. Они присоветовали старую ухватку – сами не пользуют, а старики что-то этакое помнят: в тигель вместе с древесным углем и чугуном класть смесь руд, а каких – черт их знает, по-своему они назвать умеют, а по-русски – шиш! Я взял бурый и магнитный железняк, стал искать соотношение. И они же, цыгане, сказали: главное – вовремя плавку прекратить. А как ты это «вовремя» узнаешь? Потом оказалось – сутки плавка идет. Потом чуть на ржавые гвозди не разорился…
– На что тебе? – спросил Новиков.
– Так ведь их тоже в тигель надобно класть! Мелкие ржавые гвоздишки от подков! Ребятишкам платил – они приносили. Этому меня наш старый бронник дядя Матвей выучил, сказывал, сталь для гишпанских клинков так варили и для стволов, и персы тоже ржавчину в дело пускают, нарочно железо в земле выдерживают, чтобы ржа его выела. Кто его разберет – у гишпанцев и у персов, может, и получалось со ржавым железом, у меня не вышло. Они же, персы, в нужное время немного серебра добавляют. По словечку, по намеку я свой булат собирал… Вот известно, персы плавильную печь навозом топят, и откованный клинок в навозе выдерживают. Так я и это испробовал! Ну, мы маленькие тигли завели, в них слиточки получаются вот такие, кругленькие, мы их хлебцами называли. Научились их медленно в золе остужать. И я вот что вдруг понял – булат нельзя калить добела, он сильного жара не любит. Потому и не выходило раньше – мы ж как норовим? Мы ж норовим так, что жарче не бывает! И что-то сходное стало получаться!
– Ишь ты! – искренне обрадовался Новиков. – Славно!
Михайлов ждал – когда же наконец оружейный мастер растолкует свое странное поведение.
– Эх! – Усов стукнул кулаком по столу. – Два года маялся! Из хлебцев разное пробовал ковать! Друзья помогали. Ванюшка, он мастак алмазную грань по стали наводить, сколько для меня потрудился! Два года, судари мои! На заводе наломаешься, потом до ночи в своей кузенке мудришь! И понял – надо везти в столицу, к самой государыне пробиваться. Булат-то – дело государственное! Все лучшее собрал – и хлебцы, и поделки, приехал, остановился в трактире… и там у меня сундучок мой заветный украли!..
– Вот незадача! – воскликнул Новиков. – Что ж ты? Сам оплошал?
– Деньги при себе носил, а сундучок… Там же не только мои безделки лежали! Я из заводской конторы, из хранилища, клинки взял для сравнения, диковинки взял! Дружок мне тайно вынес. Все, все пропало! Бегал, искал – никто ничего не знает, трактирщик божится, что в комнату никто не заходил!
– И ты с горя пошел за булыгой?
– Да как же я теперь домой вернусь?!. Мне он все под честное слово выдал…
– Не повезло тебе, – согласился Новиков. – Но ты взгляни на это дело с другой стороны. Кто знает подлинную цену твоих булатных хлебцев? Чай, во всем Питере такого знатока нет. Как могут воры распорядиться своей добычей? Не в заклад же они ее понесут?
– Могут посовещаться с каким-либо кузнецом, – подсказал Михайлов.
– Могут. А что им скажет кузнец? А? Он-то булата, может, не видывал, а коли и видал – не догадается, что у нас свой завелся. Скажет он им: братцы, такого рябого ствольного дамаска полна Тула. И разве что для починки стволов возьмет их добычу. Надобно обойти кузнецов. И коли найдутся твои хлебцы – выкупить их! – решительно заключил Новиков.
– На какие деньги? – уже загоревшись надеждой, спросил оружейный мастер.
– Да много не возьмут. Деньгами поможем. А, брат Михайлов? – спросил Новиков. – Коли ты этого чудака с того света вытащил, теперь с ним и нянчись.
– Вот! – Михайлов брякнул на стол перстенек, которому не судьба была стать обручальным.
– Это что ж ты в карманах таскаешь? – удивился Новиков. – Алешка, ты не прелестницу ли завел? Гони ее в шею! Ахнуть не успеешь – под венцом окажешься!
Михайлов невольно усмехнулся – вот ведь как все наизнанку вывернулось.
– Новиков, сделай милость, сходи с Усовым к кузнецам, – попросил он. – Я-то в Кронштадт возвращаюсь. Список составьте, что пропало… бумагу вижу, где чернильница с пером? Вот. Усов, диктуй.
– Персидский булатный лук унесли, одна тетива осталась! – воскликнул Усов.
– А что, с виду можно понять, что эта железная палка – лук?
Усов задумался.
– Да нельзя, поди…
– Выходит, и это сокровище понесли к кузнецам, чтоб хоть за пятак продать. А умный кузнец как раз больше пятака за него и не даст.
– За персидский лук, который на восемьсот шагов бьет?!
– Врешь! Не бывает таких луков! – возмутился Михайлов. – Ни один пистолет даже так не бьет!
– Булатный – бьет! Теперь понимаешь, сударь, какая сила в булате? Вещицы булатные пропали – пишите, сударь… Лук. Кинжал бухарской работы, с накладными золотыми узорами! Саблю бухарскую с дивным звоном! Да что вы так глядите, судари мои, я из ума не выжил. Истинный булат долго звенит. Мы ее подвешивали, молоточком ударяли – четыре «отченаша» с небольшим звенела.
– А тульского дела сабля?
– И одного «отченаша» за глаза хватит.
– Ишь ты…
– А нашей работы, из наших хлебцев, – подсвечник, чернильница… Только и уцелело, что перстень.
– Что? – хором спросили Михайлов и Новиков.
– Перстень! Я хотел знать, как булат тонкую обработку примет. Мастера мне изготовили. Не бог весть что, да любопытно, глянь…
Белая ночь перевалила через середину, небо заметно посветлело, и Михайлов, стоя у окна, смог хорошо рассмотреть довольно крупный перстенек с печаткой, вся прелесть которого была в качестве металла – в тусклом узоре причудливых тонких линий.
– Что ж ты его не велел отполировать? – спросил моряк. – Сам знаешь, полированная сталь в большой моде, граненые шарики только что в кольца не вставляют.
– Кто ж полирует булат?! Он и должен быть тускловат, чтобы узор был виден. Ты посмотри на черкесские сабли – никакого блеска, а режут – сказывали, иная пуховую подушку на лету разрезает как бритвой. А шелка клочок – это запросто.
Михайлов непонятно для чего примерил перстень – он хорошо сел на безымянный палец левой руки.
– Вот тут ему и место, – вдруг сказал Усов. – Ты меня, дурака, от смерти спас, владей, сделай милость!
– Да на что мне?
– Владей! Коли ты меня чуть не с того света достал, то я тебе – вроде крестника.
– А ты, Михайлов, ему крестный! – обрадовался Новиков. – Носи, не обижай хорошего человека! У тебя целее будет!
Моряк посмотрел на свою руку, хмыкнул – что-то в этой затее с перстнем было правильное, необъяснимо точное.
– Спасибо, Усов, – сказал он. – Ну, и за чай спасибо, мне пора.
– Так ты ж еще новостей толком не рассказал! – возмутился Новиков. – Все кричат: война, война! А что, как?
– Когда мы пришли в Кронштадт, ни «Ярославец», ни «Гектор» еще не вернулись. Где и что они обнаружили – бог весть. Сказывали, флотом, что стоит у Карлскроны, командует генерал-адмирал, он же герцог Зюдерманландский, родной братец его шведского величества.
– А что он такое?
– Черт его знает. Ничем до сих пор себя не показал. Пока известно, что на его судах – шесть с половиной тысяч отборного войска. И пехоты на финском берегу до двадцати тысяч, и гребные суда ждут приказа.
– И при такой благодати государыня посылает Грейга в Архипелаг турку воевать?
– Когда мы вернулись, только и разговора было, что Чичагова вызывали к ней в Царское Село. А наш адмирал – человек прямой, так и доложил: коли все боеспособные суда, назначенные идти в Архипелаг, из Балтики уйдут, то для обороны он сможет выставить ровно пять вымпелов. А людей такая недостача, что впору инвалидов на борт брать. И Кронштадт оборонять некому – всех обученных канониров забрал Грейг. А если сдадим Кронштадт – дорога на Санкт-Петербург открыта.
– Как это все скверно… – тут Новиков обвел взглядом свой кабинет со всеми диковинками, и Михайлов понял смысл этого взгляда.
– Погоди, – сказал он, – погоди… Может, Грейга оставят.
– Коли что…
– Эх… – Михайлов хлопнул по плечу старого надежного товарища. – Ну, пойду. Буду тебе весточки с оказией слать. Прощай, Усов! Дай бог тебе отыскать твои железки. Да вперед не дури.
– Еще встретимся, – возразил оружейный мастер. – Я коли что решил – меня с пути не свернешь. Ты, Михайлов, мой второй крестный, так Бог велел. Домой возвращаться – стыд… Буду искать пропажи до последнего. А в Кронштадте мое ремесло тоже пригодится.
Михайлов улыбнулся ему и, чтобы не попадать в объятия, шагнул в сторону. Тут-то он и споткнулся.
– Что это у тебя тут? – спросил он, перескочив через странное препятствие. – Рука?! Чья рука?
– Да это Ероха, будь он неладен, – объяснил Новиков. – Часа за два перед тобой притащился, сперва водки просил, потом – пятака на водку, потом плакать принялся, потом со стула свалился и заснул.
– Хорош сокол, – заметил Усов.
Видимо, Ерохе уже пора было просыпаться, и он, лежа под столом, пребывал в полудреме, слушая разговор, но не делая из него никаких выводов. Удар туфельным носком по руке окончательно вернул его в действительность.
– Гони ты его в шею, – посоветовал Михайлов. – Коли собрать все те пятаки, которые он у тебя выклянчил, дом купить можно.
– Ан нет, – вдруг заговорил Ероха. – Не дом, а сарай… справный…
– Подсоби, Усов, – попросил Михайлов. – Сейчас мы этого ясна сокола на крыльцо вытащим, до калитки доведем и отправим в вольный полет.
– Как? – удивился оружейный мастер.
– Для того пинки под зад придуманы.
– Нет, – внятно возразил Ероха и приподнялся на локте. – Никаких пинков. Мне сословие не дозволяет.
– Пропил ты свое сословие. Ну, Новиков, давай хоть обнимемся на прощанье. И с тобой, крестничек! Смотри, больше не чуди. Найдутся твои пропажи.
Мужчины втроем обнялись.
– Ты на войну собрался? – спросил снизу, из-под стола, Ероха. – Я с тобой…
Ответа он не получил.
Михайлов вышел из кабинета, Усов пошел его проводить, Новиков – присмотреть за Усовым.
Ероха с некоторым трудом утвердился на четвереньках и, цепляясь за огромный новиковский стол, встал на ноги. Налив из кружки в ладонь остывший чай, он протер себе физиономию и пробормотал в растерянности:
– Долбать мой сизый ч-ч-череп… череп… а дальше как… вот дурень… ни черта в башке не д-д-держится…
Он потряс головой, словно надеясь, что слова и мысли, в ней находящиеся, наподобие камушков перемешаются со стуком и улягутся на правильные места.
– В Кронштадте каждый человек на счету? А я тут?.. – едва удерживая равновесие, Ероха кинулся в дверь, вылетел в коридор, вмазался лбом в стену, и от того наступило некоторое просветление.
Михайлов был уж у калитки.
– П-послужу Отечеству! – заорал Ероха, отпихивая Усова и слетая с крыльца неимоверным прыжком, почти как дансер Большого Каменного театра мусью Лепик.
– Вот только тебя Отечеству недоставало, – преспокойно отвечал Михайлов.
Он шел к мосткам быстрым шагом, но Ероха, обуреваемый праведной мыслью, вскоре пустился бежать и нагнал Михайлова, когда тот уже сидел на корме яла.
– Стойте, стойте! – закричал он и вторым чудовищным прыжком влетел в ял, повалился Михайлову под ноги.
– Это что за леший? – спросил молодой гребец Никитка. – Алексей Иванович, выкинуть его?
Михайлов задумчиво посмотрел на Ероху.
Запойный пьянчужка, желавший служить Отечеству, был изумительно хорош собой – черноволос, кудряв, с точеным, еще не обрюзгшим, лицом, вот только прямой нос был малость долговат, и особую красу составляли зубы – истинно жемчужные, которые он каким-то дивом умудрился не растерять за месяцы беспутной жизни. Насколько Михайлов помнил, Ероха был моложе его лет на семь. Вполне мог еще стать человеком.
– Черт с ним. Кто-то же должен с метлой у складов бегать, – решил Михайлов, понимая, что обратно в мичмана этого сокола вряд ли возьмут.
Ял, поймав береговой бриз, вышел в невское устье. Вдали виднелись черные точки и полоски. Это был Кронштадт.
Глава третья
Роковой романс
Мавруша Сташевская свое имя не любила. Есть имена благородные – Евгения, Елизавета, Глафира, есть простонародные – Фекла, Секлетея, Лукерья, Мавра. И потому ей очень пришелся по душе обычай смольнянок давать прозвища. «Сташка» звучит куда лучше, чем «Мавра», это всем понятно. Мавра – кухарка в засаленном переднике и с красными ручищами, а Сташка – легкий веселый мотылек.
Но институт был позади – приходилось терпеть ненавистное имя и привыкать к новой жизни.
– Бога благодари, что тебя не какая-нибудь старая тетка забирает, а госпожа Денисова, – сказала Сташке Смирка. – Денисова светская дама, у нее общество собирается, музицируют, веселятся. А у теток одно развлечение – за пяльцами сидеть.
– Я прежде всего Мурашку отыщу.
– Ай, Сташка! Мурашка нас забыла. После того как ее увезли, ни разу не приезжала. А ведь знает – мы все ждали, что она мужа привезет показать.
– Не могла забыть. Мы с ней в вечной дружбе поклялись.
Поликсену Муравьеву родня забрала, не дав ей окончить курса, потому что посватался хороший жених. У жениха было условие – он по служебным делам должен был надолго уехать в Пруссию и желал увезти туда молодую жену. На то потребовалось распоряжение самой государыни – по правилам, родители отдавали дочек в Воспитательное общество на двенадцать лет без всяких послаблений.
– Ни словечка не написала! Хороша вечная дружба!
Сташка и без того сильно горевала, что от Мурашки, с которой делили одну келейку, между кроватями – не более двух аршин, хоть за руки во сне держись, с которой о самом сокровенном ночью шептались, ни слуху ни духу, а тут еще ядовитая Смирка издевалась.
– Ай, Смирка, как тебе не совестно? – укорила Сташка. – Ты до сих пор не можешь Мурашке простить, что, когда государыня приезжала, ее, а не тебя, поставили в концерте на арфе играть! Как будто она сама напросилась, а не Маман ей приказала.
Маман – так велено было называть госпожу де Лафон, начальницу Воспитательного общества.
– А ты вспомни, как она опозорилась? Играючи, на кавалеров глядела! – напомнила Смирка.
– Будто ты не опозорилась – кто бы еще в менуэте веер уронил?
Чуть Сташка со Смиркой не поссорилась. Дня два друг на дружку не смотрели.
А потом оказалось, что Смирка-то была права – в жилище госпожи Денисовой все было устроено для светской жизни. Она нанимала весь третий этаж в доме госпожи Рогозинской, в Большой Миллионной улице, целых восемь господских комнат с изрядно расписанными стенами и каминами, с паркетными полами, да еще помещения для слуг, и там же, во дворе, были сарай и конюшня для собственного выезда.
– Как тут хорошо у вас, тетенька! – в первый же день восклицала Сташка, обходя нарядно убранные комнаты со множеством зеркал, с дивными каминными вазами, с фарфоровыми фигурками и цветами в жирандолях. И никак не могла взять в толк, отчего при слове «тетенька» госпожу Денисову прямо передергивает.
Александра менее всего хотела, чтобы долговязая девица с вечно восторженным личиком называла ее при гостях тетенькой. Следовало ожидать и других оплошностей, предусмотреть которые невозможно – смольнянки славились своей наивностью.
Мало кто в обществе понимал, для чего они проходят двенадцатилетний курс, когда хорошей жене и матери довольно было бы и шестилетнего. Первый возраст, «коричневый», по цвету платьиц, с шести до девяти лет, учил Закон Божий, русский и французский языки, арифметику, рисование, музыку, танцы, рукоделие. Второй возраст, «голубой», с девяти до двенадцати, получал впридачу уроки истории, географии и домашнего хозяйства. А дальше начиналось сущее баловство – стихотворство, опытная физика, начала архитектуры, даже геральдика. Правда, изучали и домашнюю экономию, но эту науку всякая девица может освоить под началом матери, свекрови или пожилой родственницы. Еще девиц «серого» и «белого» возраста учили преподаванию – поочередно они помогали учительницам младшего возраста, чтобы при нужде стать хорошими гувернантками.
Но самое диковинное – их учили актерскому мастерству, как будто готовили в Большой Каменный или в Деревянный театр. И не только в Эрмитажном театре блистали девицы – они, если пьеса была поставлена удачно, игрывали ее и в Немецком театре. Александра сама ездила туда с покойным мужем смотреть комедию «Игрок», и, кабы не странно долгополые мужские кафтаны и рединготы, ввек бы не подумала, что роли играют юные девицы, так хорошо были поставлены их голоса и так по-актерски ловки и выразительны жесты. А до того, сказывали, воспитанницы по воле государыни играли и трагедии – «Заиру» Вольтерову и «Земиру» господина Сумарокова.
Кроме того, в самом Воспитательном обществе часто показывали небольшие пьески, играли даже девицы третьего возраста, и у молодежи, особенно у кадет, считалось хорошим тоном ездить туда – перемигиваться с девицами. Александра возила туда Федосью Сергеевну – там-то старуха и пришла в ужас от бойких прыжков Мавреньки в зеленом кафтане, изображавшей какого-то веселого старца в преогромном парике и с большой тростью.
– Пойдем, Мавруша, выпьем чаю, – сказала Александра, более для того, чтобы прекратить восторги.
– Чаю?! Ай, как это хорошо! – закричала Сташка. Александра изумилась: что за событие – сесть у чайного столика и выпить чашку на аглицкий лад, с горячими сливками, закусывая печеньем? И тут выяснилось, что чай и кофей были для смольнянок под запретом, потому что считались возбудительными средствами.
Любимица Фрося ловко накрыла столик и шепнула барыне, что за модисткой послано, вот-вот привезут.
В сундуке у Мавруши, как родня и предполагала, были только старые белые камлотовые платьица и два шелковых, которые смольнянкам шили для воскресных и праздничных дней, а также – чтобы ездить ко двору и там набираться светских манер. Маман часто брала с собой трех-четырех девиц старшего возраста, и они после театрального спектакля оставались ужинать с придворными дамами и кавалерами. Что же касается белья – Фрося с Павлой, разбиравшие сундук, прямо сказали Александре: барыне лучше на это даже не глядеть, а сразу велеть отдать бедным, потому что у нее, доброй барыни, даже кухонная девка Матрешка имеет юбки и сорочки понаряднее и поновее.
Требовались для начала два новых платья, белье, туфли, чепчики, шляпка.
Павла тут же была усажена шить ночную сорочку, Фрося отправлена к немцу-сапожнику, чтобы пришел и снял с Маврушиной ноги мерку, а Танюшка в наемном экипаже – за модисткой мадам Анно с наказом привезти те платья, что готовы и выставлены на продажу.
Большую часть Маврушиного имущества составляли книги, главным образом на французском языке. Александра увидела среди них и такую, которую, с одной стороны, неопытной девице лучше было бы не давать, – «Историю Манон Леско и кавалера де Грие». С другой стороны, жизнь скоро преподнесет смольнянке сюрпризы, по сравнению с которыми история особы легкого поведения покажется детской сказкой, ведь впереди замужество, и вряд ли, что по любви. Федосья Сергеевна уже составляла список чиновных женихов, один другого завлекательнее, и делала это от искреннего желания осчастливить Маврушу: нищего щеголя-красавчика на Невском подобрать – невелика наука, а почтенный жених на дороге не валяется.
Мадам Анно привезла платья и двух помощниц. Маврушу поставили на скамеечку, нарядили и стали закалывать лишнее, прикалывать недостающее, пробовать то одни, то другие кружева. Вскоре прибыл сапожник. А потом, оставив все на Фросю, Александра поехала к знакомому ювелиру – там нужно было явиться самой и с реверансами. Украшения, которые щедрой рукой пожертвовала смольнянке Федосья Сергеевна, были безнадежно старомодны, а камни в них – вовсе не такой чистой воды, как она хвалилась. И требовался целый военный совет, чтобы решить их судьбу. А у Александры и других забот хватало. Через три дня она ждала к себе гостей – и более всего – гостя, который сильно смутил ее душу.
Всякий раз, оставшись наедине с собой, она думала о нем, и представляя их первую настоящую, не светскую, беседу. И в экипаже, по дороге к ювелиру, не имела сил бороться с мыслями – два голоса звучали в голове, то так, то этак приступая к объяснению.
Это случилось неделю спустя после того, как Михайлов, поцеловав ее на прощание, отправился в Кронштадт и далее – в разведку.
Александра была совершенно равнодушна к музыке, а когда ее в том упрекали, отвечала, что и государыня такова же, в концертах скучает и играть для своего увеселения никогда не просит. В театре Александра переносила основательную многоголосую музыку как неизбежное зло, признавая плясовую и русскую песенную. Поэтому, будучи приглашена в семейство Гавриловых на ужин, и поехала туда именно к ужину, чтобы пропустить домашний концерт.
Как выяснилось, она поспешила – еще на лестнице услышала музыку и поющий мужской голос. Стоило остаться в анфиладе, посидеть на канапе, пока в гостиной развлекаются, но нет же – ее потянуло ближе, ближе, к распахнутой двери, и внесло в самый тот миг, когда певец, сидевший к ней спиной и аккомпанировавший себе на клавикордах, завершил трогательный романс.
Дамы зааплодировали, но не сразу – словно бы романс навеял на них томный сон, от которого еще надо было проснуться.
Александра была озадачена – что это за голос, кто этот певец? Ей непременно нужно было увидеть лицо. И тут она совершила глупость – разумная женщина встала бы так, чтобы видеть отражение певца в зеркале, она же пошла вдоль стены, словно бы к пустому стулу, но к ее досаде, он стоял сбоку от клавикордов…
Лицо она увидела. Бледное, даже несколько болезненное. Что в нем было, в этом лице, такого уж притягательного? Складка губ? Впалые щеки? Острые черты? Какая-то немодная линия прически, слишком простая для светского щеголя?
И он ее увидел – чернобровую, статную, с особенной посадкой головы – за которую старухи вечно упрекали Александру в гордыне, как будто она виновата, что бабки с прабабками не имели гибкой трогательной лебединой шейки. Он увидел бесстыже здоровую женщину, не склонную ни к какой томности; женщину, которой всех радостей мира требовалось в избытке.
Струнка сплелась из незримых воздушных нитей, струнка соединила их, и певец, которого в десять голосов уговаривали спеть еще одну, на сей раз последнюю, взял первые аккорды.
Что-то он, видно, угадал – и мелодия, и слова были просты, именно таковы, чтобы Александра согласилась их слушать, не принуждая себя.
Он лишь один раз глянул на свою слушательницу, но очень вовремя, в конце первого куплета:
Чем больше скрыть стараюсь
Мою страсть пред тобой,
Тем больше я пленяюсь
Твоею красотой…
Это был взгляд-вопрос: кто ты, откуда взялась, такая самоуверенная, такая решительная, с пылающей надписью на лбу – пришла побеждать?
И дальше он пел, глядя мимо нее, не адресуясь к ней, но Александра чувствовала, что он взволнован, а любовное признание в песне – предвестие иного признания, которое случится, если на то будет ее воля.
Нет сил уж притворяться,
Столь страстно полюбя.
Нельзя мне не признаться,
Что я люблю тебя.
Судьбы моей решенье
Окончи поскорей.
Подай мне утешенье
В жестокой страсти сей.
И опять дамы не сразу осознали, что пора бить в ладоши.
Наваждение, думала Александра, наваждение, заполняющее голову и все тело желанием, но не амурных наслаждений, нет – иным, высоким, всеобъемлющим! Желанием лишиться кожи, плоти и слиться с этим человеком не в объятии, а в чем-то ином…
Он повернулся к ней, и в глазах был вопрос: кто ты?
И она глядела на него, вопрошая о том же. И дело было вовсе не в имени…
Гости заговорили, мужские голоса за спиной произносили слова «Швеция», «Густав», «Грейг», «война», но Александру сейчас терзал другой страх: что, если этого человека не оставят ужинать? Она все пыталась понять: кто и откуда этот человек? Он не артист, которого пригласили на домашний концерт, артист бы причесался иначе и нарумянился. Не чужестранец и не провинциал – и французский, и русский выговор у него правильный. Однако, кажется, и не русак – разрез глаз и прищур какие-то нездешние, не татарские, не турецкие – Александра видела пленных турок. И не калмыцкие – этого народца в столице тоже было достаточно: мода держать для услуг калмычат прошла, а выросших уже никуда не денешь, приходилось оставлять в дворне…
Прямо расспрашивать о незнакомце она не могла – следовало пристроиться к кружку дам, толковавших о музыке, в надежде услышать необходимые сведения.
В результате из обрывков и обмолвок выяснилось: москвич, ездил для поправки здоровья в Италию, там от скуки брал уроки пения, фамилия – Нерецкий. И кто-то из пожилых дам припечатал певца словечком: не жених!
Вот уж это Александре было вовсе безразлично.
Она себя богатой не считала, но и о женихе-миллионщике не мечтала. Квартира в Миллионной досталась ей, можно сказать, по наследству – там раньше проживала кузина матери и, померев, оставила обстановку с картинами да денег – ровно столько, чтобы три года оплачивать великолепные покои. Александра и решила, что такова Божья воля – прожить эти годы в роскоши.
Овдовев, она вздохнула с облегчением – завершилось странное существование, не приносившее ни страданий, ни радости. Покойный Василий Фомич пытался стать ей добрым приятелем, но необходимость исполнения супружеского долга постоянно ставила меж ними преграду. Александра старалась ладить с мужем, ей было занимательно слушать его истории, и не более того, брак в ее понимании был делом скучным, и само то, что близость в нем обязательна, отвращало Александру от супружества. Она позволила себе несколько романов и поняла наконец, для чего женщины сходятся с мужчинами. Но увлечения ни разу не переросли в любовь, и туманящее душу наваждение она впервые познала только сейчас, в чужой гостиной.
Когда она, войдя в столовую, увидела там Нерецкого, радость вспыхнула невозможная – предстояло по меньшей мере полтора часа быть рядом с ним, а полтора часа – вечность, куда вместится все: и знакомство, и первые фразы, по-светски гладкие, ни к чему не обязывающие, но главное – взгляды…
Их наконец представили друг другу, но рядом за стол не посадили – хозяйка обычно с немалым трудом сочиняла застольную диспозицию, чтобы дамы чередовались с кавалерами и не оказались пососедству люди, которым не о чем говорить, или же наоборот – способные друг дружке наговорить много лишнего.
После ужина все вышли в сад, куда хозяева заранее отправили домашний оркестр, составленный из дворовых парнишек, чьи уши явно пострадали от медвежьих лап. Две скрипки, альт и виолончель заиграли с трудом и из-под палки разученный квартет Боккерини. Но у Александры была другая музыка – аромат сирени. Она скрылась от общества, толковавшего о белых ночах, и нырнула в самую гущу кустов.
Никогда еще сирень не была такой хмельной, никогда еще Александра не стояла, запрокинув голову, словно ожидая поцелуя от пышных гроздьев. И ощущение счастья тоже было незнакомым.
Вдруг по каким-то неуловимым приметам, которые модно стало называть флюидами, Александра поняла, что Нерецкий рядом – тоже стоит под сиренью, наслаждаясь ароматом; возможно, даже заткнув уши, потому что вранье горе-квартета порой даже для Александры делалось невыносимым.
Она знала, что повернется – и увидит его, увидит бледное, как и положено в белую ночь, лицо с острыми чертами, внимательный взгляд, знала – и стояла, не двигаясь, потому что боялась нарушить хрупкое и загадочное предвкушение неземного счастья.
И свершилось чудо – ветка словно бы сама собой нагнулась, цветы легли Александре на лицо. Это был поцелуй, который мужчина доверил душистой посреднице, бесшумно подведя ее к устам женщины. Других поцелуев сейчас не требовалось.
– Александрина! Сашетта! Госпожа Денисова!
Голоса были обеспокоенные – в самом деле, вышла дама в сад и пропала, не стало ли ей дурно после обильного ужина и от тугой шнуровки?
Александра вздохнула всей грудью. Сиреневая гроздь все еще была возле губ, и она поцеловала цветы. А потом быстрым шагом пошла на зов, над кем-то пошутила, рассмеялась чьей-то остроте. Нерецкий оказался рядом и спросил пожилую даму, госпожу Мышецкую, куплены ли клавикорды для внучек. Дама позвала его в гости – одобрить покупку. Она принимала по вторникам, Александра могла приехать без приглашения по праву какого-то далекого родства. Вторник был через два дня…
Ночь была так хороша, что гости, расходясь, оставили экипажи и пошли пешком. К Александре прилип хуже банного листа несостоявшийся жених Зверков, но она была рада – держа его под руку, она могла преспокойно перекликаться с дамами и кавалерами, звать их к себе, и Нерецкий был поблизости. Они обменялись светскими любезностями, и оба разом вспомнили про клавикорды госпожи Мышецкой, тем самым, не сказав ни слова, назначили свидание у тех клавикордов.
Оно состоялось, но вокруг было слишком много людей, слишком много света и ни единой веточки, к которой хотя бы поочередно прикоснуться пальцами. Казалось бы, кому какое дело, что молодая вдова сговаривается с господином, который ей подходит по годам и воспитанию? Но Александре казалось, что эти отношения нужно хранить в глубокой тайне, чтобы никто не мог помешать сближению душ.
Они условились встретиться в Летнем саду. Там тоже собиралось общество, на большой аллее был целый променад, и у мраморной Флоры Александра сказала, что хочет устроить у себя небольшой прием: ей придется несколько месяцев побыть опекуншей юной смольнянки и по этому случаю держать открытый дом, чтобы девица знакомилась с дамами и кавалерами. Нерецкий согласился и обещался привести товарища, флотского офицера Майкова, неплохого музыканта.
На прощание он впервые поцеловал ей руку, как она и ожидала – не обозначив поцелуй легким касанием губ, а прижав их к надушенной кисти.
…Экипаж остановился у дверей ювелирной лавки, но Александра, пребывая в ином мире, не сразу поняла, что нужно выйти. Она взяла сундучок с дарами Федосьи Сергеевны и вошла в лавку. Ювелир, пожилой немец Мюллер, живший в столице уже лет тридцать, был предупрежден и приготовил все нужное – весы, гирьки, разновесы не более рыбьей чешуйки, лупы и пузырьки с загадочными жидкостями, чтобы очистить старые украшения от грязи.
Камни чистой воды и нужного размера он сразу вынимал из оправ и складывал отдельно. Александре присоветовал сделать из ожерелья, кроме сережек для Мавруши, и брошь для нее самой, которая вместе с рубиновым кольцом составит хороший гарнитур. Зная любовь Александры к рисованию, старик просил ее собственноручно начертить эскиз броши.
– А что, герр Мюллер, можно ли из серебра и мелких камушков сделать сиреневую гроздь? – спросила Александра.
– Для того потребуются аметисты-кабошоны, но какая же брошь без бриллиантов? Можно на эмалевых листьях поместить бриллиантовую росу, – предложил ювелир. – Попробуйте нарисовать, госпожа Денисова. Впрочем, я сомневаюсь, что получится хорошо. Не будет той пышности, которую мы любим в сирени.
– Жаль…
Просидев полтора часа у ювелира, она поехала домой в надежде, что под Фросиным водительством уже собраны два платья – складки у лифа заколоты нужным образом, подобраны ленты и кружева.
Мавруша встретила ее в старом камлотовом платьице и радостно доложила о всех подвигах: о примерке, переговорах с сапожником, выборе муслина гладкого и с цветочками, батиста гладкого и шитого, коленкора и миткаля, чулок нитяных и шелковых. Александра невольно позавидовала – сколько счастья может доставить юной девице лента для чепчика баканового цвета, идущего к ее веселому личику. Не красавица, нет, смугловата, носишко приплюснутый и зубки неровны… Из шкуры надо вон вылезти, а – отдать ее этой осенью замуж!..
– Только не зови меня тетенькой, – сказала Александра. – Ты уж не дитя, чтобы всех, кто старше двадцати лет, тетеньками звать.
– А как же?
– Да хоть Сашеттой, а на людях – сударыней. Мы ведь даже не родня – ты моему покойному мужу седьмая вода на киселе.
Мавруша на такую прямоту обиделась.
– Кто ж мне родня? – спросила она.
– Настоящей не осталось. Вот госпожа Волошина была – да померла. Тебя, Мавруша, надобно везти в Москву и показывать там как заморское диво: глядите, люди добрые, персона без родни. В Москве все меж собой перероднились, как без теток с дядьями жить – не представляют, и даже если к ним абиссинского негуса привезут – они и ему своячениц с кузинами сыщут.
Смольнянка рассмеялась. Александра подумала, что коли придется развлекать девицу, то надо бы нанять компаньонку – пускай вдвоем хохочут.
Отправив Маврушу обживать угловую комнатку и перебирать картоны с шитьем и лино-петинетами, Александра присела на канапе и задумалась. Девчонку-то нарядили, будет блистать, а она сама? Да еще в такой вечер?
– Фрося! – закричала Александра, вскочив. – В гардеробную, живо! Надобно скарлатное платье освежить! И пукетовое, где цветы по зеленому полю! Вели Андрюшке подняться сюда – я ему записочку к волосочесу напишу. Пусть бежит скорее, а то останемся лахудрами!
Чувствовала – не надо взбивать и лохматить волосы, подкалывать шиньон и выпускать на грудь и плечи крутые локоны, Нерецкому вряд ли нравятся такие художества, следует выйти, просто убрав косы в узел, в маленьком нежном чепчике, и этого будет довольно. И для того нужно заранее уговориться с парикмахером-французом, мусью Трише, чтобы его уже в другой дом не абонировали.
Два часа спустя Александра поняла, что Нерецкому она может понравится не в скарлатном и не в пукетовом, а только в атласном гри-де-перлевом платье. Оно неяркое, но словно бы испускает свет, гармонируя с белой ночью. И если после приема кто-нибудь предложит прогулку по набережным, то… необходимо поменять перья на шляпе!..
Тут же, на Миллионной, напротив дома графа Остермана, держал лавку плюмажный мастер француз Натьер. К нему, взяв с собой Маврушу, можно было сходить за перьями, заодно совершив моцион. Александра велела Фросе отцепить старые перья от прошлогодних летних шляп – мастер брал их в мытье и перекраску. В том же доме жил и другой француз, гравер Грипо, умевший вырезать на камнях и металле отличные вензеля. Александра хотела показать ему то из даров тетки Федосьи Сергеевны, что отверг Миллер, авось удастся изготовить модные безделушки.
Во время прогулки Александру окликнули из экипажа. Давняя приятельница, госпожа Вейкарт, позвала к себе – хотела похвалиться новыми парными портретами, которые только утром привезли из мастерской господина Рокотова. Мавруша воскликнула «ай, Рокотов!» – и тут же дверца экипажа распахнулась.
В доме Вейкартов засиделись допоздна. Как-то сам собой образовался домашний концерт – Мавруша декламировала по-французски куски из Мольеровых пьес, пела вместе с младшей девицей Вейкарт, потом они затеяли русские пляски, и хозяйка дома с трудом их угомонила.
Вернувшись, Александра отправила Маврушу умываться и спать, а сама уселась в гостиной – насладиться тишиной. Мысль была одна: если рожать – то мальчишек, и как только будет возможно, сдать в кадетский корпус.
Вошла Фрося, без лишних слов опустилась на колени и стала снимать с барыни башмачки. Слух у девушки был отменный. Она первая услыхала соловьиный свист за окном.
Александра простилась с Михайловым в тот самый миг, когда впервые встретила вопрошающий взгляд Нерецкого. Оставалась формальность. Малоприятная. Плохо, что Михайлов человек не светский и в отставке от красавицы ничего забавного не увидит. А как ему объяснить, что самое прекрасное в мире тело становится неинтересным, когда отхлынет первый азарт? Стало быть, нужно поставить точку в сем романе, и поставить решительно.
Михайлов пробыл у нее не более пяти минут. Оказалось, гордости в нем – не менее, чем в ней самой. Удрал, задрав нос, не стал унижаться, вымаливая еще кроху благосклонности! Это Александре понравилось.
Теперь она могла хоть до рассвета мечтать о Нерецком.
Накануне приема она загоняла дворню, самолично обошла убранные комнаты с белым платком, проверяя, не осталось ли где пыли. Наконец пришел мусью Трише, и тут уж волей-неволей пришлось оставить всех в покое и сесть в гардеробной перед трельяжем.
Француз принес новый шиньон. Еще не родилась женщина, у которой достало бы своих волос на пышную новомодную прическу. У Александры была хорошая коса до пояса, но она не желала портить волосы – пусть Трише над заемными издевается, жжет их щипцами, обращая в подобие войлока.
Потом француз взялся за Маврушу, а вокруг Александры засуетились Фрося с Танюшкой, чуть-чуть румяня щеки, припудривая лоб, нос и подбородок, прилаживая на груди пышную косынку, расправляя кружево на рукавах, надевая ожерелье с модным медальоном. Медальон был пуст, и Александра предвкушала, как из набросков родится изящная миниатюра, овальный портрет Нерецкого вполоборота, на дымчато-бирюзовом поле.
Гри-де-перлевое платье сидело отменно, шуршало завлекающе, шнурованье удалось – было тугим, но не жестоким, новые туфельки радовали ногу, оставалось обойти комнаты в последний раз и сесть в гостиной, держа при себе взволнованную Маврушу.
Девушке доводилось бывать при дворе, но там она была смольнянкой, забавой для государыни, а тут – почти хозяйкой дома, и не в надоевшем белом, а в замечательном платье благородного цвета вер-де-гри, с дорогим веером и наконец-то с драгоценностями на пальцах и шее – нужды нет, что пока эти изумруды – из шкатулки Александры.
Гости съезжались понемногу, дамы рассаживались вокруг хозяйки, Мавруша не успевала делать реверансы. Все разговоры велись о Воспитательном обществе и о девицах – каждая из гостий имела там какую-то дальнюю родственницу и любопытствовала насчет ее успехов. Александра сперва возмутилась – в центре внимания оказалась не она, а девчонка! Потом увидела в ситуации явное преимущество: при необходимости можно будет незаметно уединиться с Нерецким в кабинете, хоть на несколько минут…
Наконец он появился вместе с молодым флотским офицером, подошел к ручке, представил товарища; госпожа Гаврилова была рада его видеть и тут же попросила спеть чувствительный романс.
Как покровительница молоденькой девицы Александра сразу предложила спеть и ей – все смольнянки обучены музыке и даже исполняют арии из опер Перголези и Кьямпи. Нерецкий вызвался аккомпанировать и тут же уговорился с Маврушей о нотах, для чего они ушли в дальний угол гостиной, где Александра велела поставить клавикорды, которые достались ей от покойной материнской кузины. Туда потянулись гости – оценить смольняночку, и это было хорошо. Александра чувствовала, что ее совесть чиста, – для удачного замужества Мавруши делается все возможное.
Теперь можно было подумать и о себе. Первым маневром было – заговорить с Майковым. Во-первых, хорошая хозяйка должна обласкать молодого человека, впервые появившегося в ее гостиной. Во-вторых, теперь Нерецкий мог подойти, не ища предлога, – просто присоединиться к беседе, в которой участвовал приятель.
Майков оказался не по годам серьезен, высоколоб и курнос – не самое лучшее сочетание, и все норовил своротить со светской болтовни на темы либо возвышенные и философские, либо мрачные, вроде войны.
– Можно ли человеку образованному придавать значение поступкам царей и королей, которые оказались на тронах по праву рождения, и не более того? – спросил он. – Короли в идеальном и правильном государстве – те руки, что вершат власть, подписывают указы, принимают послов, дарят династии наследников. А решения о войнах и мире должен принимать разум, который превыше трона.
– Божий разум? – уточнила Александра.
– Разум людей, которых избрал Господь.
– Так это и есть цари и короли.
– Король – это один человек, обуреваемый страстями. Не могут страсти править миром. Миром должны править идеи. А идеи привлекают служителей. Должен быть союз людей, преданный высоким идеям и совместно вырабатывающих планы действий, – объяснил Майков.
Александра испугалась – вот только бунтовщиков ей в гостиной недоставало. Во Франции, сказывали, завелись люди, преданные высоким идеям, и вряд ли это добром кончится.
– У каждого короля есть министры и советники, – сказала она. – Взять хотя бы у нас…
– У нас – фавориты.
Вот оно что, подумала Александра, вся твоя философия, голубчик, происходит оттого, что ты нехорош собой и умеешь быть лишь угрюмым. Князь Потемкин-Таврический, который государыне чуть ли не супруг, – весел, остроумен, его мысли кипят и пенятся, а покойный фаворит Ланской был чудо как красив, образован, изящен, деликатен.
– Однако фаворит бывает один, а министров и советников поболее десяти.
– И что же? Каждый из них печется о своем благе.
– Ну, допустим, сперва – о своем благе, но ведь волей-неволей вынужден печься и о благе Отечества!
– Но что есть благо Отечества? Не выдумка ли оно? – спросил Майков. – Должны ли мы так узко понимать то, что на самом деле есть вселенское благо? Взять любое немецкое княжество размером с наш Елагин остров. Для живущего там немца оно – Отечество. Значит ли это, что ради блага своего Елагина острова наш немец имеет право залить кровью весь остальной мир?
– Нет, конечно…
– Вот и я говорю – нет, поскольку нужно подняться над самим понятием Отечества и задуматься о вселенском благе. А поскольку цари, короли и турецкие султаны на это неспособны, то должны быть иные способы добиваться победы вселенского блага.
Надо же, подумала Александра, кого только ни встретишь среди моряков. «Естественный человек», начитавшийся Руссо и Гельвеция, был, теперь вот – всемирный благодетель, и до того озабочен своими идеями, что и в декольте не заглянет! А ведь покойный Василий Фомич рассказывал о людях, алкающих царства всеобщего благоденствия. Он, как многие образованные господа, и в масонскую ложу вступил, и обряды исполнял, но его азарта хватило ненадолго. Кое о чем он супруге даже с весельем рассказывал – когда удавалось ее насмешить, то и супружеский долг она исполняла, не морщась.
Она подала знак лакею Степану, и тот с подносом оказался рядом.
– Лимонад, оранжад, – предложила Александра. – Позже будет мороженое.
Майков был умен – понял, что дама избегает опасных тем. И заговорил о театре.
Александра прокляла тот миг, когда вступила с ним в беседу, – он преважно толковал о Княжнине с Сумароковым, а меж тем Нерецкий запел, и пел для нее, пел тот самый романс, что в домашнем концерте у Гавриловых!
Потом запела Мавруша. За ней – госпожа Гаврилова. Майков говорил об античной трагедии, мало беспокоясь, слушает ли его Александра. Занятный морской офицер, подумала она, вот Михайлову и в голову бы не пришло читать Еврипида… с него хватит и Руссо, которого он считает проповедником бесштанного хождения… А Гаврилова вычитала у француза про естественную потребность матери самой кормить грудью дитя, а не отдавать его чужой бабе…
Наконец музыка всех утомила. Александра велела лакеям обнести гостей мороженым и холодным лимонадом. Прием близился к концу. Гости стали расходиться – те, кто жил неподалеку, предпочитали возвращаться пешком, иные распоряжались насчет экипажей.
В гостиной остались четверо – Майков, Нерецкий, Мавруша и Александра.
Тут стало ясно, что Майков – хороший товарищ. Он увлек Маврушу к клавикордам, словно бы не замечая, что Нерецкий и Александра договариваются взглядами. Затем Александра удалилась в кабинет, не оборачиваясь, а Нерецкий последовал за ней. Майков позаботился и о том, чтобы Мавруша этого не заметила. Он коснулся пальцами костяных клавиш – и мелодия, чересчур легкомысленная для человека, ищущего вселенского блага, проводила влюбленных.
Войдя в темный, насколько это возможно в белую ночь, кабинет, Александра повернулась – и тут же оказалась в объятиях.
Не нужно было ни поцелуев, ни слов – только чувствовать себя спаянной навеки с этим человеком. Вот только вечность оказалась не долее двух минут.
– Отчего мы раньше не встретились? – прошептал Нерецкий.
– Но ведь встретились?
– Поздно.
– Как – поздно?
– Мы созданы друг для друга, я сразу это понял, когда вас увидел… и мы не можем быть вместе, нельзя…
– Почему?
– Нельзя… – при этом Нерецкий прижимал Александру к груди все сильнее.
– Вы не свободны? – спросила она.
– Я свободен, но… при этом – связан по рукам и ногам… Я не могу предложить вам себя, это было бы слишком жестоко…
Тут она вспомнила, как проницательные дамы определили Нерецкого одним словом: «не жених».
– Вы о болезни? Но есть доктора, есть Италия…
– Все сложнее, ей-богу, сложнее… Вы – единственная, кого я могу любить, и все, что было раньше, кажется мне химерой, сонным бредом… Клянусь, это правда! Мне никто не нужен, кроме вас, но быть вместе мы не можем.
– Да что за преграда такая? – возмутилась Александра. – Если в силах человеческих ее одолеть – одолеем вместе!
– Не преграда – ловушка… и не будем об этом… Я не знал, что могу так полюбить, вдруг и всей душой… Это плохо – что я не нашел в себе сил сразу отказаться от вас… Я думал – еще одна встреча, знаете, как больному – еще один глоток воздуха… И не сдержался…
– Я понимаю. И со мной то же самое. Я не знала, что могу отдать всю душу так, с первого взгляда… нет, с первых звуков голоса… Увидела я вас уже потом… я – ваша, ваша…
– Да… но нельзя… Я не могу вам ничего объяснить, но поверьте мне! – воскликнул он. – Мое положение ужасно, и если бы не наша встреча – я бы смирился… Да что я говорю! Смириться придется теперь мне! Есть вещи недопустимые…
– Вы говорите загадками!
– Я не должен был сюда приходить!
– Молчите, молчите…
Александра притянула к себе его голову, нашла губами его губы. Поцелуй был долгим и радостным. Таким долгим, каких раньше не бывало. И руки словно вырвались на свободу, пальцы проникали в щелочки, чтобы ласкать кожу.
Они пребывали в этом поцелуе, как в эфирном дворце, и все не могли покинуть его, хотя течение времени ощущали и даже удивлялись – как возможен столь длительный восторг?
Руки совсем осмелели. Они готовили оба тела к иному наслаждению словно сами по себе, независимо от рассудка. Но Нерецкий опомнился и прервал поцелуй.
– Теперь понимаешь? – спросил он хрипло. – Только ты… и проклятая ловушка!.. и выбежал из кабинета.
Александра не стала его удерживать, опустилась в кресла и тихо засмеялась. Она была счастлива. Преграды – на то и преграды, чтобы их опрокидывать. Тут было за что побороться – и она радостно предвкушала борьбу и победу, и приз.
Забавная мыслишка заскочила в голову – если бы Михайлов не дался сразу в руки, все сложилось бы, возможно, иначе. Но Михайлов остался в прошлом, а Нерецкий уже звал в будущее.
Тут в кабинет вбежала Мавруша с воплем:
– Ай, тетенька, сударыня, Сашетта! – опустившись на колени, она обхватила Александру и спрятала лицо в складках ее юбки.
– Что с тобой? Что случилось? Тебя обидели? – забеспокоилась Александра. Мало ли что брякнул смольнянке причудливый Майков.
– Ай, нет, нет! Я счастлива, я так счастлива!
– Что стряслось-то?
– Ничего не стряслось! А просто счастлива!
Так Александра и не добилась от нее толку.
Выпроводив Маврушу, она подошла к окну. Белая ночь царствовала в столице. Откуда-то прилетал и исчезал любимый аромат сирени. Отныне сирень для Александры стала образом любви и восторга. Вдруг вспомнился латинский девиз иезуитов, о которых говорили недавно у Вейкартов: будет или не будет в столице иезуитский пансион, а коли будет – хорошо ли отдавать туда мальчиков?
– In hoc signo vinces, – произнесла Александра, представив себе знамя, сотканное из гроздьев сирени. – Во имя сего знамени победишь. Он будет моим!
Глава четвертая
Ерохина планида
Ероха брел по Кронштадту и искал воду. Воды требовалось немало, чтобы окунуться с головой, но не единожды, а столько, сколько нужно, чтобы прогнать хмель.
Но он потерялся. Когда Михайлов на рассвете в Купеческой гавани выпроводил его из яла, Ероха сперва прилег вздремнуть на какую-то лавку, а потом пошел не вдоль острова, а поперек, сильно удивляясь: где Итальянский пруд, где ведущий к доку канал, площадь перед Петровской пристанью, где Зимняя пристань?
Хотя на улицах, начертанных на кронштадском плане еще Петром Великим, было полно народа, Ероха не желал ни к кому обращаться. Он встал, покачиваясь и держась за голову, воссоздал умственно свой путь и понял – следовало от той скамьи не прямо идти, а взять вправо. Тогда бы и вода явилась в любом количестве.
Ероха повернул, и изрядно побродив, оказался на чьем-то огороде, долго спотыкался в грядках, затем вышел-таки к воде, но купаться в ней не отважился – это был грязный ров, окружавший с запада кронштадские бастионы. За рвом простиралась малообжитая часть Котлина. Ероха опять взялся за голову и несколько минут спустя понял свою ошибку.
– Долбать мой сизый череп… Я ж право и лево спутал…
Он повернул назад, и тут ангел-хранитель, видать, сжалился над ним – вскоре навстречу попалась знакомая физиономия.
– Майков! – заорал Ероха. – А я тебя ищу! Счастливая планида!
– Ты, сударь, кто? – строго спросил Майков, возглавлявший странное воинство, одетое кто во что горазд и с рожами самыми каторжными.
– Ерофеев я! Не признал?
– Знавал я мичмана Ерофеева, беднягу. Сказывали, совсем спился. Царствие ему небесное, – хладнокровно отвечал офицер.
– Да как же небесное? Вот ведь я!
– Ты не Ерофеев покойный. Ты – Ероха. Ступай, проспись, – и Майков повел людей к казармам.
Ероха подумал – и пристроился в хвост невеликой, в три десятка рыл, колонны. Он сообразил, что если этих голубчиков ведут куда-то с утра пораньше, то, видимо, будут кормить.
– Вас уже кормили? – спросил он крепкого сорокалетнего дядьку в грязном бархатном кафтане без единой пуговицы.
– Нет. А ты кто таков, чего пристал?
– А вы кто таковы?
– Гребцы мы, поди, таперича! Я так полагаю. Ее императорского величества коронные придворные гребцы! Желаешь с нами веслами ворочать? – полюбопытствовал дядька.
– Все лучше, чем в казематке вшей кормить, – добавил его товарищ.
– Да кто ж вы? – удивился Ероха.
– А мы люди штрафованные! Который за воровство, который – от людской злобы, иной – по роковой ошибке. Арестанты мы, голубчик. Видать, уж вовсе дело плохо, коли о нас вспомнили.
– Господи Иисусе, – только и смог сказать Ероха.
– Нас самолично господин адмирал Пущин встречал! – похвалился дядька. – Велел за государыню-матушку молиться, которая нас из острога вынула да в Кронштадт воевать загнала.
– Вице-адмирал, – поправил Ероха. – Главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал Петр Иванович Пущин…
И стало ему очень грустно. Казалось бы, совсем недавно сам Пущин хвалил мичмана Ерофеева, предсказывал ему отменную карьеру, и что же? Да ничего хорошего. Толклись возле дружки приблудные, пьянчуги записные, в споры втравляли – кто кого перепьет. И ладно бы еще с горя, от несчастной любви! А то – из несуразного молодечества!
И вот итог – бывший мичман Ерофеев будет несказанно рад, коли возьмут гребцом на галеру.
Гребных судов на Балтике недоставало. Государыня не предвидела затей короля Густава и вкладывала деньги в парусный флот, способный воевать главным образом против турок в Средиземном море. А для действий в Финском и Ботническом заливах способнее галеры или более шустрые и верткие канонерские шлюпки. Впрочем, шлюпками их называть можно было лишь по какой-то древней традиции – это были гребные суда длиной почти до десяти сажен, об одиннадцати и более парах весел, а также имеющие немалый экипаж – шесть десятков человек, вооруженных ружьями и всем, что требуется для абордажной схватки, – пиками, топорами, саблями, крючьями.
Шагая с арестантами, Ероха размечтался – кабы по милости Божией попасть на канонерскую шлюпку, хоть на дубель-шлюпку, иль на кайку! Вот где можно в бою показать себя! До своего злосчастья мичман был силен и ловок, и при абордаже первым выметнулся бы на вражью палубу. И не глядел бы на него более Майков, как на живого покойника. И прежние друзья приняли бы – а не один лишь безотказный чудак Новиков…
– Долбать мой сизый череп… – прошептал Ероха, и тут его осенило.
Черные кудри, которыми он втайне гордился, следовало изничтожить. Во-первых, потому что от арестантов недолго нахвататься вшей, а воевать с ними в походных условиях себе дороже. Во-вторых, следовало покарать себя за дурь: волосы-де ты, болван, отрастишь, когда опять человеком станешь. А до той поры щеголяй сизым черепом!
В казармах действительно накормили пшенной кашей, к которой прилагался чуть ли не полуфунтовый кус хлеба, а потом повели к пристаням.
Ероха, сбежав из Кронштадта в Санкт-Петербург, старался пореже бывать там, где хотя бы издали были видны паруса. И вдруг перед ним открылось целое море парусов – и прямых, и косых, и убранных, и распущенных. Он невольно улыбнулся – душа возвращалась к истинной своей радости.
Гавани были заполнены судами. Вся эскадра Грейга еще не ушла, лишь первый отряд под командованием фон Дезина, и стояла на рейде, а в голубом небе развевалось двадцать три вымпела; пришли галеры, транспорты и множество мелких судов. Ероха невольно залюбовался родной картиной.
– Ну что ж, кому – война, кому – мать родна, – сказал он сам себе.
– Стой! – крикнул Майков. Арестанты остановились.
К нему подошел офицер, туманно знакомый Ерохе, они обменялись длительным рукопожатием и заговорили очень тихо, причем говорил больше офицер, а Майков лишь кивал.
Рядом с офицером находился человек, что называется, «поперек себя шире». Едва достигая офицеру головой до подбородка, в плечах он был раза в полтора пошире и имел замечательную грудную клетку – чуть ли не с двухведерный бочонок. На этом геркулесе были холщовые штаны, измазанные смолой, разномастные башмаки и ничего более. На плече он держал старую кадушку с каким-то увесистым содержимым.
– К этому, что ли, под начало? – спросил дядька в бархатном камзоле, указывая взглядом на офицера. – Ты, паря, уходи скорее, а то впрямь за весла посадят. Покормили тебя – и ладно.
– Нет. Я с вами останусь.
– Ты бы лучше шел прочь, – тихо, но грозно попросил дядька. – Мы тут люди простые, мазурики, а ты для чего к нам пристал? От кого прячешься?
– А не довандальщик ли? – предположил одноглазый верзила. – То-то морец у него долгий. Бей довандальщика, лащи…
Приказ был отдан вполголоса, а исполнен мгновенно. Ероху тут же зажали, спрятали от постороннего взора и стали потчевать короткими, быстрыми и очень болезненными тычками. Отбиваться оказалось невозможно. Он вскрикнул было, но широкая ладонь зажала рот.
– Эй, эй! Вы что там буяните? – прикрикнул офицер. – А ну, расступись!.. Тараканыч!
Коренастый мужичок тут же поставил наземь свою кадушку, сжал кулачищи и сделал два шага. Их оказалось довольно. Воры и мазурики неохотно отодвинулись от Ерохи, и он выпал из строя прямо под ноги офицеру.
– Вставай, дурак, – велел офицер.
Ероха с трудом поднялся. Проклятые мазурики знали, куда бить.
– Ты пьян?
– Да, – подтвердил Майков. – Я и не заметил, как он за нами увязался.
– Пьян с утра?
– А трезвым он не бывает. Ступай прочь, не позорь флот.
– Ты знаешь его?
– При жизни знавал, – ответил Майков. – В таком свинском состоянии он для флота все равно что помер. Гони его в шею, Тараканыч.
– А звать как?
– Ерофеевым покойничка звали, пока не спился с кругу, – сказал упрямый Майков. – Выпущен из корпуса в чине мичмана, ходил на «Премиславе»…
– Учился в корпусе – значит, благородного сословия?
– Да черта ли в том сословии! Ты на его харю погляди, Змаевич! Пропил он свое сословие отныне и до веку!
– Погоди, Майков. Может, он еще не так плох и нам пригодится. Ерофеев, хочешь служить?
– Да, хочу, – сказал Ероха.
– Тараканыч, возьми-ка его под начало! – распорядился офицер.
Тараканыч исполнил приказание сразу – взял кадушку со смолой и молча взгромоздил Ерохе на плечо.
– Наплачешься ты с ним, паря, – пообещал дядька в «бархате».
Ероха и сам это понимал. Он пытался тщетно вспомнить, где видел Змаевича. Однако лицо было знакомо – сухое, смуглое, обветренное, горбоносое.
Змаевич и Майков снова обменялись крепким рукопожатием. И Ероха, внимательно глядевший на Змаевича, заметил странную особенность рукопожатия – средний палец не располагался рядом с указательным, а ложился поверх него, образуя косой крест.
Пальцы у людей, имеющих дело с холодным оружием, иногда ведут себя причудливо. Ерохе доводилось видеть руки, у которых отдельные пальцы сами не сгибались, потому что сухожилие было перерублено, и приходилось бедолагам помогать соседними пальцами.
Но ему не было дела до чужих увечий – хватало своей боли в спине и боках.
– Нерецкому кланяйся, – сказал Змаевич.
– Непременно. Черт меня догадал связаться с Петровым. Вот попросил он принять арестантов – который час с ними гуляю. А он все никак не подойдет на своем дырявом корыте.
– Ступай, ступай, – прикрикнул на Ероху Тараканыч. – Вон туда, к причалам. Окликни шлюпку с «Дерись», спусти туда кадушку и сам полезай, жди меня. Не зевай!
Ну что же, подумал Ероха, служба начинается заново. И начинается не так уж плохо – покормили, на корабль определили. Теперь главное – чтобы никто даже кружки с пивом не поднес.
Поскольку приказа выступать из столицы еще не привезли, Тараканыч решил – самое время воспользоваться солнечной погодой и тировать стоячий такелаж на «Дерись», как раз можно успеть до похода. В общей суете он разжился таким количеством тира, чтобы хватило надолго, лишний припрятал, а необходимый выдал матросам, в том числе и Ерохе.
Прозвище свое боцман получил за вездесущность, а звался Кузьмой Скляевым. Казалось бы, укрылся от него в самом неприметном закоулке, чтобы хоть четверть часика отдохнуть, а Кузьма, точно таракан из щели, возникает и сулит линьков. А уж когда висишь на вантах с ведерком горячей смолы, непременно он внизу околачивается, проверяя, все ли на палубе укрыто, от греха подальше, старой парусиной. Мало того – с тараканьей ловкостью и быстротой лезет наверх убедиться, что смоляной слой положен равномерно, без пропусков и сосулек.
Орудуя наверху, Ероха смотрел, что делается на соседних судах. Он ощущал свою новорожденную сопричастность к флоту, и уже родилась в душе естественная морская ревность: все ли у нас лучше, чем у них? Зрение у него было отменное, и он разглядел, что на «Мстиславце» с понурым видом стоит у фальшборта Михайлов. Потом капитана, видать, окликнули, он повернулся и поспешил на зов, а еще четверть часа спустя Ероха увидел, как тот спускается в шлюпку с «Иоанна Богослова», где стоял Майков.
«Обедать собрались», – подумал Ероха и оказался прав.
Горе горем, а здорового моряцкого аппетита никто не отменял. Пока была возможность лакомиться на берегу в трактире, а не терпеть осточертевшие произведения судового кока, грех было не воспользоваться.
Он невольно высматривал сверху тот желанный и недоступный трактир. И замечтался, и тут услышал зверский рев Тараканыча и отборный, с вывертами, мат:
– Ах ты, блядь, семитаборное охреневшее блядепробоище отцов наших гнойных и помойных, мать твою ети раз по девяти с перевертом в перехлест из поворота в перекос, и через гвоздями забитый клюз обратно в загробные рыданья!
К немалому изумлению боцмана, Ероха от счастья расхохотался прямо по-младенчески: он окончательно осознал, что вернулся домой. И тут же он вспомнил свое мысленное обещание.
Осуществил задуманное Ероха ближе к вечеру, подойдя к Тараканычу и встав перед ним со смиренным видом:
– Мне бритва нужна.
– Зачем? Пока суд да дело, походишь небритым. К портовым блядям бегать все равно не позволю.
– Мне голову обрить. Как раз затем, чтобы никуда не бегать, пока не образумлюсь, – честно ответил Ероха. – Иначе опять собьюсь с панталыку.
– А сам сможешь?
– Смогу.
– Ну-ну…
Тараканыч выдал бритву и тазик для пены, но еще и публику собрал – поглазеть на потешное зрелище.
У матросов хватило ума принести ножницы, и густые черные кудри полетели на палубу.
– Сжечь! В воду нельзя – дурная примета! – решили матросы, а Тараканыч предупредил: – Коли хоть один волосок на палубе останется, участники комедии будут ее вылизывать языками!
Потом Ерохину голову намылили и общими усилиями обрили.
– Ну, турок! – загоготала публика, увидев, что получилось. – Брюхо бы пошире – и вылитый турок!
– Ему не минаветы танцевать, – высказался Тараканыч. – Всех бы вас вот этак – до сизого черепа!
Так началась Ерохина служба в должности рядового матроса. Однако Змаевич незаметно за ним приглядывал, предупредив Тараканыча, чтобы винного довольствия новому приобретению не выдавали.
Ждали знака со дня на день – и дождались. Государыня объявила войну шведскому королю Густаву. Вмиг эта весть облетела Кронштадт, и сразу начались строгости, поскольку не завтра, так послезавтра должен был явиться еще один документ – указ адмиралу Грейгу о выходе в море.
Ероха драил гондек, когда к нему быстро подошел Змаевич.
– Жду у трапа, – шепнул он, незаметно показав рукой.
Бросив швабру, Ероха поспешил в указанное место.
– Господин Ерофеев, у меня есть для вас поручение. Нужно доставить в Санкт-Петербург пакет. Я поехал бы сам, но война – не могу покидать Кронштадта. С боцманом я сам договорюсь. Дело очень важное. Можете?
– Конечно, господин Змаевич. – А что еще мог ответить Ероха человеку, который протянул руку помощи и взял его на борт?
– Ступайте, переоденьтесь.
– Не во что.
– Да? Через час подойдите сюда же, мой Парамон даст вам узел с платьем, деньги и пакет. Он же отвезет вас на шлюпке к пирсу. На пакете ничего не написано, передать же его следует господину Нерецкому, что проживает во Второй Мещанской против губернаторского дома, спутать невозможно. Передать только в собственные руки. И, не дожидаясь ответа, – тут же назад. Сейчас между столицей и Кронштадтом отменное сообщение, везут провиант, волонтеров, добраться будет легко. Бог в помощь!
И ни слова не сказал Змаевич о необходимости соблюдать трезвость. Ероха оценил это и за четверть часа до указанного срока уже караулил Парамона.
В узле оказалось старое матросское платье – короткий зеленый кафтан, того же цвета камзол и штаны шире обычных, перехватываемые под коленом тесьмой. Было и чистое исподнее, и чулки, и башмаки, но главное – круглая шапка с околышем, чтобы прикрыть сизый череп.
– Пакет в узле, – сказал Парамон и передал деньги – восемьдесят копеек. – Идем скорее.
«Дерись» стоял так удачно, что ближайшим местом на суше был пирс со знаменитым маяком, попавшим в кронштадтский герб. Парамон и немолодой матрос сели на весла и быстро доставили Ероху к маяку.
С узлом за плечами он пробежал по пирсу и за Итальянским прудом свернул налево.
Ероха имел на себе штаны и рубашку, а где забыл кафтан – понятия не имел; возможно, у Новикова под столом. Эти штаны и рубашка после возни со смолой и на тряпки-то не годились, но Ероха, переодевшись в кустах, свернул их и спрятал в крапиве.
У него созрел план – выполнив поручение Змаевича, отправиться в дом, где он квартировал и оставил свои вещи. Скорее всего хозяйка заберет их в счет долга за комнату, но хоть какую-то старую рубаху выпросить можно. И сперва все к исполнению замысла располагало – Ероха умудрился пробраться на катер «Счастливый», который за какой-то надобностью был отправлен в столицу. А катер – это, в сущности, бриг, тоже двухмачтовый, только небольшой, верткий и имеющий более десяти пар весел, хорош на посылках и для разведки. Хотя они в российском флоте не долее шести лет, но хорошо себя показали – и, сказывали, новые катера будут куплены в Англии.
Но быстроходный катер задержался – очень долго кого-то ждали, и Ероха не просто слушал вопли своего голодного брюха, но и предчувствовал, что за стол сядет еще не скоро, а взять с собой хоть ломоть хлеба он не догадался.
Вечерело – хотя какой вечер в конце июня? Однако вода уже потемнела – эти темные тяжелые балтийские волны были Ерохе как родные; спрятавшись за пушкой, он наблюдал за ними и радовался брызгам, летящим в лицо. Паруса, поймавшие морской бриз, да весла – двух часов не прошло, как «Счастливый» уже подходил к торговому порту, чтобы там ошвартоваться. Поняв по разговорам матросов, что судно простоит не менее суток, Ероха расстроился – ему хотелось и обратно в Кронштадт доставить себя с ветерком. Но делать нечего – он ловким прыжком оказался на пирсе и побежал на поиски извозчика.
Но тут его и ждала первая неожиданность. Извозчики восстали против Густава. Сперва они явились со своими дрожками к воротам шведского посольства, кричали и галдели. Потом разошлись – для того, чтобы выпрячь лошадей, оседлать их и составить целый полк в тысячу всадников. Явление такого полка сильно озадачило военный совет: по какому разряду его числить? Государыня распорядилась писать всех казаками. Кавалерия получила в те дни еще одно неожиданное пополнение – пришли записываться в гусары цыгане. Этих тоже взяли.
Патриотизм временно избавил столицу от извозчиков, и Ероха, заплатив двадцать копеек обнаглевшему лодочнику, переправился через Неву и двинулся ко Второй Мещанской пешком. Три с чем-то версты показались ему бесконечными.
Мещанские улицы были в столице самыми бойкими – там обитала пестрая публика, мастеровые всех родов, содержательницы веселых заведений, трактиров было – чуть не на каждом углу, и, как ни странно, немало ювелирных и оружейных лавок. Ероха знал эту часть города по пьяным подвигам и дивился, что приличный господин решился там поселиться, хотя соседство с губернаторским домом обнадеживало – там уж точно было потише.
Белые ночи хороши тем, что народ допоздна бодрствует, молодежь слоняется по улицам, старшее поколение сидит на крылечках и на лавочках у ворот. Отыскав нужный дом, Ероха сразу нашел дворника, и тот сообщил, что господин Нерецкий, уйдя днем, до сих пор не вернулся.
– Ты, парень, посиди во дворе, подожди, – присоветовал дворник. – Там у черного хода у стены скамья.
– Господин черным ходом пользуется? – удивился Ероха.
– А у нас тут место бойкое, я, как стемнеет, парадную дверь запираю. А поскольку сам во дворе живу, то и слышу, кто там по лестнице шастает и дверью скрипит. Дверь-то для того и не смазываю!
– А как я его узнаю?
– Ростом с тебя, личико господское – щек вовсе нет, – определил главную примету сытый широколицый дворник. – Годов ему под тридцать. Бывает, когда идет двором, напевает. И песни тоже господские.
Ероха отыскал скамью, сел, задумался. Все последние дни на размышления времени не было, Тараканыч не допускал безделья на борту. Выходило, что за четыре дня Ероха не принял ни капли спиртного – и жив!
Для человека, ухитрившегося пропить серебряный крест и носившего на гайтане оловянный, это было неслыханным достижением. Впору было заказывать молебен во здравие Тараканыча. Ероха подумал, надо бы уговориться с боцманом, чтобы в ближайшее время держал у себя Ерохино жалованье. Если вспомнить, кому и сколько он должен, волосы дыбом встанут.
Дворник, которому полагается вставать спозаранку, протопал в полуподвальную конуру. Нерецкого все не было – пробежала к черному ходу какая-то женщина, и только. Покричали на крыше сарая коты. Где-то по соседству заржала в конюшне лошадь. Часов Ероха не имел, пропил еще весной, и совсем потерял счет времени. В конце концов усталость дала себя знать, и он задремал.
Проснулся оттого, что его как следует встряхнули за плечо.
– Вставай, дурак, да вставай же! – требовал сердитый женский голос. – Нашел время дрыхнуть! На вот! Держи крепко! Бежим!
Ероха спросонья дурно соображал – что велели, то и сделал.
Он прижал к груди кучу рассыпавшихся тряпок и, будучи подхвачен под локоть норовистой и деятельной девицей, выбежал со двора.
– Скорее, скорее! – торопила она. И они оказались на перекрестке, которого Ероха сразу не опознал.
– Ну, беги к барину! – распорядилась девица. – Письмецо я потом принесу. – И умчалась – только каблучки простучали.
Ероха остался стоять – слово «барин» насторожило: какой барин, зачем барин?
Тут он услышал кошачий писк.
Логика сна еще владела Ерохой. Откуда коты? Они оказались совсем близко, пищат почти в ухо, и Ероха проснулся окончательно.
Белая ночь милосердно просветила его, – он уставился на тряпочный сверток, который держал в объятиях, и увидел сморщенную рожицу с ротишком, куда и смородинку не втолкнуть. Однако этот раскрытый ротишко требовал: обратите на меня внимание!
– Дитя?! – ахнул Ероха.
Да, это было новорожденное дитя, которому бы спать сейчас в колыбельке, а бегущий человек его растряс.
Как всякий неженатый мужчина Ероха понятия не имел, что делать с кричащим младенцем. Он видел когда-то, как кормилица укачивает дитятю, и попытался воспроизвести ее движения. Но младенец энергично протестовал, чем вверг беднягу в полное смятение.
Уже было ясно, что бойкая девица с кем-то Ероху спутала. Было также понятно, что рождение этого младенца покрыто тайной – может, мать родила его от любовника, может, он нужен для подмены. Но прежде всего следовало его угомонить. По улицам время от времени проходили десятские, и Ероха вовсе не хотел угодить в полицейскую часть, подозреваемый в краже ребенка. А главное – требовалось скорее вернуться на скамью, чтобы дождаться Нерецкого. Пакет-то – вот он, за пазухой, толстенный пакет из плотной шершавой бумаги.
Первой разумной мыслью было: найти бабу и отдать дитя ей, чтобы она заставила его замолчать.
Найти на Мещанских бабу несложно – Ероха даже знал, где водятся доступные девицы. Только доверить им ребенка он не решился. Требовалась женщина, понимающая, что такое материнство. И вдруг он понял, где ее искать.
Будучи записным пьяницей и царева кабака угодником, Ероха знал несколько трактиров, открытых всю ночь. В одном, безымянном, глядевшем на Екатерининскую канаву, трактирщику обычно помогала супруга, здоровенная бабища Аксинья Мироновна, родившая и выкормившая чуть ли не пятнадцать штук детей, а сейчас, возможно, брюхатая шестнадцатым. Вряд ли в белую ночь заведение закрыто – скорей всего там сейчас самое веселье, и Аксинья Мироновна, самая из всех трезвая, потому что с трех-четырех чарок водки она вовсе не пьянеет, заведует порядком.
Ероха помчался к трактиру.
Там собралось весьма пестрое общество. Сапожники-выпивохи, мастеровые-пропойцы, запойные каменщики и мелкое ворье – вот кто посещал безымянный трактир. Вломившись туда, Ероха увидел с десяток знакомых рыл и обрадовался.
Разговор за столами шел патриотический – узнав о начале войны, молодые петербургские обыватели возмутились чрезвычайно и сотнями кинулись записываться в полки. Тут можно было увидеть поповича и парикмахера, лодочника и приказчика из Гостиного двора, дворника и трактирных завсегдаев, которые, разумеется, тоже собиралась на войну и в последние деньки мирной жизни пыталась надраться впрок.
– Ба-а, гость дорогой! – закричал трактирщик Андрон Антипыч. – Ваше благородие! Не извольте беспокоиться, тут же будет налито! Угощаю! Пьем за победу над шведом!
– Погоди, Андрон Антипыч, – сказал Ероха. – Мне твоя сожительница нужна.
– На кой ляд она тебе?
– Позови, сделай милость!
Анисья Мироновна явилась, неся два здоровых кувшина с пивом и прижатый к груди горшок с солеными яйцами, готовить которые она была великая мастерица – на Пасху их собиралось лукошка по три-четыре, все не съесть, а засолишь – выходит отменная и даже богоугодная закуска. Дитя, словно поняв, что спасение от невзгод рядом, приветствовало трактирщицу на свой лад. Как ни громко галдели мужчины, а писк этот услышали и замолчали в изумлении: до них дошло, что тряпичном узле у Ерохиной груди – живое доподлинное дитя!
– Ты где ж это разжился, брат? – спросил бородатый квасник Дементий, собиравшийся записываться в артиллерию по примеру покойного деда, старого служаки.
– На улице набрел.
– Неужто прямо на улице оставили? Родятся же такие потаскушки!
– Давай сюда! – велела Анисья Мироновна. – Покормлю! Думала, Ванюшку от груди отлучу – и будет с меня! А вот, гляди ж ты, послал Бог младенчика…
Ероха с огромным облегчением отдал ей дитя и устремился к двери, но Дементий заступил дорогу:
– Куда-а?! А за славу русского оружия?!
– Идти мне надо, человека одного встретить, – принялся объяснять Ероха. – Он домой поздно возвращается, не проворонить бы…
– Так всего одну чарку! Как же за славу не выпить?
Ероха вздохнул и согласился.
Потом пили за адмирала Грейга, почему-то за светлейшего князя Потемкина, за погибель шведского короля, в шестой раз за государыню, в четвертый раз за великого князя с супругой, и опять – за победу, за флот…
Вытащил Ероху на свежий воздух крепкий питух Герасим, служивший, коли не врет, по соседству банщиком. Перепить Герасима можно было только втроем – такая у него была стойкая натура.
– Давай, брат Ероха, передвигай ножки! – командовал он. – Ать-два, ать-два! Вот и славно… а теперь командируйся, куда Господь ведет…
Господь привел Ероху, не уронив по пути в Екатерининскую канаву, на Адмиралтейскую першпективу, в просторечии – Гороховую. Там он услышал колокол ближнего храма, зовущий на службу, пошел на звук, а более ничего не помнил – очнулся Ероха от холода под забором. Тут только он обнаружил, что кафтан, выданный Змаевичем, остался в безымянном трактире и, судя по всему, был пропит им во славу Российского флота.
Как это все получилось – он уразуметь не мог. Однако нужно было спасать пакет, и Ероха поспешил к трактиру. Трактир требовался еще и для опохмелки.
Но время было непитейное. Запертая накрепко дверь – все, что ожидало Ероху. Он забрался во двор и принялся колотить в ставни, надеясь, что женщины уж наверняка на ногах. В конце концов на крыльцо вышла Анисья Мироновна в нижней юбке и старой шали.
– Явился! – сказала она. – Забирай своего подкидыша, я тебе в кормилицы не нанималась.
– Анисья Мироновна, матушка, я в трактире важный пакет забыл, – простодушно признался Ероха. – Как снимал кафтан, он и выпал. Я за пакетом…
– Важный, говоришь? Ну вот и получишь свой пакет – да только вместе с дитятей!
Ероха умолял ее отнести найденыша в часть – там разберутся, она же отвечала, что в полиции дитя уморят голодом. Логика была такова: коли она, Анисья, сдаст дитя, его смерть будет на ее совести, а коли то же самое сделает Ероха – то ее совесть окажется чиста. Анисья Мироновна вернулась в дом и захлопнула дверь, Ероха же остался на дворе в полном смятении.
Он не знал, что предпринять. Лучше всего ребенка было бы оставить у трактирщицы – у нее, докормившей младшенького до года, молока хватало. Но это означало, что пакета не видать, как своих ушей. А не выполнив поручения, Ероха не мог вернуться в Кронштадт.
Стыд снедал бывшего мичмана. Когда Ероха решил выдраться из пьяной трясины, Змаевич протянул руку помощи, Змаевич поверил ему. И не выполнить простейшего поручения Ероха не мог…
– Неужто я ни на что больше не гожусь? – спросил себя Ероха. – Кроме как помереть в бурьяне? Долбать мой сизый череп…
Ему все казалось, что нужно, как утопающему, коснуться ногами дна – тогда можно будет оттолкнуться и всплыть. И вот теперь было сущее дно, ниже опускаться некуда, ниже – только бродяжек грабить да у малых детишек копеечки отнимать. Что делать?.. Но похмельному человеку думается с трудом. Поэтому он не сразу додумался идти к Нерецкому и умолять этого незнакомца выкупить у трактирщицы пакет.
К тому же в доме на Второй Мещанской должны что-то знать о младенце.
Не случайно Господь подкинул Ерохе новорожденное дитя. Что-то же Он имел в виду?
Ероха понимал, что Нерецкий расскажет эту поганую историю Змаевичу. Но другого способа вернуть пакет, не рискуя при сем здоровьем и, возможно, жизнью младенца, он не видел.
Санкт-Петербург жил еще прежней, довоенной жизнью.
Все занимались своими делами, спешили, перекликались, шарахались от упряжных лошадей, крестились на церковные купола и затевали отчаянную ругань, один только Ероха торчал у забора без всякого движения – зато мысли в голове так и мельтешили, от покаянных до героических.
– Тебе, дураку, двадцать восемь лет скоро, – корил себя бывший мичман. – Однокашники твои по Морскому корпусу уже капитаны второго ранга, а кое-кто – даже первого. По меньшей мере треть – женаты, имеют сыновей. А ты кто? Ты – Ероха! Тебя все трактирщики по выступке узнают, и это твое главное в жизни достижение? Нет, хватит, надобно отважиться еще на одну попытку!
Глава пятая
Диковинная пропажа
Капитан второго ранга Михайлов был не из тех, кто стреляется от несчастной любви на манер молодого Вертера. Конечно, книга герра Гёте, войдя в моду, понаделала бед – тут же и доморощенные русские вертеры сыскались, любовная блажь вложила им в руки пистолеты, а потом родня приходила в отчаяние – священники самоубийц не отпевают и на кладбищах не велят хоронить.
Книгу Михайлов прочел более десяти лет назад, не всю, а кусками, к тому же по-немецки. И вывод для себя сделал определенный: бывают же дураки на свете! Вот теперь эта мудрая оценка всплыла и наложилось на конкретные обстоятельства: война на носу, и нужно выкинуть из головы дурь вкупе с воспоминаниями о Сашеттиной пылкости. И если помыслить здраво – какая из нее жена? Она и не желает ею быть, Александра желает быть вольнолюбивой вдовушкой, что удобно и необременительно. Сегодня целует одного, завтра – другого. Ну и пусть колобродит дальше. Не о чем жалеть. Вот только перед тещей неловко. Ну да она поймет…
Эти аргументы Михайлов повторял себе раз двести, однако воспоминания засели в голове прочно. Меж тем в нее, в голову, нужно было поместить немало всяких проблем и печалей. Одна из них называлась «Родькой Колокольцевым».
Как всегда, в последние дни перед объявлением войны вскрылись всякие недохватки. Грейг доложил государыне, что на судах – досадная нужда в младших офицерских чинах, лейтенантах и мичманах. Государыня отвечала – выхода нет, потому в Морском корпусе учинить экзамен гардемаринам, которым осталось учиться около года, и выпустить их во флот мичманами. Грейг разумно возразил, что этого звания они еще не заслуживают. И был изобретен компромисс: считать гардемаринов не настоящими мичманами, а в странной должности – «за мичманов». После экзамена их образовалось семьдесят пять человек, и семнадцатилетних мальчишек распределили по судам.
Разумеется, это были не «сухопутные» дети, им уже довелось походить по Финскому заливу, многие хорошо себя показали. Но флотских людей обидело, что прислали недоучек: уже не гардемарины, еще не мичманы, а «ни то ни се». Именно так их и прозвали.
Михайловское «ни то ни се» имело отменную репутацию шкодника и заводилы. Последним его подвигом перед экзаменом было доведение надзирателя при дортуарах до стойкой нервной икоты. Надзиратель препятствовал гардемаринам совершать ночные вылазки в город, и решено было проучить его старым испытанным способом – привидением.
Одного из воспитанников сажали на плечи другому, затем обертывали их двумя казенными простынями. Получалась причудливая длинная фигура, которая двигалась медленно и колыхалась загадочно.
Колокольцев со товарищи сел в засаду у дверей, ведущих в длинный коридор. Было затейников четверо – самый маленький, Ваня Самойлов, держал наготове две зажженные лучины. Заслышав грузный неровный шаг надзирателя, быстро составили призрака и выдвинули на исходный рубеж. Родька, сидевший сверху, взял в зубы две лучины, наклонив их и разведя в стороны концы. Для того, кто видел издали это чудище, не было сомнения, что приближается адский дух с горящими красными глазами.
Но шутники ошиблись – это был всего лишь старый истопник, бывший матрос, который служил в Морском корпусе еще до перевода сего заведения в семьдесят первом году из Санкт-Петербурга в Кронштадт, в Итальянский дворец, для чего из дворца повыгоняли все торговые заведения. Он, состоя при гардемаринах, на всякие художества насмотрелся.
Столкнувшись с двухъярусным призраком, истопник оглядел его снизу вверх и сверху вниз, а потом произнес заковыристое ругательство:
– Бр-р! Сто хренов тебе в рот через задний проход, в мутный глаз, в сибирскую каторгу, в тридцать три света, в корень через коромысло, мать твою ети раз по девяти через тульский самовар в тринадцатую становую кость!
– Как-как-как? – переспросил ошалевший Ванечка. Но истопник уже шел дальше по коридору, бурча под нос иные шедевры моряцкого репертуара.
Тут бы призраку и развалиться, отсрочив наказание надзирателя до лучших времен. Но Родька не соскочил и лучин изо рта не вынул.
– Вперед… – кое-как выговорил он, и здоровенный гардемарин Сашка, на чьей шее он сидел, не видя дороги из-за простынь, побрел наугад. Тут-то и явился надзиратель.
«Гость» из преисподней, как выяснилось, оказался ответом на его сердитые мысли о начальстве. Надзиратель желал господину Голенищеву-Кутузову, директору Морского шляхтетского корпуса, провалиться в пекло и сгореть там ясным пламенем, потому что господин директор был к нему строг. А тут и посланец из пекла пожаловал.
– Ох, ох, ох… – только и смог произнести, пятясь, несчастный, а потом у него и началась нервная икота.
Истопник обернулся – и поспешил на выручку, намереваясь лишить призрак казенных простынь. Но гардемарины смекнули, что пора спасаться бегством. Адский дух распался на две части и с топотом унесся по коридору, волоча за собой простыни и оставив две тлеющие лучины.
Правда открылась, надзиратель был отправлен к врачу, а гардемарины притихли. Но корпусное начальство не стало никого карать – не до того было, а экзамен Родька сдал неплохо. А потом его отправили на «Мстиславец» – и тем ввергли в скорбь. Флагманский «Ростислав» – о ста пушках, где капитаном был Евстафий Степанович Одинцов, герой первой Архипелагской экспедиции и баталии при острове Митилена. На «Радиславе» шестьдесят шесть пушек, капитан – англичанин Джеймс Травелен, что ходил в кругосветное плавание с самим Джеймсом Куком. «Мстислав» – семьдесят четыре пушки, капитаном там был человек, которому надлежало стать русским Куком: первая российская кругосветная экспедиция под его командованием была уж готова к отплытию, если бы не чертов Густав! К Григорию Ивановичу Муловскому мечтал попасть под начальство Родька: тридцать лет всего, а капитан первого ранга, уже двенадцать лет служит, ходил и в Средиземном, и в Черном, и в Балтийском море, свободно говорит по-французски, по-немецки, по-английски и по-итальянски! Но вместо «Мстислава» – отправляйся Родион Колокольцев на «Мстиславец» под присмотр капитана второго ранга Михайлова. Родька его знал – прошлым летом ходил на «Мстиславце» в учебное плаванье и понимал, шкодничать капитан не позволит.
На «Мстислав» же попал Ванюша Крузенштерн, повезло остзейскому немцу! Он ведь даже никакой не Иван, а крещен в родном Ревеле Адамом Иоганном, и роду не моряцкого – его батюшка, сказывали, судьей был. А Родькин дядя – капитаном на двадцатишестипушечном фрегате «Гектор», что отправлен в разведку.
Не то чтобы Михайлов и Колокольцев сразу друг другу не понравились. Просто одному не хотелось еще и гардемарином командовать, других забот хватало, а другому – терпеть унизительную опеку:
– Мичман Колокольцев, глядите сюда, глядите туда, делайте так, делайте этак, сверяйте цифры промеров, следите за береговыми знаками, прочитайте в судовом журнале, запишите в судовой журнал, не забывайте, что следить за выносом коек наверх в семь утра – обязанность вахтенного офицера, то бишь ваша, раздача их за четверть часа до захода – также… – и все это с высокомерием, а то и с презрением. А коль ошибешься – молвит: «Это вам не во дворе Морского корпуса в лапту играть».
Тут даже человек, горячо мечтавший о море, взвоет и начнет чудесить.
Михайлов, конечно же, никого не презирал, просто не считал нужным миндальничать. Он вообще был строг к сослуживцам – знал каждому цену и не слишком это скрывал.
Объявления войны ждали со дня на день – и благоразумно решили воспользоваться последними мирными часами, повеселиться впрок. Кают-компания «Дерись» пригласила на обед кают-компанию «Брячислава» и «Мстиславца». Встреча была назначена в лучшем кронштадском трактире у Синего моста.
И Михайлов, не имея намерения оскорбить Родьку, решил, что общество и без него обойдется, ибо молод и чересчур боек, а там соберутся старые орлы, служившие еще в эскадре графа Орлова, чтобы без помех вспомнить боевое прошлое. Поэтому пусть Колокольцев учится исполнять обязанности вахтенного лейтенанта. Пока корабль на рейде, ничего опасного случиться не должно. Ему надлежало лишь проследить, чтобы матросы были накормлены ужином за полтора часа до захода солнца, а затем не выскакивали на дек в одних рубашках и не валялись на палубе.
Но за столами шла речь не только о Грейге, получавшем из столицы путаные приказы (выше Грейга не целились, это само собой разумелось). Вспоминали все, кто что знал о Грейговом главном противнике, герцоге Карле Зюдерманландском, которого его брат, шведский Густав, поставил возглавлять стоявшую в Карлскроне эскадру. Пытались понять, на что сей муж способен и каких подвигов от него ожидать.
Михайлову это было любопытно – как можно взгромоздить сухопутного человека на флагманский корабль, он понимал, достаточно мановения монаршей руки, а для чего это надобно – не понимал и хотел допытаться у более сообразительных товарищей.
Но застольный разговор вдруг как-то свернул в другую сторону. Не цель, которую преследовал Густав, вдруг заинтересовала офицеров, а то, что не все отдали свои хронометры на поверку в обсерваторию, и не у всех новые карты из Адмиралтейства, и в одном конце стола уже толковали о том, что в Англии, в рыбацких селениях близ опасных мест, держат огромных ньюфаундлендских псов, которых при крушении посылают спасать утопающи.
Михайлов перешел туда, где толковали о такелаже и о нехватке матросов; там приятель его, Майков, рассказывал о подвигах вчерашних арестантов, из которых двое уже сдуру потонули. Потом Михайлов присоединился к другой компании, где сцепился с господами, осуждавшими щегольство капитана «Мстиславца» Хомутова, украсившего «Мстиславца» боевой фрегат с излишней роскошью: бронзой на винтах каронад, на решетках каютных люков и даже на кофель-нагелях, резным дубом в офицерских каютах.
Потом подсели к нему, кто-то наливал, пили, как полагается, сперва во здравие государыни, потом – великого князя Павла Петровича, и последнее, что еще отчетливо помнил Михайлов, это лихой тост во славу той веревки, которой будет связан для доставки в Санкт-Петербург шведский король.
За это грех было не выпить, и Михайлов пил не хуже прочих, хотя обыкновенно в этом деле был сдержан и знал свою меру. Но как-то так все сошлось – и последний перед войной товарищеский пир, и необходимость выбить из дурной головы Александру с ее проказами. Чувство меры отступило в тень, а на смену ему явилась безудержная отвага записного пьяницы, которому море по колено.
Пока Михайлов доводил себя до того состояния, которое кончается бредом типа зеленых чертиков, сидящих в ряд на фальшборте, Родька Колокольцев лелеял зверские замыслы. Он намеревался пробраться в капитанскую каюту и учудить там какую-нибудь пакость.
Предположив, что Михайлов вместе с другими офицерами вернется поздно, Родька решил совершить налет на каюту, когда угомонятся матросы и большую часть команды распустят по койкам, чтобы никто не видел его вылазки, а там уж, на месте, и придумать подходящее безобразие – не слишком злобное, но чувствительное. Но он не мог предвидеть, что Михайлов допьется до пятнистых канатов.
– Шлюпка идет! – крикнул вахтенный с бака. – Изготовить концы! Послать фалрепных к правой! Кидай концы! Спускай штормтрап!
Двое офицеров, с которыми еще не был знаком Родька, с помощью матроса подняли на борт Михайлова. Он решительно не желал стоять на ногах, и Родька злорадно подумал, что этот позор капитану второго ранга еще долго будут припоминать.
Михайлова препроводили в каюту и довольно долго там укладывали. Потом оба офицера вышли на дек и ловко спустились в шлюпку. Родька обрадовался – при человеке, который лежит в койке бревно бревном, можно тихонько соорудить какую-нибудь ловушку, в которую он угодит, протрезвев. Скажем, выкрасть у кока остатки каши и набить ими башмаки неприятеля. Или придумать более остроумную каверзу.
Гардемарин в чине «ни то ни се» прокрался к каюте и отворил дверь.
Михайлов лежал, как мертвый, его даже не разули. Но странно – заветный сундук с лоциями и картами был выдвинут и стоял в неположенном месте.
Родька в каюте у Михайлова бывал и знал, что там соблюдается завидный порядок, всякая вещь знала свое место. Ему показалось непривычным положение сундучка, он приблизился и по наитию откинул крышку. Тут обнаружилось еще кое-что – бумаги лежали не так, как обычно, кто-то поменял местами стопки лоций и журналов. И вряд ли это был Михайлов…
Тогда Родька, заинтригованный, стал обследовать каюту с целью обнаружить еще какие-то странности.
Мундиры Михайлов хранил в подвешенном виде, под простыней, потому что утюжить их во время похода попросту негде. Родьке бросилось в глаза, что простыня, прикрывавшая мундиры, не была опрятно подоткнута… Неужто господа офицеры шарили по карманам?.. В немалом смущении и потеряв всякую охоту пакостничать, Родька убрался из каюты.
С одной стороны, Колокольцев понимал – Михайлова нужно предупредить. С другой – что, коли он сам впопыхах нарушил свой порядок? Как будет выглядеть в его глазах «ни то ни се» с таким странным обвинением? И способа узнать правду Родька не видел…
Наконец подошла шлюпка с Хомутовым и другими офицерами. Кто-то, заметив тоскующего мичмана, громко посоветовал ему отправляться в койку. Совет был разумный…
Наутро Михайлов обнаружил, что спал одетый. Это было плохо – более того, недопустимо. Правда, такое случилось впервые в жизни, и капитан стал припоминать – сколько же и чего он выпил, чтобы привести себя в столь свинское состояние?
Получалось, что немного. Не мог он от такого количества превратиться в бессознательное тело. А вот превратился. Когда же и как это произошло?
Пытаясь восстановить события, Михайлов разулся и стал машинально раздеваться, как будто собирался лечь в койку по-человечески. Тут он и обнаружил пропажу. Подарок крестничка Ефимки Усова исчез.
Нельзя сказать, что Михайлов любил украшения. На правой руке чуть не с шестнадцати лет носил дорогой перстень, завещанный покойной матерью, и только. Табака он не нюхал – следовательно, табакерки не имел. Иные моряки носили медные серьги – сказывали, будто помогает от ревматизма, нужно только знать, где проколоть дырку. Но ревматизмом Михайлов покамест не страдал и в сережках не нуждался.
Грубоватый и незамысловатый булатный перстенек ему полюбился уже тем, как ловко сел на безымянный палец, словно нарочно для него был откован. И вот подарок сгинул. Сам соскользнуть он не мог, крепко сидел, хорошо снимался лишь с намыленного пальца. Стало быть, сняли. Дорогой перстень не взяли, а этот – стащили. Но кому мог понадобиться кусочек булата?
Михайлов озабоченно почесал кудрявый затылок. Загадка была отвратительная. Мог ли кто из офицеров утащить перстенек, которому на вид – грош цена? Не мог! А мог ли он сам спьяну вертеть, вертеть да и стянуть безделушку? Мог!
Голова трещала, как будто по ней колотили мушкелем, употребляемым при конопатке судов. Михайлов исследовал пол возле койки, в щели между стенкой и рундуком. Перстня он не обнаружил. Тогда Михайлов попытался мыслить логически. Вряд ли он крутил перстень по дороге, пока добрые товарищи тащили его на «Мстиславец». Скорее уж в трактире перед тем как провалиться во временное небытие.
Почему-то утрата усовского подарка встревожила капитана. Михайлов снова обулся и выбрался на дек. Свежий утренний ветер и солнце немного взбодрили его.
Экипаж уже занимался делом. Матросы возводили козлы у бизань-мачты, рядом стояли две большие фляги с водой, Михайлов попросил одну и сделал несколько глотков, почувствовал облегчение.
Хомутов, сопровождаемый судовым лекарем Стеллинским, шел навстречу.
– Господин капитан, прикажите спустить с боканцов мою четверку, – обратился к нему Михайлов. – Мне надобно на берег.
– Это хорошо, – сказал Хомутов. – Я как раз собирался послать Колокольцева, я жду писем. И надобно взять в адмиралтействе комплект сигнальных флагов, о чем я договорился. Не понимаю – едят их у нас, что ли, водку ими закусывают? Проверяли, так доброй дюжины недостало. Берите шлюпку.
– Благодарю.
– Затем – разжиться новой сигнальной книгой, старая истрепана до дыр!
– Есть разжиться.
– И вот что… – Хомутов оглянулся по сторонам, нет ли поблизости чьего либо любопытного уха. – Господин адмирал предупреждал о секретном своде сигналов. Коли тебе дадут для меня запечатанный пакет, сделай милость, не домогайся, что внутри. И никому ни слова. Лишь ты да я будем знать.
– Есть не домогаться.
Четверо гребцов ударили в весла, шлюпка понеслась с волны на волну. Михайлов стоял на носу, скрестив руки на груди и не шатаясь, словно под ним была каменная плита.
У всех пирсов было полно суденышек, суета была страшная, насилу нашли, где причалить.
– Стой, Михайлов, стой! – загремел знакомый голос.
Новиков, размахивая руками, догонял приятеля бегом, за ним поспешал Усов.
– Вы что тут делаете, зачем пожаловали? – спросил Михайлов после обычного костоломного объятия.
– За ворами гоняемся, – объяснил Новиков. – Мы ведь, как ты присоветовал, с утра пошли обходить все кузни. И ходили, и ходили! Измаялись! Я, поди, полпуда сала потерял, пока напали на след.
Михайлов с подозрением посмотрел на идеально круглую физиономию Новикова. Ничего с ней не сделалось, да и брюшко было на месте, и бока – равным образом.
– След ведет в Кронштадт. Охтенский кузнец по моим сказкам булат опознал, – сказал Усов. – И лук булатный опознал, вот только ножа и сабли не видел, их воры в кузню не потащили. Приметы воров дал. Он у них взял за гривенник и хлебцы, и лук. Потом приехал к нему какой-то человек из Кронштадта, сказывал – кум присоветовал, сейчас, мол, корабли снастят, сколько железа ни вези, все мало. И увез мой булат! Вот, ходим, ищем, найти не можем…
– И у меня пропажа. Перстень твой как корова языком слизнула, – пожаловался Михайлов. – Может статься, в трактире под столом лежит. Пойду, разузнаю. А коли нет…
Ему очень не хотелось думать, что безделица украдена. Это означало, что вор – кто-то из своих.
– Как же ты мог столь редкую вещицу потерять? – удивился Новиков.
– А не стянул ли ее тот злодей, что меня обокрал? – вдруг предположил Усов.
– Я полагаю, во всей столице не найти человека, который поймет, что твой булат – не привозной, а твоего же литья, – возразил Михайлов. – Но коли кто-то шел за тобой по следу от самой Тулы…
– Да как же этот подлец додумался тебя выследить? Это ведь значит, что той ночью он был возле вас и подслушивал! – воскликнул Новиков. – Вот ведь интрига!
– Интрига, – согласился Михайлов, – в коей я пока не вижу смысла… Вот что. Я сейчас пойду сперва в трактир, потом в адмиралтейство, а вы ищите того кузнеца, хотя я очень сомневаюсь, – его скорее всего на какое-нибудь судно утащили. В адмиралтействе я не менее двух часов пробуду, там теперь суматоха. Встретимся в трактире у Синего моста. Ох, как меня там вчера напоили… Башка отродясь так не трещала…
– Тебя – и напоили? – не поверил Новиков. – Тебя? Ты себя ни с кем не спутал?
– Меня. До полного беспамятства. Проснулся уже в своей каюте. Кто меня туда приволок – и того не ведаю. Дожил!
– Ежели б мне сказали, что ты залез без штанов на клотик и скачешь там на одной ноге, я бы охотнее поверил.
– Ты, крестненький, когда перепьешь, как наутро себя чувствуешь? – спросил Усов. – Не может быть, чтобы ни разу в жизни не перепил. Вот у нас кузнец дед Михей божится, что наутро от глотки до кишок – раскаленная железная труба вроде ружейного ствола.
– В глотке – пустыня Сахара, – стал припоминать Михайлов, – и гадко, словно там эскадрон ночевал…
– А сейчас?
Тут только Михайлов сообразил, что жажда была очень умеренной, а ощущение гадости почти отсутствовало.
– Очень странное похмелье, – признался он. – Да и вообще вся эта история с булатом какая-то странная. Послушай-ка, крестник, ты мне всю правду сказал? Ничего не утаил?
– Всю! – и Усов перекрестился.
– Бумага нужна! – вдруг сказал Новиков. – Такая досада – не взял с собой ни бумаги, ни карандаша.
– На что тебе?
– Нарисовать перстень, чтобы показывать.
– Верно! Я вам из адмиралтейства вынесу. Хотя погоди. Может, перстень в трактире лежит, меня дожидается.
Но в трактире его не оказалось. Убедившись, что подарок действительно сгинул загадочным образом, приятели временно разбежались: Михайлов пошел в адмиралтейство, Новиков с Усовым – от кузнеца к кузнецу. Встретились в обеденную пору.
– Кажется, жареного быка бы с косточками съел, – признался Михайлов. – Я ведь позавтракать забыл.
– И я, – сказал Новиков. – Однако странно, что ты, выпив невесть сколько вина и водки, с утра скачешь, как молодой козел, а не лежишь в койке, призывая попа для последней исповеди.
– Сам удивляюсь. Вот бумага с карандашом.
– А не подсыпали ль тебе какой дряни в стакан, крестненький? – прямо спросил Усов. – У нас мастера Лялина так подпоить пробовали, чтобы секрет выведать. Насилу выходили.
– Нет. Этого быть не могло, – твердо отвечал Михайлов. – За столом были только свои. Это… это невозможно!.. – Он никого и ни в чем не желал подозревать – это было как-то непристойно. Тем более – своего брата, моряка.
– Погоди вопить. Когда вы уже были совсем веселые, в трактир мог войти посторонний человек, которому приглянулся твой перстень, – подсказал лазейку Новиков, уже набрасывая очертания перстня. – Но хотел бы я знать, кто и зачем собирает по столице доморощенный булат, не брезгуя даже крошечным кусочком? Дело запутанное. Воры, обокравшие Усова, цены булату не ведали – иначе не скинули бы добычу охтенскому кузнецу. А вот тот, что к кузнецу явился, цену ему знал. Так я понимаю. Но как он догадался, что воры потащились на Охту, – этого я пока взять в толк не могу.
– Я тоже. У нас в Туле знали, что я наварил каких-то «хлебцев» и повез их в столицу. Но не верили, что удалось сварить настоящий булат. Да коли бы кто хотел выкрасть – по дороге бы спер, на любом постоялом дворе, а не дожидаясь, пока я до Питера доеду, – стал рассуждать Усов. – Вот тут – вроде как выемки, а тут сглажено, – показал он на неточности в наброске.
Им подали хорошие густые щи, невзирая на пост – с порядочными кусками солонины, и все трое ели эту солонину, не говоря ни слова и отводя глаза. Потом был пирог-рыбник, тоже несколько поспешивший на стол, не дождавшийся субботы и воскресенья. Затем подали квас – даже полпиво казалось лишним.
Сытые и довольные, приятели пошли на пирс – провожать Михайлова. И там Новиков, бывший почти на полголовы выше Михайлова, не говоря уж о щуплом Усове, высмотрел кое-что любопытное.
– Гляди, гляди, побежал! – воскликнул он.
– Кто побежал?
– Да Ероха же! Ишь ты, одет матросом! Кто-то над ним, дураком, видать, сжалился, взял к себе. Ишь, как чешет! И не обернется!
Михайлов проводил взглядом Ерохину спину. Выпивоха сгинул в толпе и, видимо, тоже направлялся к пристани.
– Это ненадолго, – сказал Михайлов. – Пил и будет пить. А жаль – ведь не глуп был…
На пирсе он расстался с Новиковым и Усовым, уговорившись, что до отхода эскадры они будут оставлять друг для дружки записки в трактире. Они отправились на поиски неведомого кронштадтского кузнеца – уже не будучи уверены в его существовании, а Михайлов с большим свертком под мышкой и с особым конвертом за пазухой вернулся на фрегат.
Оказалось, он, будучи на суше, не узнал главного: война была объявлена.
– Пусть новая сигнальная книга полежит у тебя, – сказал ему Хомутов. – Целее будет. Пока старая не разлетится по листку, будем употреблять. А конверт дай сюда. Вскрывать его еще рано. И молчи о нем.
– Есть, – ответил Михайлов и удалился в свою каюту.
Там он открыл сундучок с сокровищами, сел на койку и некоторое время смотрел на переложенные карты с лоциями, соображая, кто и для чего это сделал. Михайлов потерял покой и предался мучительным размышлениям.
Поневоле вспомнилась Александра. После разрыва с ней все пошло каким-то кривым путем. Попался сперва на этом пути Ефимка Усов с булыгой на шее; Усов поведал булатную историю, а была ли она правдой – бог весть; на пальце оказался перстень; перстень пропал, и эта пропажа сопровождалась странными явлениями…
– Начхать, – сказал он сам себе. – Война, а у меня в голове чушь какая-то…
Но «начхать» не удавалось. Более того – память, словно проснувшись, повела себя на манер хозяйки, расчищающей чулан, куда лет десять не ступала нога человеческая: стала выкидывать все, что первым подвернется под руку, – голоса, лица, картинки…
– Майков? – задался вопросом Михайлов.
Лицо Майкова явилось в картинках несколько раз – то он был справа, то слева, то сдвигал с Михайловым стаканы, то нес какую-то моряцкую околесицу.
– Нет, не он, – решил Михайлов, устыдясь собственных подозрений. – Но, может, он видел, кто из посторонних подходил ко мне чересчур близко?
Он поспешил наверх, на дек, чтобы высмотреть, где встал на якоря «Иоанн Богослов», на котором служил Майков. Среди множества мачт опознать искомое судно непросто, а мысли между тем не давали покоя, пока за ним не прислал Хомутов. В любую минуту можно было ждать приказа выступать против шведов, и следовало соблюдать полную готовность да еще взять на борт как можно более боеприпасов, хотя ядра и так уже лежали на веревочных кранцах бесконечными чугунными великанскими ожерельями. Хомутов знал, что разовый залп шведской эскадры куда мощнее, чем у русской, хотя вымпелов у нее меньше. Знал он также, что на шведских судах – опытные моряки, а на своих немало рекрутов, взятых едва ли не в последний час, да еще следует ждать новых, и кто-то должен их наскоро обучать. И Михайлову было велено подготовить все для их приема.
Известие о войне всколыхнуло всех. В Москве собралось десять тысяч добровольцев, которых для скорости стали отправлять в Санкт-Петербург на почтовых. В Архангельске сотням записывались в ополчение, олонецкие крестьяне слали в рекруты самых толковых и здоровых парней. Но, что было важно для флота, в Кронштадт прибыли ладожские и онежские рыбаки, привычные к штормам и качке.
Целый день Михайлов маялся с новичками и в то же время думал о перстне. Подозревать Майкова было просто непорядочно – и все же Михайлов отправил с оказией записочку в трактир. Новиков с Майковым был знаком – вместе не служили, но в Кронштадте встречались, вот Михайлов и поручил приятелю отыскать этого офицера на «Иоанне Богослове», завести разговор о трактирном пире, а потом деликатно выяснить, как именно Михайлов напился и не было ли в этом гнусном деле непрошеных помощников; заодно установить, как нечаянный выпивоха вернулся на «Мстиславец» и попал в свою каюту.
Отослав записку, Михайлов вздохнул с облегчением. Новиков с Усовым уж что-нибудь разузнают. А ему пора выкинуть из головы такую дребедень, как перстень-печатка из сомнительного темного металла. Других забот хватает.
Ответной записки от Новикова Михайлов не дождался. 26 июня адмирал Грейг получил от государыни указ: «Следовать с Божьей помощью вперед, искать флот неприятельский и оный атаковать». Последние сборы были недолги – вечером 28 июня Михайлов самолично, под звуки горнов, приказывал матросам ставить лисель-спирты, чтобы в почти безветренную погоду выбрать якоря, покинуть южный кронштадтский рейд и, обогнув Котлин, двинуться со всей эскадрой на запад – навстречу герцогу Зюдерманландскому с его двадцатью вымпелами.
Нет зрелища более красивого, чем покидающая порт эскадра, все суда которой чисты и целы, гюйсы спущены, зато подняты капитанские брейд-вымпелы, паруса и реи не повреждены, маневры совершаются разом. Поздний закат был тихий, протянувший по воде розовую дорожку, суливший если не штиль, то погоду маловетреную. Родька Колокольцев, выйдя на ют и от нетерпения взобравшись на фор-ванты, высматривал вдали незримого врага. Душа кипела, жаждуя не просто боя, а абордажа, и для этой надобности он присмотрел уже преогромный крюк, чтобы первым метнуть его и перескочить на вражеский борт, осталось только раздобыть саблю, потому что в схватке на палубе кортик – не оружие.
Медленно шли на закат под всеми парусами красавцы – флагманский «Ростислав» о сотне пушек, «Болеслав», «Всеслав», Вышеслав», «Мечеслав» и прочие со сходными славянскими именами; шли фрегаты, шли бомбардирские корабли, катера и транспорты. Шли защищать от вражеского десанта Санкт-Петербург.
На третий день после отплытия случилось событие, совершенно незначительное – капитану второго ранга Михайлову упал на ногу топорик. Михайлов вскрикнул, ругнулся, опытный во всех делах боцман Елманов тут же пощупал ногу и установил, что косточки целы, прочный башмак их спас, даже незачем ходить к лекарю Стеллинскому. И точно – через час Михайлов не ощущал боли и не хромал. Но чертов топорик все же вмешался в его судьбу…
Глава шестая
Лазутчица
– Тетенька Сашетта, миленькая, у меня к вам дело, – сказала Мавруша. – Коли не вы – никто не поможет.
– Не зови меня тетенькой, – тут до Александры дошло, что словами этой беды не избыть. – Опять тетенькой назовешь – в музыкальные лавки за нотами не поедем.
– Да неловко… вы же старше… намного…
Маврушины мучения Александре отчего-то были приятны. Похожая на обезьянку смугловатая девица должна была после ангельского житья в Смольном опуститься наконец на грешную землю и привыкать к правилам человеческого общежития, для чего необходимо жестоко истребить в ней повадки смольнянки. Права тетка Федосья Сергеевна – с такими повадками и красавца-жениха не сыскать.
– Сашетта? – спросила девушка, видя, что Александра демонстративно занята рисованием очередного букета в синей стеклянной вазе и на «тетеньку» отзываться не собирается.
– Что, голубушка?
– Помогите мне найти мою лучшую подругу!
– Она пропала? Из Смольного?
– Ее родители забрали до срока, чтобы отдать замуж, жених уезжал за границу, сама государыня позволила. И мы условились, что она мне напишет, укажет адрес, а она все не пишет да не пишет!
– Так до тебя ли ей? Может, она в тягости или уж родила. Какая тут переписка?
– Мы в вечной дружбе поклялись!
– И как же зовут подругу?
– Поликсена Муравьева.
– Муравьевых много. Из каких она Муравьевых?
Мавруша задумалась. О семействе подруги она почти ничего не знала. Поликсену-Мурашку обычно навещала какая-то пожилая дама, иногда – две дамы, она называла их тетками.
– Давай начнем с другого конца, – решила Александра. – Не так часто смольнянок до окончания курса забирают. Я попробую съездить к госпоже Ржевской. Тем более – давно у нее не была, недели две, а она зовет. Она из смольнянок, навещает вашу Лафоншу, во фрейлинах год ходила, и с большим, и с малым двором хорошо знакома. Может, чего присоветует.
– Ай… Сашетта! – закричала Мавруша. – Ржевская – это та, что была дочкой господина Бецкого?
– В каком смысле – была дочкой?
– Он ее после выпуска к себе забрал, и она у него жила, покамест он ее замуж не выдал.
Конечно, следовало приучать Маврушу к светской жизни, но начинать с истории госпожи Ржевской Александра не рискнула. Пусть уж хранит в душе уважение к человеку, без которого и Воспитательного общества благородных девиц не существовало бы.
Когда государыня решила устроить в столице заведение для девиц наподобие французского Сен-Сира, она привлекла к участию Ивана Ивановича Бецкого. О ее дружбе с этим почтенным старцем ходили фривольные слухи – будто он был ее подлинным отцом: по слухам, Бецкой, будучи секретарем при русском после в Париже, был представлен герцогине Иоганне-Елизавете Ангальт-Цербстской и поладил с ней, а вскоре родилась у герцогини дочь Фредерика. Но в такой подоплеке не было нужды – государыня всегда любила знающих и начитанных собеседников, а Бецкой десятилетиями только тем и занимался, что сам себя образовывал, набивал голову модными философскими идеями и сводил знакомство с лучшими умами Европы.
В дела государственные он не мешался, и Екатерина нашла для него самое разумное применение, доверив ему воспитание молодого поколения. Вскоре после «шелковой революции» шестьдесят второго года Бецкой был назначен президентом Академии художеств, потом взялся за создание Воспитательного общества благородных девиц, главным попечителем которого стал, потом определен еще и шефом сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Позже он открыл воспитательные дома – сперва в Москве, затем в Санкт-Петербурге, и тратил много времени на то, чтобы создать особую воспитательную систему для взрастания новой породы людей – добродетельных, с изобретательным разумом, открытым сердцем, знающих и соблюдающих правила гражданской жизни.
И надо ж тому случиться, чтобы семядисятилетний старец, кому уже пора подумать о душе, влюбился со всей страстью кадета-молокососа в юную воспитанницу! Скорее всего им овладело платоническое чувство, но хлопот оно всем доставило изрядно. Избранницей Бецкого стала умница и музыкантша Глафира Алымова.
Бецкой действительно громко объявил, что будет печься о ней, как о родной дочери, хотя никаких бумаг по этому случаю не подписал, да и не мог – жива была Глафирина мать. Девочка только-только вошла в «серый» возраст, три года пролетели быстро, а когда она уже стала «белой смольнянкой», Бецкой отдался нежному чувству, мало беспокоясь, что скажут люди. Он каждый день навещал свою протеже, утомлял ее странными и смутными беседами, а когда при выпуске потребовался для девушки наряд – одел не хуже придворной дамы, все воспитанницы были в восторге от драгоценных кружев и жемчужных ниток для прически. Потом старик поселил девушку в своем доме, задав тем всей столице загадку: что там меж ними происходит? Полагали, что дело идет к свадьбе, но сам жених никак не мог формально попросить руки и сердца, хотя сцены ревности закатывал регулярно. При этом Глафира была фрейлиной великой княгини – стало быть, весь двор с любопытством следил на этой интригой. Наконец Алымова, осознав свое двусмысленное положение, решилась выйти замуж за поклонника, который как раз подозрительным вниманием не обременял, а просто сделался ей приятен и позвал под венец. Это был Алексей Андреевич Ржевский, чиновник и литератор, старше невесты лет на двадцать. Брак оказался на редкость удачным и счастливым. Сейчас в доме было трое детей, Глафира Ивановна носила четвертого.
В доме Ржевских собирались писатели, поэты, бывали придворные, приезжали бывшие смольнянки первых выпусков, ныне образованные и элегантные дамы. Там можно было не только на след Поликсены Муравьевой напасть, но и начать погоню за Нерецким.
– Я сама поеду туда, – сказала Александра. – А тебе есть чем заняться. Два ночных чепца взялась шить – ни одного не закончила.
– Я дошью, дошью! – пообещала Мавруша. – А что, Сашетта, скоро у нас будет музыкальный вечер?
– Охота блистать в свете? – усмехнулась Александра. – Я придумаю, когда позвать гостей.
– Ай, как хорошо!
Тут заглянула Фрося.
– Голубушка барыня, к вам Семен просится! Пустить?
– Уж не жениться ли собрался?
– Барыня, голубушка, вы его не пускайте, – неожиданно попросила Фрося, хотя Александра знала, никаких видов горничная на кучера Семена не имела. – Не пускайте дурака, Христом-Богом прошу! – И скрылась.
– Экие загадки в собственном доме, – сказала Александра. – Глянь-ка, Мавринька, не перебрала ли я с алым цветом. Какой-то он неестественный…
Не следовало так говорить – вспомнился Михайлов в набедренной повязке из мокрой рубахи. И сразу ввалился кучер, прямо с порога бухнулся на колени, и не столько попросил, сколько потребовал:
– Матушка барыня, отпустите на войну!
– Да война через неделю кончится, – уверенно ответила Александра. – И без тебя шведов побьют. Ступай, закладывай экипаж, к Ржевским поеду. Мавруша, помоги Фросе голову мне убрать. Проклятая война!
Не так уж много было в столице русских парикмахеров – так едва не половина записалась в полки, оставшиеся французы тут же переняли охотников до модных причесок, и к мусью Трише уже следовало записываться загодя.
Счастье, что вышли из моды высокие громоздкие прически, в которых куаферы устраивали то сад с плодами, то виноградник с гроздьями, то целую цветочную клумбу. Признаться, кое-что в этих затеях десятилетней давности Александре нравилось: в 1778 году в честь французского фрегата, одолевшего в морском сражении англичан, королева Мария-Антуанетта изобрела прическу «а-ля Бель-Пуль», и буквально на следующий день дамы взгромоздили себе на всчесанные высоко, на аршин, волосы маленькие фрегаты. В этой прическе было известное озорство – ради нее Александра потерпела бы и многочасовое сидение в кресле перед зеркалом. Но как вспомнишь, что дамы, однажды возведя на голове подобное сооружение, потом две-три ночи спали в креслах, то никаких фрегатов не захочется.
– Что ты еще помнишь про свою Поликсену? – спросила Александра, уже готовая к выходу. На ней было платье модного покроя, неожиданного, блекло-лилового цвета, в тонкую полоску, которого никто не носил. Она случайно набрела в лавке на штуку атласа и всю ее забрала, чтобы никто не обезьянничал. Очень удачно подобрались белые атласные ленты на каскад бантов, украшавших лиф, с едва заметным зеленоватым оттенком.
– Она чудо как хороша, – ответила Мавруша. – Волосы у нее светло-русые, кожа такой белизны, что прямо светится! А глаза – голубые! И носик пряменький! И стан пышный, не то что у меня! Кадеты, что приезжали к нам спектакли смотреть, все от нее глаз не отводили! Но говорят, что я танцую лучше и в ролях сильнее, сама государыня меня хвалить изволила!
– Да уж наслышана. Может, все же откопаешь в памяти, как звали ее теток? Может, она какие-то имена называла? Улицы вспоминала, храмы Божьи, куда дитятей ходила? – задавая вопросы, Александра пристегивала справа к лифу любимый шатлен – наверху жемчужина, лежащая на ложе из золотых лепестков, от нее – широкая золотая цепочка хитрого плетения в полтора вершка, на цепочке – часы с золотой узорчатой крышкой, просто и надежно. У нее имелся и другой шатлен, подарок покойного мужа, очень дорогой и весомый – там одного золота унции четыре, не меньше. Но он не имел достойного вида – крючок скрыт какой-то странной нашлепкой с алмазами, от нее пять толстых цепочек – с часами, медальоном, перочинным ножичком, пузырьком для духов и ключиком от часов – естественно, все в мелкой алмазной россыпи. Следовало бы его или переделать, или продать, да все руки не доходили.
Мавруша чуть не заплакала – ничего из прошлой жизни Поликсена не вспоминала, им было о чем говорить и кроме скучных теток.
У Ржевских собралось общество небольшое, но завидное – с порога Александра увидела самого Гаврилу Романовича Державина, окруженного дамами и очень довольного их вниманием. Из другого угла гостиной доносилось птичье пение, но птица была явно ученой – высвистывала мелодию. Александра, наподобие Буриданова осла, встала у дверей, выбирая: Державин или птица? Любопытство победило – с поэтом-то она уже встречалась, а такого птичьего таланта еще не видывала.
Но вместо клетки на подоконнике стояла причудливой формы деревянная шкатулка с откинутой крышкой, оттуда и слышалась мелодия. Ржевские купили детям дорогую игрушку под названием «серинет» и, как водится, взрослые первыми от души ею забавлялись. Этот маленький органчик исполнял десяток мелодий, и уже решено было, когда малыши натешатся, отдать его приятелю Ржевского, большому любителю пернатых, для обучения щеглов и канареек.
Теперь можно было идти к Державину и принять участие в литературной беседе. Как и положено в гостиной, речь шла о вещах забавных – Гаврила Романович вспоминал всякие стихотворные недоразумения.
– А также пташкам везет, – говорил он. – Казалось бы, кто не видал птичьего клювика? Однако ж прилетает муза – и стихотворец теряет разум. Вот, сударыни, пример, а стихотворца не назову, чтоб не позорить.
И он прочитал с комическим чувством:
- – Случились там поставлены силки,
- Куды несмысленны валятся голубки.
- В них голубок попал, сидел в темнице,
- Кой-как разгрыз зубами узелки
- И волю получил…
Общий хохот помешал ему продолжать.
– Храни вас Господь от зубастых голубков, мои голубушки. А вот еще прелестное изобретение, и тут стихотворца не назову, но вирши надолго запомнились. Вот, начну с середины:
- Вдруг новый доктор появился,
- Всем доктор полюбился.
- Горазд лечить,
- Всяк хочет жить;
- Хоть болен кто, хоть нет, но всяк лечился;
- А доктор богатился.
- Пословица лежит: куда-де конь с ногой,
- Туда и жаба со клешней…
– Гаврила Романыч, да это же мýжнино творение! – воскликнула госпожа Ржевская. – Он сам, когда еще только за мной увивался, эти вирши читал для смеху! Сейчас вернется – что-нибудь еще вспомнит и прочитает.
– Жаль, что более не пишет. Талант у него отменный.
– Пишет, Гаврила Романыч, но немного. Дела мешают. Мало ему, что сенатор и тайный советник, мало что избран в Российскую академию, так еще ввязался в эту затею с академическим словарем, сам читает статьи и переводы. Не до мадригалов! – Глафира Ивановна развела руками. – Да и семья…
– Ваше семейство почитаю идеальным, – и Державин вздохнул.
Тут же одна из гостий перевела разговор на иную тему – все знали, что супругу свою поэт любит всей душой, однако Бог не дал детей, а у Ржевских – трое, и такими можно гордиться.
– Матушка Глафира Ивановна, – обратилась к хозяйке Александра. – Совет нужен. Пропажа у меня завелась.
Они уселись в сторонке, там, где стояла большая позолоченная арфа. Ржевская еще девицей слыла первой столичной арфисткой и в замужестве музыки не оставила. Мало ли как жизнь распорядится, – а преподаванием всегда можно прокормиться, да и в числе светских талантов этот – среди первых, на клавикордах-то всякая купеческая дочка уже бренчать выучилась, арфа же – инструмент благородный.
Александра вполголоса поведала историю о Поликсене Муравьевой.
– Да, я слыхала про Муравьеву. Ее забрали и повезли в Москву, чтобы там обвенчать с женихом. Но, сказывали, в Пруссию этот господин – то ли Криницкий, то ли Краницкий – один поехал, а жену оставил у родни. Коли она в России и жива, – странно, что подруге не писала. Те связи, что в Смольном рождаются, прочные. Я могу спросить у Лизы Рубановской, мы с ее сестрицей Анютой почти так же дружили, как твоя протеже с Поликсеной Муравьевой. Царствие небесное Анюте… Могу еще у Катиш Хованской… ах да, она ведь замужем…
– За Нелединским.
– Они вскоре обещались к нам в гости быть. Что же, смольнянки должны друг дружку выручать, – госпожа Ржевская любезно улыбнулась, и Александра поняла, что больше на эту тему говорить не стоит – обещание получено, этого довольно.
Теперь нужно было как-то подобраться к Нерецкому. Но не спешить, а посидеть с дамами да кавалерами, подождать, пока заговорят о музыке, о модных романсах.
Однако беседа свернула на более острую тему – на войну. У каждого из присутствующих нашлись знакомцы и родственники в эскадре Грейга. Все беспокоились – когда придет приказ идти на шведа, долго ли продлится военный поход, не будет ли избыточных опасностей. Да и на суше тоже возможны стычки. Раз уж шведы перешли границу – рано или поздно предстоит сражение с отправленной навстречу врагу гвардией под командованием генерала Мусина-Пушкина.
– Уже осажден Нейшлот, – сказал Державин. – Да только все это – трата времени. Где-то я вычитал, что не стоит кидать в соседа каменьями тому, у кого над домом стеклянная крыша.
– А что ж у шведов стеклянного? – спросили его.
– Финляндия.
Слушать про войну и про нежелание финских офицеров служить шведскому королю Александра не желала. К тому же она ощутила некое неудобство – подвязка поползла вниз, следовало подтянуть ее, пока не съехал чулок. Юбка была довольно короткой, открывала и туфли, и щиколотки – недоставало только опозориться…
Выйдя из гостиной, Александра направилась в комнату, где стояли только шкафы с книгами да старая мебель, при нужде там можно было устроить на жительство гостя. Александра не знала только, что дверь оттуда ведет в кабинет господина Ржевского.
Она была полуоткрыта – видимо, хозяин входил сюда за книгами. И Александра услышала голоса.
Первый принадлежал Ржевскому. Этот господин ей нравился чрезвычайно – хотя ему было уже полвека. Ржевский был все еще по-юношески строен, лицо имел тонкое, выразительное, большеглазое, даже крупный нос его не портил. Беседа с ним всегда была увлекательна, и он умел оставлять свои служебные заботы за дверью гостиной. Не то чтобы Александра завидовала Глафире Ивановне, а просто понимала: для того, чтобы спокойно и радостно жить, растить детей, быть счастливой, нужен такой человек, как Алексей Андреевич, умный, спокойный и ласковый. Разумом понимала, а сердце буянило.
Второй голос тоже был знакомый…
– Но кто же мог это предвидеть? Кто? – безнадежно спрашивал тот.
– Любой подьячий, прочитавший в жизни хоть пару книг исторических да имеющий деда, чтобы расспросить его, – отвечал Ржевский.
– Нет. Прошлое не имеет такой власти.
– Имеет. Коли какому государству на роду написано воевать с другим, так это надолго. России на роду написано воевать со Швецией.
– Но ничего глупее этой войны выдумать невозможно…
Александра, быстро подтянув подвязку и встав за угол книжного шкафа, обжала на себе юбки. Теперь можно было осторожно заглянуть в кабинет.
– Нет, сударь, к этой войне Густав подготовился весьма разумно. Его действия лишь кажутся дурацкими. Вспомни историю. Россия со Швецией еще при Александре Невском воевала, при Иване Грозном тоже – за ливонское наследство. Когда Смута кончилась – опять взялись воевать. При государе Алексее Михайловиче была российско-шведская война, только там выбирать пришлось: или ляхов с Украины гнать, или шведов – из Лифляндии. Решили выручать своих братьев, православных, а Лифляндия подождет… Ну и ждала добрых полвека. Затем – то, что твой дед, сударь, статочно, своими глазами видел – войны Петра Великого с той же Швецией. Кончилось все Ништадским мирным договором. При государыне Елизавете Петровне со шведами сражались, это уж твой батюшка должен помнить. И вот теперь. А чем нынешняя война от тех отличается – ты хоть понимаешь?
– Объясните, сделайте милость.
Александра вытянула шею и тут же спряталась. Это был Нерецкий! – расстроенный, обеспокоенный, недовольный.
– Тем, что судьба Санкт-Петербурга решается на море. Редкий случай – такого еще, кажись, у нас не бывало. Если эскадра герцога Зюдерманландского одолеет нашу – шведы высадят под столицей десант. А где наша армия – напомнить?
– На юге… но ведь гвардия наготове!..
– Гвардия! Не знающая, что есть баталия!.. Не имеющая достойных командиров!.. А что у нас во флоте? Что, старательно подготовленное королем Густавом?
Нерецкий молчал.
– Назовем, сударь, вещи своими именами. Ты сам с этой новостью прибежал – отчего ж боишься произнести решительное слово? У нас во флоте – измена! Именно так называется то, что друзья твои умудрились состряпать за десять лет. Измена.
– Но кто мог знать?.. Ведь войны не ждали!..
– Ее мог предсказать всякий, кто не парит в облаках, а читает исторические книги. Шведские короли не угомонятся, пока не сменится династия. До той поры они будут наскакивать на Россию и затевать войны.
– Так что же делать? Писать донос?
– Государыня понимает положение вещей… в общих чертах…
Более Ржевский ничего не сказал.
– Значит, мы погибли? – спросил Нерецкий.
– Кого изволишь называть «мы»? Флотских офицеров, друзей твоих, заигравшихся и заваривших эту кашу? Или честных российских подданных? Знал я, когда настойчиво требовал встречи с тобой, что у вас там неладно, знал… Да не думал, что вас настолько оболванили…
Нерецкий промолчал.
– Ты все мне рассказал?
– Ну… должно быть, главное…
– И то верно – историю десятилетних глупостей за полчаса не изложишь. Я должен снестись с нашими влиятельными московскими братьями, которые еще сохранили остатки разума и могут вразумить безумцев. Положение тревожно, – сказал Ржевский. – К счастью, мое слово в наших кругах еще кое-что значит. Мало ли я этих господ мирил? Но пока вижу один способ уменьшить вред, который может причинить «Нептун» и иже с ним. Времени мало. Хочешь поехать с письмами в Москву?
– Да, хочу!
– Ступай собираться и через час будь тут. Каждая минута дорога. Все зависит от того, когда государыня даст приказ Грейговой эскадре. Ту кучу дерьма, которая у нас образовалась, можно разгрести только всем миром…
– Но ведь из лучших намерений?…
– И ими выстлана дорога в ад! – вдруг крикнул Ржевский. – Да ступай же! А ежели будешь ахать, охать и хвататься за голову вместо того, чтобы действовать, то грош цена твоему раскаянию, сударь, грош цена. Жду через час, а лучше – ранее. Еще тебе придется съездить с моей запиской за подорожной. А время позднее. Хорошо, есть кому помочь…
– Иду.
– Не серчай. Когда бы вы натворили дел – поздно было бы мне тебя расспрашивать да вытаскивать из тебя сведения, как гнилой зуб щипцами. Другие люди бы делали вопросы – это хоть ты понял?
– Понял…
– Ступай.
Нерецкий вышел из кабинета.
Александра выскочила в коридор и заметалась – как попасть на улицу? Ведь коли он идет домой – можно узнать, где квартирует, а это очень важно! Наконец она догадалась и пташкой вылетела на Итальянскую.
Нерецкий опередил ее на сотню шагов. Времени отыскивать свой экипаж не было – пока найдешь, пока усядешься в карету, «добыча» сгинет в каком-нибудь переулке. Александра побежала, мало беспокоясь, что подумают о ней прохожие.
Она поняла одно – ее избранник попал в беду, из которой не так просто выкарабкаться. Но это ее даже радовало – сам Господь посылает ей возможность спасти любимого человека! От чего спасти, как спасти – значения не имело.
Смысл разговора с Ржевским был ей в общих чертах понятен – Нерецкий запутался, совершил какие-то глупости и пришел советоваться со старшим товарищем. Слов об измене она не поняла – но рассудила, что пытаться мыслить на бегу – глупое занятие. Скорее всего беда Нерецкого и есть та преграда, которую он поставил между собой и Александрой. Тем лучше – есть возможность докопаться до правды!
Бежать оказалось недалеко – по Итальянской до Екатерининской канавы, вдоль нее да через Невский, а там уж и Мещанские.
Народ действительно косился на Александру: дама, так щегольски одетая, если и прогуливается, так при ней обязательно лакей, компаньонка, еще кто-нибудь, да и ходит днем, а сейчас вечер, и несется эта сумасбродка, подхватив юбки. К счастью, вскоре Нерецкий взошел на крыльце и взялся за дверную ручку. Надо полагать, тут, напротив губернаторского дома, он и жил.
Но вместо того, чтобы повернуть и устремиться к Ржевским, Александра задержалась, отчего – бог весть.
В это мгновение некий человек кинулся на Нерецкого, ухватил его за плечо, не позволив ему войти.
Александра ахнула – похоже, беда была серьезнее, чем ей казалось. Оружия при себе она не имела – да и кто бы взял оружие, собираясь в гости к Ржевским? Но в том, что сможет яростной оплеухой сбросить мерзавца с крыльца, Александра не сомневалась.
Она, опять подхватив юбки, кинулась на выручку к возлюбленному, но остановилась: драки не было, а человек, напавший на Нерецкого, по-видимости, что-то ему бурно объяснял, размахивая руками. Нерецкий же не пытался от него избавиться, а слушал и тоже жестикулировал. Наконец оба сошли с крыльца и размашистым шагом устремились прочь.
Это было странно – ведь Нерецкий обещал Ржевскому собраться и через час быть у него, а вместо того куда-то понесся с человеком, на котором, кажется, была круглая матросская шапка.
Великая сила – женское любопытство. Александра вообразила то самое, что пришло бы на ум любой даме: этот человек прислан любовницей, которая срочно зовет к себе Нерецкого! Стало быть, нужно дознаться, кто врагиня.
Александра уже вообразила юное прекрасное создание, непременно с голубыми глазами, с пухлыми губками, сложенными в притягательную полуулыбкуи наверняка с миллионным приданым, когда Нерецкий и матрос устремились к двери, в которой даже светская дама опознала бы трактирную по двум полумертвым телам, лежащим около, и по доносящемуся из открытых окон шуму.
Возлюбленная Нерецкого никак не могла обитать в трактире с точки зрения Александры, как и он сам. Человек, столь проникновенно поющий о любви, и грязный трактир – это было совершенно несовместимо! Однако Нерецкий первым вошел в вертеп, и даже без всякой брезгливости.
Александра и близко подходить не стала. Интуитивно она угадала, что пить там водку до рассвета он не станет, а выйдет очень скоро. Так и получилось – минут через пять Нерецкий и матрос покинули трактир, причем Нерецкий почти бежал, а матрос еле поспевал за ним, заскакивая то слева, то справа. Наконец оба остановились лицом к лицу, и Нерецкий произнес какую-то гневную и отчаянную тираду. Матрос разводил руками – оправдывался, не иначе.
Вдруг матрос рухнул на колени и рванул на груди и камзол, и рубаху. Нерецкий шарахнулся от него, отступил, матрос пополз за ним. Тогда Нерецкий схватился за голову, закрыл лицо ладонями и, похоже, собрался прямо посреди улицы разразиться рыданьями. Этого Александра вынести уже не смогла.
Она поспешила на помощь.
– Что случилось? – спросила она, взяв Нерецкого за руку, но не пытаясь отвести ладони от лица. – Что за несчастье? Вам нужна помощь?
– Это невозможно, – ответил он. – Это совершенно невозможно. Я опозорен, я погиб…
– Нет! Пока человек жив – позор можно смыть, от врагов скрыться! Что случилось?
– Это вы?!
Александра невольно улыбнулась – наконец-то до него дошло, кто перед ним.
Мимо пробегали прохожие, кое-кто даже останавливались поодаль, разглядывая ополоумевшего матроса и показывал на него пальцем. Эти люди были Александре безразличны – она обняла Нерецкого, он обнял ее, они тесно прижались друг к другу и замерли.
– Я помогу тебе, – прошептала Александра. – Ты только объясни, что нужно сделать.
– Сделать тут ничего невозможно… – Нерецкий вдруг опомнился и оттолкнул от себя возлюбленную. – На нас смотрят!
– Ну и что?
– Твоя репутация…
– Кому нужна тут моя репутация? Пойдем, отведи меня к себе, и там все расскажи…
– Ко мне? Это невозможно!
Настаивать Александра не стала – но дала себе слово раскрыть эту тайну.
– Ну, хоть куда-нибудь, где мы сможем поговорить.
– Можно во дворе на лавке, – неуверенно сказал он.
– Отлично, идем. Предложи мне руку.
– Да, конечно…
Матрос, стоя на коленях, провожал их взглядом, потом вскочил и понесся следом.
К удивлению Александры, Нерецкий привел ее во двор того дома на Второй Мещанской, где, видимо, нанимал квартиру. Там у черного входа стояла подходящая лавка, на которой Александра смогла разложить свою пышную юбку.
Нерецкий сел рядом, и они, не сговариваясь, разом взялись за руки.
– Ну, что стряслось? – спросила она.
– Стряслось то, что я должен сейчас же, сию минуту ехать в Москву по очень важному делу.
– Разве это беда?
– Беда в том, что у меня нет хотя бы суток… Сашетта, я… я должен был получить письмо, содержания которого не знаю, но от него очень многое зависит, очень многое, я не могу тебе этого объяснить.
– И незачем. Где это письмо?
– Оно пропало! И если оно попадет к недоброжелателям – то пропал я сам, но это еще полбеды, пропали мои друзья…
– Погоди, может, еще есть возможность его найти.
– Есть, наверно, только я не могу, говорю же тебе – я должен сейчас же, в ночь, выезжать!
– А как именно оно пропало? – нежно поглаживая его руки, настойчиво домогалась Александра.
– Совершенно дурацкая история. В доме, где я нанял квартиру, проживает также госпожа Ольберг, ученая повитуха, и она славится своим мастерством, принимает самые трудные роды. У нее для того, говорят, особая комната предназначена. Я никогда не любопытствовал насчет ее ремесла и могу лишь догадываться, что случилось. Я не уверен…
– Ты говори, говори…
– Видимо, какая-то дама или даже девица хотела родить тайно, а ребенка отдать его отцу. По крайней мере, мне так кажется. Еще я предположил, что рожать в своем доме она побоялась. Может, и впрямь девица, и не хотела перепугать криками свою матушку… Ей-богу, не знаю! Она приехала рожать к госпоже Ольберг со своей горничной. Судя по тому, что произошло, был уговор – человек, которого пришлет отец ребенка, должен ждать во дворе, ему передадут дитя, и он это дитя унесет. Но так случилось, что на лавке сидел этот подлец, простите… тот, кого прислали ко мне с письмом! Горничная вынесла дитя и отдала ему, но вот тут я уже не совсем понимаю – выходит, что он оказался с этим младенцем довольно далеко от Мещанской, квартала за три. Потом горничная убежала, он остался в растерянности, и тут на него напало вдруг человеколюбие! Он понес дитя в трактир, полагая, что трактирщица, имеющая своего младенца, и чужого может покормить. В трактире он стал пить и пропил кафтан вместе с письмом. Потом он пытался вернуть письмо, но ему соглашались отдать только вместе с младенцем, а младенца он брать боялся – в трактире-то его непременно покормят, а если нести в полицию – начнутся нелепые расспросы, а если в воспитательный дом – всем известно, как там детишки мрут. Мой человеколюбец решил дождаться меня, чтобы я пошел в трактир, выкупил там письмо и вообще как-то все уладил. Он лишь сейчас меня встретил, мы пошли в трактир, я был готов потратить любые деньги, но младенца там уже не было…
– Куда ж его дели? – забеспокоилась Александра.
– Далее только мои домыслы. Человек, которого прислал отец младенца, где-то задержался. Когда он пришел сюда, все уже свершилось. Он ждал несколько часов, потом поднялся к повитухе и узнал, что дитя давно унесли, а роженица с горничной уехали домой. То есть он понял, что младенца по ошибке отдали чужому человеку. Отец, очевидно, человек зажиточный и имеющий слуг – послал их разведать, не было ли найдено в окрестностях ночью новорожденное дитя. Господь навел их на этот трактир, и они забрали младенца у трактирщицы, щедро ей заплатив. Но вот тут-то и начинается моя беда! Эта бестолковая баба сунула мое письмо, чтобы не потерять, в одеяльце, которым обернули дитя, в самое изголовье, и потом отдала младенца вместе с письмом! Кому – сама не ведает! Все было впопыхах, она и думать забыла о письме. И вот оно – непонятно у кого, как искать – неизвестно, а я должен быть уже в пути! А в письме настолько важные сведения… Если его вскроет посторонний, будет большая беда…
– Теперь все ясно, – сказала Александра. – Повитуха вряд ли даст тебе сейчас адрес той дамы или ее любовника. Судя по всему, ей хорошо заплачено, и ответ будет один: знать не знаю! Послушай – ты спокойно поезжай в Москву, а письмо искать буду я.
– Как?
– Понятия не имею. Но найду обязательно.
Александра встала, встал и Нерецкий. Они не размыкали рук, держась друг за дружку совсем по-детски.
– Это судьба, – прошептал Нерецкий. – Видит Бог, я ставил преграды…
– Нам нельзя разлучаться.
– Нам нельзя быть вместе.
– Мы будем вместе.
– Нет, невозможно… я люблю тебя больше всего в мире, но изменить прошлое нельзя…
– Можно! Если любишь! – воскликнула Александра и обняла Нерецкого. – Нет более никакого прошлого, понимаешь? Нет его! Ни у тебя, ни у меня! Есть только будущее! И настоящее, конечно!
– Легко тебе говорить, ты сильна духом…
– А ты слаб?
– Я – слаб…
– Это поправимо.
– Ты ангел…
Нерецкий поцеловал Александру в губы. Начал он по-ангельски – но с каждым мгновением в поцелуй вливалось все больше страсти. Александра опомнилась первой.
– Все будет, свет мой, все будет! – пылко пообещала она. – Ты вернешься, мы встретимся… Мы друг другу на роду написаны!
– Нет! – вскрикнул Нерецкий. – Нет! Не выйдет! Прости, прости…
– Но ты любишь меня?
– Люблю! Боже, какой я подлец! – Нерецкий отскочил и рванул на себя дверь. Башмаки простучали по ступеням. Александра тихо засмеялась. Она знала, что добьется своего.
Теперь пора было возвращаться к Ржевским. Конечно, будут расспрашивать, где пропадала. Нужна достоверная ложь. Сердце заколотилось, вышла подышать свежим воздухом… Не поверят! Какое может быть сердечное недомогание у особы такого сложения и такого нрава? А вот чему поверят – живот, мол, схватило. Не станут же по такому поводу допрашивать слуг. Довольно будет шепнуть тихонько хозяйке дома, она с пониманием кивнет – и забудет: у матери четверых детей других забот хватает.
– Сударыня, сударыня! – позвал незнакомый мужской голос.
Александра обернулась. К ней приближался матрос-подлец.
– Пошел прочь, – сказала она.
– Сударыня, простите, ради бога. Я слышал ваш разговор с господином Нерецким и одного прошу – позвольте провинность свою делом искупить и вам помогать в ваших поисках.
– Да кто вы такой? – удивленно спросила она, поскольку речь была непростонародная.
– Мичман Ерофеев, к вашим услугам, – матрос поклонился.
– Чудеса… – только и могла сказать Александра. – Что все это значит?
– Объяснить не могу, сударыня, сам многого не понимаю.
– Где вас при нужде искать?
– Сударыня… искать-то меня негде… Я на несколько часов прибыл из Кронштадта, где ночевать – не ведаю…
Тут Александра заподозрила неладное.
– Неужто в столице трактиров не осталось? – спросила она. – Устройтесь на ночь, а утром пришлите мне записку. Я квартирую в доме госпожи Рогозинской, в Большой Миллионной.
– Сударыня, беда в том, что у меня вовсе нет денег…
– Ничем не могу помочь, у меня их тоже нет. Это было чистой правдой – зачем, собираясь провести вечер в приличном доме, брать с собой кошелек?
– Сударыня…
– Прощайте, господин мичман, впредь носите с собой хоть два рубля.
Александра ускорила шаг. Теперь ей стало ясно, что человек этот – сомнительный, нанятый почему-то для доставки письма, мичманом назвался сдуру, иметь с ним дело нельзя.
– Сударыня!..
Этот отчаянный вопль остался без ответа. Александра перешла на бег, а бегать она умела, даже в неудобном платье с попадающими промеж ног нижними юбками. До Невского было совсем недалеко, а на Невском в такое время года гулянье допоздна, мнимый мичман не рискнет приставать.
У Ржевских уже заметили ее отсутствие. Пришлось, разумеется, наплести и про живот, и про острое желание после приключившейся беды подышать свежим воздухом. А потом Александра отправилась домой. Она решила зайти к Мавруше, рассказать, что госпожа Ржевская обещала помочь в поисках Поликсены Муравьевой.
– Что, Фросенька, она еще не спит?
– Голубушка барыня, не спит, свечку жжет!
Александра вошла без стука и обнаружила, что Мавруша прилегла на постель одетая, да так и уснула. На рабочем столике горела свеча, были разложены бумаги, стояли цветы в маленькой вазе и тут же – стакан с грязной водой, в котором полоскали акварельные кисти. Александра подивилась тому, что девушка вздумала рисовать букет ночью, при скверном освещении, и полюбопытствовала, что вышло.
Но это был не букет. Мавруша по памяти воспроизвела, как умела, мужское лицо, несколько нарушив пропорции, но точно передав грустную складку рта и линию изогнутых черных бровей.
Увидев это лицо, Александра сердито засопела: вот чего еще недоставало! Первая мысль была – изничтожить картинку, чтоб неповадно было в чужих избранников влюбляться! Вторая: да и как же было не влюбиться бедной дурочке…
На портрете был изображен, разумеется, Нерецкий.
Глава седьмая
Новые козни Ерохиной планиды
Ероха сильно затосковал.
Он понял, что жизнь его несуразна, бестолкова, и осталось лишь одно – спиться окончательно и сдохнуть под забором. Непонятно, правда, на какие деньги это проделать, ну да мир не без добрых людей – совсем пропившемуся всегда чарочку из сострадания поднесут.
Понял он это, проводив до Невского ту даму, что взялась отыскать утраченный пакет Змаевича. Дама неслась, не оборачиваясь, зачем Ероха потащился за ней – и сам не знал. Куда-то ж нужно было деваться.
Он мог вернуться в ту комнату, которую снимал – но, поскольку не платил целую вечность и не показывался там по меньшей мере две недели, следовало ожидать, что хозяйка пустила туда другого жильца.
Можно попытаться к милосердному Новикову… Нет, как раз туда он не мог пойти, перед Новиковым было стыдно.
В трактирах – где задолжал, и где никогда не пустят за стол, не убедившись, что в Ерохином кармане есть хоть гривенник. А восемьдесят копеек Змаевича пропали. Пропал и матросский кафтан. Как возвратиться в Кронштадт? На «Дерись» уже не возьмут, да и как признаться в утрате пакета? А на других судах он никому не нужен – вот и получается, что единственный шанс стать человеком помахал хвостиком и исчез.
Ероха брел и брел, не ведая который час, не имея цели. Наконец он оказался на невском берегу – там, где берег еще не одели гранитом. В воду врезались мостки, на которых сидели с удочками обезумевшие от своей страсти рыболовы, иные выплыли на лодках чуть не на середину реки. Ероха облегченно вздохнул, – тут можно было забраться под лодку и уснуть.
Он дошел до самой крайней лодки, старой и ненужной, чудом не угодившей в печь, лег на траву и вполз под дощатый свод, стараясь не треснуться лбом о сиденье. Но внутри что-то было – ощупав предмет, потянув и подергав, Ероха понял: суконный кафтан!
Вот как раз кафтан ему и требовался, потому что бегать по Питеру в одной рубахе и камзоле даже для выпивохи было непристойно. Ероха, неуклюже барахтаясь, облачился в кафтан, запахнулся и понял – сейчас угреется и заснет, и это – единственное, что в его жизни хорошо. А завтра – будет день, будет и пища. Не привыкать ложиться на пустой желудок.
К тому времени как Ероха проснулся, в столице уже началась уличная жизнь. Выбравшись из-под лодки и надвинув на щетинистый череп шапку, он пошел куда глаза глядят.
Одежка, обнаруженная под лодкой, была причудливая – бурого какого-то цвета с голубыми полосами. Полосы, конечно, в моде, но это даже для самого смелого щеголя было избыточно, более всего удивили Ероху большие белые пуговицы – надо полагать, костяные. Он решил, что лучше бы эту находку снести в трактир к Аксинье Мироновне, а она уж сообразит, что с такими полосами делать, заодно и нальет. Раз не вышло вернуться во флот – значит, пить можно и нужно…
Предчувствуя и выпивку, и даже закуску, Ероха помыкался в закоулках, забрел на кладбище и вышел к Александроневской лавре. Далее путь лежал к Невскому, до Казанского собора, а оттуда на Большую Мещанскую. А что люди таращатся на странное одеяние – так и черт с ними.
Ероха преспокойно дошел до Литейного, когда его ангел-хранитель, видимо, сказал: на сегодня хватит.
– Постой-ка, молодец! – крикнул ему господин, похожий на средней руки русского купца. – Куда торопишься?
Ероха остановился, купец подошел, да не один – с ним были двое детин, сытых и наглых, которым как раз за наглость и прилипчивость жалованье платят. Все трое были в длинных темных кафтанах, наглухо застегнуты.
– Никуда не тороплюсь, – отвечал Ероха, – а тебе, сударь мой, что за дело?
– Не про тебя ли вчера в «Ведомостях» пропечатано?
– Нет, обо в газетах не пишут.
– А мне сдается, пишут! Пантюха, Митенька, ну-ка орла под белы рученьки!..
– Пустите, сукины дети! – заорал Ероха. – Что привязались?!
Приказчики, похоже, для того и были выкормлены, чтобы тяжести таскать. Они подхватили Ероху и, как он ни упирался, легко и стремительно затащили его во двор. Купец вошел следом.
– Экая забава, а я-то скучал! – весело сказал он. – Вяжите его, братцы. Десять рублей на дороге не валяются!
– Помогите! – закричал Ероха, и тут же ему заткнули рот скомканным платком величиной чуть ли не со скатерть. Шапка слетела с головы, и Митенька с Пантюхой, удивившись, дали оценку Ерохиной прическе, не стесняясь в выражениях. Шапку, впрочем, подобрали.
Меж тем купец развил бурную деятельность.
– Дашка, эй, Дашка! – кричал он. – Федосью Марковну к окошку позови! Гаврюшка, закладывай гнедого в телегу, на телеге повезем, невелик барин! Федосья Марковна, глянь – он самый, полосатый!
Ероха ничего не понимал.
Не прошло и часа, как он, связанный и спеленутый старой простыней на манер младенца, с закрытым лицом и тряпичным кляпом во рту, с матросской шапкой под головой, ехал куда-то на телеге, и хорошо еще, что «не ногами вперед». Лошадь шла шагом, кучер переговаривался с веселым купцом, который шествовал рядом с телегой, сопровождаемый Митенькой и Пантюхой. Вся эта история сильно его развлекала.
Наконец телега остановилась, голоса пропали. Был обычный уличный шум, и только. Ероха ничего не понимал и мысленно молился – читал «Отче наш» и пытался вспомнить псалмы, но и в годы учения не знал ни одного целиком, а теперь уцелели какие-то отдельные фразы, жалобы на свое горе и призывы на помощь. Ероха даже обещал бросить пить, если эта история благополучно кончится, обещал – и понимал, что врет…
– Эй, горемыка, – окликнул его кучер. – Ты жив там?
Ероха промычал то, что в подобном случае отвечает русский человек, чтобы от него отвязались.
– Только следом за тобой. Ты лежи на спинке, радуйся, – посоветовал догадливый кучер. – Вот спустится твой барин – измочалят тебе спинку-то, неделю на брюхе будешь спать, дуралей.
Эта новость привела Ероху в ужас. И когда его потащили из телеги, стал брыкаться. Снова вознеслась к небесам беззвучная клятва бросить пьянство навеки. Митенька и Пантюха под локти заволокли Ероху вверх по лестнице, поставили на ноги и тогда раскутали ему лицо.
– Вот, ваше превосходительство, – гордо сказал купец. – Он самый! И кафтанец полосатый – все соответствует!
– Что за черт! Кафтан точно наш, ваше степенство, а рожа – не наша, – отвечал пожилой господин, одетый в шлафрок и с утра нечесаный. – Рожа – каторжная!
Этому господину было за шестьдесят, однако стариком его называть еще не стоило, скорее – мужчиной, лицо которого расчертили вдоль и поперек морщины.
– Как не ваша? Я и «Ведомости» прихватил. Вот, извольте! – и купец, найдя нужную страницу, прочитал громко и внятно: – «Бежал от господина статского советника Еремея Гавриловича Титова крепостной дворовый человек его, Николай Степанов, который росту среднего, волосы у него на голове черные, нос прямой, лицо чистое, собой худощав, от роду имеет двадцать семь лет. На нем был суконный темного цвета с голубыми полосами и белыми пуговицами фрак. Если кто, его поймав, приведет или подаст верное о месте его укрывательства сведение в Садовой улице в вышеозначенном под № 801 Пучковом доме, тот получит десять рублей за труды». Как же не ваша? Вот он – нос, вот они, пуговицы! Бездельник, как тебя звать?
Тут Ероха понял, что сходит с ума. Следовало бы назваться любым мужским именем, хоть Елпидифором, а он вдруг понял, что не может соврать, и произнес скорбно:
– Николаем…
– Ну вот! И волосы были черные – пока не сбрил! Знал, что – примета!
Ероха исподлобья окинул взглядом комнату. Он был в прихожей богатой квартиры, откуда две двери вели в покои, и обе были приоткрыты, а в щель виднелись составленные в пять ярусов головы любознательной дворни.
– Надо ж, какое совпадение, – сказал господин. – Не мой человек, право, не мой.
– А кафтанец? – с великим подозрением спросил купец.
– Сейчас узнаем. Тришка, вели в столовую кофей подать мне и этому господину. И все, что к кофею, – распорядился хозяин дома. – А ты отвечай, да не ври. Где взял фрак?
– Под лодкой, – честно ответил Ероха и вкратце объяснил дело: ночевать было негде, свой кафтан пропил, залез под лодку, а там такая благодать.
– Теперь понятно. Мой подлец догадался, что его по приметному фраку враз признают, и избавился, – сделал вывод статский советник Титов. – К тому же я нескольким своим людям велел сшить такие фраки, и в городе они известны. Ваше степенство, прошу в столовую! Есть, слава богу, чем угостить доброго человека.