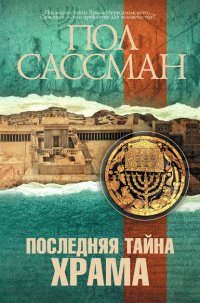
Читать онлайн Последняя тайна Храма бесплатно
- Все книги автора: Пол Сассман
Paul Sussman
THE LAST SECRET OF THE TEMPLE
Печатается с разрешения The Estate of Paul Sussman и литературного агентства The Susijn Agency Ltd.
© Paul Sussman, 2005
Школа перевода В. Баканова, 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014
Пролог
Иерусалимский Храм, август 70 г
Как беспорядочная стая птиц, десятки отрубленных голов с вытаращенными глазами и разинутыми ртами перелетали стену Храма, со свистом разрезая воздух. Одни ритмично, словно под барабанную дробь, шлепались о закопченные плиты Двора Женщин, заставляя стариков и детей шарахаться в ужасе. Другие пролетали за Ворота Никанора во Двор Израиля, посыпая огромными страшными градинами пространство вокруг Жертвенного алтаря. Некоторые даже достигали Мишхана – главного святилища в глубине построек Храма, которое, казалось, так и стонало под натисками штурмующих.
– Ублюдки! – задыхаясь от ярости и отчаяния, кричал мальчик. Его темно-голубые глаза были налиты слезами. – Паршивые римские ублюдки!
Стоя за бойницей храмовой стены, он смотрел, как под ним, словно полчища муравьев, ползли массы легионеров. В грозном пламени сражения ярко сверкали их оружие и стальные доспехи. Ночь наполнялась криками, смешивавшимися в едином гуле со свистом баллист, дробью барабанов, воплями умирающих и равномерными, низкими, заглушающими остальные шумы ударами стенобитного тарана. Мальчику казалось, что весь мир на его глазах уходит в небытие.
– О Боже, помилуй меня! – шептал он стих псалма. – Я страдаю, глаза мои ослепли от горя, душа моя и тело мое покинули меня.
Шесть месяцев, в течение которых шла осада, кольцо окружения не переставая стягивалось, как гаррота удушая город. Четыре римских легиона, первоначально располагавшиеся на вершине Скопус и Масличной горе, пополнившись тысячами новоприбывших солдат, перешли в наступление, неуклонно сокрушая каждый заслон на своем пути и тесня израильтян. Иудеи гибли во множестве – либо в неравном бою, либо распятые на крестах, которые обрамляли городские стены и долину Кедрона, привлекая затмевающие солнце стаи грифов. Повсюду пахло смертью, тошнотворная вонь разлагающихся тел резала ноздри.
Девять дней назад пала крепость Антония, спустя шесть дней та же участь постигла прилегающие к Храму дворы и колоннады. Теперь невзятыми оставались лишь укрепленные внутренние анфилады Храма. В них те из горожан, кто остался в живых, сбились в жуткой тесноте и грязи, доведенные муками голода и жажды до того, что стали поедать крыс, грызть кожу и пить собственную мочу. И все же они продолжали сражаться в неистовом и безнадежном бою, сбрасывая камни и горящие брусья на нападающих римлян, делая неожиданные вылазки, благодаря которым врага иногда удавалось выбить из прилегающих дворов. Однако спустя короткое время обороняющимся приходилось снова, с чудовищными потерями, отходить из освобожденных мест. Оба старших брата мальчика погибли во время последней вылазки, когда пытались свалить осадную машину римлян. И он знал, что их обезображенные головы среди тысяч голов других падших защитников города были заброшены катапультами за стены Храма.
– Vivat Titus! Vincet Roma! Vivat Titus![1]
Рев римлян, скандирующих имя их командующего, сына императора Веспасиана, становился все громче. По другую сторону оборонительных укреплений начали в ответ выкрикивать имена иудейских военачальников – Иоанна Гишала и Симона Бар-Гиора. Но эти имена были слышны хуже – их произносили люди с пересохшим горлом и ослабевшими легкими, да и сами командиры, по слухам, договорившиеся с римлянами о сохранении жизни в обмен на сдачу города, едва ли могли ободрить своих воинов. Израильтяне покричали еще с полминуты, и постепенно голоса их стихли.
Мальчуган вынул из кармана туники булыжник и принялся сосать его, пытаясь заглушить мучительную жажду. Давид был сыном винодела Иуды. До великой войны у его семьи был виноградник на склонах вблизи Вифлеема. Его ярко-красные плоды давали сладчайшее вино на свете, такое же нежное, как свет весенней зари, такое же легкое, как дуновение ветра в тамариндовой роще. Летом Давид помогал собирать урожай и торговать плодами. Он вспомнил, как смеялся, стоя в вязкой кашице давленого винограда, от которого ноги окрашивались в кроваво-красный цвет. Теперь от прежних времен не осталось и следа: винные прессы были разбиты, виноградники сожжены, семья уничтожена. Он один на один с разъяренным миром. В свои двенадцать лет он перенес столько горя, сколько иной не знает, будучи и в пять раз старше.
– Опять наступают!.. Готовьтесь! Готовьтесь! – разнесся по укреплениям крик, возвестивший о новой атаке римлян.
Над головой солдаты несли передвижные лестницы, отчего в мерцании адских вспышек пламени становились похожими на гигантских многоножек, бегущих по земле. Отчаянный град камней обрушился на римлян сверху; штурмующие на мгновение замедлили темп, затем рванулись вперед с новыми силами, добрались до стены и начали выставлять лестницы. Лестницы по бокам поддерживали двое солдат, в то время как десятки их однополчан старались с помощью шестов перебросить осадные приспособления за линию обороны. Едва это удавалось, легионеры устремлялись вверх, мутным потоком накрывая стены Храма.
Мальчик сплюнул, поднял лежавший у ног булыжник, зарядил его в кожаную пращу и, высунувшись за бойницу, под градом стрел стал искать подходящую цель. Стоявшая позади женщина, помогавшая вместе с многочисленными соплеменницами защитникам крепости, поскользнулась и рухнула наземь; между ее рук заструилась кровь из пробитого римским дротиком горла. Не обращая на нее внимания, Давид скользил глазами по рядам римских легионеров в поисках подходящей цели, пока не увидел знаменосца, державшего эмблему XV легиона Аполлона. Мальчик стиснул зубы и, не отрывая глаз от мишени, начал вращать пращу. Один замах, второй, третий…
Вдруг кто-то сзади дернул его руку. Он развернулся и начал бить по невидимому противнику свободным кулаком.
– Давид, это я, Елеазар! Ювелир Елеазар!
За его спиной стоял мощный бородатый мужчина с большим железным молотом на ремне и окровавленной повязкой на голове.
– Елеазар! Я думал, это…
– Римлянин? – Мужчина невесело усмехнулся и отпустил руку мальчика. – Неужели от меня так дурно пахнет?
– Если бы не ты, вон тот знаменосец лежал бы мертвым! – возмутился мальчуган. – Я уже нацелился на его поганую черепушку!
Мужчина снова засмеялся:
– Не сомневаюсь, ведь всем известно, что никто не владеет пращой лучше, чем Давид Бар-Иуда! Однако сейчас ты нужен для более важного дела.
Он оглянулся и понизил голос:
– Матфей послал за тобой.
– Матфей! – Мальчик широко раскрыл глаза. – Верховный…
Мужчина прикрыл мальчику рот ладонью и снова оглянулся:
– Тише! Это… это секрет. Симон и Иоанн разгневаются, если узнают, что ты вызван без их ведома.
Мальчик в недоумении хлопал глазами. Ювелир даже не пытался прояснить свои слова; убедившись, что мальчик его услышал, он отдернул ладонь ото рта Давида, взял его за руку и повел через укрепления вниз по узкой винтовой лестнице во Двор Женщин. Каменная кладка под их ногами сотрясалась от усилившихся ударов римского тарана, пробивавшего ворота Храма.
– Быстрее! – призвал Елеазар. – Стены долго не устоят.
Они спешно пересекли двор, обходя разбросанные по мощеной площадке головы и увиливая от града свистящих стрел. Добежав до противоположного угла двора, поднялись на пятнадцать ступеней, ведущих к Воротам Никанора, и, пройдя их, попали на следующую площадь, усеянную толпами коханим[2], неистово возносивших молитвы у Жертвенного алтаря. Их надрывные стенания не могли заглушить шум битвы.
- О Боже, Ты покинул нас и обрек на поражение;
- Ты разгневался на нас;
- О, верни нам силы!
- Ты поверг свою землю в смуту,
- Ты расколол ее на части,
- Соедини же ее вновь, иначе она погибнет!
Они пересекли второй двор и взобрались по двенадцати ступеням ко входу в Мишхан. Его массивный фасад, увенчанный великолепной виноградной лозой из чистого золота, вздымался на сто локтей в высоту. Елеазар остановился у входа, повернулся к мальчику и присел на корточки, чтобы поравняться с ним глазами.
– Дальше я не пойду. Входить в святилище позволено только коханим и самому первосвященнику.
– И мне? – спросил мальчик нетвердым голосом.
– Да, в этот роковой момент тебе тоже разрешили. Так сказал Матфей. Да поймет его Господь! – Елеазар крепко обнял мальчика за плечи. – Не бойся, Давид. У тебя доброе сердце. Никто не причинит тебе зла.
Он опять посмотрел мальчику в глаза, встал и подтолкнул его к величественному порталу с серебряными колоннами и шитой занавесью из красного, синего и багряного шелка.
– Ступай. Да пребудет с тобой Господь!
Мальчик бросил прощальный взгляд на могучую фигуру своего проводника, возвышавшуюся на фоне пламенеющего неба, повернулся и, отодвинув завесу, прошел в окаймленный колоннами зал с полом из отшлифованного мрамора и уносящимся ввысь потолком. Внутри Мишхана было прохладно и веяло сладким, обволакивающим ароматом. Шум кипевшей снаружи битвы был столь слабым, что казалось, будто она идет в ином мире.
– Шема Исраель, Адонаи элохену, Адонаи эхад, – прошептал Давид. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единственный».
Помолчав мгновение, он снова прочитал молитву и медленным шагом двинулся в дальний угол зала, бесшумно касаясь мраморного пола. Он увидел перед собой реликвии Храма: стол для хлебов предложения, золотой, пропитанный фимиамом алтарь, семиконечную менору. За ними, прикрытый прозрачной шелковой завесой, находился вход в дебир, Святая Святых Храма, куда мог попасть один только первосвященник, да и то раз в году – в День искупления.
– Добро пожаловать, Давид, – раздался голос. – Я ждал тебя.
Слева от себя мальчик увидел пожилого человека с узким морщинистым лицом и седой бородой. Первосвященник Матфей! На нем была накидка небесно-голубого цвета с красным и золотистым передником; вокруг головы он носил тонкую диадему, а на груди эфод – сакральную нагрудную пластину, двенадцать драгоценных камней которой символизировали колена Израилевы.
– Вот мы и встретились, сын Иуды, – произнес Матфей мягким голосом, подойдя к мальчику и глядя на него сверху вниз. По краям его мантии были подвешены крошечные колокольчики, звеневшие при малейшем движении. – Ювелир Елеазар много мне рассказывал о тебе. Он назвал тебя самым бесстрашным из защитников святых мест. И самым надежным. Как будто царь Давид воскрес и пришел нам на помощь. Так и сказал.
Он посмотрел на мальчика и повел его за руку вперед, к самому концу зала. Они остановились перед золотой менорой, чьи изгибающиеся ветви и причудливо орнаментированный ствол были выкованы из цельного куска золота, а форму создал сам Всевышний. Мальчик в ошеломлении смотрел на мерцающие лампады, глаза его блестели, как будто отражая солнечный свет от водной глади.
– Великолепно, не правда ли? – спросил старец, заметив, как лицо мальчика застыло в благоговейном созерцании. Не дожидаясь ответа, Матфей положил руку на плечо Давида и продолжил: – Нет на Земле предмета, более священного, более дорогого для нашего народа, ибо свет, излучаемый священной менорой, есть свет самого Господа Бога. И если бы мы ее потеряли…
Он вздохнул и коснулся рукой нагрудной пластины.
– Елеазар хороший человек, – добавил он как бы в раздумье. – Второй Бецалель.
Они долго простояли в тишине, озаряемые светом семисвечника. Вдруг первосвященник наклонился к мальчику, приблизившись к его лицу, и быстро сказал:
– Сегодня Господь решил, что его Священный Храм падет точно так же, как и шестьсот лет назад, день в день, когда вавилоняне покорили Дом Соломона. Священные камни Храма будут растоптаны в пыль, крыша вдребезги разбита, а народ наш рассеется по свету.
Он немного подался назад и взглянул в глаза мальчика.
– У нас осталась одна надежда, Давид, наша последняя надежда. Великая тайна, о которой знают лишь некоторые из нас. Ныне, когда настали последние часы, ты также узнаешь о ней.
Матфей наклонился к мальчику и торопливо заговорил, понизив голос, чтобы его не услышали, хотя в зале никого, кроме них, и не было. Мальчик внимал словам старца, широко раскрыв глаза; его взгляд перемещался с пола на менору и снова на пол, его плечи дрожали. Закончив шептать, первосвященник распрямился во весь рост и отошел на шаг назад.
– Понимаешь, – слабая улыбка проступила на бледных губах, – даже в поражении будет одержана победа. И даже во тьме воссияет луч света.
Мальчик молчал; его одолевали одновременно и удивление, и недоверие.
Первосвященник провел рукой по волосам и снова обратился к Давиду:
– Он уже вне города, за римским лагерем. Теперь он должен покинуть эту страну, ибо наш конец близок, и сберечь его не удастся. Все готово, осталось только найти курьера – того, кто доставит его куда необходимо и подождет там до лучших времен. Тебе поручается это, Давид, сын Иуды. Но только с твоего согласия. Ты принимаешь задание?
Взгляд мальчика поднялся вверх, к глазам первосвященника, как будто подтянутый невидимыми нитями. Серые глаза старца испускали странный гипнотизирующий свет, как облака, плывущие по огромному ясному небу. Мальчик почувствовал тяжесть и одновременно – словно он воспарил в воздухе.
– Что мне надо сделать?
Старец опустил взор на Давида, вглядываясь в отдельные черты его лица как в слова в книге. Потом, склонившись, Матфей засунул руку в складки накидки, вытащил маленький сверток пергамента и протянул его мальчику.
– Вот тебе напутствие. Следуй ему, и ты справишься.
Он обнял мальчика.
– Один ты сейчас наша надежда, Давид, сын Иуды. Один ты можешь не дать пламени погаснуть. Никому не раскрывай эту тайну. Храни ее всю жизнь и передай своим детям, они же пусть передадут детям своих детей, а те – детям своих детей, и так до тех пор, пока не настанет назначенный час.
Мальчик пристально смотрел на первосвященника.
– А когда он настанет, владыка? Как понять, что время пришло?
Матфей еще мгновение смотрел на мальчика, затем обернулся в сторону меноры, вглядываясь в ее дрожащее сияние и постепенно опуская веки, будто впадая в транс. Обволакивающая тишина воцарилась в зале; драгоценные камни нагрудной пластины первосвященника искрились.
– Три приметы помогут тебе. – Его голос звучал так отдаленно, словно он говорил откуда-то с высоты. – Во-первых, должен прийти самый младший из двенадцати, и будет сокол у него на руке; во-вторых, сын Исмаила и сын Исаака станут друзьями в Доме Божьем; наконец, в-третьих, лев и пастух соединятся в одно существо, с лампой на шее. Эти приметы укажут, что пробил назначенный час.
Завеса храмового святилища слегка затрепетала, и мальчик ощутил на лице легкую прохладу ветра, внезапно появившегося неизвестно откуда. Ему послышались странные голоса, его кожа зудела; в ноздри проникал необычный запах, такой сложный и затхлый, словно им пахло само время.
Они стояли в загадочной тишине, как вдруг снаружи раздался страшный грохот и тысячи голосов извергли крик ужаса и отчаяния. Первосвященник вмиг раскрыл глаза.
– Конец близок, – сказал он. – Повтори приметы!
Мальчик, робея и запинаясь, последовал повелению. Старец заставил его повторить приметы еще раз, затем еще и еще, пока мальчик не отчеканил каждое слово. В это время шум битвы вовсю гремел в стенах святилища. Вопли жертв, звон оружия, грохот падающих камней были слышны уже совсем близко. Матфей поспешил в противоположный конец зала и, взглянув в проходной проем, в ужасе отпрянул.
– Враг вошел в Ворота Никанора! – вскричал он. – Тебе нельзя возвращаться прежним путем. Иди сюда, помоги мне!
Старец ухватился за ствол меноры и начал тащить ее по полу. Мальчик поспешил к нему на помощь, и вместе они сдвинули семисвечник на метр влево. Перед ними показалась квадратная мраморная плита с двумя рукоятями. Первосвященник приподнял плиту, отворив темный проем, за которым виднелась узкая винтовая лестница, уходившая в мрачные глубины здания.
– В Храме много потайных ходов, – сказал Матфей, взяв мальчика за руку и отводя его к открывшемуся отверстию, – и этот самый секретный. Спускайся по лестнице и иди прямо по туннелю, не отклоняясь в сторону. Он выведет тебя за черту города, за южную окраину, достаточно далеко от римского лагеря.
– Но как же…
– Сейчас нет времени! Беги! Ты единственная надежда нашего народа. Отныне тебя будут звать Шомер Ха-Ор. Оставь это имя, чти его и передай потомкам. Бог будет тебе защитником. И судьей.
Матфей наклонился, поцеловал мальчика в обе щеки и, опустив руку ему на голову, толкнул вниз. Затем первосвященник закрыл плитой отверстие, схватил менору и с трудом протащил ее по полу, тяжело дыша от напряжения.
Едва он успел вернуть ее на место, как в дальнем конце зала послышались крики и бряцанье стальных лезвий. Ювелир Елеазар пятился за порог, одна рука его беспомощно повисла, на месте локтя зияло кровавое пятно, другой он сжимал молот, которым бешено хлестал по надвигавшейся стене легионеров. На какое-то время Елеазару удалось сдержать их напор, затем, ревя, они устремились вперед и опрокинули его наземь, кромсая и топча тело ювелира.
– Яхве! – завопил он. – Яхве!
Первосвященник наблюдал за кровавой сценой, не меняясь в лице, потом повернулся, набрал пригоршню ладана и просыпал его на золотой алтарь. Облако благоухающего тумана взметнулось в воздухе. Он услышал позади себя топот римских кованых сандалий, звяканье оружия, эхом отражающееся по стенам.
– Господь стал на сторону врага, – прошептал Матфей слова пророка Иеремии. – Он разрушил Израиль, разрушил все его дворцы, превратил в руины его крепости.
Римляне уже стояли за спиной первосвященника. Он прикрыл глаза. Раздался смех и свист поднятого вверх меча. Казалось, что время остановило свое течение; потом меч понесся вниз и, вонзившись между плеч Матфея, рассек его тело.
– Да упокойся в Вавилоне! – прохрипел он, и кровь брызнула из уголков его рта. – В Вавилоне, в доме Абнера!
Безжизненный, он упал лицом вперед, у ствола великой меноры. Легионеры отбросили труп в сторону, забрали сокровища Храма и вышли из святилища.
– Vicerunt Romani! Victi Iudaei! Vivat Titus![3] – гремели их голоса.
Южная Германия, декабрь 1944 г
Ицхак Эдельштейн туже закутался в полосатую робу и подул на фиолетовые от холода руки. Он пригнулся и выглянул из кузова, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь, но из-под низко свисающего брезента смог увидеть только грязную дорогу, быстро мелькающие стволы деревьев и бампер следовавшего за ними грузовика. Прижав лицо к разрезу в брезенте, Ицхак успел разглядеть крутой лесистый склон, засыпанный снегом, пока приклад винтовки не опустился на его лодыжку.
– Повернись. Сиди смирно.
Он выпрямился и уставился на свои голые ноги в изношенных ботинках, мало согревавших в зимний мороз. Сидевший рядом немощный раввин снова начал кашлять и трястись так, словно кто-то шатал его из стороны в сторону. Ицхак взял в ладони руки старика и стал тереть их, стараясь передать немного тепла.
– Не трогай! – потребовал конвоир.
– Но…
– Ты что, оглох? Сказал же – не трогай.
Солдат направил винтовку на Ицхака, и старик убрал руки.
– Не беспокойся, мой юный друг, мы, раввины, много крепче, чем кажется.
Слабая улыбка выступила на иссохшем лице. Заключенные замолчали, опустив головы, дрожа и толкая друг друга на поворотах.
Их было шестеро, не считая двух конвоиров: четыре еврея, гомосексуалист и коммунист. Ранним утром их вывели из лагерных бараков, затолкали в грузовик и повезли. Ицхак предполагал, что машина едет куда-то на юго-восток. Вначале грунт под колесами был относительно ровный и сырой, а дорога шла прямо, но последний час грузовик неустанно кружил и набирал высоту, а пастбища и леса по обеим сторонам дороги покрылись снегом. Вслед за ними ехал другой грузовик, в кабине которого сидели водитель и какой-то мужчина в кожаном пальто. Людей в кузове у них, насколько Ицхак мог понять, не было.
Он провел рукой по бритой голове, к которой так и не смог привыкнуть за четыре года, и, ссутулившись, засунув руки под мышки, постарался забыть о терзавших его холоде и голоде, предавшись греющим душу воспоминаниям. В памяти всплыли семейные обеды в дрезденском доме, занятия в старой иешиве[4], праздничное веселье, особенно на Хануку, когда всюду лился яркий свет. И конечно, Ривка, очаровашка Ривка, его младшая сестренка. «Ици-шмици-ици-бици! – напевала она, дергая кисточки талита катана[5]. – Ици-вици-мици-дици!» Как заразительно она смеялась, как шаловливо сплетались в узел ее черные волосы, как дерзко горели ее глаза! Она была такой упрямой и непослушной! «Свиньи! – орала она, когда отца выволокли на улицу и отрезали ему пейсы. – Грязные, вонючие свиньи!» Солдаты таскали ее за волосы, а потом бросили лицом к стене и расстреляли.
Ей было всего тринадцать лет. О Ривка! Милая малышка Ривка…
Грузовик влетел в канаву и резко подпрыгнул, вмиг вернув Ицхака к мрачной реальности. Он оглянулся и увидел, что они проезжают крупное поселение. Голова потянулась к прорези в брезенте, и в этот момент промелькнула указательная табличка с названием местности – Берхтесгаден. Название показалось ему смутновато знакомым, но определить их местоположение Ицхак все же не мог.
– Назад! – гаркнул конвоир. – Дважды повторять не буду!
Они ехали еще около получаса по более наклонной и извилистой дороге, пока из следовавшего за ними грузовика не раздался резкий гудок. От неожиданного торможения заключенных бросило вперед.
– Вылезай! – скомандовали конвоиры, направив на них дула винтовок.
Цепляясь за борта и ежась от холода, заключенные вылезли из кузова. Белые клубы пара повалили изо рта и ноздрей. Они встали на придорожной площадке рядом с обветшалым зданием с окнами без стекол и осевшей крышей, за которым простирался густой сосновый бор. Далеко внизу, сквозь заснеженные ветви, виднелись клочки зеленых лугов с разбросанными на них почти игрушечными домиками, над которыми вился выходивший из труб дым. Выше склон становился еще круче, а очертания его терялись в туманной дымке, сквозь которую проступали темные контуры – вероятно, больших гор. В лесу стояла гробовая тишина и было очень холодно. Ицхак затопал одеревеневшими ногами.
Второй грузовик тоже остановился. Из окна выглянул сидевший рядом с водителем мужчина в пальто с поднятым воротником и, жестикулируя, сказал что-то одному из конвоиров. По-видимому, это был командир группы.
– Марш сюда! – приказал конвоир и подвел заключенных к кузову второго грузовика. Потом поднял брезентовую накидку, за которой был скрыт большой деревянный ящик.
– Вытаскивайте его! Да поживей!
Ицхак и коммунист – изможденный мужчина с красным треугольником на штанине (у Ицхака был желтый треугольник, перекрытый зеленым, что означало «еврей-уголовник») – вскарабкались в кузов и ухватили ящик с двух боков. Ящик оказался настолько тяжелым, что они с трудом смогли сдвинуть его к борту. Другие заключенные, оставшиеся стоять на земле, осторожно подхватили груз и поставили его на скользкую дорогу.
– Нет-нет! – закричал мужчина в пальто, высовываясь из кабины. – Пусть несут! Туда! – Он указал рукой на тропинку, начинавшуюся за обветшалым зданием и убегавшую вверх по свежему снегу, скрываясь из виду за деревьями. – И проследите, чтобы тащили поаккуратней!
Заключенные перекинулись боязливыми взглядами, медленно подняли ящик и понесли, сгибаясь под его тяжестью.
– Плохо наше дело, – пробормотал коммунист. – Очень плохо.
Они вошли в лес, проваливаясь в снег по самые икры. За ними шагали конвоиры и мужчина в пальто, но Ицхак не оглядывался, опасаясь потерять равновесие. Шедший спереди раввин начал истошно кашлять.
– Позвольте, я приму на себя часть вашего груза, – прошептал Ицхак. – Я крепкий парень, мне не тяжело.
– Ты лжешь, Ицхак, – прохрипел старик. – И очень неправдоподобно.
– Молчать! – закричал сзади конвоир. – Отставить разговоры!
Они поползли вверх, горбясь под тяжестью груза и замерзая. Пролесок, вначале извивавшийся по относительно плоской поверхности, теперь круто пошел вверх, а снег становился все глубже. На одном особенно обрывистом месте гомосексуалист потерял опору и споткнулся, так что ящик накренился вперед и рухнул на дерево. Верхний левый край поклажи треснул, и полетели щепки.
– Идиот! – закричал мужчина в кожаном пальто. – Подымите его!
Конвоиры пробрались вперед и поставили гомосексуалиста на ноги, заставив его снова положить ящик себе на плечи.
– Ботинок, – умоляюще обратился он к ним, указывая на свой левый ботинок, наполовину застрявший в снегу.
Солдаты заржали и, откинув ботинок в сторону, приказали заключенному идти дальше.
– Боже, помоги несчастному мальчику, – прошептал раввин.
Они взбирались все выше и выше, задыхаясь и стеная, с каждым шагом теряя силы. Когда Ицхак понял, что сейчас упадет и больше не встанет, тропинка стала ровной и вышла из леса к какому-то сооружению, напоминавшему заброшенную каменоломню. В этот самый момент ветер на мгновение прогнал облака, и взору заключенных открылась гигантская гора, возносившаяся прямо над их головами, с маленьким зданием справа, расположенным на краю утеса. Спустя пару секунд вершина вновь спряталась под густым слоем тумана, и Ицхак даже засомневался, видел ли он все это наяву.
– Сюда! – прокричал мужчина в кожаном пальто. – В шахту!
С задней стороны каменоломни стоял большой плоский камень, в центре которого был пробит широкий и темный, как рот кричащего человека, вход. Заключенные двинулись к шахте, спотыкаясь о заснеженные камни и шлак, мимо поломанной лебедки и перевернутой тележки с одним-единственным колесом. У входа Ицхак заметил грубо выцарапанные на камне у перемычки слова «glück auf»[6], а под ними белой краской, в высоту не более полпальца, было написано «sw16».
– Ну-ка вносите его туда!
Они выполнили приказ, сгибая колени и спину, чтобы не расшибить ящик о низкий потолок. Один из конвоиров зажег факел и осветил темноту, откуда показался длинный коридор, уходивший в гору и поддерживавшийся через равные отрезки деревянными опорами. По плоскому каменному полу были проложены железные рельсы; стены, выдолбленные в сероватой скале, были грубыми и неровными; выступавшие среди каменных глыб толстые оранжево-розовые кристаллы, как молния на ночном небе, отражали огонь факела. Валявшиеся на полу давно забытые инструменты – ржавая масляная лампа, насадка киркомотыги, старое жестяное ведро – дополняли зловещую картину заброшенного подземелья.
Заключенных заставили пройти еще метров пятьдесят до места, где рельсы разветвлялись: один путь шел прямо, другой заворачивал в расположенный справа, перпендикулярно основной шахте, туннель, уставленный по стенам ящиками. У входа в боковой туннель притулилась плоская дрезина, на которую приказали положить груз.
– Хорошо, – послышался голос из темноты. – Вывести их!
Заключенные повернулись и зашаркали обратно, тяжело дыша, но испытывая чувство облегчения от выполненной работы. Один из евреев поддерживал гомосексуалиста – его босая ступня почернела от обморожения. Они услышали за своими спинами короткий разговор, содержание которого не смогли разобрать, затем из шахты вылезли конвоиры. Мужчина в кожаном пальто остался внутри.
– Туда, – приказал один из конвоиров, когда они вышли на свежий воздух. – Топайте туда, за груду камней.
Беспрекословно подчинившись приказу, заключенные обошли груду булыжников и, остановившись где было сказано, увидели, как солдаты направляют на них ружейные стволы.
– Ой вей![7] – в ужасе прошептал Ицхак, внезапно осознав, что сейчас произойдет.
Конвоиры рассмеялись, и тишину зимнего леса нарушил сиплый треск ружейных выстрелов.
Часть первая
Наши дни
Долина Царей, Луксор
– Пап, когда мы поедем домой? По телику скоро будет «Алим аль-Симсим».
Инспектор полиции Юсуф Эз эль-Дин Халифа2 погасил сигарету и со вздохом посмотрел на ковыряющего в носу сынишку. Стройный, крепкий, широкоскулый, с гладко зачесанными волосами и большими темными глазами, инспектор обладал редкой способностью сочетать серьезность и основательность с веселым нравом.
– Разве тебе часто выпадает шанс попасть в закрытые гробницы главной исторической достопримечательности Египта, Али? – пожурил он мальчика.
– Но я здесь уже был! – отнекивался Али. – Мы сюда два раза с классом ездили, и нам все-все показывали.
– Могу поспорить, что усыпальницу Рамзеса Второго вы не видели. А я тебя сегодня в нее водил.
– Да нет там ничего особенного! – твердил свое Али. – Одни летучие мыши да куча свалявшихся бинтов.
– Другой бы на твоем месте прыгал от радости, что вообще туда попал. Ведь в гробницу посетителей не пускают с тех самых пор, как ее открыли в 1905 году. А в эти свалявшиеся бинты, между прочим, заворачивали настоящие мумии. А разрезали бинты и бросили грабители, которые в древности залезли в гробницу.
Не вынимая пальца из носа, мальчик посмотрел на отца, и в его глазах сверкнула искорка любопытства.
– А зачем они так сделали?
– Понимаешь, – терпеливо объяснял Халифа, – когда жрецы бинтовали мумии, они засовывали в складки украшения и амулеты из самоцветов. Ну, грабители об этом узнали и решили похитить драгоценности.
– А глаза у мумий они тоже выковыривали? – поинтересовался мальчик, оживившись.
– Вот уж не знаю. – Халифа улыбнулся. – Зато иногда они отрывали у мертвецов палец или целую руку. Точно так же, как я у тебя сейчас оторву, если ты немедленно не перестанешь ковырять в носу!
Он схватил сына за руку и начал шутливо дергать за пальцы. Али, давясь со смеху, вертелся и что было мочи отбивался.
– Я сильнее, я сильнее! – визжал он.
– Ну-ка посмотрим, – с напускной суровостью отозвался Халифа. Он крепко сжал запястье мальчика и резко перекинул его головой вниз. – По-моему, ты, дружище, раза в два меня слабее, если не больше!
Близился вечер. Долина Царей, еще час назад кишевшая толпами неугомонных туристов, почти полностью обезлюдела. В одном из раскопов рабочие, монотонно напевая что-то под нос, разгребали куски песчаника – остатки древней постройки. Чуть поодаль группа припозднившихся экскурсантов гуськом проходила в гробницу Рамзеса IX. В тени на корточках сидели продавцы открыток и прохладительных напитков, напряженно всматриваясь в ту часть площади, куда привозили туристов. Терпеливые торговцы еще надеялись до конца дня пополнить карманы выручкой.
– Давай быстренько заглянем к Аменхотепу Второму и двинем домой, – предложил Халифа сыну, ласково ероша его кудри. – А то неудобно будет перед Саидом – он, бедолага, битый час для нас ключ от гробницы разыскивает. По рукам?
Али не успел ответить, как у него за спиной раздался крик:
– Нашел! – От здания полицейского участка вприпрыжку бежал долговязый человек, размахивая ключом. – Кто-то перевесил его на другой крючок.
Саид ибн-Бассат, прозванный за медно-красного цвета волосы Имбирем, много лет дружил с инспектором Халифой. Они познакомились в Каирском университете, где вместе учились на отделении древней истории. Потом Халифе из-за нехватки денег пришлось оставить учебу, и он пошел работать в полицию, а Саид все же окончил университет и получил диплом с отличием. Его взяли в департамент изучения древностей, где он дослужился до помощника директора крупнейшего исторического заповедника – Долины Царей. В глубине души Халифа не переставал сожалеть, что материальные трудности не позволили ему стать историком. С ранних лет его манили загадки тысячелетий, и, если бы это было возможно, он не задумываясь посвятил бы себя их изучению. Тем не менее зависти к старому другу у инспектора не было и в помине. Ведь Имбирь жил один, а жену и сына Халифа не отдал бы за все храмы и пирамиды Египта.
Они миновали усыпальницы Рамзеса III и Хоремхеба и, повернув направо, спустились по длинному ряду ступеней к тяжелым металлическим воротам гробницы Аменхотепа II.
– Долго еще она будет закрыта для туристов? – спросил Халифа у возившегося с замком Имбиря.
– Через месяц должны открыть – реставрация почти закончена.
Али протиснулся между взрослыми и, встав на цыпочки, вглядывался в темное пространство за решеткой.
– А сокровища там лежат? – спросил он.
– Боюсь, что нет, – разочаровал его Имбирь и слегка потеснил мальчика, чтобы открыть входные створы. – Эту гробницу обчистили еще в глубокой древности.
Огонь зажигалки, щелкнувшей в его руке, осветил продолговатый, выбитый в камне коридор. Выбоины на стенах и потолке красноречиво напоминали о тяжелых ударах древних орудий.
– Если бы я был фараоном, – размышлял вслух Али, и его голос эхом отражался от узких сводов гробницы, – я бы спрятал все сокровища в одной потайной комнате. А для воров сделал бы ловушку, куда положил бы немножко драгоценностей – в качестве приманки. Пап, помнишь, ты мне рассказывал, что так делал этот – как его – ужасный Инкиман?
– Хро-ан-ха-мун, – улыбнувшись, поправил сына Халифа.
– Ну да. Воры попались бы в капкан, и я посадил бы их в тюрьму.
– Тогда они легко бы отделались, – рассмеялся Имбирь. – Обычно за грабеж гробниц отрезали нос и посылали на ливийские рудники. Или сажали на кол.
Халифа и его друг обменялись ироничными взглядами и, тихо посмеиваясь, двинулись вслед за Али в глубь гробницы. Но не успели они пройти и десяти метров, как услышали сзади топот и чье-то учащенное дыхание. Обернувшись, друзья увидели отчетливо различимую на ярком прямоугольнике дневного неба фигуру человека в чалме.
– Кто тут инспектор Халифа?
Полицейский вопросительно взглянул на своего друга и, чуть отступив назад, ответил:
– Я.
– Идемте скорее… Там нашли…
Незнакомец осекся, с трудом переводя дыхание.
– Что нашли?
В коридоре повисла напряженная пауза.
– Труп, инспектор.
Из темноты до них донесся веселый голос Али:
– Классно! Пап, можно, я с тобой?
В полицейском участке Халифе сообщили, что тело было найдено в Малкате – некогда помпезном дворце фараона Аменхотепа III, с веками превратившемся в нагромождение засыпанных песком руин, представляющих интерес лишь для узкого круга специалистов-египтологов. Не теряя ни секунды, Халифа устремился к ожидавшему его пыльному «дэу», предварительно вверив сына Имбирю. Как Али ни упрашивал взять его с собой, отец остался непреклонен и велел возвращаться под присмотром Саида домой.
До места происшествия было минут двадцать езды. Водитель – угрюмый тип с веснушчатым лицом и гнилыми зубами – всю дорогу не спускал ноги с педали газа, гоня полицейский джип через песчаные бугры к долине Нила и дальше на юг, в сторону Фиванского массива. Халифа открыл пачку «Клеопатры», прикурил и, выпуская клубы дыма, смотрел на проплывающие за окном поля и заросли тростника. По радио передавали об очередном обострении ситуации на палестинских территориях. Халифа не вникал в детали, но его сознание фиксировало хорошо знакомые из новостей штампы – «террорист-смертник», «число погибших от взрыва уточняется», «Израиль обещает провести акцию возмездия»…
– Скоро война будет, – с мрачным видом спрогнозировал шофер.
– Она уже идет. – Халифа тяжело вздохнул и, сделав последнюю затяжку, выбросил окурок в окно. – Последние лет пятьдесят.
Водитель закинул в рот пару пластинок жевательной резинки и энергично задвигал челюстями.
– Думаете, примирение невозможно?
– Уж точно не сейчас. Осторожно, на повозку не налети!
Прямо перед ними плелась запряженная ишаком крестьянская тележка, доверху нагруженная свежесостриженным тростником. Водитель рванул машину вправо, выскочив на встречную полосу, где чудом избежал лобового столкновения с туристским автобусом.
– О Аллах, смилуйся надо мной, – забормотал инспектор, вцепившись в приборную доску автомобиля.
Они проехали Деир эль-Бари, Раммессеум, развалины храма Мернептаха. Далее трасса разветвлялась: поворот налево уводил на восток, к Нилу, направо – к древнему поселению строителей в Деир-эль-Медине и Долине Цариц. Полицейские продолжили путь прямо, мимо знаменитого храма в Мединет Хабу, вдоль по запылившейся, испещренной колеями от вездеходов дороге, змеей протянувшейся к самому горизонту. По обеим ее сторонам простиралась волнистая пустыня, все природное разнообразие которой ограничивалось редкими переплетениями сросшихся кактусов да верблюжьими экскрементами. Время от времени попадались осевшие контуры древних глинобитных стен, бесформенные и коричневые, словно горячий шоколад. Наконец, после километров крутых спусков и ухабов, вдали, рядом с возвышавшимся на фоне пустыни ржавым телефонным столбом, показались силуэты автомобилей и кружащие вокруг них люди в форме. Машин было пять: три полицейских джипа, «скорая помощь» и, немного в стороне, пыльный голубой «мерседес». Водитель Халифы остановился рядом с полицейскими машинами, и следователь вылез из автомобиля.
– Когда же вы наконец обзаведетесь мобильником? – проворчал, вместо того чтобы поприветствовать шефа, заместитель Халифы Мохаммед Сария. – Больше часа вас разыскивали!
– А я тем временем наслаждался двумя чудеснейшими гробницами вади Бибан эль-Мулюка, – нагловато ответил Халифа. – Воспринимай это как очередную причину, оправдывающую мою нелюбовь к мобильникам. А еще от них бывает рак.
Он достал сигарету и закурил.
– Ну что тут у нас?
Сария сердито кивнул головой в сторону:
– Вон, труп. Мужчина, по документам – некто Пит Янсен, гражданин Египта, хотя имя больно странное.
Он вытащил из кармана пиджака прозрачный полиэтиленовый пакет с помятым кожаным бумажником.
– Хозяин отеля «Менно-Ра» в Гезире, – добавил Сария, протягивая Халифе пакет.
– Того, что за озером?
Халифа достал бумажник и, быстро осмотрев содержимое, поднес ближе к глазам египетское удостоверение личности.
– Двадцать пятого года рождения… А ты уверен, что он не от старости умер?
– С виду не похоже, – буркнул Сария.
Инспектор вынул из бумажника карточку банка «Миср» и стопку египетских двадцатифунтовых банкнот. В боковом отделении он обнаружил членское удостоверение египетского общества садоводов и мятую черно-белую фотографию овчарки со свирепым взором. На обороте стояла потускневшая карандашная надпись «Арминий, 1930». Имя показалось Халифе отдаленно знакомым, но он не мог вспомнить что-то определенное и положил бумажник обратно в пакет.
– Родственникам сообщили?
– Мы позвонили в отель, и нам сказали, что родственников у него нет, – ответил Сария.
– А «мерседес» его?
Сария утвердительно кивнул головой.
– Ключи нашли в кармане. – Он вытащил еще один пакет с непомерно большой связкой ключей. – Проверяли. Ничего особенного.
Полицейские подошли к «мерседесу» и заглянули в окно. Салон был отделан довольно дорого, но стандартно для автомобилей такого класса: кожаная обивка, местами потрескавшаяся; отполированная приборная доска из орехового дерева; ароматизатор воздуха, прикрепленный к зеркалу заднего вида. На пассажирском сиденье валялся выпуск «Аль-Ахрам» двухдневной давности, сзади внизу лежал дорогостоящий фотоаппарат «Никон».
– Тело кто нашел? – спросил Халифа.
– Одна француженка. Фотографировала развалины и случайно наткнулась на труп. – Сария открыл записную книжку и медленно, по слогам прочитал незнакомое иностранное имя: – Клау-дия Шам-поль-он. Двадцать девять лет, археолог. Живет сейчас вон там. – Он указал рукой на почти скрытое деревьями строение вдали, где располагалась французская археологическая экспедиция, работавшая в Фивах.
– Случайно, не потомок Шампольона? – поинтересовался Халифа.
– Хм-м-м…
– Жана Франсуа Шампольона.
Сария замялся.
– Это человек, первым прочитавший иероглифы! О Аллах, да ты хоть что-нибудь знаешь об истории своей собственной страны? – Раздражение в голосе Халифы смешивалось с издевкой.
Потупив глаза, Сария попробовал перевести разговор на другую тему:
– Ну, она была… ничего… даже очень. Такая… полненькая. – Сария попытался обрисовать в воздухе фигуру девушки. – И уверенная.
Халифа укоризненно помотал головой и затянулся сигаретой.
– Эх, Мохаммед, если бы вся работа полицейского состояла в умении строить глазки женщинам, ты бы уже давно был начальником управления… Показания взял?
Сария указал на свою записную книжку.
– Ну и?..
– Да нет толком никаких показаний. Она говорит, что ничего не знает. Просто увидела труп, побежала обратно в лагерь и позвонила по сто двадцать два.
Халифа докурил очередную «клеопатру» и придавил окурок подошвой ботинка.
– Ладно, пойдем посмотрим на тело. Анвара вызвал?
– Обещал разобраться по-быстрому с какими-то бумагами и приехать. Еще просил приглядеть, чтобы тело куда-нибудь не убежало.
Инспектор с досадой махнул рукой, проклиная в душе недисциплинированного патологоанатома и его безвкусный юмор, и в сопровождении зама пошел по раскопу, давя рассыпанные по желтоватому песку обломки керамики. Справа на груде камней расположились дети, забросившие футбол, чтобы наблюдать за тем, как полицейские прочесывают пустыню в поисках улик. Бледно-желтый шар солнца постепенно скрывался за яйцеобразными куполами монастыря Деир-эль-Мухараб, густея и наполняясь оранжевыми тонами. Кое-где из песка вылезали низенькие, обветренные островки глинобитных стен, напоминавшие неведомых чудищ, глазеющих на мир из глубин пустыни.
– Подумать только, на этом месте стоял один из величайших дворцов Древнего Египта! – со вздохом сказал Халифа, замедлив шаг и наклонившись за кусочком керамики бледно-голубой окраски. – Когда-то Аменхотеп Третий властвовал над половиной известного мира. А теперь…
Он повернул черепок в ладони, потер его большим пальцем. Сария промолчал и резким движением руки указал, что нужно повернуть направо.
– Там, за стеной…
Перейдя полоску потрескавшегося глиняного настила, бывшего некогда мостовой, детективы миновали два облупленных известняковых столба – все, что осталось от парадного входа во дворец. В серебристой тени, падавшей от стены, на корточках сидел полицейский. В паре метров от него лежало прикрытое брезентом тело. Сария нагнулся и отдернул брезент.
– Аллах акбар! – Лицо Халифы исказилось от отвращения.
Прямо под его ногами лежал очень пожилой мужчина в рубашке цвета хаки, дряблый, с землистого цвета кожей, испещренной морщинами и пигментными пятнами. Он упал на живот, так что одна рука была придавлена телом, а другая вывернута наружу. Голова, почти совершенно лысая, за исключением отдельных седых прядей, была откинута чуть назад и слегка повернута, как у пловца, набирающего воздух, перед тем как снова уйти под воду.
Халифа внимательно осмотрел пыльные руки и одежду умершего, тонкий разрез штанов на колене и рану на голове, засыпанную песком и гравием. Затем, присев на корточки, инспектор аккуратно потрогал за основание торчащий из глаза убитого колышек, покрытый кровью, – тот даже не качнулся.
– От палатки? – неуверенным голосом спросил Сария.
Халифа отрицательно помотал головой.
– Деталь геодезической решетки. Археологи оставили – судя по всему, много лет назад.
Он встал, разогнав рукой слетавшихся к трупу мух, и отошел на несколько шагов к месту, где был взрыхлен песок и виднелись отпечатки ботинок. Различить можно было следы как минимум трех пар обуви, которые могли принадлежать рыскавшим по местности полицейским, а могли и кому-то другому. Инспектор снова присел и, обернув ладонь в носовой платок, поднял с земли заостренный булыжник с пятнышками засохшей крови на поверхности.
– Похоже, кто-то стукнул его по голове, и он упал на колышек, – сказал Сария. – А может, его подтолкнули.
Халифа повертел камень, рассматривая темно-красные следы крови.
– Непонятно, почему тогда убийца не взял набитый деньгами бумажник? – усомнился он. – И ключи от машины.
– Может, от волнения. Или, – предположил помощник, – целью убийцы был вовсе не грабеж.
Халифа собирался что-то ответить, как вдруг с противоположной стороны площадки раздался крик: стоявший метрах в двухстах от них на засыпанной песком возвышенности полицейский размахивал руками, призывая к себе.
– Похоже, он что-то нашел, – сказал Сария.
Халифа аккуратно положил булыжник на место и вместе с помощником отправился посмотреть, в чем дело. Когда они подошли, полицейский слез с бугорка и стоял у осыпавшейся стены, нижний ряд которой был разрисован голубыми лотосами – поблекшими, но все еще отчетливо различимыми. В середине ряда зиял просвет – очевидно, один кирпич кто-то вытащил. Поблизости от стены лежали холщовый рюкзак, молоток, стамеска, а также, чуть в стороне, черная трость с серебряным набалдашником. Сария присел на корточки и приподнял клапан рюкзака.
– Ага, понятно, – сказал он с довольным видом, доставая кирпич с разрисованной штукатуркой. – Кто-то здесь нахулиганил.
Сария протянул кирпич Халифе, однако тот даже не взглянул на подчиненного. Как заколдованный, инспектор не мог отвести глаз от трости. Вернее, от ее набалдашника, украшенного миниатюрными розочками, перемежаемыми символами анкх[8].
– Сэр?
Халифа не отреагировал.
– Сэр? – громче повторил Сария.
– Извини, Мохаммед. – Инспектор отложил трость и повернулся лицом к помощнику. – Что там у тебя?
Сария передал шефу глиняный кирпич. Халифа окинул быстрым взором фрагмент цветочного орнамента, затем глаза его снова переместились на трость, а лоб нахмурился, как бывает в моменты напряженного раздумья.
– В чем дело, инспектор?
– Да ничего. Так, пустяки. Просто странное совпадение.
Он покачал головой и улыбнулся. Однако в его улыбке было что-то неестественное, какая-то неловкая попытка замаскировать внутреннее напряжение.
Справа большой черный ворон спустился на стену и, хлопая крыльями и громко каркая, воззрился на полицейских.
Тель-Авив
Переодевшись в полицейскую форму, молодой человек быстрым шагом направился по парку Независимости к бетонной глыбе отеля «Хилтон». Твердой походкой, не сводя глаз с гостиницы и беззвучно нашептывая текст молитвы, он приближался к цели. Молодые пары и стайки родителей с детьми, кружившие по окутанным вечерней прохладой аллеям, не привлекали его внимания.
Стоявшие у главного входа охранники скользнули по нему взглядом и, заметив нашивки полицейского участка на амуниции, переключились на других прохожих. Молодой человек вытер тыльной стороной руки пот со лба и сунул ее за полу ветровки, затянув потуже пояс, поддерживавший взрывчатку. Страх, ненависть и волнение, доходящее до тошноты, обуревали его. Но сильнее всех чувств была безумная эйфория. Бушуя в душе ослепительно ярким пламенем, она манила к горизонтам бесконечного счастья. Месть, слава, рай и вечность в объятиях прекрасных гурий – все это он обретет через пару секунд.
«Благодарю тебя, о Аллах, что разрешил мне стать орудием твоего возмездия».
Молодой человек пересек вестибюль и через ряд двойных дверей вошел в большой, залитый светом зал. Здесь справляли свадьбу; веселую танцевальную мелодию заглушали взрывы смеха. К парню подбежала какая-то малышка и предложила потанцевать, но он грубо отшвырнул ее и, расталкивая недоумевающих гостей, стал пробираться в центр зала. Его о чем-то спрашивали, однако он не реагировал и только шагал вперед, словно запрограммированный. Глаза его застилал туман. Казалось, мир погружается в небытие. В памяти проносились образы дряхлого дедушки и двоюродной сестренки, убитых израильскими солдатами; в один миг промелькнула вся жизнь, постылая, безрадостная, полная стыда и беспомощной злобы. Наконец, оказавшись рядом с женихом и невестой, он с диким воплем ярости и восторга рванул нательный ремень. Взметнувшийся огненный смерч окутал пространство в радиусе трех метров от него багровыми клубами дыма…
Почти одновременно три учреждения в разных точках Израиля – представительство Всемирного еврейского конгресса в Иерусалиме, информационное агентство «Хаарец» и полицейское управление в Тель-Авиве – получили факсы одинакового содержания. Их послали по мобильной сети, так что установить местонахождение отправителя не представлялось возможным. В сообщении говорилось, что к теракту причастны группа аль-Мулатхама и «Палестинское братство», что взрыв совершен в ответ на непрекращающуюся сионистскую оккупацию суверенной Палестины и что, пока Израиль не положит конец оккупации, все его граждане, независимо от пола и возраста, будут нести ответственность за преступления по отношению к палестинцам.
Луксор
Инспектор и его заместитель пробыли в Малкате до семи вечера, однако патологоанатом так и не появился. Решив не тратить попусту время, Халифа поручил подчиненным следить за местом происшествия, а сам в сопровождении Сарии отправился в отель, владельцем которого был покойный.
– Анвара можно прождать до ночи, – проворчал Халифа. – За это время надо сделать хоть что-нибудь полезное.
Отель «Менно-Ра» располагался в самом центре Гезиры – крупного поселения на западном берегу Нила, напротив Луксорского храма. Двухэтажное, гладко оштукатуренное здание гостиницы горделиво возвышалось среди мелких лавок и обветшалых хибар из обожженной глины, облеплявших его со всех сторон подобно губчатым наростам мха. Халифа и Сария приехали в отель еще засветло. На пороге их встретила управляющая Карла Шоу – стройная англичанка средних лет, бегло, хотя и с сильным акцентом, говорившая по-арабски. Она попросила официанта приготовить чай и провела посетителей на посыпанную гравием террасу, выходящую во двор. Перед ними струились воды узкого длинного озера.
– Смерть Пита не стала для меня неожиданностью, – сказала англичанка, закидывая ногу на ногу и прикуривая сигарету. – У него были серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, даже рак. Впрочем, сам он об этом мне ничего не говорил.
Халифа достал сигарету из своей пачки и бросил взволнованный взгляд на Сарию.
– Пока не проведено вскрытие, мы не можем ничего утверждать, – заметил он осторожно. – Однако нам представляется, что мистер Янсен…
Он сделал глубокую затяжку, обдумывая, как лучше окончить фразу, и после длительной паузы произнес:
– Его смерть выглядит немного странной.
Управляющая вопросительно посмотрела на детектива. Толстый слой туши на ресницах ее широко раскрывшихся глаз, казалось, усиливал этот немой вопрос.
– Странной? Так вы же сказали…
– Я ничего еще не говорил, – вежливо, но твердо прервал ее Халифа. – Надо тщательно осмотреть тело. У нас есть кое-какие вопросы относительно смерти мистера Янсена. Собственно, ради этого мы и приехали. Обычная работа.
– Что же, я к вашим услугам. Только не уверена, что смогу помочь – ведь Пит был на редкость замкнутым человеком.
Халифа кивнул помощнику, и Сария достал блокнот с ручкой, приготовившись записывать.
– Давно вы работаете у мистера Янсена? – начал Халифа.
– Почти три года. – Шоу слегка наклонила голову, теребя сережку. – Долго рассказывать, но если в двух словах… Я приехала сюда в отпуск, познакомилась с местными жителями, они рассказали, что Пит ищет управляющего для своей гостиницы. К тому времени он уже был слишком стар, чтобы в одиночку вести хозяйство. А я только-только развелась, и обратно в Англию меня не тянуло. Вот и решила пожить здесь.
– У него были родственники?
– Понятия не имею.
– Он не был женат?
– У меня сложилось впечатление, – она сделала долгую затяжку, – что женщины мало интересовали Пита.
Халифа перекинулся взглядом с заместителем.
– А мужчины?
Женщина неопределенно махнула рукой и отвела взгляд.
– Говаривали, что он любил ездить на Банановый остров. Я никогда не лезла к нему с вопросами на эту тему. Делать мне, что ли, больше нечего?!
Послышался скрежет гравия, и на террасу вышел молодой человек с подносом в руках. Он поставил три стакана с чаем и маленькую масляную лампу на соседний столик и удалился. Халифа взял стакан чая и, глотнув, продолжил расспросы:
– Фамилия у него не египетская, не так ли?
– Если не ошибаюсь, он голландец. В Египет приехал лет пятьдесят назад. Может, шестьдесят. Хотя не могу точно утверждать.
– И с самого начала жил в Луксоре?
– Вроде бы нет. Гостиницу, насколько я знаю, Пит купил годах в семидесятых. А прежде, по-моему, проживал в Александрии… Впрочем, он не особо распространялся при мне о своем прошлом.
Она сделала последнюю затяжку и загасила окурок на дне медной пепельницы в форме скарабея. На потемневшем небе одна за другой, словно свечки, вспыхивали большие синеватые звезды.
– Кстати, Пит жил не в отеле, – заметила Карла, откинувшись на спинку кресла и закидывая руки за шею. – У него был собственный дом. На восточном берегу, недалеко от Карнака. А сюда он приезжал каждое утро.
Халифа наморщил лоб и жестом попросил помощника записать адрес.
– Скажите, миссис Шоу, когда вы в последний раз видели мистера Янсена? – оторвавшись от блокнота, спросил Сария и уставился на вырез ее кофточки, приоткрывавший розовый бюстгальтер.
– Сегодня, около девяти утра. Он приехал, как обычно, в семь, просмотрел бумаги у себя в кабинете и часа через два отбыл. Сказал, какие-то дела.
– Не уточнил, какие именно? – последовал вопрос от Халифы.
– Нет. Пит всегда был немногословен. Наверняка изучал какую-нибудь очередную гробницу. Археология была его страстью. Он постоянно ею занимался и, похоже, знал больше многих специалистов.
К столу пробралась серая кошка и, бросив испытующий взгляд на следователей, грациозно вскочила к миссис Шоу на колени. Та принялась нежно поглаживать и почесывать ее.
– Мы нашли возле тела кое-какие предметы, – сообщил Халифа. – Трость, рюкзак…
– Да, это его вещи. Он их всегда брал с собой, когда ездил исследовать древности. Тростью пользовался из-за ноги. Он ее давно повредил. В автомобильной аварии, что ли.
С озера послышался всплеск. Небольшая лодка разрезала зеркальную гладь. В густой мгле надвигающейся ночи с трудом различались две мужские фигуры: один человек сидел на веслах, другой держал в руках рыболовную сеть.
Халифа докурил последнюю сигарету и вновь обратился к собеседнице:
– У мистера Янсена были враги? Или недоброжелатели?
Она пожала плечами:
– Понятия не имею. Вообще-то он мало что мне рассказывал.
– А друзья, знакомые? С кем он близко общался?
– В Луксоре, по-моему, ни с кем, – ответила женщина не совсем уверенно. – А вот в Каире он знал одну пару и часто к ним ездил, примерно раз в три недели. Супруга зовут то ли Антон, то ли Андерс. Вроде бы швейцарец. Хотя нет, вру – немец. Или голландец… – Она всплеснула руками, как бы прося извинить ее. – Простите, мне нечем вам помочь!
– Да нет, – вежливо возразил Халифа, – вы нам очень помогаете.
– Видите ли, Пит был, как бы это сказать… нелюдимым. Секреты держал при себе. За три года я ни разу не была у него дома. Его только дела заботили. Отчиталась за рабочий день – и свободна.
К ней подошел официант, приносивший чай, и прошептал что-то на ухо.
– Хорошо, Таиб, сейчас подойду, – кивнула управительница. Она повернулась к Халифе. – У нас сегодня закрытая вечеринка, надо все подготовить.
– Конечно. В общем-то главное мы выяснили.
В сопровождении миссис Шоу полицейские вышли в просторный вестибюль. Пожилой мужчина в чалме, мурлыча что-то под нос, протирал черепичный пол.
– В бумажнике мистера Янсена лежала одна фотография, – сказал Халифа, посмотрев на висевшие на оштукатуренной стене работы Гаддиса[9]. – Снимок овчарки.
– Арминий, – улыбнулась женщина. – Друг детства. Пит часто вспоминал его. Говорил, что никому из людей не доверял так, как псу. Считал его единственным настоящим другом. – Помолчав, она добавила: – Ведь Пит был очень одинок. И несчастен. Его как будто что-то съедало изнутри…
Некоторое время они молча разглядывали снимки. Двое рабочих на шадуфе[10] за Нилом; женщины, продающие овощи у ворот Баб Завела в Исламском квартале Каира; широко улыбающийся в фотокамеру мальчик в феске… Затем повернулись и вышли на улицу. По дороге ребятишки, оглашая визгом окрестности, катили автомобильную покрышку.
– Да, вот еще что, – внезапно добавила управляющая, когда полицейские уже собрались попрощаться. – Может, это и не важно, но Пит был ярым антисемитом.
Последнее слово она произнесла по-английски. Халифа прищурился.
– Кем?
– Не знаю, как по-арабски… Он был ма хаббиш аль-йехудеи[11].
Плечи инспектора дернулись, будто от легкого удара током.
– Так-так, и в чем это проявлялось?
– При мне он ничего такого не говорил. Просто я случайно слышала пару раз, как он беседовал на эту тему с гостями и с местной прислугой, после чего испытала настоящий шок. Пит заявлял, будто единственной ошибкой нацистов было то, что они не добили всех евреев до последнего, и что на Израиль надо сбросить атомную бомбу. Словом, кошмар… Нет, меня, как и любого нормального человека, конечно, возмущает, что творится в Израиле, но он нес полный бред! – Она нервно стиснула мочку уха с сережкой. – Наверное, надо было прямо ему сказать, да только я тогда подумала: «Он старик, а у них, бывает, ум за разум заходит». И работу терять не хотелось. Впрочем, все это вряд ли вам пригодится.
– Пожалуй, – сказал Халифа. – Однако все равно спасибо за помощь. Вспомните еще что-нибудь – звоните.
Он кивнул на прощание и двинулся вниз по улице, держа руки в карманах и насупив лоб в глубокой задумчивости. Сария поспешил следом, на ходу заметив:
– По-моему, он был прав насчет евреев.
Халифа смерил его холодным взглядом.
– Ага, и в холокосте, по-твоему, ничего нет плохого?
– Холокост этот, по-моему, просто выдумали, – фыркнул Сария. – Байки израильской пропаганды. В последнем номере «Аль-Ахрам» об этом написано.
– И ты поверил?
Сария пожал плечами.
– Чем скорее Израиль исчезнет с лица земли, тем лучше, – заключил он, уклоняясь от ответа. – Что они творят с палестинцами! Да за такое… Женщин и детей режут!..
Халифа собрался было поспорить, но в последний момент передумал, и дальше они шли молча. Протяжный крик муэдзина разносился над их головами, призывая правоверных на вечернюю молитву.
Израиль, район Мертвого моря, вблизи Иерихона
Мужчина в ермолке расхаживал возле вертолета, нервно попыхивая сигарой, похожей на толстый обрубок, и поглядывая то на грунтовую дорогу, то на часы. Восходящая луна ласкала пустыню теплым маслянисто-желтым светом. В гнетущей тишине каждый шаг звучал неестественно громко, будто раскалывая неподвижный ночной воздух. В полумраке можно было рассмотреть, что мужчина среднего роста, очень худой, с горбатым носом и длинным серпообразным шрамом на правой щеке.
– Долго еще? – раздался недовольный голос из кабины вертолета.
– Скоро должен прибыть, – ответил мужчина.
Он снова начал вышагивать взад-вперед, постукивая пальцами по бедру. Время от времени он вздергивал голову, словно хотел уловить малейшее колебание воздуха.
Минут через пять из ночной глуши донесся слабый шум, затем скрежет колес о гальку возвестил о приближении автомобиля. Мужчина вышел на середину дороги, следя за тем, как машина с выключенными фарами осторожно возникает из темноты.
Автомобиль проехал метров десять и остановился. Водитель вышел из кабины и открыл багажник.
– Ты припозднился, – сказал ожидавший. – Я уже начал волноваться.
– Мне есть чего бояться. Если кто-то из моих людей узнает…
Приехавший провел указательным пальцем по горлу и присвистнул. Мужчина с сигарой в зубах положил новоприбывшему руку на плечо и вместе с ним подошел к вертолету.
– Знаю, – сказал он. – Мы как по натянутой проволоке ходим.
– И надеюсь, все-таки дойдем.
– Обязаны дойти! Во что бы то ни стало. Иначе… – Он растерянно повел рукой с сигарой.
Спустя минуту гул двигателя нарушил ночной покой пустыни. Вертолет с двумя пассажирами на борту, разрезая мощными лопастями темноту, оторвался от земли.
Луксор
Полицейские пересекли Нил на неповоротливом проржавевшем пароме, коптившем небо черными клубами солярки и издававшем режущие ухо гудки. Сария беспечно грыз фисташки, а его начальник, натянув до подбородка куртку из искусственной кожи и погрузившись в глубокое раздумье, смотрел на освещенный прожекторами Луксорский храм. Сойдя с парома, полицейские поднялись по лестнице на Корниче[12], и Халифа попросил у Сарии ключи от дома покойника.
– Вы прямо сейчас туда пойдете? На ночь глядя? – удивленно спросил Сария.
– Так, взгляну, вдруг там есть что-нибудь… особенное.
Сария прищурился.
– Что именно, инспектор?
– Да мало ли!.. Ладно, давай сюда ключи!
Так и не получив внятного ответа от начальника, Сария вытащил из кармана полиэтиленовый пакет и протянул его Халифе. На обрывке бумаги он написал адрес дома Янсена.
– Пойти с вами?
– Нет, ты свободен, – ответил Халифа, изучая бумажку с адресом. – Я ненадолго, просто хочу кое-что проверить. До завтра!
Он похлопал Сарию по плечу, отправляя его домой, и просигналил проезжавшему мимо такси. Машина затормозила на тротуаре, и водитель в чалме и с сигаретой в уголке рта любезно открыл дверь.
– Куда поедем, инспектор? – Халифу он, как и большинство луксорских таксистов, знал лично: пару лет назад инспектор задержал его за просроченную страховку.
– В Карнак. Езжай по Корниче, я скажу, где остановиться.
Шофер включил мотор, и они двинулись в северную часть города – мимо гостиницы «Меркьюри», Луксорского музея, старого здания больницы, Чикагского дома[13]. Ближе к окраинам бетонные параллелепипеды жилых домов сменились покосившимися лачугами, беспорядочно раскиданными среди пышных кустарников. Немного отъехав за черту города, водитель по указанию Халифы остановил машину. Отходящая от шоссе направо прямая дорога вела к галерее Карнакского храма, освещаемого лучами прожекторов. По обеим сторонам дороги стеной возвышались лавры и кипарисы.
– Подождать? – спросил шофер, когда Халифа вылез из автомобиля.
– Не надо, обратно пешком дойду.
Инспектор полез было в карман за кошельком, но таксист замахал, отказываясь принимать деньги.
– Бросьте, инспектор, я у вас в долгу!
– Как ты тогда выкрутился, Мохаммед? Ведь ты, помнится, изрядно влип!
– Было дело. Только я в тот раз еще и дорожный налог не заплатил, так что в целом довольно легко отделался.
Водитель широко улыбнулся, открыв неровные гнилые зубы, и, нахально прогудев на прощание, развернул машину и скрылся из виду.
Халифа с минуту полюбовался ночным Нилом, отражавшим в мягко колеблющихся водах сияние далеких звезд, потом быстрым шагом двинулся к храму.
До дома Янсена он добрался минут за десять. Одноэтажная приземистая вилла располагалась метрах в двухстах к северо-востоку от храмового комплекса, в конце утрамбованной множеством шин песчаной дороги. Виллу окружала высокая решетчатая ограда, да еще и укрывала от глаз густая зелень пальм и мимоз. Дом сохранился, очевидно, с тех давних лет, когда в страну наведывались исключительно археологи и богатые европейцы, коротавшие зиму в субтропиках Верхнего Египта. Легкий туман, поднимавшийся от ближнего ирригационного канала, слоями стелился вокруг здания. Из-за этого вилла казалась парящей над землей, что придавало ей зловеще-тревожный вид.
Через решетку Халифа рассмотрел аккуратные цветочные клумбы, окна с тяжелыми ставнями, расставленные через равные отрезки по периметру участка таблички с надписью на арабском: «Частное владение – вход воспрещен!» Затем подошел к воротам и дернул за ручку. Ворота были закрыты. В бледном свете луны инспектор попробовал один за другим ключи из пакетика, пока наконец замок не поддался и дверь, со скрипом задевая гравий, не распахнулась. Когда инспектор поднимался на крыльцо особняка, какая-то зверушка – то ли кошка, то ли лиса – выскочила из темноты и, сбив стоявшие у стены грабли, исчезла в кустарнике за домом.
– Черт! – тихо вскрикнул Халифа.
Входная дверь была заперта на три тяжелых замка. При слабом огоньке сигареты Халифа подобрал ключи и, отворив дверь, шагнул в кромешную тьму жилища Янсена. На стене он нащупал выключатель, и помещение озарилось светом.
Вероятно, это была гостиная – просторная и тщательно прибранная. Посередине – овальный кофейный столик из латуни, вокруг него четыре кресла; у одной стены сервант с телевизором и телефоном, у другой – громоздкий шезлонг. Из комнаты в глубь дома вел темный коридор.
Халифа осмотрелся по сторонам. Его внимание привлекла картина с изображением скалистой горы, увенчанной снежной шапкой. Инспектор ни разу в жизни не видел настоящего снега. Опустив взгляд, он заметил прямо под картиной стопку газет и журналов: пара номеров «Аль-Ахрам», «Вестник египетского садоводческого общества», бюллетень берлинского Египетского музея. Снизу лежал журнал «Тайм» с фотографиями двух мужчин на обложке: один был коренастый, крепко сложенный, с бородой, другой – долговязый, с орлиным носом и серым шрамом, прорезавшим правую щеку до самого подбородка. Заголовок главной статьи номера гласил: «Хар-Зион или Милан: за кем пойдет Израиль?» Имя автора – Лайла аль-Мадани – было знакомо Халифе. Он с любопытством посмотрел на фотографию молодой миловидной женщины с короткими черными волосами, зеленоватыми глазами и странным, одновременно дерзким и грустным, взглядом и, покачав головой, положил журнал на место.
Халифа продолжил осмотр дома. Не торопясь прошелся по двум спальням, кабинету, заглянул в ванную и на кухню, стараясь поглубже проникнуться атмосферой, в которой жил хозяин виллы. Больше всего его поразил исключительный, прямо-таки неестественный порядок повсюду. Интерьеры виллы скорее напоминали музей, нежели человеческое жилье. Очевидно, хозяин особняка был на редкость осторожен: вдобавок к тяжелым ставням каждое окно запиралось на массивный латунный замок.
Закончив обход, инспектор вернулся в кабинет, чтобы изучить содержимое шкафов и книжных полок. Шкафы были заперты, однако в связке ключей нашлась отмычка и для них. В одном лежали конверты и файлы с договорами, счетами и прочей документацией. Другой занимала коллекция слайдов с фотографиями практически всех сколько-нибудь интересных для археологов сооружений Древнего Египта. Слайды были аккуратно помечены и разложены в строгом географическом порядке: от Тель эль-Фараин в дельте Нила до Вади-Хальфы в северном Судане.
Халифа взял наугад несколько слайдов и поднес их ближе к свету; без особых усилий он определил изображенные на них памятники – храм Сети I в Абидосе, скальные гробницы в Бени Гассане, храм бога Хонсу в Карнаке. Последний снимок задержал его взгляд – инспектор повертел слайд, чтобы четче рассмотреть, и нахмурил лоб, затем сложил все фотографии обратно, закрыл шкафы и обратился к книжным полкам.
Книги стояли по алфавиту; кроме пары словарей и небольшого раздела, посвященного садоводству, это были тексты исторические, главным образом серьезные научные труды. На полке чередовались корешки с названиями на латыни, французском, английском, немецком, арабском и, что особенно удивило инспектора, вспомнившего, как управляющая гостиницей упрекала Янсена в антисемитизме, на иврите.
Кем бы ни был этот господин в прошлом, его эрудированность поразила инспектора. «Человек с таким кругозором держит простенький отель в Луксоре – и все? – бормотал он себе под нос. – Нет, что-то здесь определенно не так… К чему такие предосторожности? Чего он боялся? От кого прятался?» Эти вопросы ставили Халифу в тупик.
Полистав пару книг и покопавшись в выдвижных ящиках стола, он вновь перешел в ванную, потом в спальни. В одной из них в тумбочке у кровати лежало несколько немецких порножурналов для геев. Обнаженные фигуры юношей, позирующих перед камерой, вызвали у Халифы непреодолимое отвращение. Он швырнул журналы обратно и громко хлопнул дверцей.
Напоследок Халифа изучил кухню. Через нее можно было попасть на вымощенную брусчаткой веранду; дверь, ведущая туда, запиралась на два замка и тяжелый стальной засов. Халифа предпочел попытать счастья за другой дверью, к которой удалось подобрать ключ в общей связке. Сразу за ней круто вниз уходила деревянная лестница. Инспектор стал осторожно спускаться по скрипучим ступеням, держась правой рукой за сырую стену, чтобы в кромешной темноте не потерять равновесия и не свалиться. Наконец он нащупал массивный выключатель и щелкнул по нему пальцем.
От яркого света пришлось на секунду зажмурить глаза. Когда зрение вернулось, Халифа удивленно ахнул.
Подвал был набит археологическими находками. Предметы глубокой древности размещались повсюду: на козлах, на привинченных к стене полках, в ящиках и коробках, громоздившихся по углам. Сотни и сотни образцов, каждый в отдельном полиэтиленовом пакетике, с надписанными от руки ярлыками, подробно сообщающими, что это, где и когда было найдено, а также указывающими приблизительный возраст предмета.
– Настоящий музей! – не веря своим глазам, прошептал Халифа.
Некоторое время он не мог сдвинуться с места, озираясь по сторонам. Затем взял одну статуэтку и прочитал сопроводительную характеристику: «Ушебти, KV39, засыпь восточного прохода. Дерево. Текст и украшения отсутствуют. 18-я династия, предполож. Аменхотеп I (ок. 1525–1504 гг. до н. э.). Найдено 3 марта 1982 г.». KV39 называлась среди археологов обширная, заваленная камнями гробница в каньоне за Долиной Царей, в которой, по мнению многих ученых, был захоронен фараон 18-й династии Аменхотеп I. Масштабные раскопки в ней до сих пор не проводились, так что, по всей вероятности, Янсен копал самостоятельно.
Халифа положил фигурку на место и взял другой пакет – «Фрагмент глянцевой плитки пола, Амарна (Ахетатон), северный дворец. Орнамент: зеленые, желтые и синие тростники папируса. 18-я династия, правление Эхнатона (ок. 1353–1335 гг. до н. э.). Найдено 12 ноября 1963 г.». Замечательная по красоте вещица, подумал Халифа, разглядывая яркие, насыщенные цветом узоры керамики. И опять-таки, несомненно, результат тайных поисков Янсена.
Инспектор не переставал удивляться количеству и разнообразию предметов, собранных в подвале карнакской виллы. Коллекция была богатейшей. Судя по атрибутивным ярлычкам, Янсен более полувека вел подпольные изыскания. Некоторые находки, например, фаянсовая статуэтка гиппопотама или изумительный по красоте орнамента остракон с изображением Фиванской триады божеств – Амуна, Мута и Хонсу, – были баснословно ценными. Но большая часть собрания состояла из сильно поврежденных либо не представляющих исторического или художественного значения предметов. Очевидно, владельцем двигало не желание копить дорогостоящие раритеты, а истинная страсть к реликтам глубокого прошлого. Коллекция тонкого ценителя, настоящего археолога – о такой мечтал и сам Халифа.
В дальнем углу подвала он увидел низкий металлический сейф с циферблатом и рычажком спереди. Инспектор потянул за рычажок, но дверца не поддалась; повозившись с минуту, он бросил это дело и взглянул на часы.
– Черт!
Детектив обещал своей жене Зенаб, что будет дома в девять и прочтет детям сказку на ночь, а стрелка часов уже перевалила за десять. Досадуя на забывчивость, Халифа обвел подвал прощальным взглядом и направился к лестнице. Он поднес руку к выключателю, когда заметил вверху двери, с внешней ее стороны, зеленую широкополую фетровую шляпу, украшенную длинными перьями. Инспектор замер, не в силах отвести глаз, затем медленно, словно против воли, побрел вверх по лестнице и снял шляпу с крючка.
– Точно с птицей на голове, – пробормотал он, вглядываясь в оперение головного убора. Голос полицейского внезапно сел, будто поперек горла встал комок. – Такая забавная птичка…
Вдруг, в приступе ярости, Халифа стукнул с размаху ладонью по двери, да так, что она с грохотом захлопнулась.
– Это не случайное совпадение, будь я проклят! – произнес он сквозь зубы. – Совсем не случайное!
Иерусалим
Старый город в Иерусалиме, морочащий путника сложной вязью улочек и площадей, синагог и мечетей, базаров и сувенирных лавок, ночью вообще превращается в настоящий город-призрак. Бесконечный поток суетливых прохожих, заполняющий днем каждый проход и закоулок – особенно плотен он в мусульманском квартале, где едва удается протиснуться сквозь несчетные ряды торговцев в обход шныряющей там и сям ребятни, – с закатом сильно редеет, ставни на лавках опускаются, и наконец длинные извилистые улицы совсем пустеют, точно обескровленные каменные вены. Немногочисленные ночные скитальцы шагают более быстро и целеустремленно, чем днем, тревожно озираясь по сторонам, словно хотят поскорее вырваться из района, отпугивающего нереальной безлюдностью и лимонно-ржавым отсветом фонарей.
Было почти три часа ночи, когда Барух Хар-Зион с двумя спутниками проник через Яффские ворота в этот пустынный сумеречный мир. Самое глухое время суток, когда даже бродячие кошки предпочитают укрываться и кажется, будто резкий звон колоколов притупляет обволакивающая тишина. Хар-Зион был низкоросл и коренаст, почти такой же в ширину, как и в высоту. В одной руке он сжимал автомат «узи», в другой – кожаный рюкзак. У каждого из его спутников также было по «узи». Один из мужчин был худой и бледный, в куртке, из-под которой высовывались кисточки талита катана; другой – высокий смуглый молодчик с накачанными бицепсами и стриженный «под ежик». На голове у всех троих были ермолки.
– А камеры? – взволнованным голосом спросил бледнолицый, кивая на установленные через равные интервалы устройства видеонаблюдения.
– Успокойся, я позаботился и об этом, – с ноткой самодовольства заверил напарника Хар-Зион, распрямляя грудь и поправляя тугой ворот джемпера. – Мои друзья из службы безопасности обещали отключить их.
– Но вдруг…
– Успокойся, – сердито повторил Хар-Зион и смерил собеседника презрительным взглядом. В его прищуренных, гранитного цвета глазах так и читалось: «Трусы мне не нужны».
Спустившись по уступам улицы Давида, трое вооруженных людей свернули на опустевший рынок, глубоко вклинивавшийся в мусульманскую часть города. Однотипные серые ставни прилавков были изрисованы арабскими надписями вперемежку с отдельными английскими словами и выражениями: «Фатх», «ХАМАС», «Мочи евреев». Город словно вымер; по пути троице встретились лишь коптский священник, спешивший к прихожанам в храм Гроба Господня, да пара пьяных туристов, пытавшихся найти дорогу к гостинице.
Где-то вдали пробили часы, и звук колокола эхом прокатился по крышам домов.
– А я надеюсь, что эти суки нас видят! – рявкнул стриженый, постукивая пальцами по своему «узи». – Ни одного арабского ублюдка не должно остаться в нашем городе!
Хар-Зион скорчил гримасу и молча указал на узкий переулок с высокими стенами по обеим сторонам. Трое прошли через заваленный отбросами двор, мимо деревянной двери, из-за которой слабо доносилось бормотание телевизора, затем миновали ворота небольшой мечети и вышли к безлюдной мощеной улице. Прямо перед собой они увидели указательный знак с надписью «Шоссе аль-Вад». Направо улица уходила к Западной стене, теряясь из виду за рядом низких арок; налево поднималась по направлению к виа Долороза и Дамасским воротам.
Убедившись, что в округе, кроме них, нет ни души, Хар-Зион с некоторым усилием, будто одежда была ему мала, присел на корточки, расстегнул ранец и извлек два лома для напарников и аэрозольный баллончик с краской – для себя.
– Ну что, приступим?..
Он подвел спутников к высокому ветхому зданию с каменным фасадом, деревянным проходом и стрельчатыми окнами, защищенными от внешнего мира решетками и ставнями.
– Там точно никого нет? – нервно спросил бледнолицый.
– Сейчас не время для неббиш[14], Шмуели, – ответил Хар-Зион, вновь пронзая его недовольным взглядом.
Низкорослый моргнул и пристыженно склонил голову.
– За дело! – скомандовал Хар-Зион.
Он встряхнул баллончик и стал неровно выводить на стене по обеим сторонам от входа изображения семисвечников. Местами краска подтекала, так что в блеклом уличном освещении казалось, будто в камень впился гигантский коготь и стал кровоточить. Напарники сунули ломы в проем между дверью и косяком и раскачивали их, пока замок не сломался. Оглядевшись, они вошли в темное помещение. Хар-Зион закончил рисовать вторую менору, после чего прихватил рюкзак и последовал за спутниками, прикрыв за собой дверь.
О том, что хозяева отправились в паломничество и в доме никого нет, им рассказал знакомый в иерусалимской полиции. Конечно, захват здания где-нибудь у самой Храмовой горы сильнее ударил бы по чувствам мусульман, но и эта вылазка казалась Хар-Зиону значительной акцией.
Он достал из рюкзака ручной фонарь, включил его, и яркий луч запрыгал по полу и стенам. Комната была просторной и скудно обставленной; воздух в ней пропитался острым запахом лака и табачным дымом. В дальнем углу луч нащупал лестницу, ведущую, по-видимому, на крышу; на стене над диваном мелькнул плакат со строками из Корана, написанными белой арабской вязью на зеленом фоне. Резким движением руки Хар-Зион содрал плакат и разорвал в мелкие клочки.
– Ави, осмотри другие комнаты. Верх беру на себя. Ты, Шмуели, пойдешь со мной, – лаконично распорядился он.
Вручив второй фонарь стриженому и захватив рюкзак, Хар-Зион стал подниматься по лестнице, заглядывая на ходу в прилегающие помещения; бледнолицый брел за ним по пятам. Добравшись до верха, лидер налетчиков толкнул металлическую дверь и вышел на плоскую крышу, заставленную телевизионными антеннами, спутниковыми тарелками и солнечными батареями. Над крышей были натянуты веревки для сушки белья. Прямо впереди возвышались купола храма Гроба Господня и шпиль церкви Спасителя. Сзади вздымалась громада Храмовой горы, в самой середине которой сияла на фоне ночной мглы освещенная мощными прожекторами луковица храма Скалы.
– Ибо разбредетесь вы по всему свету, и будут потомки ваши править народами и заселять опустошенные города, – пробормотал Хар-Зион.
Сколько лет он мечтал об этом моменте!.. Когда на Украине его преследовали из-за национальности, когда в армейском госпитале душа и плоть плавились от ожогов – все время он ждал этой минуты. За последние несколько лет многие области – вокруг Назарета, вблизи Хеврона, у Газы – перешли под их контроль, но без Иерусалима это не имело никакого значения. То, что гора Мориа, где Авраам был готов принести в жертву Исаака, своего единственного сына, то, что место, где Иаков мечтал о возведении лестницы к небу, где Соломон воздвиг Священный Храм, то, что все эти места могут оказаться под властью мусульман, причиняло Хар-Зиону почти физическую боль, словно от незатянувшейся раны.
И вот они возвращают принадлежащее им по праву. Разве многого они требуют? Вернуть родину, получить назад свою столицу – Золотой Ерушалаим… Однако арабы и антисемиты отказывают им даже в этом. Мразь – все до одного, тараканы. Вот кого надо бы послать в газовые камеры!
Хар-Зион медленно огляделся, наслаждаясь величественным видом, затем достал из ранца большой сверток ткани с веревками по краям и протянул напарнику.
– Натягивай!
Его спутник подошел к краю крыши и, встав на колени, начал привязывать веревки к торчавшим из бетонного покрытия стойкам. Хар-Зион вынул из кармана мобильный телефон и набрал номер.
– Мы на месте, – глухо сказал он, когда в трубке послышался голос. – Высылай остальных.
Он прекратил разговор и положил телефон обратно в карман. Напарник тем временем закрепил веревки и вывесил на фасад дома бело-синий флаг с гордой звездой Давида в центре. Выпущенная на свободу материя издала, простираясь, легкий свистящий звук.
– Хвала Господу, – произнес бледнолицый, улыбнувшись.
– Аллилуйя, – с торжественным придыханием сказал Хар-Зион.
Лагерь беженцев в Каландии, между Иерусалимом и Рамаллой
Лайла аль-Мадани провела рукой по коротко стриженным черным волосам и посмотрела на сидевшего перед ней молодого человека в узких брюках и футболке с изображением храма Скалы.
– Вас не смущает, что от ваших рук могут погибнуть женщины и дети?
Молодой человек спокойно выдержал ее взгляд:
– А израильтян это смущает? Что, они не убивают наших женщин и детей? Вспомните Дейр Яссин, Сабру, Рафах… Это война, госпожа Мадани, а на войне приходится невесело.
– Выходит, если бы аль-Мулатхам обратился к вам…
– Я был бы счастлив стать шахидом и пожертвовать собой ради блага моего народа.
Юноша был хорош собой, с большими карими глазами и длинными, изящными, как у пианиста, пальцами. Он интересовал Лайлу в связи со статьей о похитителях древностей, которую она готовила. В условиях экономической блокады со стороны Израиля расхищение и продажа древностей остались для палестинской молодежи фактически единственным источником дохода. Как обычно при интервью с палестинцами, зашел разговор об израильском гнете, а затем и о террористах-смертниках.
– Посмотрите на меня, – сказал парень, качая головой. – Посмотрите на все это. – Он обвел взглядом убогие комнаты глинобитного дома со сдвоенными лежанками вместо кроватей и маленьким примусом в углу. – У нашей семьи когда-то был виноградник в двести дунумов[15] около Вифлеема. Потом приперлись сионисты и выдворили нас из родных мест. Вот все, что у нас осталось… У меня диплом инженера, но устроиться я никуда не могу, потому что израильтяне отказали в разрешении на работу. Чтобы выжить, приходится продавать краденый антиквариат. И что я, по-вашему, должен чувствовать? Думаете, у меня есть какие-то перспективы? Поверьте, если бы мне предложили принести себя в жертву, я согласился бы не задумываясь. Чем больше их погибнет, тем лучше. Все они виноваты: и женщины, и дети. Я всех их ненавижу. Всех.
На его тонких губах проступила горькая улыбка, подбородок дернулся, и в глазах зажглась безмерная ярость, смешанная с отчаянием.
Собеседники замолчали, лишь с улицы доносились детские крики. Лайла закрыла записную книжку и положила ее в рюкзак.
– Спасибо, Юнис.
Молодой человек молча пожал плечами.
Дорога на Иерусалим была запружена сотнями машин, выстроившихся в четыре длиннющие очереди перед КПП Каландии. Слева от шоссе, на склоне холма, раскинулись мрачные грязно-серые лагерные постройки, по виду напоминающие огромные загнивающие кораллы. Справа тянулись грязновато-желтые взлетные полосы заброшенного аэропорта Атарот. Процедура досмотра и проверки документов была совершенно бессмысленной: нелегалы спокойно обходили заставу и ловили попутки на другой стороне. Такие контрольные пункты нужны были Израилю не в целях безопасности, а в качестве наглядной демонстрации своей власти над палестинцами. Если перевести израильские законодательные статьи и поправки к ним на обычный язык, то они бы прозвучали так: «Правила здесь устанавливаем мы, и плевать, нравятся они вам или нет».
«Косоминумхум кул иль-Израэлеен, – процедила сквозь зубы Лайла, откинувшись на спинку сиденья и уставившись в потолок. – Хреновы израильтяне».
Прошло двадцать минут, а пробка не сдвинулась и на метр. Лайла вылезла из машины, оставив дверь распахнутой, и принялась хмуро расхаживать взад-вперед, разминая затекшие ноги. Затем достала из салона цифровой «Никон».
– Будьте осторожней, – предупредил ее шофер Камель. Он успел прикорнуть, положив голову на руль. – Забыли, чем закончились съемки в прошлый раз?
Да, в прошлый раз израильтяне вволю поиздевались над ней. Сначала отобрали фотоаппарат, потом не меньше часа курочили машину, а под конец обшарили вплоть до нижнего белья и саму Лайлу.
– Я буду осторожна. Поверь мне.
Водитель покосился на нее большими карими глазами.
– Мисс Мадани, вы меньше всех, кого я знаю, заслуживаете доверия. На лице у вас написано одно, а…
– …а глаза говорят совершенно иное, – резким голосом закончила она. – Сколько еще раз я от тебя это буду слышать?
Лайла вздохнула, окинув Камеля раздраженным взглядом. Какое-то время они молча смотрели в глаза друг другу, потом, нагнув голову, журналистка надела на шею фотоаппарат и уверенной походкой направилась через узкие зазоры между рядами машин к пункту досмотра.
Они выехали из Иерусалима накануне поздно вечером, чтобы собрать информацию о палестинском коллаборационисте – его тело было найдено в городском фонтане в центре Рамаллы. Сюжет очень удачно вплетался в серию статей о коллаборационистах, которую Лайла печатала в «Гардиан». Расследование заняло всего пару часов, но, пока они были в Рамалле, в Тель-Авиве совершила очередной теракт группировка аль-Мулатхама – на сей раз на свадьбе, – и израильские спецслужбы перекрыли въезд с Западного берега. В итоге Лайле пришлось заночевать в доме приятеля по университету, в то время как вертолет «Апач» расстреливал административные здания Палестинской автономии, и так уже полуразрушенные после предыдущего налета израильской авиации.
Впрочем, задержка оказалась небесполезной. Лайла поговорила с юным расхитителем древностей и даже добилась интервью у Марсуди – одного из лидеров первой Интифады и восходящей звезды палестинской политики. Собеседник оказался человеком с мощной харизмой. Молодой, энергичный, обаятельный, с густой копной иссиня-черных волос и клетчатой куфией[16] вокруг шеи, он щедро сыпал хлесткими афоризмами. Но сейчас Лайле не терпелось поскорее вернуться в Иерусалим. Утром информационные агентства сообщили, что «Воины Давида» захватили здание в Старом городе – такое громкое событие она не могла пропустить. Кроме того, Лайла уже на неделю задерживала обещанный материал о недоедании среди палестинских детей. Больше всего на свете ей хотелось попасть в свою квартиру и принять душ – израильские солдаты перекрыли в Рамалле водоснабжение, и она не могла нормально помыться с прошлого утра: от рубашки и вельветовых брюк исходил кисловатый запах пота.
Не дойдя двадцати метров до КПП, Лайла остановилась. Водитель нагруженного арбузами пикапа, крича и жестикулируя, пытался убедить постового пропустить его, но тот смотрел на шофера непроницаемыми глазами сквозь прозрачное забрало каски и монотонно повторял одно и то же слово на арабском: «Иджимиа» – «Назад». По ту сторону заставы также скопилось изрядное количество машин, хотя и меньше, чем здесь, в направлении Иерусалима. Слева от Лайлы, беспомощно мигая, застряла машина «скорой помощи» Красного Креста.
Лет десять, если не больше, она описывала подобные сцены в своих статьях для ведущих арабских и английских изданий – «Гардиан», «Аль-Ахрам», «Палестиниан таймс», «Нью интернэшиалист» и многих других. Когда после случившейся с отцом трагедии ей пришлось вернуться из Англии, нелегко было утвердиться на новом месте, заслужить доброе имя. Однако с годами ее неутомимая, страстная деятельность на журналистском поприще принесла желанные плоды: палестинцы уважали Лайлу, признали своей. Не все, конечно; находились и такие несгибаемые скептики, как Камель, однако они были в меньшинстве. Людей подкупала непоколебимость, с которой Лайла на протяжении многих лет выступала в защиту независимой Палестины. В народе ее прозвали «ассадика» – «правдолюбивая». С израильской стороны эпитеты в ее адрес были куда менее восторженными. «Лгунья», «антисемитка», «террористка», «настырная тварь» – вот, пожалуй, наиболее «взвешенные» характеристики, которых удостоила ее израильская общественность.
Лайла вынула из кармана пластинку жвачки и бросила в рот. «Подойти к этим чурбанам и помахать у них перед носом журналистским удостоверением? Вдруг поможет?» – спрашивала себя Лайла, глядя, как солдаты одну за другой заворачивают машины с палестинской стороны. Но дрожь асфальта под ногами вмиг вернула ее на землю: по обочине шоссе, зловеще грохоча, ползли танки «меркава» с развевающимися по ветру бело-синими флагами на башнях. Какая им, к черту, разница, есть у человека журналистское удостоверение или нет? Она палестинка, и точка.
– Косоминумхум кул иль-Израэлеен, – чуть слышно произнесла Лайла и пошла обратно.
Луксор
Среди многочисленных привычек доктора Ибрагима Анвара, главного патологоанатома Луксорского госпиталя, особое недовольство коллег вызывала страсть к домино, или, как он сам именовал любимое занятие, «настольной игре богов». Приоритет сей увлекательной забавы по отношению к трудовым будням не подлежал для него никакому сомнению; не стало исключением и дело Янсена. Предварительно осмотрев труп, Анвар, вместо того чтобы тотчас произвести вскрытие, на что безосновательно надеялся Халифа, распорядился отвезти тело в главный морг Луксора, а сам благополучно отправился на междепартаментский турнир – разумеется, по домино. Поэтому был почти полдень, когда Халифа услышал по телефону горделивый голос доктора, возвестившего, что протокол вскрытия готов.
– Ага, вовремя, – холодно обронил инспектор, сердито заталкивая пятнадцатую по счету сигарету за день в забитую окурками пепельницу. – Я рассчитывал получить его вчера вечером.
– Терпение – это добродетель, которая всегда вознаграждается, – довольно хихикая, ответил Анвар. – Случай, кстати, любопытный. Я бы сказал, головоломный… А, прекрасно! Спасибо, красавица, – игриво произнес он кому-то и снова обратился к инспектору: – Моя секретарша напечатала заключение, можешь забирать. Хотя ты, наверное, очень занят, так что не волнуйся: я пришлю его тебе.
– Лучше я сам приеду, – мрачно буркнул Халифа, на собственном опыте знавший, сколько дней можно ждать почту от Анвара. – Скажи одно: это произошло случайно или умышленно?
– О, несомненно, умышленно! – кокетливо воскликнул патологоанатом. – Только, вероятно, не так, как ты думаешь.
– Что ты крутишь-то?
– Не я кручу, а история такая… запутанная. Да еще и с колючим концом. Приезжай и сам все узнаешь. Но могу заранее сказать – на сей раз Анвар превзошел самого себя, ты в этом убедишься.
– Ладно, выезжаю, – буркнул утомленный бахвальством доктора инспектор и повесил трубку.
В дверь постучали, и на пороге появился Мохаммед Сария.
– Чертов патологоанатом! – разразился Халифа. – Работать с ним – сущая мука.
– Вскрытие закончил?
– Только сейчас. Полудохлая черепаха и та шевелилась бы быстрее, – сердито сказал инспектор. – Ну а у тебя что слышно?
Все утро Сария изучал улики, обнаруженные инспектором вчера в доме покойного.
– Немного, – ответил он, присаживаясь за стол напротив Халифы. – Связался с банком «Миср», они по факсу перешлют копии счетов Янсена за последние четыре квартала. Получил справку из телефонной компании о его звонках за тот же период. Еще удалось разыскать домработницу.
– Рассказала что-нибудь полезное?
– Пятнадцать способов приготовить молочу[17], причем о десяти из них я никогда не слышал. О Янсене практически ничего. Она приходила два раза в неделю, прибиралась в доме, делала покупки. Но готовил он всегда сам. И в подвал ее не пускал.
– Завещание оставил?
– Его юрист мне сказал, что завещание видел, однако копии у него нет. Оригинал Янсен держал у себя, а единственную копию отдал другу из Каира.
Халифа вздохнул и, встав, снял пиджак со спинки стула.
– Хорошо, теперь попробуй что-нибудь узнать о его прошлом: где родился, когда приехал в Египет, чем занимался в Александрии. Рой как можно глубже. Не нравится он мне, только не пойму еще почему.
Инспектор набросил пиджак на плечи, направился к двери и, уже взявшись за ручку двери, неожиданно обернулся к Сарии:
– Слушай, а о собаке, об этом Арминии, ты, случаем, ничего не нашел?
– Нашел, – с самодовольным видом ответил Сария. – В Интернете.
– Ну и?..
– Был такой персонаж в Германии, давным-давно. Типа национального героя.
Халифа с одобрением щелкнул пальцами.
– Отлично. Молодчина, Мохаммед, так держать!
В глубокой задумчивости он закрыл дверь и пошел по коридору, недоумевая, с какой стати голландцу вздумалось назвать собаку в честь германского национального героя.
Естественно, когда Халифа приехал в госпиталь, Анвара на месте не оказалось. Инспектор попросил медсестру в темно-зеленом хирургическом костюме поискать нерадивого патологоанатома, а сам, облокотясь о подоконник, смотрел на больничный дворик, где рабочие приводили в порядок газон, а детвора носилась за бабочкой. Организм настойчиво требовал сигареты, но Халифа сдержался, помня, в какое раздражение приходит Анвар при виде курящего. Лучше уж потерпеть полчаса, чем выслушивать очередную нотацию о губительном действии никотина.
Беспокойные мысли не шли у него из головы. Он тщетно старался убедить себя, что во всем виновата неуемная фантазия, усложняющая рядовое происшествие. В памяти то и дело всплывали мелкие подробности, показавшиеся подозрительными: трость Янсена, скрытый от посторонних глаз дом за Карнакским храмом с подпольной коллекцией уникальных находок, причудливая шляпа и, наконец, жгучая ненависть к евреям… На первый взгляд разрозненные, эти детали постепенно сплетались в мозгу инспектора в клубок загадок, распутать который он был не в силах. От этого тревога волнами окатывала тело с головы до пят, с каждым разом усиливаясь. В довершение всего детектив никак не мог избавиться от гнетущего ощущения, будто смерть Янсена странным образом связана с одним давно закрытым делом.
Едва начав работать в полиции, Халифа расследовал редкое по жестокости убийство – некой Ханны Шлегель, еврейки и гражданки Израиля. Жуткое, кровавое преступление… К чему он вспомнил сейчас о том случае? Ответить на вопрос Халифа не мог, но какие-то смутные параллели, сбивчивые созвучия, яркие отблески прошлых картин одолевали его, упрямо вклиниваясь в череду вчерашних впечатлений. «Трость, антисемит, Карнак, перья» – беспрестанно вертелось в голове, словно наложенное шаманом заклятие.
– Невозможно! Пятнадцать лет как дело закрыто, – убеждал себя инспектор, нервно теребя заусеницу на большом пальце. При этом глубоко в душе он сознавал, что ничего тогда не раскрыли, и старые вопросы, оставшиеся в свое время без ответа и лишь задвинутые в дальний угол памяти, возникают вновь и в совершенно неожиданном ракурсе. – Будь ты проклят, Янсен! – со злостью выпалил Халифа. – Будь ты проклят, что умер такой смертью!
– Полностью разделяю твои эмоции, – раздался голос за его спиной. – Хотя и не могу не признать, что, не умри он именно при таких обстоятельствах, я бы не получил столь огромного удовольствия от проделанной работы.
Знакомый нагловатый говорок мигом вырвал Халифу из потока тревожных мыслей. Он не ошибся: в дверях, сжимая в руке стакан с мутноватой желтой жидкостью, стоял Анвар.
– Я и не заметил, как ты вошел, – сухо обронил инспектор.
– Где уж вам, господин сыщик, заметить нас, смертных!
Патологоанатом хлебнул из стакана и одобрительно посмотрел на напиток.
– Янсун, – пояснил он, сладко улыбаясь. – Лучший в Луксоре. Одна матрона специально для меня варит. Изумительная вещь, очень хорошо успокаивает. Обязательно попробуй.
Он подмигнул Халифе и подошел к своему рабочему столу, заваленному кипами бумаг. Халифа смотрел на этот хаос с мрачной настороженностью.
– Куда же я его засунул?.. – бормотал доктор, пытаясь разыскать нужный документ. – Ага!
Анвар опустился на стул, победно размахивая перед инспектором листками с отпечатанным текстом.
– «Заключение о вскрытии тела господина Пита Янсена», – торжественно прочитал он. – Новый успех Анвара!
Его лицо расплылось в самодовольной ухмылке. Халифа потянулся было к карману за сигаретами, но резким движением отдернул руку и положил ее на подоконник.
– Надеюсь, ты мне скажешь, что там написано?
– С преогромным удовольствием. – Анвар вальяжно раскинулся в кресле. – Первое: наш герой почил не своей смертью.
Халифа слегка наклонился вперед.
– Я также с большой долей уверенности могу установить, кто виновен в его гибели. Добавлю, что действие, повлекшее смерть, было вынужденным, что, впрочем, нисколько не умаляет ни серьезности преступления, ни страданий, испытанных господином Янсеном при кончине.
Доктор говорил с театральной выразительностью, умело выдерживая паузы и нагнетая напряжение, словно декламировал заранее подготовленную речь.
– Прежде чем раскрыть личность убийцы, – торжественно продолжал патологоанатом, – мне представляется разумным припомнить обстоятельства, при которых было найдено тело Янсена.
Халифа хотел прервать его, заверив, что помнит все до мельчайших подробностей и не нуждается в пересказе, но вовремя остановил себя. На решимость Анвара вести разговор так, как он заранее спланировал, меньше всего могло повлиять мнение собеседника.
Патологоанатом опять глотнул напитка и продолжил:
– Как ты, наверное, помнишь, мужчина был найден лежащим в грязи, лицом вниз, из его левого глазного яблока торчала отвратительная по виду железка. Помимо масштабной травмы скуловой, клиновидной и слезной костей, а также всего левого полушария мозга – который, честно говоря, сильно напоминает сплющенный баклажан, – на правой стороне черепа, чуть выше уровня уха, у покойного еще одна рана внушительного размера, причиненная, очевидно, уже не металлическим колышком. Кроме того, в наличии пара мелких порезов на левой ладони, – для наглядности патологоанатом провел пальцем по своей руке, – и на левом же колене. Плюс на правой ладони вздутие у основания большого пальца, под первым синовиальным суставом. Под ногтями на той же правой руке я обнаружил кусочки высохшей глины. Ты, вероятно, всего этого не заметил, так как кисть была придавлена телом.
Анвар выплеснул остаток алкогольного настоя в рот и, с некоторым сожалением поглядев на опорожненный стакан, поставил его на край стола. Было слышно, как жидкость с урчанием перемещается вниз по желудку патологоанатома.
– В трех метрах от трупа, – возобновил бесстрастный монолог доктор, словно речь шла не о скончавшемся в муках человеке, а о бездушном механизме, – взрыхленный песок, а также булыжник со следами крови указывают, по-видимому, на произошедшую там драку. В двухстах метрах от этого места, за глинобитной стеной, обнаружены рюкзак и трость покойного. Рядом с ними лежали молоток и стамеска, с помощью которых он выбивал цементирующий состав, а затем голыми руками разбирал стену, о чем говорят кусочки глины под ногтями.
Доктор оперся локтями о стол, а подбородок уткнул в переплетенные пальцы.
– Вот и все, что у нас есть. Вопрос в том, как соединить эти отдельные элементы, чтобы получилась цельная картина.
Нервная дрожь пробежала по телу Халифы, рука снова потянулась к пачке сигарет. В последний миг он сунул ее в карман брюк.
– Я услышу сегодня ответ?
– Непременно! – заверил Анвар начинающего выходить из себя инспектора. – Только чтобы правильно сложить мозаику, нужно внимательно рассмотреть каждое стеклышко. Так ведь? – Следователь ничего не ответил, однако доктор и ухом не повел, с важным видом продолжив: – Итак, возьмем для начала железный колышек. Причиненные им повреждения были, несомненно, летальными. Однако же смерть наступила не от них. Вернее, Янсен умер бы, даже не упав на металлическое острие.
Халифа с удивлением поймал себя на том, что, несмотря на невыносимое позерство Анвара, рассказ постепенно начинает его интриговать.
– Вот как?
– Рана на правой части головы тоже не подходит. Неприятное повреждение, наверняка от того самого окровавленного булыжника, но неглубокое – черепная кость не задета. От этого не умер бы даже такой дряхлый старик, как Янсен.
– Если он скончался не от удара по голове и не от пробитых мозгов – то от чего же тогда, черт возьми?!
Анвар хлопнул себя ладонью по левой части груди и воскликнул:
– От инфаркта миокарда – вот от чего!
– Что?!
– Да-да, ты не ослышался – от сердечного приступа. Обширный коронарный тромбоз, вызвавший остановку сердца. Вполне возможно, что на колышек упал уже мертвый человек.
– Что ты плетешь? Его огрели по башке, и сердце остановилось?
Патологоанатом коварно ухмыльнулся, довольный тем, как сумел запутать следователя.
– Никто его не огрел и не думал даже этого делать. Рана возникла совершенно случайно.
– Как случайно? Ты же сказал, что его убили!
– Да, именно так и произошло.
– Но как же, в конце-то концов?!
– Он умер от отравления.
Взбешенный Халифа стукнул ладонью по стене.
– Черт возьми, Анвар, что за бред ты несешь?
– Это правда. – Доктор сохранял поразительное хладнокровие, отчего Халифа становился только злее. – Пит Янсен был отравлен, и яд, прямым или косвенным образом, привел к остановке сердца, отчего, собственно, несчастный и умер. Извини, яснее выразиться не могу. Что именно тебе непонятно?
Халифа стиснул зубы и постарался не дать окончательно уложить себя на обе лопатки ликовавшему от чувства собственного превосходства патологоанатому.
– Так кто же он такой, этот таинственный отравитель? – спросил полицейский, пытаясь не повышать голоса. – Ты ведь говорил, что знаешь…
– О да, – подтвердил Анвар, негромко посмеиваясь. – Знаю почти на все сто.
Он вновь выдержал паузу, как бы испытывая нервы инспектора на прочность, затем перегнулся через стол, вытянул руку ладонью кверху и сжал ее в кулак. Халифа уставился на его пятерню, из которой медленно разгибался указательный палец. Умотанный дурачествами патологоанатома, инспектор собрался уже разразиться гневной тирадой в его адрес, но в этот момент палец Анвара резко дернулся и вернулся в согнутое положение.
– Имя злодея, – торжественно произнес доктор, – господин Акараб.
Он повторил странное движение пальца и воткнул его себе в ладонь.
– Акараб, – изумленно повторил за доктором Халифа. – Получается, что…
– Вот именно, – рассмеялся патологоанатом. – Нашего доброго Янсена ужалил акараб, то бишь – скорпион.
Он еще раз пошевелил пальцем, изображая скорпиона, виляющего хвостом, и повалился в кресло, зайдясь хохотом.
– Ну скажи, разве я тебя обманул? Разве у нашего отравителя не колючий конец? Ха-ха-ха!
– Да, действительно забавно, – с натугой улыбнулся Халифа. – Насколько я понимаю, опухоль у большого пальца…
– …вызвана укусом, – закончил Анвар, едва отдышавшись после приступа смеха. – Так и есть. И, судя по цвету и размеру вздутия, укус был очень серьезный. Скорее всего взрослый скорпион. Невероятная боль!
Он встал и, все еще хихикая себе под нос, подошел к раковине, чтобы налить в стакан холодной воды.
– Предполагаю, что произошло приблизительно следующее. Янсен отправляется в Малкату за разукрашенными глиняными кирпичиками. Молотком и стамеской он высвобождает из цемента очередной кирпич, сует руку в щель, и – бац! – его кусает господин Скорпион. Янсену уже не до рюкзака и трости, он устремляется к машине, надеясь добраться живым до медпункта. Но боль настолько острая, что через пару сотен ярдов у несчастного кладоискателя происходит обширный сердечный приступ. Он не удерживается на ногах и падает, отчего расшибает в кровь ногу и руку, а головой налетает на выступ камня. Быть может, тромбоз случился уже после падения, да только сути дела это не меняет. Какое-то время бедолага в агонии корчится на земле, потом в последнем порыве поднимается на ноги и спустя несколько метров снова падает, на сей раз в аккурат на острие колышка. Все. Финита!
В воображении Халифы пронеслись, словно кадры кинопленки, последние минуты Янсена. С одной стороны, инспектора немного коробила та беспечная легкость, с которой Анвар разложил все по полочкам, лишив полицию необходимости продолжать расследование. С другой – когда в деле поставлена точка, можно было со спокойной совестью забыть о человеке, при одной мысли о котором Халифа содрогался.
– Ну что ж, – сказал он, выдохнув полной грудью, – по крайней мере теперь все встает на свое место.
– Несомненно, – подхватил Анвар, залпом опорожнив стакан воды и подойдя к столу. Он взял заключение и протянул его Халифе. – Здесь ситуация подробно изложена плюс дана пара наблюдений, которые могут пригодиться.
Халифа пробежал глазами страницы.
– Например?
– Так, чисто медицинские детали. Ну, например, что у покойного был рак простаты в поздней стадии, с которым он протянул бы не больше нескольких месяцев. На левом колене много застарелых шрамов – это подтверждает, что трость он носил не для важности. А еще наш любитель древностей скрывал свой истинный возраст.
В глазах Халифы блеснула искра любопытства.
– Хоть я и неспециалист в этих вопросах, но возраст в удостоверении личности безусловно занижен. Там указано, что он родился в 1925 году, то есть ему около восьмидесяти. Но, изучив состояние зубов и десен, я бы тысячу фунтов поставил на то, что наш приятель перемахнул за девятый десяток! Пустяк, и все же я решил об этом упомянуть.
Халифа на минуту задумался, переваривая услышанное, затем в знак признательности кивнул и, сунув изрядно помятые листки с заключением в карман пиджака, повернулся к двери.
– Спасибо, Анвар, – бросил он через плечо. – Самому с трудом верится, но я и вправду восхищен.
Инспектор собрался уже выйти, когда Анвар окликнул его:
– Да, еще одна забавная мелочь…
Халифа обернулся.
– Я не стал описывать эту частность как мало относящуюся к делу, а вот тебе, смеха ради, скажу. У старика был синдактилизм ступней.
Инспектор, замешкавшись, сделал шаг назад и устремил тревожный взгляд на Анвара.
– Что?
– Выражаясь проще – врожденное сращение пальцев ног. Исключительно редкое заболевание. Про человека, который им страдает, говорят, что у него перепончатые пальцы. Он похож…
– …на лягушку.
По лицу Халифы разлилась мертвенная бледность.
– Что с тобой? – удивился Анвар. – Покойник привиделся?
– Привиделся, – чуть слышно, уставившись в одну точку, выдавил инспектор. – Только не покойник, а покойница… Ханна Шлегель. – Мгновение он простоял молча, будто унесясь мыслями куда-то далеко-далеко, потом схватился за волосы и в отчаянии закричал: – О Боже, что я наделал!
Иерусалим
Лайла вернулась в Иерусалим только поздно вечером. Камель высадил ее в начале дороги Набулос и, кивнув на прощание, исчез за углом улицы Султана Сулеймана. Моросил дождь, частые капли вуалью зависали между небом и землей, увлажняя кровли, тротуары и непокрытые головы прохожих. Свинцовые тучи гигантской шапкой легли на город. Лишь далеко на востоке, над горой Скопус, просвечивали лоскутки голубого неба.
В придорожном ларьке Лайла купила несколько обжаренных лавашей и двинулась вверх по склону холма – мимо придела Садовой гробницы, отеля «Иерусалим» и изможденных палестинцев, стоящих в очереди перед серым металлическим турникетом у входа в здание израильского министерства внутренних дел. Дойдя до спрятавшейся за высокими стенами французской Библейской школы, Лайла свернула направо, в узкий проход между пекарней и бакалеей. Прямо на земле, прислонившись к стене дома, сидел пожилой мужчина в поношенном костюме и куфии. Он вытянул вперед свою палку и глядел на разбивающиеся о нее дождевые капли.
– Салям алейкум, Фатхи, – поздоровалась Лайла.
Из-под полуприкрытых век старик перевел на нее взгляд и дрожащей рукой махнул в ответ на приветствие.
– Мы начали волноваться, – сказал он сиплым голосом. – Подумали, уж не арестовали ли тебя израильтяне.
– Слабо им меня арестовать, – рассмеялась Лайла. – Лучше скажи, как Атаф?
Старик пожал плечами и провел морщинистыми пальцами по рукояти палки.
– Неважно. Спина у нее сегодня разболелась. Сидит одна дома. Может, зайдешь на чай?
Лайла помотала головой:
– Только не сейчас. Надо принять душ, прийти в себя. Да и работы по горло. Попозже, может, и зайду. А ты пока спроси у Атаф, не надо ли вам чего купить.
Она обошла старика, юркнула в подъезд и поднялась по каменной лестнице на третий, самый верхний, этаж, где находилась ее квартира. Неприхотливо обставленное, с высокими потолками, жилище состояло из двух спален, одна из которых одновременно служила Лайле кабинетом, гостиной и кухней; к этой же комнате примыкала и ванная. Узкая бетонная лестница вела из душевой на плоскую крышу – оттуда открывался чудный вид на Дамасские ворота и скученные домики и храмы Старого города. Пять лет Лайла арендовала эту квартиру у одного местного предпринимателя, чьи родители, Фатхи и Атаф, жили на первом этаже и следили за общим состоянием дома. Дохода Лайлы вполне хватило бы на что-нибудь более солидное – скажем, в квартале Шейх Джарра, где сдавались квартиры в увитых плющом и обнесенных высокими стенами многоэтажках. Однако она сознательно не переезжала в более фешенебельную и безопасную часть Иерусалима. Это был хорошо рассчитанный жест, которым она бросала вызов своим критикам: «Вот, смотрите, в то время как западные журналисты возвращаются после работы из трущоб Рамаллы в номера люкс «Хилтона» и «Шератона», я ночую в самом обычном палестинском доме». Одновременно – что было не менее важно – это лишний раз подчеркивало и ее близость к рядовым читателям-палестинцам.
Бросив запылившийся рюкзак на диван – один из немногочисленных элементов гарнитура ее гостиной – и прихватив из холодильника бутылку «Эвиан», Лайла прошла к рабочему столу, где на автоответчике мелькал красный огонек. Прежде чем включить воспроизведение, она глотнула минералки и поглядела на большую фотографию, висевшую в рамке на стене. Статный мужчина в белом халате, со стетоскопом на шее – ее покойный отец. Каждый раз, вернувшись домой после очередной изматывающей поездки, Лайла первым делом смотрела на этот снимок – самый любимый, самый дорогой, единственный, который она захотела оставить после смерти отца. И каждый раз при этом к горлу подкатывал горький комок.
Автоответчик зачитал одно за другим одиннадцать сообщений, лишь четыре из них были по делу. Редакция «Гардиан» требовала как можно скорее сдать статью о палестинских коллаборационистах. Том Робертс, служащий британского консульства, очередной раз упрашивал ее о встрече – он безуспешно делал это уже полгода. Старая приятельница Нуха предлагала посидеть вечером в баре отеля «Иерусалим». Сэм Роджерсон из Рейтер предупреждал о захвате «Воинами Давида» здания в Старом городе – об этом она и так слышала по радио в Рамалле.
Остальные послания были либо грубыми оскорблениями, либо угрозами. «Ненавижу тебя, вонючая лживая сучка!»; «Желаю хорошо повеселиться в последний день своей поганой жизни»; «Ты у нас на прицеле, Лайла, везде и всегда. Подожди, в один прекрасный день мы оттрахаем тебя, а потом пристрелим»; «Смерть арабам! Израиль! Израиль!». Судя по акценту, звонили, как обычно, израильтяне и американцы. Сколько бы ни меняла она домашний номер, через сутки телефонные хулиганы выходили на ее след. Поначалу это сильно било по нервам, но за несколько лет Лайла научилась пропускать такие сообщения мимо ушей. Вежливая просьба поскорее сдать материал доставляла куда больше беспокойства, чем визгливая матерщина. Только ночью, когда она гасила свет и ложилась спать одна в пустой квартире, кошмары терзали ее сознание, заставляя часами без сна ворочаться в постели.
Лайла стерла сообщения, поставила подзаряжаться мобильник, позвонила в пару мест – договорилась с Нухой о встрече на вечер и выяснила некоторые подробности захвата жилого дома израильскими экстремистами. Ей уже не раз приходилось писать о «Воинах Давида», а совсем недавно «Нью-Йорк ревью» предложил подготовить материал о лидере группировки, уроженце СССР Барухе Хар-Зионе. Лайла подумывала, не помчаться ли тотчас к месту происшествия, но, резонно предположив, что за два часа ситуация вряд ли изменится коренным образом, решила привести себя в порядок и закончить срочные дела.
Скинув на кровать пропотевшую одежду, она прошла в ванную, залезла в душевую кабину, и плотная струя горячей воды окатила ее стройное тело. Мылась Лайла долго, старательно счищая песок и пот, изгибаясь под душевым потоком, вздыхая от наслаждения. Перед тем как вылезти, она ополоснулась холодной водой, затем выключила душ и, закутавшись в большое махровое полотенце, вернулась в рабочую комнату, села за стол и включила свой портативный «Макинтош».
За два часа Лайла закончила статью о голодающих палестинских детях и взялась за обещанный «Гардиан» материал о коллаборационистах. Почти всю информацию она держала в голове, лишь изредка, чтобы уточнить какую-то деталь, обращаясь к наскоро сделанным записям в блокноте. Набирала текст она вслепую; изящные пальцы, бесшумно бегая по клавиатуре, превращали размытые образы в четкие буквы на мониторе компьютера.
Самым удивительным было то, что печататься Лайла начала довольно поздно. Девочкой мечтала пойти по стопам отца и лечить страдающих беженцев сектора Газа и Западного берега, позднее, прослушав в университете курс новейшей арабской истории, раздумывала о политической деятельности. Но в конце концов твердо решила, что именно журналистика позволит ей в полной мере исполнить миссию, которой Лайла со временем стала придавать чуть ли не сакральное значение.
Сразу после окончания университета она устроилась в палестинскую газету «Аль-Айям». Первый блин вышел комом: тогдашний редактор, ворчливый горбун и заядлый курильщик Низар Сулейман, завернул подряд пятнадцать вариантов ее заметки про палестинские тренировочные лагеря, где детей с шестилетнего возраста учили петь антиизраильские песни и готовить «коктейль Молотова» по местному рецепту (бутылка горючей смеси для клейкости обмазывается вазелином). Шестнадцатый вариант, недовольно бурча, принял. Она была на грани срыва, однако Сулейман, задев ее самолюбие, заставил попробовать еще раз. Стиснув зубы, Лайла с удвоенной энергией засела за работу. Материал о насильственном перемещении израильскими властями племен бедуинов в Негеве переделывался всего пять раз, а третья статья о палестинцах, вынужденных от безденежья строить израильские поселения, была напечатана в трех газетах и получила первое место на конкурсе журналистских работ.
С тех пор ее популярность росла день ото дня. У Лайлы изначально было немало важных плюсов по сравнению с иностранными корреспондентами: она воспитывалась матерью-англичанкой и отцом-палестинцем, в совершенстве владела арабским, английским, ивритом и французским и не понаслышке знала ближневосточные реалии. Хотя ей неоднократно предлагали должности в крупнейших западных изданиях, таких как «Гардиан» и «Нью-Йорк таймс», она еще четыре года проработала в «Аль-Айям», после чего перешла на вольные хлеба. Ее яркие, врезавшиеся в память статьи никогда не оставались незамеченными, какой бы сюжет она ни выбирала – применение пыток израильскими спецслужбами или проект по выращиванию шпината в Нижней Галилее, – и вызывали воодушевленное одобрение поклонников и желчные упреки критиков.
Какие только не сыпались на нее обвинения: в односторонности, в предвзятости, в замалчивании тягот израильтян и умалении масштабов терактов. Обвинения, мягко говоря, малообоснованные: множество репортажей Лайла написала о жертвах среди мирного населения Израиля, обличала коррупцию и нарушение прав человека в Палестинской автономии. И все же быть объективной во всем ей не удавалось. О таком конфликте, как палестино-израильский, вообще очень непросто рассказывать, не приукрашивая действия одной из сторон. Лайла же ни в коем случае не могла дать повода заподозрить ее в сочувствии израильтянам.
Набрав около тысячи слов в новом тексте о коллаборационистах, она отправила по электронной почте статью о голоде в каирскую редакцию «Аль-Ахрам» и выключила ноутбук. Глаза слипались, тело ныло от усталости, но Лайле не терпелось посмотреть на людей, захвативших дом в Старом городе. Она заставила себя встать и одеться, торопливо сжевала яблоко и, засунув ноутбук и фотоаппарат в рюкзак, вышла из квартиры.
Не успев захлопнуть дверь, она услышала тяжелое дыхание Фатхи, медленно подымавшегося по лестнице. Одной рукой старик опирался на палку, в другой держал конверт.
– Вот, для тебя, – сказал он, протягивая конверт Лайле. – Утром принесли. Извини, что забыл отдать раньше.
На конверте не было ни марки, ни адреса, только ее имя, написанное кроваво-красными чернилами, строгим, энергичным почерком. Буквы напоминали выстроившихся на параде солдат.
– Кто принес? – спросила Лайла.
– Паренек какой-то, – ответил старик и повернулся спиной, собираясь спускаться. – Первый раз его вижу. Он хотел узнать, где ты живешь, я сказал, что тебя нет дома, тогда он оставил мне конверт и убежал.
– Палестинец?
– Разумеется, палестинец! А ты что, часто видишь в нашем районе еврейских детей?
Он взмахнул рукой, недоумевая, как можно было задать столь нелепый вопрос, и скрылся за изгибом лестницы.
Лайла не решилась вскрыть конверт, пока не осмотрела его со всех сторон и не убедилась в отсутствии взрывчатых или ядовитых элементов. Вздохнув с облегчением, она положила сверток на рабочий стол и аккуратно распечатала его. Внутри лежали две бумаги – сопроводительное письмо, написанное от руки таким же витиеватым готическим шрифтом, что и имя получателя на конверте, и прикрепленный к нему снизу лист формата А4, по всей видимости, ксерокопия старинного документа. Окинув беглым взглядом диковинный ксерокс, Лайла перевернула обратно сопроводительное письмо и внимательно прочла написанный по-английски текст.
«Уважаемая госпожа аль-Мадани!
Вам пишет давний поклонник Вашего незаурядного журналистского мастерства. С увлечением прочитав немалое число Ваших статей, я решил направить Вам следующее предложение.
Некоторое время назад Вы брали интервью у человека по прозвищу аль-Мулатхам. В моем распоряжении есть информация, которая может оказать ему неоценимую помощь в борьбе с сионистскими оккупантами, если, конечно, он даст согласие на сотрудничество со мной. При этом я рассчитываю на Вашу помощь. Со своей стороны могу обещать величайший взлет в Вашей и так уже блестящей карьере.
Учитывая деликатность дела, Вы поймете, почему я соблюдаю предельную осторожность и пока не раскрываю все детали. Прошу Вас обдумать мое предложение и, по возможности, сообщить о нем нашему общему другу. Я свяжусь с Вами в самое скорое время.
P.S. Одно маленькое замечание, чтобы разогреть аппетит. Информация, которой я собираюсь поделиться, непосредственно связана с приложенным документом. Если Вы хотя бы вполовину такой профессионал, каким я Вас представляю, Вам потребуется не много времени, чтобы оценить значение моего проекта».
Подписи не было.
Лайла еще дважды прочла странное письмо, затем снова открыла ксерокопию. Документ был, несомненно, очень древним. Пробежав по строкам, исписанным мелкими латинскими буквами, она поняла, что не может даже приблизительно определить язык документа, не говоря уже о смысле. Еще более загадочным было то, что буквы стояли вплотную друг к другу и ни один знак препинания не разделял одно-единственное слово, занимавшее несколько строк:
Zbxnufgmhiuynzupnzmimindoygzikdmonguukxpgpnzpogouzh
dzqohidpcpdngbuuhmzdzikonugdmonumnhodgpdnohmuumy
hhuhpnxoundnzyoxdmzkzmziaomhpguinufzggunzznhdzqohguzhpxl
gupdghhzuonzznhondhdnimofdvuminzufzomvguuxxzguf
dpfdguhdqnnhzloupugoygzodioophdoxopmunzzocoxdpuz
ooghuuonznopoofododozuapoodnuopzhzxnmuidzkdmpoumdnloip
byumzquyhggpnzznhoguzmznonhudolpnddnugxuikzoohnddnugxu
mbounddughuzodazhughhddmznpfugzrzvdximppupofuuz
anumzoomppn
Снизу крупным шрифтом были выведены две заглавные буквы: «GR». Ясности, однако, эти инициалы вносили не более чем бессвязная череда букв над ними.
Лайла еще раз пробежала взглядом по непонятным каракулям и перевернула страницу с сопроводительной запиской. Интервью, на которое намекал ее анонимный почитатель, было опубликовано около года назад. В свое время этот материал вызвал настоящий ажиотаж вокруг ее персоны, так как палестинский террорист номер один впервые приоткрыл завесу секретности и согласился высказаться во всеуслышание. Особо пристальный интерес проявили израильские спецслужбы, для начала изучив вдоль и поперек записи в ее блокноте и файлы портативного компьютера, а затем проведя изнурительный многочасовой допрос. В итоге дотошные следователи выведали у Лайлы не больше того, что уже знали рядовые читатели: интервью проходило в тщательно законспирированном месте и везли ее туда с завязанными глазами. Поэтому первое, что пришло Лайле на ум, когда она просмотрела странное послание, что таинственный документ – очередная «утка» парней из «Шин-Бет»[18], просто несколько более замысловатая, чем те неприкрытые провокации, какие устраивали для нее раньше, вроде той, что случилась пару лет назад.
Тогда прямо на улице к ней подошел незнакомец, прикинувшийся активистом палестинского сопротивления, и предложил такой «план»: он передает ей оружие для сотоварищей в Газе, которое она, пользуясь журналистской неприкосновенностью, переправит через КПП в Эрезе. Лайла не могла сдержать приступ смеха, выслушав этот плохо состряпанный вздор; вволю нахохотавшись, она с издевкой, на иврите, ответила замаскированному провокатору, что после успешно проведенной операции не прочь была бы отужинать с Ами Аялоном[19].
Да, сегодня израильтяне оказались поизобретательней – наверное, захотели реабилитироваться за прошлые провалы. Хотя, быть может, интригующая криптограмма – просто чья-то хулиганская проделка. Кем бы ни был ее автор, Лайла решила не загружать больше голову догадками и не тратить на эту писанину и минуты своего драгоценного времени. В последний раз взглянув на ксерокопию старинного документа, она швырнула его и прикрепленное скрепкой письмо в мусорное ведро и вышла из дома.
Луксор
– Пустой мечтатель, вот ты кто, Халифа! Всегда им был и останешься, черт тебя возьми!
Старший инспектор Абдул ибн-Хассани стукнул тяжелым мясистым кулаком по столу, подошел к окну кабинета и с мрачным видом посмотрел в сторону Луксорского храма. Группа туристов выстроилась вокруг обелиска Рамзеса II, слушая экскурсовода и восхищенно разглядывая величественную вертикаль древнего монумента.
Хассани был грузным широкоплечим мужчиной с толстыми бровями и приплюснутым носом боксера. В полицейском управлении он слыл ворчуном и себялюбцем. Припадки бешенства случались с ним нередко. Подчиненные хорошо знали симптомы, по которым можно было определить, что начальник не в духе, – громкий агрессивный голос, багровая физиономия и маленькая пульсирующая жилка под правым глазом. Повышенное внимание к своей внешности проявлялось у Абдула в подчас нелепых мелочах, таких как чересчур изящно скроенный парик, которым старший инспектор надеялся скрыть разраставшуюся с годами лысину. От сильного удара кулаком по столу парик съехал набок, и Хассани, делая вид, будто подбирает пряди на лбу, аккуратно поправил его, глянув в висевшее на стене зеркало, дабы удостовериться, что все в порядке.
– Чушь! Полнейшая чушь! – распалялся он. – Двадцать лет прошло…
– Пятнадцать.
– Пятнадцать, двадцать – какая, к черту, разница? Слишком много воды утекло, чтобы рыться в прошлом. А ты все роешь и роешь, точно крот какой-то. Вечно, что ли, будешь мертвецами заниматься?
Разъяренный, с искусственным пучком прилизанных волос на макушке, Абдул выглядел как человек, на которого нагадила птица и который все же старается не придавать этому значения и вести себя как ни в чем не бывало. Во время другого разговора Халифа, наверное, с трудом сдерживал бы смех, но сегодня ему было не до неуклюжего парика шефа.
– Простите, шеф…
– Настоящее! – грубо прервал его Хассани, скрестив руки и подойдя к висевшей в рамке фотографии президента Хосни Мубарака – он всегда вставал на это место, когда собирался отчитать провинившегося сотрудника. – Настоящее – вот чем надо заниматься, Халифа. У меня работы по горло. Каждый день, каждый час происходят преступления, на них времени нет, а ты лезешь с делом двадцатилетней давности! Да к тому же закрытым!
Произнеся последнюю фразу, он чуть нахмурил лоб, как будто сомневаясь в истинности своих слов. Секунду спустя неуверенность на его лице вновь сменилась раздражением. Он подошел к сидевшему на низеньком стуле Халифе и ткнул его в грудь толстым указательным пальцем.
– В этом твоя главная проблема, Халифа. Тысячу раз говорил, скажу и еще – ты совершенно не способен сосредоточиться на настоящем. Только и знаешь, что шляться по музеям да читать умные книжки про всяких Тутанхамонов и Энетенебов…
– Эхнатонов, – поправил Халифа.
– Опять ты за свое! – Хассани взвился как ошпаренный. – Мне плевать, как звали этого мертвеца! Если его нет, на кой черт я буду засорять голову? Мне важно, что происходит здесь и сейчас, понял?
Хассани всегда злил интерес Халифы к прошлому. А Халифа не мог до конца понять, за что его шеф так не любит и даже ненавидит историю. Впрочем, он догадывался: полное незнание прошлого собственной страны задевало самолюбие Абдула. Кроме того, на отношении Хассани к своему подчиненному не в последнюю очередь сказывалось, что Халифа был одним из немногих полицейских, не поддававшихся запугиваниям начальства.
– Да, вольно зажили бы бандюги, ничего не скажешь! – орал Хассани, носясь по кабинету. – Думаешь, не рады они были бы, если бы мы все время возились со всякими заплесневелыми бумажками, а всех сутенеров, воришек и… – он замешкался, подыскивая подходящее слово, – и карманников оставили на потом? А, разве не так? Последний шпаненок будет шустрее таких полисменов.
Жилка под глазом старшего инспектора пульсировала как никогда. Халифа достал пачку сигарет и, согнув спину, закурил.
– Не исключено, что следствие допустило ошибку, – сказал он тихо, остановив взгляд на плитке на полу. – Не обязательно, но и не исключено. И то, что ошибка произошла пятнадцать или тридцать лет назад, не освобождает нас от обязанности вытащить всю правду на свет.
– С чего ты это взял? – возмущенно вскричал Хассани. – Где доказательства? Понимаю, такой парень, как ты, никогда не поверит во всякие «теории заговора» и прочую подобную чепуху. Однако мне нужно что-нибудь большее, чем «не исключено»!
– Я же сказал – не исключено.
– То есть тебе кажется!
– Между этими делами есть что-то общее…
– Что-то общее есть и между моей женой и бегемотом, но это не значит, что она весь день сидит в своем собственном дерьме и жрет пальмовые листья!
– Многовато общего для простого совпадения, – не желая сдаваться, твердил Халифа. – Пит Янсен каким-то образом был связан с убийством Ханны Шлегель. Я чувствую! Я знаю!
Он ощутил, как его голос становится громче, и, положа руку на колено, сделал долгую затяжку, чтобы успокоить нервы.
– Ханна Шлегель была убита в Карнаке, и там же жил Янсен, – сказал он как можно спокойнее, чтобы не выдать бушующих у него в душе эмоций.
– Ты смеешься надо мной? В Карнаке живет тысяча человек, и пять тысяч приезжают каждый день посмотреть на древности. Может, нам их теперь всех допросить?
Халифа сделал вид, что не заметил колкости начальника, и продолжил все таким же невозмутимым тоном:
– Символ «анкх» и розочка на набалдашнике трости Янсена соответствуют отпечаткам на лице и черепе Шлегель, на которые в свое время следствие не обратило внимания.
Хассани лишь отмахнулся.
– Есть тысячи, если не десятки тысяч предметов с такими значками. Незначительная деталь, Халифа, слишком незначительная.
Инспектор снова оставил слова шефа без комментариев и продолжил:
– Шлегель была израильтянкой, а Янсен терпеть не мог евреев.
– Аллах с тобой, Халифа! Весь Египет ненавидит чертовых евреев после того, что они сделали с палестинцами. Что ж мы, по-твоему, должны следить за каждым египтянином?
Халифа не отступал.
– По словам охранника Карнакского храма, с места происшествия поспешно скрылся человек с каким-то необычным головным убором. «Точно смешная птичка» – так это описал свидетель. Шляпа с перьями, которая висит на двери подвала дома Янсена, совпадает с описанием охранника.
На сей раз Хассани разразился настоящим приступом хохота.
– Нет, просто умора! Чертов охранник вообще был, если память мне не изменяет, полуслепой. Он руку-то свою еле видел, а чего уж говорить про бегущего за пятьдесят метров человека!.. Липовые у тебя доказательства, парень, все до одного липовые.
Халифа сделал последнюю затяжку и, наклонившись к столу, смял сигарету в пепельнице.
– У меня есть еще одно.
– Ну-ну, давай, позабавь меня! – закричал Хассани, хлопая в ладоши.
Халифа откинулся назад.
– Прежде чем испустить дух, Шлегель успела произнести два слова: «Тот» – так звали египетского бога мудрости и литературы…
– Знаю, знаю! – раздраженно одернул собеседника Хассани.
– …и «цафардеах», что на иврите значит «лягушка».
Хассани прищурился.
– Ну и что?
– У Янсена была одна врожденная особенность – перепончатые пальцы на ступнях. Как у лягушки.
Он говорил быстро, чтобы шеф не успел прервать его очередным язвительным уколом. К его удивлению, Хассани промолчал, подошел к окну, сжав кулаки, как будто держал два невидимых чемодана.
– Я понимаю, что в отдельности эти детали мало что значат, – напирал Халифа, надеясь в конце концов уломать начальника. – Но если рассматривать их в совокупности, для простого совпадения это многовато. А ведь есть еще склад древностей в подвале. Янсену было что скрывать. Им надо серьезно заняться.
Костяшки побелели на кулаках Хассани, так сильно он их сжимал.
– Мы не будем больше тратить на это время, – произнес шеф медленно, и все же от этого низкого, размеренного голоса на душе становилось тяжелее, чем от надрывного крика. – Человека в живых больше нет, а на нет и суда нет. Все ясно?
Халифа посмотрел на него недоверчивым взором.
– А как же Мохаммед Джемаль? Что если за решетку сел невиновный?
– Джемаль умер.
– А его семья? Мы должны…
– Суд признал Джемаля виновным, дьявол тебя забери! – завопил старший инспектор. – Он ограбил старушку и публично в этом сознался.
– Но не в том, что убил ее. Он категорически отрицал свою причастность к убийству.
– Да он же покончил с собой! Что это еще, как не раскаяние?
Хассани подступил на шаг ближе к Халифе.
– Этот парень был виновен. Он, и никто другой. Все это знали – и мы, и он сам.
Его глаза сверкали от бешенства. Но что-то еще было в этом горящем взоре, какая-то песчинка неуверенности и даже отчаяния. Халифа не припомнил, чтобы видел раньше нечто подобное.
– Только не я, – сказал он, закурив сигарету.
– Что?! Повтори!
– Я не считал Джемаля виновным. – Голос Халифы звучал все увереннее. – Ни тогда, ни тем более сейчас. Возможно, Мохаммед Джемаль и ограбил Ханну Шлегель, и все же он точно ее не убивал. Мне стыдно, что в свое время я смалодушничал и промолчал. Более того, мне кажется, в глубине души муки совести терзают и вас, и полковника Мафуза…
Хассани подошел еще ближе к инспектору и с такой силой ударил толстенным кулаком по столу, что стопка бумаг взлетела в воздух, а затем рассыпалась по полу.
– Все, Халифа, терпение мое лопнуло! – вскричал он, трясясь и судорожно подергивая уголками рта. – Сам разбирайся со своими психологическими проблемами, а у меня в участке есть дела поважнее. Последний раз тебе говорю: я не открою дело пятнадцатилетней давности из-за того, что у какого-то взбалмошного идиота, понимаете ли, неспокойно на душе. Ты не привел ровным счетом никаких доказательств, кроме всяких там перышек и лягушек, которые только заставляют задуматься о твоем рассудке. Знаешь, Халифа, у меня всегда были серьезные сомнения в твоей профпригодности. Как говорится, плохому танцору яйца мешают. Пошел бы ты лучше в археологи или чем ты еще там бредишь, а ловить преступников я как-нибудь постараюсь без тебя. Настоящих, не выдуманных преступников.
Разнервничавшись, Хассани резко провел рукой по затылку и нечаянно сдвинул на лоб парик, о котором напрочь забыл в пылу разговора. Яростно вскричав, он сорвал его и швырнул в противоположный конец комнаты, а сам, тяжело дыша, уселся за стол.
– Забудь обо всем этом, Халифа, – сказал он неожиданно утихшим голосом. – Ханну Шлегель убил Мохаммед Джемаль, а Янсен не имел никакого отношения к ее смерти. И пересматривать дело я не позволю.
Хассани отвел глаза от прямого взгляда Халифы.
– А теперь займись-ка хоть раз в жизни нормальной полицейской работой. Одна иностранка из отеля «Зимний дворец» пожаловалась, что у нее-де стащили драгоценности. Вот пойди и разберись, в чем там дело.
Халифа понял, что говорить больше не о чем. Он встал и прошел к двери.
– Ключи, – угрюмо бросил Хассани. – Я не позволю тебе за моей спиной лазить по дому Янсена.
Халифа обернулся, достал из кармана связку ключей и кинул через весь кабинет Хассани, который поймал ее одной рукой.
– Чтобы я больше об этом не слышал. Ты меня хорошо понял? Никогда не слышал.
Следователь промолчал, распахнул дверь и вышел в коридор.
Иерусалим
Сколько бы раз Лайла ни проходила под внушительной, укрепленной с обеих сторон аркой Дамасских ворот, облепленной попрошайками и уличными торговцами, по почерневшим от нечистот плитам Старого города, она не могла забыть, как пятилетней девочкой ее первый раз привели сюда родители.
– Гляди, Лайла! – гордо говорил отец, присев за ее спиной на корточки и поглаживая длинные, доходившие до талии иссиня-черные волосы девочки. – Аль-Кодс, красивейший город мира! Наш город. Гляди на светящиеся на утреннем солнце камни, впитывай запах заатара[20] и свежеиспеченного хлеба, вслушивайся в зов муэдзинов и выкрики продавцов тамар хинди[21]. Запомни все это, Лайла, и храни в своем сердце. Ведь может статься, что израильтяне выдворят нас из нашего города, и Аль-Кодс останется лишь главой в учебниках истории.
Лайла обняла отца за шею.
– Я не позволю им! – закричала она. – Я буду бороться с ними, и ничто меня не испугает.
Отец засмеялся и прижал ее к груди, плоской и твердой, словно мрамор.
– Ух какая ты у меня воинственная! Лайла Непобедимая!
Они пошли вдоль древних стен, пугавших ее в то время своей высотой и массивностью, и сквозь Дамасские ворота попали в пестрый лабиринт улочек и закутков Старого города. В небольшом кафе они с мамой заказали по стакану кока-колы, а отец, потягивая курительную трубку шиши, оживленно беседовал с важными стариками в чалмах. Затем они спустились по дороге аль-Вад к Харам аль-Шариф, останавливаясь на каждом шагу то у пекарни, где отец ребенком ел хлеб, то на площадке, где он гонял в футбол, то возле старого фигового дерева, выросшего будто из самой стены, чьи плоды он когда-то обрывал.
– Есть их нельзя – слишком жесткие и горькие, – объяснял отец Лайле. – Мы кидались ими друг в друга. Однажды один такой угодил мне прямо в нос. Ну и треск был! А кровищи сколько!
Он расхохотался, вспомнив детский задор, и Лайла засмеялась вслед за ним, хотя в душе ей стало страшно при мысли, что отцу причинили боль. Она обожала его, во всем хотела нравиться ему, показать, что она такая же храбрая и настоящая палестинка, как он сам.
От фигового дерева они свернули в паутину узеньких переулков и тупиков, по которой блуждали, пока не очутились в проеме между вытянутыми рядами зданий, соединявшимися на верхних этажах в единый аркообразный пролет. Стоявшие у входа в один из домов израильские солдаты проводили их подозрительными взглядами.
– Гляди, как они смотрят, – тяжело вздохнув, промолвил отец. – Точно мы стащили что-то из собственного дома.
Он взял дочку за руку и подвел к низкому деревянному дверному проему, увенчанному перемычкой с искусно вырезанным орнаментом из плодов и виноградных лоз. Латунная пластинка на стене у входа гласила, что здание отдано мемориальной иешиве имени Алдера Когена. Справа на дверном каменном косяке было выцарапано слово «мезуза».
– Наш дом, – сказал грустно отец, прикоснувшись рукой к двери. – Наш замечательный дом.
Его – и ее – семья бежала из дома во время разразившегося в июне 1967 года конфликта, прихватив лишь несколько самых ценных вещей и найдя приют в лагере беженцев в Акабат Джабре под Иерихоном. Они надеялись, что это лишь временное убежище, но когда после прекращения боевых действий вернулись в Иерусалим, в их доме уже расположились израильтяне и никакие жалобы новому градоначальству помочь не смогли. С тех пор они и вели жизнь беженцев.
– Здесь я родился, – произнес отец, нежно проведя рукой по шершавой поверхности двери и касаясь узорчатой перемычки. – И мой отец. И его отец, и отец его отца… И так четырнадцать поколений моих предков. Триста лет.
– Все будет хорошо, папочка, – сказала Лайла, обнимая его и стараясь передать всю свою силу и любовь в худое крепкое тело отца. – Когда-нибудь он снова будет твоим и мы все вместе заживем в нем. Все будет хорошо!
Он склонился над дочкой и прижал голову к ее длинным волнистым волосам.
– Если бы правда было так, моя милая Лайла! – прошептал он. – Но не у всех историй счастливый конец. И особенно у нашего народа. С годами ты это поймешь.
Подобные воспоминания пробегали у нее в голове, когда она проходила под мрачной аркой ворот и поднималась по склону дороги аль-Вад.
В обычный день эта часть города, пестрая от разноцветных палаток с выставленными на продажу цветами, фруктами, специями, похожа на бурлящий котел: тут и там шныряют, толкаясь и наступая друг другу на ноги, плутоватые продавцы и докучливые покупатели, а мальчишки, задорно свистя, лихо катят доверху груженные мясом и отбросами телеги. Но сегодня здесь было неестественно тихо. Так весть о проникновении «Воинов Давида» в сердце палестинской части Иерусалима отразилась на торговой активности горожан.
Под сморщенным жестяным навесом пустого кафе сидели несколько стариков; слева, в потрескавшемся дверном проходе, устроившись на корточках перед безрадостной грудой известняка, одинокая крестьянка прятала лицо в морщинистых ладонях. Остальные люди на улицах были либо израильскими солдатами, либо полицейскими: наряд пограничников в зеленых беретах примостился на ступеньках кафе.
Лайла развернула свое удостоверение журналиста перед миловидной девушкой, которая, не будь на ней полицейской униформы, вполне сошла бы за фотомодель, и спросила, можно ли пройти к занятому зданию.
– Пикет дальше по дороге, – ответила девушка, недоверчиво разглядывая протянутую пластиковую карточку. – Там и спросите.
Лайла кивнула и двинулась вдоль по дороге, мимо австрийского хосписа и виа Долороза – мимо той самой аллеи, где росло фиговое дерево, которое ей когда-то показал отец. Чем дальше она шла, тем явственнее слышались крики и тем отчетливее ощущалось присутствие военных и полиции. Впереди, в нескольких десятках шагов, толпились молодые люди: одни в черно-белых головных повязках, символизировавших принадлежность к молодежному отделению партии «Фатх», другие – с красно-зелено-черно-белыми палестинскими флагами в руках. Узкий переулок периодически оглашался их гулкими выкриками, и вслед за тем лес сжатых кулаков взметался в воздух. Бесстрастные лица израильских солдат, переброшенных сюда, чтобы не дать волнениям выйти за городские стены, казались каменными на фоне разъяренных физиономий демонстрантов. Пепел и обуглившиеся куски картона на булыжниках напоминали о недавно горевших здесь кострах; израильские камеры наблюдения, словно скелеты животных, свисали из настенных гнезд, стекла в них были выбиты.
Лайла с трудом пыталась пробиться сквозь толпу, которая с каждым шагом становилась все плотнее. Когда она уже отчаялась прорваться, ее окликнул молодой человек. Она вспомнила, что брала у него интервью пару месяцев назад, работая над статьей о молодежном отделении «Фатха». С его помощью Лайла смогла протиснуться к металлическим ограждениям, которые наспех установили израильские солдаты поперек улицы. Среди толпы возмущенных палестинцев затесалось и несколько израильских пацифистов из группы «Мир без промедления». Одна из них, пожилая женщина в трикотажной шляпе, крикнула ей:
– Напиши про этих ублюдков, Лайла! Они так и норовят спровоцировать войну!
– Вот именно, – подхватил стоявший позади нее мужчина. – Они хотят убить нас всех! Оккупанты – прочь! Мы хотим мира! Мира без промедления!
Он нагнулся вперед и погрозил кулаком закованным в бронежилеты и каски пограничникам, скучившимся по ту сторону ограждений. За ними, перед оккупированным домом, тоже в касках и бронежилетах, суетились журналисты и телекорреспонденты. Еще дальше вниз по улице другой блок ограждений сдерживал израильских правых экстремистов, пришедших сюда, чтобы поддержать захватчиков. Один из плакатов, которые держали сторонники оккупантов, гласил «Кахане[22] был прав!», другой требовал прогнать «арабских бандитов» с исконно еврейских земель.
Лайла показала свое удостоверение солдату, и тот, внимательно рассмотрев его и на всякий случай проконсультировавшись с начальством, провел девушку сквозь толпу журналистов. Рядом с ней оказался бородатый мужчина с брюшком, в защитной каске и очках с проволочной оправой.
– Неужто сама Лайла аль-Мадани почтила нас своим присутствием? – бросил он с нескрываемым пренебрежением. Его голос тонул в непрекращающемся шуме толпы. – Я уже заждался.
Онз Шенкер работал политобозревателем «Джерусалем пост». Их знакомство состоялось при малоприятных обстоятельствах: тогда Лайла выплеснула на него стакан воды за то, что он оскорбительно высказался по поводу палестинских женщин. С тех пор при каждой встрече они неизменно обменивались едкими уколами.
– Поправь лучше каску, Шенкер, а не то свалится, – фыркнула в ответ Лайла.
– Завидуешь, что у тебя такой нет? А она пригодится, когда твои арабские дружки начнут метать камни и бутылки.
Как бы в подтверждение его слов со стороны палестинских манифестантов прилетела бутылка и, описав дугообразную траекторию, рухнула на мостовую в какой-то паре метров от них.
– Ну, что я говорил? – выпалил Шенкер. – Но тебе бояться нечего – они же целятся в нормальных журналистов!
Лайла приоткрыла рот, чтобы парировать этот выпад очередной колкостью, однако, решив не тратить попусту время и энергию, продемонстрировала Шенкеру неприличный жест и стала протискиваться сквозь толпу репортеров ближе к месту действия. Здесь царило подлинное безумие: корреспондент Си-эн-эн Джеральд Кессел с микрофоном в руке, пытаясь попасть в поле зрения камеры, отчаянно крутился на узеньком пятачке; слева израильские пограничники теснили палестинских манифестантов в глубь улицы, давя на них металлическими ограждениями. С каждой минутой гул толпы становился все громче и громче. Полиция приготовила канистры со слезоточивым газом, протестующие ответили градом бутылок.
Простояв некоторое время неподвижно и глядя по сторонам, чтобы сосредоточиться и сориентироваться в этом море хаоса, Лайла скинула с плеча фотоаппарат и принялась щелкать, снимая все, что казалось ей сколько-нибудь приметным: наскоро нарисованные аэрозолем меноры по обе стороны входной двери – обязательный атрибут «Воинов Давида»; израильский флаг, распростертый перед зданием; солдат на крышах близлежащих домов, призванных, по всей вероятности, чтобы воспрепятствовать возможной атаке местных жителей. Она собиралась сфотографировать сторонников захвативших дом экстремистов, когда почувствовала, как толпа стала резко сжиматься и тянуть вперед.
Дверь захваченного дома распахнулась. На мгновение все затихли в ожидании, и на пороге возникла приземистая фигура Баруха Хар-Зиона, за которым следовал стриженный «под ежик» телохранитель Ави Штейнер. Сторонники оккупантов встретили их ликующими возгласами и пением «Хатикавы» – национального гимна Израиля. В свою очередь, палестинцы и пацифисты, отогнанные к этому времени настолько далеко, что с трудом могли разобрать происходящее у дома, навалились на ограждения и завели свою песню – «Родина моя, родина моя». Штейнер грубо расталкивал скучившихся журналистов, пытаясь освободить пространство для своего командира. Непрестанно сверкали яркие, словно молния, вспышки фотоаппаратов.
Хар-Зион на мгновение остановил взгляд на Лайле и высокомерно прошел дальше. Он не реагировал на сыпавшиеся со всех сторон вопросы; лишь легкая нагловатая улыбка, проступившая на краях губ, свидетельствовала о его удовлетворении происходящим. Едва он поднял правую руку, требуя тишины, как вопросы прекратились и десятки рук с диктофонами вытянулись вокруг его головы. Лайла вскинула фотоаппарат на плечо и достала блокнот.
– Древняя иудейская пословица гласит, – произнес хриплым, басистым голосом Хар-Зион, – «Хамечадеш бетув бехол йом тамид ма’асех берешит» – «Бог творит мир каждый день сызнова». Вчера эта земля была в руках наших врагов. Сегодня она по праву вернулась своему законному владельцу – еврейскому народу. Это великий, исторический день, который никогда не позабудут. И поверьте мне, дамы и господа, таких дней будет все больше и больше.
Луксор
Хотя Шлегель была убита добрых пятнадцать лет назад, Халифа помнил все подробности дела с такой ясностью, будто это случилось вчера.
Труп обнаружил местный житель, некто Мохаммед Ибрагим Джемаль, в храме бога Хонсу – мрачном строении в юго-западной части Карнакского храмового комплекса, куда редко забредают простые туристы. Как показало вскрытие, убийца нанес шестидесятилетней незамужней еврейке ряд сильных ударов в область головы и лица, раздробив челюсть и череп в трех разных местах тупоконечным предметом, определить который следствие оказалось не в состоянии. Единственной уликой, указывавшей на приметы неизвестного предмета, были отпечатавшиеся на коже убитой контуры символа «анкх», перемежавшиеся миниатюрными розетками.
Джемаль уверял, что Шлегель, когда он нашел ее, была, несмотря на тяжкие увечья, еще жива. Вся в крови, еле шевеля губами, женщина несколько раз прошептала два слова – «Тот» и «цафардеах», – после чего впала в кому, из которой ей не суждено было выйти. Однако иных свидетелей убийства, способных подтвердить сказанное, следствие не нашло, если не считать старика охранника, утверждавшего, будто он слышал приглушенные крики, доносившиеся из глубины храма, и видел краем глаза, как кто-то, сильно хромавший и с «чем-то странным на голове, точно смешная птичка», поспешно удалился с места, где было совершено преступление. Впрочем, дед был полуслепой да вдобавок ко всему еще и слыл алкашом, и его слова в то время никто всерьез не воспринял.
Дело взял под свой контроль тогдашний глава полиции Луксора, старший инспектор Эхаб Али Мафуз, назначив себе в помощники собственного зама, инспектора Абдула ибн-Хассани. Двадцатичетырехлетнего Халифу, который только что был переведен в Луксор из родной Гизы, также подключили к работе. Так ему в первый раз довелось расследовать дело об убийстве.
С самого начала работы следствие рассматривало в качестве основных два мотива убийства. Наиболее вероятным представлялся грабеж, на что указывала пропажа бумажника и часов убитой. Эту версию активно отстаивал Мафуз. В качестве второго, менее правдоподобного, но все же теоретически возможного мотива принималось нападение фундаменталистов: всего месяцем ранее девять израильтян были застрелены в экскурсионном автобусе на трассе между Каиром и Исмаилией.
Халифе, самому молодому и наименее опытному в группе следователей, ни тот, ни другой сценарий не показались достаточно убедительными. Если целью был грабеж, то почему нападавший не снял с шеи женщины золотую звезду Давида? А если повинны фундаменталисты, почему они не заявили об этом сами, как у них заведено после разного рода терактов?
По ходу расследования в деле всплыли новые странности. Шлегель прибыла в Египет за день до своей гибели рейсом из Тель-Авива, совершенно одна, и тотчас вылетела в Луксор, где у нее был забронирован номер в отеле экономкласса на набережной Корниче эль-Нил. По словам консьержа, она не выходила из номера с самого приезда и до 15.30 следующего дня, когда за ней приехало такси, чтобы отвезти в Карнак. С собой у женщины была всего одна сумка с самыми необходимыми ночными принадлежностями и обратный билет в Израиль на то же число. Хотя оставалось неясным, зачем Шлегель приехала в Луксор, было очевидно, что отдыхать и смотреть достопримечательности она явно не собиралась.
Гостиничная горничная также рассказала, что когда вечером она заносила в номер Шлегель полотенца и мыло, то слышала, как покойная говорила с кем-то по телефону. И без того сложную картину окончательно запутывал большой, хорошо заточенный кухонный нож, найденный в дамской сумочке убитой. Выходило, что то ли она сама собиралась с кем-то расправиться, то ли ожидала нападения.
Чем больше Халифа думал о деле, тем сильнее крепла в нем уверенность, что ни кража, ни экстремизм здесь ни при чем. Подсказку надо искать в телефонном разговоре. С кем говорила Шлегель? О чем? Он запросил в администрации отеля распечатку сведений с телефонного датчика, но выяснилось, что в тот самый вечер аппарат, как назло, сломался. К тому времени, когда Халифа собрался обратиться в центральную египетскую телефонную компанию за сводкой разговоров по всему зданию, следствие приняло неожиданный оборот: в доме Мохаммеда Джемаля были найдены часы Шлегель.
В луксорской полиции Джемаля знали не понаслышке. Отъявленный жулик и хулиган, он скопил за свою «карьеру» целую коллекцию приговоров по всевозможным статьям – от словесного оскорбления и оскорбления действием, за что три года коротал в аль-Вади аль-Гадид, до автомобильной кражи и поставок марихуаны, которые обошлись ему в шесть месяцев заключения в Абу-Заабале. Когда было совершено убийство, он подрабатывал экскурсоводом (правда, без лицензии) и утверждал, что уже несколько лет как завязал с криминалом. На завуправлением Мафуза эти заверения, однако, не возымели ни малейшего действия. «Был вором, вором и остался, – сухо сказал он. – Как леопард не меняет территорию, так и такой говнюк, как Джемаль, не превращается за ночь в ангела с крылышками».
Халифа присутствовал на допросе Джемаля. Мурашки бежали у него по коже, когда он вспоминал, что Мафуз и Хассани вытворяли с подозреваемым. Поначалу тот наотрез отрицал, что где-нибудь видел эти часы. После двадцати минут избиений Джемаль сломался и признал, что, мол, да, это он стащил часы, не в силах выдержать искушения. Пытаясь оправдаться, он плел что-то о долгах, из-за которых его семью вот-вот могли выселить из дома, о больной дочери. Но главное, он отчаянно отказывался признать, что убил Шлегель или взял ее бумажник. В этом Джемаль так и не сознался даже после двух дней все усиливавшихся избиений. Под конец допросов он мочился кровью, а веки его раздулись до такой степени, что он почти не мог видеть, однако отстаивать свою невиновность Джемаль так и не перестал.
Халифу до глубины души коробило увиденное, но он, опасаясь перечеркнуть перспективы службы в полиции, не вымолвил ни слова против. Хуже всего было то, что он с самого начала не сомневался в искренности Джемаля. Неистовость, с которой он орал, что не убивал женщину, стойкость, с которой выдерживал удары тяжеленных, словно молоток, кулаков Хассани, заставили Халифу поверить, что этот человек нашел Шлегель уже после нападения на нее. Возможно, он и украл, говорил себе Халифа, но, во всяком случае, точно не убивал.
Мафуз, однако, был непреклонен. А Халифа снова смолчал. Так же, как и во время допросов, он молчал, когда Джемаль предстал перед судом, и когда его приговорили к двадцати пяти годам работ в каменоломне Тура, и даже когда спустя четыре месяца после вынесения приговора он покончил с собой, повесившись в камере.
Все последующие годы Халифа пытался найти оправдание своему молчанию. Он убеждал себя, что Джемаль был настолько скверный тип, что в любом случае получил по заслугам, а прав ли был суд в конкретном случае – дело десятое. Но какой-то внутренний голос упрямо твердил Халифе, что он струсил и из-за его трусости невиновного отправили за решетку, а настоящий убийца так и не предстал перед правосудием. И теперь этот голос звучал с такой силой, что инспектор уже не мог думать ни о чем ином.
Иерусалим
Сторонники Баруха Хар-Зиона – а их число росло словно грибы после дождя – воспринимали своего лидера не иначе как нового Давида, избранника Божия, отвоевывающего у врага Землю обетованную. Сочетая недюжинную силу и бесстрашие с глубокой набожностью, Хар-Зион являл собой в их глазах живой образец шартекера – несокрушимого героя иудейских преданий, который печется о себе, своем народе и Боге, не задумываясь о средствах.
Борис Зеговский – таково было его настоящее имя – родился в захолустном местечке на юге Украины. В 1970 году, шестнадцатилетним подростком, он на пару с младшим братом тайно бежал за пределы СССР. Пешком преодолев пол-Европы, братья обратились в израильское посольство в Вене с просьбой разрешить им алию[23]. Долгий изнурительный путь из страны повального антисемитизма на землю предков стал для Хар-Зиона своего рода исходом, наглядным подтверждением союза Бога с избранным народом.
С тех пор он всецело отдал себя военной службе во имя обороны и расширения пределов своей новой родины. Его карьера в израильской армии началась с элитного полка «Сайрет Маткал», где Хар-Зион неоднократно удостаивался военных почестей. После того как его «хаммер» налетел на фугас в южном Ливане и Хар-Зион получил страшные ожоги, он перешел в военную разведку – возглавил отдел по вербовке агентов из числа палестинцев. Беззаветное служение во благо Израиля составляло самую суть его личности, побуждая как на акты беспримерного героизма (его дважды представляли к высшей военной награде Израиля – медали «За отвагу»), так и на поступки, поражающие своей жестокостью. В 1982 году он получил строгий выговор за то, что велел подчиненным облить бензином ливанскую девочку и под страхом ужасной смерти выдавил из нее сведения об оружейных запасах «Хезболлы». Позднее, во время работы в разведке, Хар-Зион угодил под трибунал: он подозревался в том, что санкционировал запугивание палестинских женщин групповым изнасилованием, дабы принудить их к сотрудничеству. Обвинения были сняты после того, как главный свидетель по делу погиб в результате загадочного пожара.
И это были лишь самые известные случаи. Леденящие душу рассказы о совершенных им зверствах передавались из уст в уста. Но вместо того, чтобы заставить Хар-Зиона контролировать себя, они, казалось, лишь льстили его тщеславию больше всех наград за мужество. Говорят, однажды он заметил: «Приятно, когда тобой восхищаются, а еще приятнее, когда тебя боятся».
Мирные соглашения, принятые в Осло, – равно как и любые другие договоры, предусматривавшие уступку Израилем хотя бы пяди библейской земли, – до глубины души возмутили Хар-Зиона. Официальный курс правительства был чересчур мягок для него. Настал час действовать самостоятельно. В середине девяностых, подав рапорт об уходе из разведывательного ведомства, он навсегда порвал с военной службой и с головой окунулся в политику. Сначала примкнул к организации воинствующих переселенцев «Гуш Эмуним», а вскоре основал еще более радикальную группу «Шаалей Давид» – «Воины Давида». Выдвинутый этой группой призыв захвата арабских территорий и переселения на них израильтян был даже самыми правыми политиками воспринят как сумасбродство фанатиков. Однако с появлением аль-Мулатхама и «Палестинского братства» бескомпромиссная позиция Хар-Зиона стала стремительно набирать популярность. Он открыто заявлял, что конец терактам наступит только тогда, когда Эрец Исраэль будет заселена лишь евреями, а палестинцы уберутся в Иорданию. На организуемые им митинги приходило все больше народу, а на обеды для спонсоров – все более важные гости. На выборах двухтысячного года Хар-Зион получил место в кнессете – после этого в некоторых кругах о нем всерьез заговорили как о потенциальном политическом лидере Израиля. «Если Барух Хар-Зион станет премьер-министром, стране придет конец», – предрек умеренный израильский политик Иехуда Милан. «Если Барух Хар-Зион станет премьер-министром, таким юцимам[24], как Иехуда Милан, придет конец», – отреагировал Хар-Зион.
Все это пронеслось в голове у Лайлы, пока она всматривалась в человека, стоящего в паре шагов от нее. На руках перчатки, волосы с проседью, лицо бледное, скуластое, покрытое многодневной щетиной и оттого напоминающее заросший мхом кусок гранита. Журналисты снова засуетились, один за другим защелкали кнопки записи на диктофонах. Корреспонденты, стараясь перекричать друг друга, сыпали вопросами.
– Мистер Хар-Зион, готовы ли вы признать, что нарушили закон, захватив этот дом?
– Возможен ли, на ваш взгляд, какой-то компромисс между израильтянами и палестинцами?
– Можете ли вы прокомментировать предположение, что ваши действия негласно поддерживаются премьер-министром Шароном?
– Правда ли, что вы хотите снести Мечеть Скалы и восстановить на этом месте древний храм?
Сохраняя невозмутимость, Хар-Зион мгновенно парировал вопрос за вопросом, повторяя низким хриплым голосом, что он и его люди не захватывают и не заселяют арабские территории, а освобождают землю, принадлежащую еврейскому народу по божественному праву. Через двадцать минут этого однообразного диалога он жестом дал понять, что сказать ему больше нечего, и повернулся, собираясь скрыться в здании.
В этот момент Лайла шагнула вперед и выкрикнула ему в спину:
– Три года члены «Шаалей Давид» отравляют колодцы, ломают ирригационные сооружения, вытаптывают палестинские сады. Трое членов вашей организации были осуждены за убийство палестинских граждан, причем в одном случае речь шла об избиении до смерти одиннадцатилетнего мальчика рукояткой кирки. Сами вы одобрительно отзывались о деятельности Баруха Гольдштейна и Игала Амира[25]. Чем же вы лучше аль-Мулатхама, мистер Хар-Зион?
Хар-Зион замер на месте, затем медленно обернулся к журналистам. Его глаза пробегали по незнакомым лицам, пока не остановились на Лайле. Она ощутила тяжелый и злой взор политика.
– Может, это вы объясните мне, мисс аль-Мадани, – произнося ее имя, он на миг изменился в лице, словно проглотил горькую пилюлю, – почему араба, который лишил жизни двадцать мирных граждан, называют жертвой, а еврея, защищающего себя и свою семью, осуждают как убийцу?
Лайла не дрогнула под испепеляющим взглядом Хар-Зиона и нанесла ответный удар:
– Итак, вы считаете правомочным убивать мирных жителей Палестины даже при отсутствии агрессии с их стороны?
– Я считаю правомочным то, что мой народ стремится жить в мире и спокойствии на дарованной ему Богом земле.
– Даже если ради этой цели используются методы террористов?
Хар-Зион помрачнел. Остальные журналисты молча переводили взгляд с него на Лайлу и обратно. Автоматная очередь однотипных вопросов внезапно прекратилась – все были заворожены разворачивающейся у них на глазах словесной дуэлью.
– Терроризм на Ближнем Востоке практикует только одна группа населения, – отчеканил Хар-Зион. – Причем не евреи. Хотя из ваших репортажей этого не поймешь.
– Значит, по-вашему, убийство ребенка – не теракт?
– Я бы сказал, что убитый ребенок – жертва войны, мисс аль-Мадани. Однако эту войну начали не мы. – Он немного помолчал, сверля ее глазами, и заключил: – Зато именно мы ее закончим.
Затем, выдержав пристальный взгляд Лайлы, развернулся на каблуках и скрылся в доме.
– Редкая стерва, – выругался шепотом один из сопровождавших Хар-Зиона соратников. – Вот кому не мешало бы пустить пулю в башку!
– Да, наверное, – согласился Хар-Зион, усмехнувшись. – Но не сейчас. Она еще может пригодиться.
Луксор
Развалины Карнакского храма притягивали Халифу, особенно по вечерам, когда поток туристов ослабевал и закат погружал древний ансамбль в светящуюся золотом дымку. «Ипут-Исут» – «самое почтенное место» – так говорили о храме древние египтяне, и он мог их понять: этот полуразрушенный город, будто повисший между небом и землей, действительно окутывала какая-то магическая аура, которая умиротворяла детектива в самые нервозные моменты, словно унося в иное измерение и избавляя от гнетущих проблем.
Но сегодня этого не произошло. Ему не было дела до окружавших его величественных статуй и покрытых таинственными иероглифами стен. Вернее сказать, он попросту не замечал их, поглощенный не отступавшими ни на минуту мыслями. Так, погруженный в себя, Халифа прошел первый и второй пилоны и оказался в стройном лесу колоннады большого гипостильного зала.
Было уже почти пять часов пополудни. Всю первую половину дня инспектор, в соответствии с приказом шефа, разбирался с пожилой английской туристкой, сообщившей в полицию о краже драгоценностей. Три часа он и Сария опрашивали работников отеля, пока старушка наконец не вспомнила, что драгоценности вообще-то с собой не взяла. «Дочка посоветовала мне оставить их дома, – объяснила она, – чтобы не украли. Арабская страна как-никак…»
Развязавшись с взбалмошной англичанкой, Халифа вернулся на рабочее место в полицейском участке. Потягивая сигарету за сигаретой и машинально выводя бессмысленные каракули в блокноте, он непрерывно думал о Пите Янсене, Ханне Шлегель и своем шефе Хассани, недавний разговор с которым еще более раззадорил Халифу. Промаявшись так около часа, он спустился в подвал, где располагался архив участка, – само собой, чтобы полистать папку с делом Шлегель. Халифа понимал, что делать этого не стоит, однако сдержать себя не мог. Тут его ждала очередная неожиданность: папки в архиве не оказалось. Смотрительница архива, старая дева, с незапамятных времен ведавшая материалами закрытых дел, облазила все шкафы, но старания ее успехом не увенчались. Папка бесследно исчезла.
– Просто не могу понять, – в растерянности бормотала она. – Невероятно…
Инспектор вышел из подвала еще более возбужденным и не задумываясь поймал такси до Карнака. Он ехал туда не в стремлении отвлечься от тревожных дум, а чтобы побывать на том самом роковом месте, где убили Ханну Шлегель и куда, по его глубокому убеждению, тянулись нити терзавших душу загадок.
Халифа прошел сквозь стройные ряды папирусообразных колонн большого гипостильного зала, вздымавшихся над ним, словно могучие стволы секвой, и вынырнул наружу через проход в южной стене. До закрытия храма оставалось совсем немного, и охранники стали поторапливать посетителей. Увидев, что на Халифу слова не производят ни малейшего действия, один из смотрителей приблизился к нему и погрозил пальцем. В ответ инспектор показал служебное удостоверение, и охранник вмиг исчез, предоставив полицейскому возможность в тишине продолжать прогулку.
Почему Хассани так категорично запретил ему вновь поднять дело Шлегель? Этот вопрос непрестанно вертелся у Халифы в голове. И почему начальник так нервничал? Все это казалось Халифе подозрительно-странным, и, даже предчувствуя, что навлечет на себя самые серьезные неприятности, оставить вопросы без ответов он не мог.
– Проклятие! – прошипел он, притаптывая сплюнутый окурок и тотчас поднося ко рту новую «клеопатру».
Халифа свернул в сторону юго-восточной части храма, минуя ряды изрисованных иероглифами песчаников, вытянувшихся в гигантскую мозаику. Дойдя до протяженного прямоугольного здания, расположенного несколько в стороне от основной части ансамбля, инспектор замер. Перед ним был храм Хонсу. Окинув трепещущим взглядом величественные стены из обветренного песчаника, Халифа проскользнул через боковую дверь внутрь.
В храме было прохладно и очень тихо. Лишь узкий луч заходящего солнца лился в сумрачное помещение из входного проема в противоположной стене, словно расплавленное золото текло по мощеному полу. Слева к храму прилегал окаймленный колоннами двор; справа располагался еще один открытый двор, а за ним низкий проход вел в главное святилище храма. Прямо перед Халифой в центре здания размещался узкий зал с восемью колоннами – по четыре колонны в ряду. За третьей колонной по левому ряду нашли в свое время труп Ханны Шлегель.
Инспектор подождал, пока глаза привыкнут к мраку, и двинулся вдоль по залу. Хотя за прошедшие годы Халифа несчетное число раз бывал в Карнаке, это строение он намеренно обходил стороной. И теперь, с опаской шагая между колоннами, он страшился посмотреть вниз, ожидая увидеть липкие пятна крови на плитах пола и вычерченный мелом контур лежащего тела. Однако холодные камни храма, самой своей величавой неподвижностью словно воплощавшие бесстрастность, молчали о свершенном некогда преступлении. «Много тут чего было – и хорошего, и плохого, – казалось, говорили они. – Но мы ничего не расскажем».
Дойдя до злопамятной колонны, Халифа присел на корточки, и перед глазами у него воскресла картина многолетней давности. Больше, чем общее состояние тела, его почему-то поразили мелкие, не касающиеся сути дела детали: зеленые кальсоны убитой, заметные в том месте, где юбка обтягивала талию; извилистый рубец на животе, напомнивший ему сбивчивый почерк пьяного человека; а главное, загадочная татуировка, нарисованная потускневшими темно-синими чернилами на левом предплечье, – треугольник и пять цифр под ним. Мафуз объяснил, что это, должно быть, какой-то иудейский символ. «Типа метки на мясе, чтобы знать, откуда оно», – добавил для ясности начальник. Халифу ужаснуло это сравнение убитой с тушей на мясном прилавке.
Он провел ладонью по пыльным плитам пола, выпрямился и взглянул на участок стены за колонной. На ней был выгравирован рельеф с изображением фараона Рамзеса XI и двух богов, совершающих над ним обряд очищения, – Гора и Тота, существа с телом человека и головой ибиса.
Инспектор снова задумался. «Тот» и «цафардеах» – два слова, которые Шлегель успела произнести перед смертью. «Цафардеах» определенно относилось к деформированным ступням Янсена – сомнений это у Халифы не вызывало. Но при чем здесь Тот? Видения помутившегося разума в предсмертном бреду? Или же ответ надо искать глубже?
Втянув очередную порцию никотина, Халифа стал напряженно вспоминать все, что знал о боге Тоте. Мудрость, грамотность, арифметика и медицина – вот за что он отвечал в пантеоне древнеегипетских богов. Тот – а его также называли сердцем Ра, измерителем времени, знатоком Божьих заповедей – в совершенстве владел магией. Именно Тот наделил богиню Исиду чарами, позволившими ей воскресить убитого мужа (и одновременно брата) Осириса. Кроме того, он создал иероглифы и даровал египтянам священные законы. Тот записывал на сердце умершего решение богов об участи покойного в потустороннем мире и ведал перевозкой мертвых душ на серебряной барке в царство мертвых. Культ Тота тесно соприкасался с поклонением луне – его часто изображали с лунным диском над головой. Главное святилище Тота находилось в Гермополисе, в Среднем Египте. Женат Тот был на богине письма Сешат.
Халифа ломал голову, пытаясь вычленить подсказку, которая помогла бы доказать, что слово «Тот» относилось к Питу Янсену. Янсен был, несомненно, очень образованным и эрудированным человеком, он знал много языков и располагал солидной библиотекой. Если бы в Древнем Египте существовала археология, наверняка именно Тот был бы божественным покровителем этой науки…
Однако Халифа чувствовал, что его предположение неточно, что он упускает нечто важное и потому не может разобрать, что на самом деле хотела сказать Шлегель. «А вдруг Хассани прав? – спрашивал себя Халифа, запутавшись в догадках. – Вдруг я действительно обладаю больной фантазией, пытаюсь найти в темной комнате черную кошку, которой там нет? Но даже если прав я, безумием было бы вести расследование за спиной у шефа вопреки его строгому запрету! Это же конец карьере! И ради чего? Ради какой-то старой…»
Из дальнего придела храма послышались шаги. Поначалу Халифа предположил, что в здание зашел охранник. И лишь когда звук шагов стал слышен отчетливее, он понял, что для мужчины они слишком мягки. Спустя несколько секунд в зал с южного входа вступила женщина в джеллаба суда[26]. В руках связка диких цветов, в черном платке, и лица практически не видно. Солнце уже зашло, храм погрузился во мрак, и вставшего за колонной Халифу женщина не заметила. Она подошла к месту, где умерла Ханна Шлегель, скинула платок и, присев, положила на пол цветы.
Халифа вышел из-за колонны.
– Здравствуй, Нур, – обратился он к ней.
Она подскочила и стала в испуге озираться по сторонам.
– Не бойся, ради Бога! – успокоил ее Халифа, подняв руку в подтверждение своих слов. – Я не хотел тебя напугать.
Попятившись, женщина подозрительно посмотрела ему в лицо, и гримаса презрения пробежала по ее губам.
– Халифа, – тихо произнесла она. И, помолчав некоторое время, добавила: – Человек, который убил моего мужа. Один из них…
Она сильно изменилась с тех пор, как он видел ее на суде в день оглашения приговора Мохаммеду Джемалю. Тогда она была такой юной и хорошенькой… Теперь перед ним стояла потрепанная жизнью, усталая женщина с похожим на потрескавшееся дерево лицом.
– Зачем ты следил за мной? – спросила она недоверчиво.
– Вовсе не следил. Просто…
Он запнулся, не зная, как объяснить, что привело его в храм. Женщина пристально посмотрела на него, затем отвела глаза в сторону и снова присела, чтобы разложить цветы. Белая цапля опустилась во внешнем дворе и стала клевать пыльные камни.
– Я все время сюда хожу, – глухо, словно говоря сама с собой, сказала Нур, пощипывая морщинистыми пальцами стебли цветов. – Мохаммеда-то ведь даже не похоронили по-людски. Просто выкинули в яму за тюрьмой, и все дела! – Она говорила низким, придавленным голосом, не глядя на Халифу. – Да и далеко мне в Каир ездить. А сюда хожу… Не знаю, почему именно сюда. Наверное, потому что здесь… в некотором смысле… он тоже здесь умер.
Она говорила отстраненно, почти не выдавая эмоций, и оттого Халифе стало совсем неловко. Он неуклюже замялся и переступал с ноги на ногу, тиская монету, случайно завалявшуюся в кармане брюк.
– Ее я тоже поминаю, – продолжила Нур. – Она, бедняжка, была ни в чем не виновата… И Мохаммеда ни в чем не обвиняла.
Аккуратно сложив цветы, женщина встала в полный рост и, поглядев на рукотворную могилу, собралась уходить. Халифа снова сделал шаг в ее сторону, внезапно испугавшись, что разговор сейчас оборвется.
– Как дети?
Она пожала плечами, не меняя скорбного выражения лица.
– Мансур устроился слесарем в автосервис, Абдул оканчивает школу. Фатима вышла замуж и ждет ребенка. Живет в Арманте. Ее муж работает на сахарном заводе.
– Ну а ты? Не…
– Замужем? – Она подняла на него свои усталые глаза. – Мой муж Мохаммед. Может, он был и не самым лучшим человеком, но муж есть муж.
Цапля между тем приблизилась ко входу и, вытягивая шею и качаясь на игольчатых лапах, горделиво прошагала по залу. Дойдя до женщины, остановилась.
– Это не он, – сказала Нур тихо. – Он стащил часы, верно. Однако женщину убил не он. И кошелек он не брал.
Халифа молчал, глядя в каменный пол.
– Да, знаю. Ты… Извини, в общем.
Женщина проводила взглядом грациозную цаплю, ритмично шагавшую между колонн.
– Ты один из них был порядочным человеком, – прошептала Нур. – Только ты мог ему помочь. А потом и ты…
Она глубоко вздохнула и пошла к выходу из храма. Пройдя пару метров, Нур обернулась.
– Спасибо тебе. Мужа не вернуть, но деньги помогали.
Халифа удивленно посмотрел на нее.
– Деньги? Какие деньги?
– Которые ты присылал. Я сразу поняла, что ты. Единственный среди них порядочный.
– Погоди… Какие деньги?
– Каждый год. Перед самым Ид аль-Адха[27]. По почте. Без подписи и обратного адреса. Никаких слов. Просто три тысячи египетских фунтов, стофунтовыми купюрами. Всегда стофунтовыми купюрами. Стали приходить через неделю после того, как Мохаммед повесился, и с тех пор каждый год, без перерыва. Если бы не эти деньги, мои дети не ходили бы в школу, да и вообще мы не выжили бы. Я знаю, это ты присылал. Ты порядочный человек, несмотря ни на что.
Она еще раз посмотрела на инспектора и торопливо вышла из храма.
Иерусалим
На обратном пути из Старого города Лайла зашла в принадлежавший палестинской семье отель «Иерусалим», где она договорилась встретиться с подругой Нухой.
Отель стоял в самом начале уходящей вверх дороги Набулос. Террасу его украшали виноградные гроздья, а от коридоров и каменных полов тянуло прохладой. С этим зданием в османском стиле у Лайлы было связано столько воспоминаний, что она чувствовала себя здесь почти как дома. Именно в этом отеле у нее состоялась первая встреча с редактором «Аль-Айям» Низаром Сулейманом – он тогда предложил ей попробовать свои силы в журналистике. Здесь же она старалась набить перо и записывала лучшие сюжеты. И невинность здесь потеряла. (Ей было девятнадцать, он – французский журналист и курил как паровоз; все вышло неуклюже, и ощущения остались довольно пакостные.) И разумеется, здесь же – кто бы мог сомневаться! – познакомились ее родители и, если верить матери Лайлы, зачали дочь.
«Жуткая тогда была ночь, – рассказывала ей мать. – Гром, молния, ливень, какого ты и не видывала… Настоящий ураган. Иногда я думаю, потому ты такая и получилась». «Какая?» – недоуменно спросила Лайла, но мама в ответ только рассмеялась.
Брак этот был нетипичным. Жизнерадостная девушка из Кембриджа, выросшая в полном достатке, и серьезный молчаливый врач, на десять лет ее старше, полностью посвятивший себя лечению палестинских соплеменников. Они познакомились в 1972-м, на свадьбе общего друга. Александра Бейл – так звали тогда мать Лайлы, – едва окончив университет, приехала как волонтер, чтобы работать в школе для девочек в Восточном Иерусалиме. Будущее свое она представляла очень туманно. А Мохаммед Файзал аль-Мадани трудился по четырнадцать часов без выходных в созданной им больнице в лагере Джабалия в секторе Газа и спасал жизни десятков беженцев.
– Я не могла оторваться от его глаз, – вспоминала мать. – Такие темные, такие грустные. И очень глубокие, словно колодец с черной водой.
Несмотря на свою разительную несхожесть, а может, как раз благодаря ей, родители Лайлы влюбились друг в друга с первого взгляда. Отец не мог устоять перед красотой и веселым нравом девушки, а мать заворожили глубина и основательность ее взрослого ухажера. Через шесть месяцев они поженились – к неописуемому ужасу родителей Александры – и, сократив медовый месяц до одной ночи в отеле «Иерусалим», стали жить в густонаселенном квартале Газы. Там и родилась Лайла – 6 октября 1973 года, в первый день войны Судного дня.
– Настанет день, и малютка совершит великие дела, – пророчествовал счастливый отец, качая на руках новорожденную дочь. – Что-то подсказывает мне, что ее судьба невидимой нитью связана с будущим нашего народа. Когда-нибудь имя Лайлы аль-Мадани будет знать каждый палестинец.
Лайла до беспамятства любила его, в этой привязанности было даже что-то болезненное.
Отец всегда умел успокоить и развеселить. С ним никогда не было страшно. Когда ночью по улицам, зловеще скрипя гусеницами, ползли израильские танки, он брал ее на руки и, нежно гладя шелковистые волосы, убаюкивающим, слегка срывающимся голосом напевал арабскую колыбельную. Когда одноклассники подтрунивали над ее бледной кожей и зелеными глазами и обзывали дворняжкой, отец обнимал ее и утешал: «Они просто завидуют, что ты такая хорошенькая и умная. Ты у меня самая красивая, и я самый счастливый человек на земле!»
С каждым годом ее привязанность к отцу только усиливалась. В детстве она любила его за то, за что все дети любят родителей: потому что он все время рядом, потому что может развеселить, когда плохое настроение, потому что читает на ночь сказки и дарит самые желанные игрушки. С годами Лайла открыла совершенно новые стороны в своем отце, и ее наивная детская преданность переросла в восхищение волевым и самоотверженным человеком, посвятившим всю жизнь помощи людям. Она подолгу сидела во внутреннем дворе больницы и смотрела, как стоят пациенты у кабинета «эль-доктора». В их глазах светилась надежда. «Отец – лучший человек на свете, – записала Лайла в то время в дневнике. – Он никому не отказывает в помощи, ничего не боится, и у него всегда все получается. И самый добрый – ведь он дал госпоже Хассани лекарства совершенно бесплатно!»
Шли годы, и к восхищению отцом добавилось чувство собственной ответственности. В какой-то день Лайла поняла, что этот широкоплечий сильный человек, сияющий белозубой улыбкой, в действительности глубоко несчастен, придавлен изнурительной работой, а главное – безысходностью положения своего народа и сознанием полного бессилия перед происходящим.
– Твой отец страдает от того, что творится вокруг, – сказала ей однажды мать. – Он просто не любит говорить об этом.
С того самого момента Лайла решила любыми способами поддерживать отца.
– Пап, а почему ты стал врачом? – спросила она однажды за обедом.
Отец долго думал, прежде чем ответить.
– Я хотел помогать людям.
– А воевать с израильтянами тебе разве не хотелось? Перебить их всех?
– Если бы израильтяне угрожали моим близким, – произнес он, взяв ее за руку, – я бы, конечно, не пожалел себя. Но одним насилием всех проблем не решишь. Хотя меня возмущает то, что позволяют себе израильтяне. Понимаешь, Лайла, я всегда хотел спасать людей, а не отнимать у них жизнь.
Она хорошо запомнила тот обед. Они отмечали ее пятнадцатилетие. А вечером того же дня самого обожаемого, самого любимого человека на свете на ее глазах вытащили из машины и убили.
День рождения праздновали, разумеется, в отеле «Иерусалим».
* * *
Когда Лайла вошла на террасу ресторана, ее подруга, уже разместившись за столиком, внимательно изучала свежий номер «Геральд трибюн». Полная, с крашеными волосами и круглыми очками, она выглядела немного старше Лайлы. На сидевшей в обтяжку футболке красовался девиз палестинских правозащитников «Нет – миру без земли!». Лайла тихо подошла сзади и, наклонившись, чмокнула подругу в щеку. Нуха обернулась и, схватив Лайлу за руку, усадила в кресло напротив. Потом протянула газету.
– Читала эту чушь?
Набранный крупными буквами заголовок гласил: «США осуждают поставку оружия палестинцам». На другой странице сообщалось о том, что конгресс одобрил решение продать Израилю вооружения на миллиард долларов.
– Чертовы лицемеры! – выпалила взбешенная Нуха. – Пиво будешь?
Лайла утвердительно кивнула, и Нуха подозвала бармена Сами.
– Ну а там что происходит? – спросила она, кивнув в сторону Старого города.
– Ничего хорошего, – мрачно ответила Лайла. – Хар-Зион соизволил выйти к журналистам. Снова вешал на уши лапшу о Яхве и Аврааме и клеймил критиков Израиля как заклятых антисемитов. Однако говорить он умеет – не могу не признать.
– Ага, как и Гитлер, – фыркнула Нуха, закуривая «Мальборо». – Полиция-то их выдворять собирается?
– Естественно!.. А Шарон выступит на гастролях Большого театра, – язвительно бросила Лайла. – Выдворять! Да никто их и мизинцем не тронет!
Сидевшие за соседним столиком дипломаты, скорее всего скандинавы, разразились оглушительным взрывом хохота. По улице прополз громоздкий, похожий на броненосную рептилию армейский джип.
Официант принес женщинам две кружки «Тайбея» и блюдо с маслинами.
– Слышали о бомбе? – спросил он, расставляя пиво и зажигая свечу на столе.
– О Господи! – воскликнула Нуха. – Неужели еще одна?
– В Хайфе. Только что в новостях передали.
– Аль-Мулатхам?
– Похоже, он. Двое убитых.
Лайла опустила голову и мрачно заметила:
– Такими темпами они с Хар-Зионом и вправду Третью мировую развяжут.
– По-моему, они действуют сообща, – сказала Нуха, глотнув пива и сделав долгую затяжку. – Чем больше израильтян убивает аль-Мулатхам, тем крепче становится поддержка Хар-Зиона. А чем популярнее Хар-Зион, тем проще аль-Мулатхаму оправдать теракты.
– Да, что-то в этом есть, – рассмеявшись, согласилась Лайла. – Интересный материал можно сделать.
– Только не забудь упомянуть, от кого ты это услышала! Знаю я вас, журналистов. Едва окажетесь на гребне успеха, едва заберетесь на вершину, тут же присваиваете все лавры себе.
Лайла продолжала смеяться, но на последних словах Нухи замерла, словно пораженная ударом молнии. «Забраться на вершину». Где-то она уже слышала эти слова, причем совсем недавно. Лайла напрягла память. Ну да, конечно, в письме, полученном сегодня утром. «Я располагаю информацией, которая может оказать неоценимую помощь аль-Мулатхаму в борьбе с сионистскими оккупантами, и хотел бы с ним сотрудничать. При этом я рассчитываю на Вашу помощь. Со своей стороны могу обещать величайший взлет в Вашей карьере». Приблизительно так там было написано. Странное совпадение. Лайла не могла себе объяснить, почему эти слова из письма, которое она сочла за провокацию «Шин-Бета», отпечатались у нее в памяти.
– Как ты думаешь, что могут значить инициалы ГР? – внезапно спросила Лайла.
– Как-как?
– ГР. Кто это может быть такой?
– Грег Рикман? – предположила Нуха, немного поразмыслив. – Из организации «Помощь детям». Тот самый, который тебе нравится.
Лайла отрицательно покачала головой.
– Во-первых, он мне совершенно не нравится, а во-вторых, эта аббревиатура относится к чему-то намного более древнему.
Нуха, недоумевая, посмотрела на подругу.
– Проехали, – отмахнулась Лайла и поднесла к губам кружку с пивом. – Лучше расскажи, что ты там намониторила.
Нуха без дальнейших уговоров сменила тему. Работая в организации, занимавшейся мониторингом конфискации земли в окрестностях Иерусалима, она каждый божий день сталкивалась с вопиющим беззаконием израильских властей. Сегодня, например, прямо на ее глазах израильские спецназовцы бесцеремонно перекопали цветущую оливковую рощу, принадлежавшую пожилому палестинскому крестьянину.
Лайла старалась внимательно слушать, как ее подруга, не стесняясь в выражениях, пересказывала недавние впечатления, однако мысли журналистки витали далеко от оливок палестинского крестьянина. В гудящей от усталости голове налезали одно на другое смутные разрозненные образы: анонимное послание, аль-Мулатхам, отец, последний семейный обед в отеле «Иерусалим». Как она радовалась в тот яркий солнечный день! Она, мама и папа, редкий раз вместе, здоровые, веселые… А через два часа отец уже лежал мертвый.
«Нет, нет, папа, папочка! – кричала она в отчаянии. – О Боже, мой папочка!..»
Тогда-то все и началось.
Иерусалим
В доме с ними теперь находился раввин – худой впечатлительный молодой человек. Он родился и вырос в Америке, как и многие другие поселенцы; на его подбородке виднелись лишь клочки бороды, и из-за толстых очков казалось, что глаза занимают половину лица. Когда наступала ночь, он собирал прихожан в гостиной подвального этажа и читал им проповеди, в качестве темы всегда выбирая главу 17 строфу 8 книги Бытия: «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом».
Хар-Зион, как и другие, приходил на проповеди. Он покачивал головой и улыбался, когда раввин уверял их в том, что именно Божье провидение привело их к участию в священном «крестовом походе», что будущие поколения будут оглядываться на них с такими же чувствами признательности и гордости, какие они сами испытывают к героям еврейской истории. Хар-Зиону нравилось слушать дискуссии, посвященные Торе, чувствовать себя частью того богатого узора, каким была история еврейского народа. Еще в детстве они с братом Беньямином, очутившись в сиротском приюте (мать их умерла, а отец сошел с ума), часами вспоминали сюжеты из еврейской истории и предавались мечтам о том, как окажутся в земле своих предков и, подобно Иисусу Навину, Давиду и великому Иуде Маккавею, защитят ее от врагов Израилевых. Так они создали себе собственный мир, который стал для них подлинной реальностью и прибежищем от ежедневной горькой участи – холода, голода и побоев.
«Тора, Мишна и Талмуд – это единственное, что существует, – сказал им как-то отец. – Все остальное – не более чем иллюзия». Их отец был благочестивым человеком. Пожалуй, даже чересчур: он погружался в правоведческие фолианты, вместо того чтобы обеспечивать семью. Матери приходилось ночами подрабатывать швеей, чтобы свести концы с концами. Затем она умерла, и отец Хар-Зиона окончательно ушел с головой в свои занятия, читая целыми днями, бормоча что-то себе под нос; иногда он разражался дикими, безумными криками радости и говорил, что увидел в небесах семисвечник и что не за горами день искупления. В конце концов отца забрали в лечебницу, а Хар-Зиона и его брата поместили в детский дом, где одного упоминания об иудаизме было достаточно, чтобы нарваться на жестокие побои.
Хар-Зион осуждал излишнюю набожность и не желал бы посвятить свою жизнь религии. И все же в глубине души он завидовал тем, кто мог уйти из реального мира и существовать в исключительно религиозной и духовной среде. Увы, это было не для него. Он был человеком действия, поэтому и убежал с братом из приюта в Израиль, где вступил в армию и воевал с арабами; по этой же причине он сидел теперь здесь. Еще в детстве он понял, что одной веры недостаточно, надо действовать – встать и защитить самого себя; во что бы то ни стало следует оставаться верным Торе и в то же время не выпускать оружия из рук.
Проповедь раввина закончилась, и группа разбрелась: женщины начали готовить еду, а мужчины – охранять дом или штудировать Талмуд. Хар-Зион поднялся на крышу и разговаривал по мобильному телефону – один спонсор поздравил его, а затем сообщил, что правительство не преследовало «Воинов Давида» только потому, что организация Хар-Зиона ранее не совершала актов агрессии.
– В такие нелегкие времена, как сейчас, нам надо держаться вместе, Барух, – сказал спонсор Хар-Зиону. – Ведь нас будут травить международные организации Европы и ООН.
– Плевать, – ответил ему Хар-Зион. – Они ничего не сделают. Они ни на что не способны. Они ничтожества.
Он отключил телефон и некоторое время разглядывал вершину горы Скопус и корпуса Еврейского университета; на его глазах автобус с арабами медленно карабкался по крутому откосу дороги Бен Адая, выпуская клубы дыма из выхлопной трубы. Затем Хар-Зион спустился вниз по лестнице на второй этаж, включил свет и закрыл за собой дверь.
Он решил, что они с Ави уедут этой ночью; теперь, когда все успокоилось, они без проблем могут ускользнуть. Так всегда. Сначала надо заняться организационными вопросами и устроить широкую рекламную кампанию; затем – после завоевания – можно передать полномочия кому-то другому.
Он повернул ключ в замочной скважине и, убедившись, что ставни плотно закрыты, начал медленно стягивать с себя одежду. На противоположной стене висело треснутое грязное зеркало; раздевшись, Хар-Зион подошел к нему ближе, разглядывая свое отражение. Ниже шеи его кожа была похожа на красно-розово-коричневую мозаику; она была гладкая как стекло, и на ней не было волос – поверхность тела больше походила на пластик, чем на настоящую кожу. На лице Хар-Зиона появилось выражение удивления, как будто он после тринадцати лет и сотни пластических операций все же не мог поверить, что так выглядит.
Он пострадал из-за взрыва самодельного фугаса на юге Ливана. Сначала военные даже не могли выбраться из своего «хаммера», который перевернулся, и внутри их лизали языки бушующего огня. Хар-Зион, наверное, погиб бы там, если бы не Ави, который ехал в следующей машине, – он подбежал и вытащил его из пламени.
Когда Хар-Зиона эвакуировали, врачи были убеждены, что шансов у него нет. И все же он выжил, цепляясь за жизнь мертвой хваткой, подобно человеку, висящему над пропастью на одних пальцах. Недели, месяцы его терзала мучительная боль; по сравнению с ней любая пытка казалась наслаждением. Она разрывала его на клетки, на атомы, пока ничего не осталось, кроме боли; он стал воплощением боли, дикого, жестокого страдания. Однако он все перенес; он был непоколебимо уверен – Богу нужно, чтобы он жил. Содержанием его жизни теперь стала злоба. Не из-за того, что случилось с ним – хотя и это было ужасно, – а из-за младшего, любимого, брата, сгоревшего в том же «хаммере». Милый храбрый Беньямин!
Как загипнотизированный Хар-Зион смотрел на свое отражение в зеркале: его лицо чудом избежало языков пламени и по цвету кожи разительно отличалось от синевато-багрового калейдоскопа остальных частей тела. Издавая проклятия, Хар-Зион схватил бутылку с бальзамом, которая стояла сзади него на столе, набрал пригоршню жидкости и начал втирать ее в изуродованную кожу рук.
Пять раз в день ему приходилось выполнять этот ритуал. Врачи сказали, что кожа должна быть мягкой, влажной, эластичной. Иначе она обтянет его, как узкая куртка, и порвется от резкого движения. Хар-Зион отказался от активной деятельности и ограничился штабной должностью в военной разведке – нельзя было пропустить ни одной процедуры, он буквально мог разойтись по швам.
Он старательно втирал белую жидкость в плечи, грудь, живот, пенис, свисающий из лоснящегося шрама, образовавшегося на месте паха. «Дети есть? – спросили врачи. Узнав, что нет, мрачно покачали головами: – Теперь уже не будет». Там, внутри, ничего не осталось. Он не мог делать детей. Он потерял не только брата, но и детей. Он потерял потомство, о котором мечтали они с женой. А через три года от рака умерла и Мириам.
Он был теперь совершенно один, как оторванная кора дерева. Его наполняли лишь три чувства: вера, ярость и любовь к родине. Израиль заменил ему семью. Он жил местью за свою страну, местью всем арабам и антисемитам. И жаждал отдать жизнь ради сохранения этой страны.
Хар-Зион закончил втирать бальзам и, отложив флакон, посмотрел на себя в зеркало. «Хоть мое тело и в рубцах, я силен, – подумал он про себя. – Хоть наши тела и в рубцах, мы сильны. Ва’авареча ме варахеча умекалеха. Благословляю тех, кто благословляет вас, и проклинаю проклинающих вас».
Он кивнул и, повернувшись, стал одеваться.
Иерусалим
В голове у Лайлы не укладывалось, насколько случайно погиб отец. Ведь ничего бы, наверное, не произошло, если бы они не поехали отмечать ее день рождения в Иерусалим, если бы вернулись немного раньше, если бы не свернули в лагерь, если бы израильского солдата бросили где-нибудь в другом месте наконец. Впрочем, спасительным могло бы стать всего одно «если»: если бы отец не был таким добрым. Другой на его месте развернул бы машину и поскорее уехал. Но он, он просто не мог не помочь человеку в беде – и поплатился за это жизнью.
В лагерь беженцев Джабалия они въехали поздно ночью – отцу надо было что-то забрать из местной операционной. На обочине дороги в одном из отдаленных районов лагеря лучи автомобильных фар осветили нечто, по форме напоминавшее человеческое тело. Притормозив, они разглядели, что полунагой молодой мужчина лежит без сознания, одежда его изорвана, а лицо изуродовано до такой степени, что сложно определить человеческие черты. Отец остановил машину и подошел к неподвижному телу.
– Жив? – спросила мать.
Отец утвердительно кивнул в ответ.
– Израильтянин?
Снова кивок.
– Господи! – воскликнула мать.
Первая интифада в то время была в самом разгаре. Антиизраильские настроения в арабских странах резко усилились, а сектор Газа после разразившегося в декабре восстания вообще превратился в жерло ада. Когда и почему солдат попал сюда, неясно. Зато очевидно было одно: помогать ему в таких условиях – значило рисковать собственной жизнью; ведь палестинцев, сотрудничавших с израильтянами, ненавидели чуть ли не больше самих евреев.
– Пап, оставь его, – сказала Лайла. – С какой стати мы должны спасать какого-то израильтянина, если они нам никогда не помогают?
– Я врач, Лайла, и не могу оставить человека подыхать в грязи как собаку. Не важно, израильтянин он или нет.
Они уложили полуживого солдата в машину и повезли в операционную, где отец старательно промыл его раны и наложил компрессы. Солдат пришел в сознание и начал брыкаться и истошно орать.
– Возьми его за руку и постарайся успокоить, – попросил Лайлу отец.
Так она впервые дотронулась до израильтянина.
Сделав все, что было в их силах, они завернули солдата в одеяло, уложили обратно в машину и повезли к ближайшему израильскому контрольному пункту. Они едва отъехали от лагерного госпиталя, как два автомобиля вырвались из тьмы и, блокируя их со стороны, вытолкнули машину отца Лайлы на обочину.
– Боже, прошу, помоги нам! – в ужасе шептала мать.
Откуда взялись эти люди, как они узнали – да еще столь быстро – о благородном поступке отца, Лайла так и не выяснила. В ее память впились лишь отрывочные фрагменты той кошмарной сцены: бегающие фигуры с прикрытыми куфиями лицами, треск автоматной очереди, которую сквозь оконное стекло их машины в упор выпустили в израильтянина, и, конечно, отец, выволакиваемый из кабины под дикие крики «Радар! А’мее!» – «Предатель! Коллаборационист!». Мать попыталась помешать убийцам, но они с размаху ударили ее по голове, так что она упала без сознания.
Отца били подло, не давая ему приподняться, с неослабевающим остервенением, словно впав в азарт. Неподалеку выстроилась толпа зевак, и среди них Лайла узнала бывших пациентов отца, но никто не осмелился заступиться. Люди с прикрытыми лицами сцепили доктору наручниками руки за спиной и потащили за пределы лагеря. Лайла, обливаясь слезами и тщетно моля о пощаде, поплелась за ними. Они столкнули отца в яму. Бейсбольная бита, взявшаяся неизвестно откуда, с разлету обрушилась на его затылок; он упал навзничь. Нанеся еще три свирепых удара и сделав из головы отца Лайлы давленый арбуз, убийцы скрылись столь же молниеносно, как и появились. Лайла припала к обезображенному телу отца, гладя вывернутые суставы; ее длинные черные локоны побагровели от крови.
– Нет, нет, папа, папочка! – стонала она под тоскливый вой шакалов, доносившийся издалека.
Лайла ни с кем не говорила об этой ужасной ночи, даже с матерью. На следующий день, сразу после похорон, она взяла ножницы и прядь за прядью состригла свои волосы, оттого что запах крови, которой они пропитались, не исчезал, сколько бы она ни мыла голову. Еще спустя два дня, спешно собравшись, Лайла и мать уехали в Англию и поселились в пригороде Кембриджа, где дедушка и бабушка арендовали сельский домик. Прожив там в тиши и спокойствии четыре года, Лайла объявила матери, что возвращается обратно.
– Ты не в своем уме! – закричала на нее пораженная мать. – После того, что они сделали!..
Так толком ничего и не объяснив, Лайла уехала, сказав напоследок, что хочет начать все заново. В каком-то смысле именно этим она действительно занималась с тех пор.
Луксор
Только войдя в дом, Халифа вспомнил, что сегодня вечером у них гости.
– Они будут с минуты на минуту! – раздраженно выпалила Зенаб вместо приветствия, проносясь с подносом из кухни в гостиную их тесной квартиры. – Где ты был?
– В Карнаке, – хмуро ответил Халифа закуривая. – Дел выше крыши.
Из гостиной раздался звон посуды, и Зенаб снова появилась в прихожей, уже с пустыми руками. Она вытащила сигарету изо рта Халифы, коротко поцеловала его в губы и всунула сигарету обратно. Верхние пуговицы ее хлопчатого халата были расстегнуты, открывая ритмично вздымавшуюся грудь. Эбонитово-черные волосы, аккуратно заплетенные в косу, свисали вдоль спины почти до самой талии.
– Ты великолепно выглядишь, – промолвил Халифа.
– А ты – ужасно, – ехидно парировала комплимент супруга, игриво теребя его за мочку уха. – Иди хоть побрейся, пока мы с Батой все расставим. И не смей будить малыша – я его только что уложила.
Она поцеловала мужа еще раз, теперь в щеку, и убежала в кухню.
– А где Али? – окликнул Халифа ее вдогонку.
– У друга. Да, и не забудь переодеть рубашку, на этой воротник грязный.
Он прошел в ванную, расстегнул рубашку и посмотрел в висевшее над раковиной зеркало. Зенаб была права – вид у него жуткий. Отекшие усталые глаза, осунувшиеся щеки, серая кожа. Халифа выбросил сигарету в форточку, включил холодную воду и, нагнувшись над раковиной, несколько раз промыл лицо, между делом поднимая глаза на свое отражение.
– Что ты затеваешь, а? – вопрошал он своего безмолвного зеркального двойника. – Чего ты хочешь добиться?
Он простоял некоторое время, вглядываясь в заплывшие глаза, как будто пытаясь найти в них ответ на свой вопрос, затем покачал головой, словно различив что-то плохое. Халифа быстро побрился и зашел на минуту в спальню, чтобы побрызгать лицо одеколоном и надеть чистую рубашку. Застегивая последнюю пуговицу и склоняясь над спавшим в люльке малышом Юсуфом, он услышал звонок и последовавшее почти сразу словесное оповещение: «Мы пришли!»
Недовольный голос принадлежал шурину Хосни.
– Что бы ты ни делал в будущем, – прошептал Халифа спящему младенцу, проводя носом по его нежному лбу, – обещай, что никогда не станешь похожим на своего дядю.
– Ну, где вы пропали? – снова послышался ворчливый голос. – Или нам сегодня не откроют?
За дверью раздался хрипловатый смешок – это жена Хосни Сама, старшая сестра Зенаб, рассмеялась над шуткой, которую ее муж выдавал каждый раз, когда дверь не распахивалась перед ними через долю секунды после нажатия звонка.
– Боже, помоги нам, – произнес вполголоса Халифа, направляясь в прихожую встречать гостей.
Кроме Хосни и Самы, на ужин пришли двое друзей Зенаб: Наваль – маленькая, крепко сложенная преподавательница классического арабского из Каирского университета и Тавфик – «машарабия» – «пучеглазый», получивший такое прозвище за неестественно большие зрачки. Гости, а также Халифа с женой разместились за небольшим столом в гостиной, а их дочь Бата разносила еду. Бата сама вызвалась на роль официантки; ей казалось, что так она выглядит взрослее. На девочке был хлопчатый халат, а тугая черная коса ниспадала по спине.
– Должна тебе сказать, Бата, что каждый раз, как я тебя вижу, ты становишься все красивее, – обратилась Сама к девочке, пока та раздавала миски с куриным супом. – А твой халат просто изумителен. Я купила точно такой же для Амы. Триста фунтов отдала, не поверите!
В отличие от Баты дочь Самы и Хосни была низкорослая, пухлая и на редкость инертная. Ее мать пыталась компенсировать эти малоприятные качества, покупая ей более дорогую одежду, чем носила ее кузина.
– Она вылитая ты в ее годы, – улыбаясь, сказала Наваль и посмотрела на Зенаб. – Небось мальчишки все до одного за тобой бегают, признайся, а, Бата?
– Будь я чуток помоложе, я бы тоже за ней бегал, – пошутил Тавфик. – Или даже носился!
Бата робко захихикала и вышла из комнаты.
– Пора бы уже и о муже подумать, – буркнул Хосни, прихлебывая суп.
– Бог с тобой! – воскликнула Зенаб. – Ей всего четырнадцать.
– Чем раньше начинаешь думать о таких серьезных вещах – тем лучше. Планирование – залог успеха. Возьмем, к примеру, пищевое масло. – Хосни работал в маслодельной промышленности и при любом удобном случае переводил разговор на эту тему. – Прежде чем пустить в оборот новый участок подсолнухов в прошлом году, мы одиннадцать месяцев готовились к посеву. В итоге – рост продаж на восемь процентов и награда как лучшим внутренним производителям масла. Без планирования такое было бы невозможно.
Он глотнул еще супа.
– Кроме того, наше ореховое масло просто расхватывают в магазинах!
Все попытались сделать вид, что поражены успехами фирмы Хосни. За супом тем временем последовало главное блюдо вечера: мясо барашка с горошком, рисом и картошкой. Гости заговорили об общих друзьях, затем перешли к недавнему матчу двух каирских футбольных команд – «Замелак» и «Аль-Ахли», от него – к политике. Хосни и Наваль стали спорить о перспективах войны Америки с терроризмом.
– По-твоему, после одиннадцатого сентября им надо было сидеть сложа руки? – возмущенно кричал Хосни. – Так ты считаешь?
– Я считаю, – отвечала Наваль, – что прежде чем бомбить чужие страны, им не мешало бы навести порядок у себя дома. Хорошенькие дела получаются: когда кто-нибудь поддерживает террористов, на него тотчас нападают, а когда Америка делает то же самое, это называется внешней политикой.
Халифа сидел почти все время молча, лишь изредка вставляя какое-нибудь странное замечание. На самом деле он думал совершенно о другом. Труп, найденный в Малкате, коллекция древностей в доме Янсена, разговор с Хассани, неожиданная встреча в Карнаке – вот что беспрестанно вертелось в голове. А за всем этим, точно неизменный фон в театре теней, загадочная татуировка на предплечье убитой женщины – треугольник и пять цифр. «Типа метки на мясе, чтобы знать, откуда оно».
– Будешь еще барашка?
Жена держала перед ним блюдо.
– А?.. Нет-нет, спасибо.
– Ну так что ты о нем думаешь, Юсуф? – спросил Тавфик, с интересом глядя Халифе в глаза.
– О ком? Прости, я не расслышал, – немного смутившись, произнес инспектор.
– Да ты просто погряз в своих мыслях, – сказала Наваль с улыбкой на губах. – Небось все о гробницах да иероглифах грезишь.
– Или о женской заднице! – хихикнул Хосни, за что немедля получил подзатыльник от жены.
– Об аль-Мулатхаме, – ответил Тавфик. – Что думаешь о террористах-смертниках?
Халифа сделал глоток кока-колы – как ортодоксальный мусульманин он не пил спиртного – и, отодвинув немного назад свое кресло, закурил сигарету.
– На мой взгляд, все, кто хладнокровно убивает мирных граждан, – законченные мерзавцы.
– Израильтяне хладнокровно убивают палестинцев, и никому до этого нет дела, – возразила Неваль. – Вот буквально накануне израильский вертолет расстрелял двоих детей. И кто особенно возмущен?
– Это не оправдывает палестинцев, – настаивал Халифа. – Мстить за гибель детей, убивая еще больше детей, – разве это выход?
– А где же тогда выход? – все более распалялся Тавфик. – Как отстоять свои права в борьбе с сильнейшей армией на Ближнем Востоке и четвертой по мощи в мире? Теракты, конечно, варварство, но что же, черт возьми, придумать, чтобы остановить пятьдесят лет беспрерывного насилия и измывательств?
– Ах-ах-ах, палестинцы такие отважные борцы за права человека… – буркнула Зенаб. – Или мы.
– Да дело вовсе не в этом, – с ходу отмел встречное возражение Тавфик. – Люди не станут обвязываться тротилом и взрываться ко всем чертям. Просто нет у них другого выхода.
– Я не пытаюсь защищать израильтян, – сказал Халифа, протягивая спичку, чтобы дать прикурить Наваль. – Я только полагаю… я полагаю, как и Зенаб, что проблему это не решает.
– Значит, ты не испытываешь в глубине души тихой радости всякий раз, когда слышишь о новом взрыве? – спросил Тавфик. – Неужели ты никогда не чувствовал, что, мол, так им и надо?
Халифа потупил взгляд, не решаясь дать быстрый ответ. В комнате повисла напряженная пауза, сигаретный дым извилистыми струйками медленно клубился к потолку. Пока Халифа собирался с мыслями, в разговор вмешалась Сама:
– Не знаю, как остальным, а мне кажется, пришло время отведать десерт. Это ведь им так вкусно пахнет, а, Зенаб? Давай-ка я помогу Бате его принести. Какой замечательный получился вечер!
Спать они легли только в первом часу ночи. Зенаб заснула почти мгновенно, а Халифа минут двадцать ворочался с боку на бок, то вслушиваясь в тихое посапывание малютки Юсуфа, то наблюдая бегущие по потолку блеклые отражения лучей от фар проносившихся по улице машин, то просто ощущая стук своего сердца.