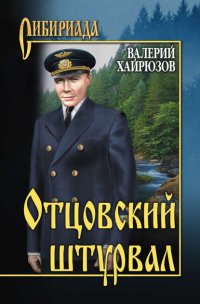Читать онлайн Точка возврата (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Валерий Хайрюзов
© Хайрюзов В. Н., 2014
© ООО «Издательство «Вече», 2014
Элвис пресли
Он сидел на стуле, кутаясь в желтую мохнатую кофту, и, улыбаясь, смотрел, как я мою пол. Лицо у парня было черное, широкое, губы толстые, вывернутые наружу, волосы острижены налысо. Время от времени, показывая белки глаз, он косил в сторону канцелярии, и я, злясь на его улыбку, думал: надо обязательно написать домой, что среди курсантов есть негры и что им здесь жутко холодно.
В летном училище я находился третий день, но уже успел схлопотать несколько нарядов вне очереди. Наш старшина Антон Умрихин попал в училище с флота и, видимо, желая показать вчерашним десятиклассникам настоящую службу, стал требовать, чтобы после команды «Подъем» мы за одну минуту одевались и становились в строй. Меня раздражала его ходульная, на прямых ногах, походка, его, как мне казалось, показное умение с шиком отдавать вышестоящему начальству честь. И говорил он так, будто мы были его собственностью. Вообще, подавать команду на подъем должен был дневальный, но старшина взял эту обязанность на себя, собственноручно включал свет и во всю мощь ревел:
– Па-а-адъе-ем!
Досматривая еще сладкие домашние сны, я ошалел от этого дурного рыка, всеобщей толкотни. Еще не проснувшись, начал суетиться, схватил чужие брюки, а после и вовсе потерял свой взвод.
Нет, не так я представлял себе учебу! Когда ехал в Бугуруслан, голова плавилась от счастья: мне казалось, попал в небожители. А тут на тебе – мой пол. Тоска, хоть на стену лезь. Все вокруг командуют: то нельзя, туда не ступи, молчи и поворачивайся, как оловянный солдатик. Чуть что, кричат: отчислим! И пожаловаться некому. Все мое существо протестовало: я ехал учиться летать, а не возить по грязи тряпкой.
Длина коридора была сорок девять шагов, и через час я его знал лучше своего лица. Был он покрыт коричневым линолеумом, но это нисколько не облегчало работу. Стоял конец августа, каждый день шли дожди, дорожки в училище были посыпаны песчаной глиной, и у меня сложилось впечатление, что глину привезли и рассыпали специально для наказания. Она была везде, куда ступала нога курсанта: на ступеньках лестниц, в коридоре, казарме.
Закончив работу, я, как это и положено, доложил старшине. Он вышел в коридор и к первому наряду добавил еще – линолеум подсох и стал напоминать застывшую песчаную бурю.
Когда старшина исчез с горизонта, парень, оглянувшись, быстро подошел ко мне, молча взял тряпку, намочил ее, расстелил на полу и не отрывая, потянул на себя. Получилось ровно, без желтых полос. Темнокожий показал, как без особых усилий можно выйти из этой ситуации. Я понял: не надо ждать, когда линолеум подсохнет, а доложить, когда он еще мокрый. Сбегав за чистой водой, я принялся шлифовать тряпкой коридор. Но отрапортовать не успел: после строевых занятий с улицы пришел взвод, протопал мимо меня, и все пришлось начинать сначала.
Вечером я неожиданно обнаружил парня в нашей комнате. Он стоял в окружении смеющихся курсантов и растерянно оглядывался по сторонам.
– Уонабабона, этолет-чиц-кие ша-ро-ва-ры! – размахивая перед ним огромными форменными штанами, по слогам разъясняли они. – Как видишь, сшиты на индийского слона. Приедешь к себе в Африку, будешь как запорожский казак. Ну а если станет жарко – снимешь. Мы попросим старшину, он тебе набедренную повязку с кантами выдаст.
– Да он ни бельмеса не понимает, – предположил кто-то.
– Хватит травить баланду, – громыхнул от двери голос Умрихина. – Чтоб через пять минут были в койках!
Кровати в казарме были двухъярусные, и темнокожего поселили надо мной. Он аккуратно сложил на тумбочку выданную форму и, повернувшись ко мне, тихим, каким-то облегченным голосом на чистом русском языке сказал:
– Наконец-то добрался. Ну что, полотер, будем соседями. Ты откуда приехал?
Ответил я не сразу. Нет, меня не смутило знание нашего языка. Говорили, наших разведчиков еще и не так натаскивают. Я был под впечатлением только что слышанного разговора, который вроде бы подтверждал: с нами будет учиться иностранец. Конечно, мне не понравилось, что он обозвал меня полотером. Но ответно грубить не хотелось, еще нарвешься на международный скандал. А там уже нарядами вне очереди не отделаешься. Как с ними себя вести, я не знал, но мысленно продолжил письмо домой: тот самый негр, которого зовут Уона бабона, будет спать надо мной. Я начал размышлять, что сказать: из Сибири или с Байкала? Откуда им там, в Африке, знать про наши города.
– Из Иркутска.
– Ой, земеля! – свистящим шепотом воскликнул парень. – А я с Колымских золотых приисков.
«Решил прикинуться нашим! – мелькнуло у меня в голове. – Шутник. Язык можно выучить, но кожу-то не пересадишь. Тоже мне, земляк нашелся! От Иркутска до Колымы тысячи километров. Прокол, да еще какой! Нет, здесь что-то не так».
– Мать у меня была якутка, отец – цыган, – словно прочитав мои мысли, шутливо и вместе с тем грустно сказал сосед. – Получился Тимофей Шмыгин – сын севера. У нас зимой морозы под шестьдесят, а летом жара под сорок. Перепад сто градусов, не только почернеешь – посинеешь. Ну что, коллега, с низких начнем осваивать новые, более приятные высоты.
Одним махом Шмыгин взлетел на второй этаж. Металлическая сетка провисла под ним кулем, затем, поскрипывая, начала раскачиваться: сосед выбирал удобную позу. Старшина выключил свет, и мне вдруг показалось: сверху, через край, свесился круглый с двумя дырками темный котелок.
– Тебя за что наказали?
– Утром опоздал на построение, – шепотом ответил я. – Штаны перепутал.
– Ты, земеля, меня держись – не пропадешь, – просвистела голова. – Шмыгина от Чукотки до Колымы каждая собака знает. Можешь называть меня Тимохой.
– А я думал: Уоной бабоной.
– Хочу заметить, дураки есть везде, даже среди летчиков.
– Разговорчики. Захотелось в наряд?! – подал голос Умрихин.
– Ну вот, далеко ходить не надо, – выждав секунду, шепнул сосед. – Недаром говорят: «Бог создал отбой и тишину, а черт – подъем и старшину».
Шмыгин спрятал голову и затих. А я, вновь оставшись наедине со своими грустными мыслями, смотрел в серое полукруглое окно. Кто-то из курсантов говорил: училище располагалось в бывшем женском монастыре. Казармы размещались в переоборудованных кельях, где раньше жили монахини. «Когда-то новый день здесь начинался с молитвы и заканчивался ею, – думал я. – А сейчас ревом. И так три года, каждый день».
Утром я проснулся от легкого толчка. Открыв глаза, в полутьме увидел одетого соседа, он протягивал мне брюки.
– Надевай, – шепотом сказал он. – А потом под одеяло и жди команду. Через пять минут подъем.
Я натянул брюки, носки и вновь забрался под одеяло. Когда прозвучала команда «Подъем» и загорелся свет, мы пулей выскочили на построение.
Но провести старшину не удалось. Умрихин вкатил нам с Тимохой по наряду и, вспомнив сказанную вечером шмыгинскую присказку о черте и Боге, предупредил: еще одно замечание – и он напишет рапорт на отчисление. Мы сделали для себя вывод: акустика в монастыре отменная.
Вечером нас старшина отправил прибираться в умывальниках и туалете. И только тогда я окончательно успокоился: Шмыгин – не иностранец.
Ничто не сближает так людей, как общая беда и совместная работа. С возложенным на нас заданием мы управились быстро, постарались сделать все на совесть. Но возвращаться в казарму не торопились. После ужина наш взвод отправляли на кухню чистить картошку для всего училища. Присев на корточки, Шмыгин доводил вмурованные в цемент унитазы до первобытного блеска и рассказывал о себе.
Был Тимка старше меня на три года. Родители у него умерли рано, и он с детства скитался по северным интернатам и детским домам. Часто сбегал на волю, его возвращали. Все же, окончив школу, он поутих, перебрался в Якутск и устроился разнорабочим в аэропорт.
– Я ведь кем только не пробовал работать: грузчиком, мотористом! А потом пристроился артистом в оркестре, – улыбаясь, говорил он. – В ресторане услаждал народ, пел, танцевал. Мне на тощую грудь кидали. Этим летом замаячила армия. Но я решил: пойду в летчики. Мужская профессия – не лакейская. На севере летунов уважают. Там говорят: летчик просит, надо дать, техник может подождать. Вот закрою глаза и представляю: дадут нам отпуск, я прилечу домой в форме – и в клуб. Попрошу своих ребят из джаза в честь моего прибытия сыграть танго. И валиком-кандибобером пойду по залу.
Шмыгин решил показать, как он это сделает, соскочил на пол и, пританцовывая, двинулся по туалету, подпевая себе на ходу:
- В саду под гроздью зреющего манго
- Танцуем мы вдвоем ночное танго.
- Мулатка тает от любви, как шоколадка,
- В моем объятии посапывая сладко…
– Слушай, а у тебя есть девушка? – остановившись, неожиданно спросил он.
Вопрос застал меня врасплох. Скажешь – нет, подумает какой-то недоделок, с ущербом. Но и придумывать не хотелось.
– Как говорят, первым делом – самолеты, – усмехнувшись, буркнул я. – Все остальное успеется.
– Будь спокоен, найдем! – воскликнул Шмыгин. – У меня их было пропасть. А тебе я с отпуска рыбы привезу. У нас ее навалом: муксун, чир, нельма. А копченая кандевка – просто объедение. Мешок мороженой, чего мелочиться!
Прибежал посыльный. Мы были вынуждены прервать приятную беседу и отправиться на кухню чистить картошку. Когда узнали сколько – ахнули: три тонны на взвод. Работы до утра. Чтоб не было скучно, Умрихин прихватил с собой гитару, решил совместить приятное с полезным. Поочередно все, кто хоть немного брякал на гитаре, садились на особый, поставленный посередине стул и показывали свои таланты. Прослушав своих подчиненных, старшина поморщился и произнес лишь одно слово:
– Фуфло!
На флотском языке это, видимо, означало: береговая, никуда не годная, дворовая выучка.
– Товарищ старшина, спойте нам, – попросили курсанты, – просим!
Как и все люди, которым медведь наступил на ухо, Умрихин любил петь. Поломавшись немного для приличия, он взял гитару, бурча что-то себе под нос, подтянул струны и, притопывая левой ногой, хрипло запел песню, которую спустя много лет я помню подошвой своих ног. Особенно ее припев:
- За прочный мир, в последний бой
- Летит стальная эскадрилья!
Летела в бачки очищенная картошка, изредка перемигиваясь, курсанты молча и сосредоточенно слушали своего начальника: пусть поет, все равно это лучше, если бы он смотрел за каждым и подгонял. Следом Умрихин исполнил песню про Зиганшина, который сорок девять дней со своими товарищами без еды плавал на барже по океану.
Развлекал нас старшина больше часа, затем под стук ножей, которые должны были означать бурные аплодисменты, умолк и вышел покурить на улицу. Гитару взял Шмыгин. Он подстроил под себя струны и тихонько запел песню о том, как нелегко девушке ждать три года курсанта. Все, прислушиваясь, замолчали. Тимоха попал в самую больную точку. Многие впервые уехали из дому, и где-то там далеко остались лето, тополиный пух, возлюбленные. Пел Шмыгин легко, доверительно, и я видел: песня достает каждого до самой глубины души. Но долго грустить Тимка не умел. Оглядев своих новых притихших товарищей, он, подражая Умрихину, хриплым голосом скомандовал:
– Па-а-дъем! Танцуют все!
Шмыгин вскочил со стула и, ударив по струнам, дергая плечами, дурашливо запел:
- На кукурузном поле,
- Взметая пыль,
- Хрущев Никита
- Ломает стиль.
И, вращая вокруг себя гитару, выделывая коленца, со свирепым выражением лица пошел по кругу.
- Умрихин буги,
- Зиганшин рок,
- Умрихин скушал свой сапог,
- Он съел сапог, запил водой —
- И перед нами он живой.
– Нет, вы посмотрите, какая подвижность, – раздался от двери глуховатый голос, – настоящий Элвис Пресли. Вот оно, тлетворное влияние Запада.
Шмыгин остановился и спрятал гитару за спиной. В подсобку столовой незамеченным вошел Джага. Так за строгость курсанты меж собой называли начальника штаба училища Петра Ивановича Орлова.
– Товарищ начальник, второй взвод выполняет поставленную задачу! – влетев в подсобку, звенящим голосом начал докладывать Умрихин.
– Кто у вас сегодня прибирался в туалете? – хмуря брови, спросил Орлов.
У меня похолодело внутри. Что обнаружил Орлов в туалете после нашего ухода, я не знал. Туалет не коридор, там могло все случиться.
«Как пить дать – отчислят, – подумал я. – Самое обидное, останется строка в биографии: выгнали из-за сортира».
– В туалете прибирался я, – тихо сказал Тимка. – Курсант Шмыгин.
– Товарищ начальник, я разберусь! – прищелкнув каблуками, сказал Умрихин. – Они у меня сами сапоги сгрызут.
Что ни говори, а слух у старшины был, но свой, особый – флотский.
– Ну это, может быть, слишком, – уже мягче сказал Орлов. – Продолжайте работу. Только не надо эти буги-вуги. Наши песни лучше. А вас, товарищ старшина, я прошу пройти со мной.
После ухода начальства в подсобке установилась тишина, лишь тихо поскрипывали ножи да, падая в бочки, булькала очищенная картошка. Минут через двадцать невысокий и шустрый паренек из Фрунзе Иван Чигорин, не выдержав, решил сбегать в туалет на разведку. Обратно прибежал, вытаращив глаза.
– Джага приказал Умрихину над одним из унитазов повесить бирку, – выпалил он, – чтоб не пользовались. Будет эталонным. Теперь, кто попадет на это ответственное задание, может сверять свою работу с образцовой. – И, прижав руку к груди, трагически закончил: – Удружили, братья, от всех спасибо!
Так благодаря Тимке мы чуть было не прослыли специалистами по туалетам. Старшина отметил его усердие, назначил Шмыгина ответственным за каптерку. Орлов, в свою очередь, записал его в училищный оркестр. И через месяц Тимофея знала не только Колыма. С легкой руки начальника штаба именем Элвис Пресли его стал называть весь Бугуруслан. Он не обижался, говорил: называйте хоть горшком, лишь в печь не ставьте. Но в печь он чаще всего попадал сам. Причем обязательно лез головой. Характер – его не скроишь, он все равно что плохо загнутый гвоздь в ботинке: сколько ни закрывай, ни прилаживайся, обязательно вылезет наружу.
Всех, кто был из-за Урала, Шмыгин называл земляками.
– Ну а те, кто родился за полярным кругом, наверное, тебе братья? – шутили курсанты.
– Да, но таких здесь нет, – в тон отвечал им Шмыгин.
Без особых происшествий, в учебе и курсантских заботах, зачетах, экзаменах, нарядах прошли осень, зима. Мы научились быстро вставать и одеваться, ходить строем и петь любимую песню старшины про стальную эскадрилью. Постепенно начали притираться друг к другу, и даже Умрихин перестал напоминать дрессировщика. Курсанты реагировали на него, как водители реагируют, скажем, на светофор.
Весной нас перевезли с центрального аэродрома в летний лагерь, который размещался в Завьяловке.
После самостоятельных полетов, когда мы уже вовсю начали крутить виражи, «бочки» и «петли», по радио сообщили: в космос запустили Валентину Терешкову. Эта новость потрясла всех. Шмыгин позвал меня в каптерку и предложил написать письмо в отряд космонавтов: мол, здоровье позволяет, первоначальную технику освоили, готовы штурмовать новые высоты. Мне идея понравилась: уж если женщина полетела, то нам сам Бог велел. А вдруг повезет. Написали тут же на столе. Ответ пришел через полмесяца. Шмыгин был дежурным по лагерю и сам ездил получать почту. Красивые, на глянцевой бумаге, конверты он заметил сразу же. Глянул – точно, из отряда космонавтов. По дороге домой вскрыл свое письмо, прочитал и, вздохнув, спрятал в карман. Посмотрел мое – успокоился, там тоже был отказ. И тут увидел еще одно письмо – Умрихину. Не утерпел, вскрыл и его. Ответ был стандартный.
– Ты скажи, и этот туда же! – вслух подумал Шмыгин о старшине. – На ходу подметки рвет!
Приехав в лагерь, Тимка разыскал меня, поманил в каптерку.
– Пиши, земеля! – протянув стандартный лист бумаги, шепотом сказал он. – Товарищ Умрихин, Центр подготовки космонавтов предлагает Вам прибыть, – Шмыгин вытащил из кармана конверт, глянул на обратный адрес, – в город Москву для прохождения медицинской комиссии.
Закончив диктовать, взял лист и в обеденный перерыв заскочил к девчонкам на метео. Там он отпечатал текст на машинке, поставил дату, подпись и, заклеив фирменный конверт, отнес письмо в комнату к старшине. Прибыв с послеполетного разбора, Умрихин приказал Шмыгину убрать окурки возле штаба и ушел к себе. Через несколько минут, с остекленелым взглядом, он выскочил из своей комнаты и, проверив на кителе пуговицы, строевым шагом направился в штаб. К вечеру из города за ним приехала легковая машина начальника училища. Среди курсантов прошел слух: старшину приняли в отряд космонавтов. На вечерней проверке командир эскадрильи поставил нам его в пример и сказал, что теперь у нас будет новый старшина – Борис Зуев.
Умрихин вернулся через несколько дней. На него было страшно смотреть – худой, злой. Вскоре в казарму прибежал дневальный.
– Генерал-лейтенанта Шмыгина к начальнику штаба! – пряча ухмылку, крикнул он.
– Кажется, сейчас меня запустят в космос, – пошутил Тимка и пошел сдаваться. Из своей прошлой детдомовской жизни он усвоил: повинную голову меч не сечет – и чистосердечно рассказал Орлову все, как было.
Вскоре в штаб вызвали меня. Пришлось подтвердить: да, писали, но злого умысла не было, иначе зачем было Шмыгину ставить в письме свою подпись. Товарищеская шутка, кто же думал, что так получится. Конечно, не надо было подписываться генерал-лейтенантом.
– Петр Иванович, Терешковой, Умрихину можно, да! – почувствовав колебания начальника, обиженным голосом вдруг начал Шмыгин. – Но вообще-то мои намерения были серьезны. Представляете, как бы загремело наше училище!
– Я тебе загремлю! – взорвался Орлов. – Ваше курсантское удостоверение!
Тимка побелел, медленно, трясущимися руками достал из кармана документ. Джага, выхватив из рук, начал рвать его в клочья.
– Все, больше ты не курсант! – кричал он. – Хотел в космос, теперь поезжай к себе в Якутию! Бренчи на гитаре, танцуй, пой, подделывай письма! А самолетов тебе не видать как своих ушей!
Разделавшись с удостоверением и выбросив, что от него осталось, в мусорное ведро, начальник штаба успокоился. В этой истории с письмом в отряд космонавтов была и его вина. Он первым, после Умрихина, прочитал нашу стряпню, а потом позвонил начальнику училища. Не разглядел подвох. Смутил, как он потом говорил, настоящий конверт.
Побарабанив по столу пальцами, Джага вздохнул и неожиданно начал успокаивать Тимоху:
– Вот что, Шмыгин, ты сильно не беспокойся. Думаю, отчислять мы тебя не будем. Удостоверение восстановим, я сам об этом позабочусь.
– Петр Иванович, милый, не тревожьтесь! – в тон ему, растроганно воскликнул Шмыгин. – Здесь накладка получилась, цело оно у меня.
Тимка вытащил из другого кармана коричневое курсантское удостоверение, показал его Орлову и быстро спрятал обратно.
– Вы по ошибке мой профсоюзный билет порвали.
– Ну, шельмец, достукаешься ты у меня! – схватившись за сердце, сказал Орлов. – Старшина, этим двум субъектам до отпуска не давать увольнительных. На хозработы, в столовую! Пусть рубят дрова на зиму.
«Нашел чем пугать – столовой, – облегченно подумал я. – Колоть дрова – мое любимое занятие».
Я понимал: это наказание не Шмыгину – мне. А с него как с гуся вода. Не пройдет и недели, как большое начальство затребует его к себе. И сам старшина баян или гитару поможет до машины поднести. Бывало, и уедут вместе, петь в два голоса. Нет, на Тимоху я не обижался, иногда даже становилось его жалко. Свободного, своего времени у него не было. Шмыгина выдергивали по любому поводу: концерт, свадьба, именины – звонят, требуется музыкант и исполнитель. Поначалу он и меня пытался приобщить, как он говорил, к светской жизни. Все в той же каптерке пробовал давать уроки танцев, совал в руки гитару. Учеником я оказался неприлежным, хотя Тимка говорил, что при соответствующей работе над собой из меня будет толк.
– Для этого, земеля, надо ходить на танцы, влюбляться, – назидательно говорил он, – а ты в казарме сидишь да футбол гоняешь. Тобой скоро людей пугать будут.
Он был прав, но не тянуло меня на эти танцы-манцы-обжиманцы.
«Разве могут они заменить полеты», – думал я, наблюдая, как друзья перед увольнением начищают ботинки. Те мелкие неудобства вроде колки дров и уборки территории казались пустяковой ценой за то, чтобы подняться в воздух и посмотреть на мир сверху. А на земле, в свободное от полетов время, жизнь моя шла по одному и тому же нехитрому маршруту: казарма, столовая, библиотека, стадион, казарма. Казалось, впереди много времени, еще успею нагуляться.
Танцы проходили каждую субботу в стареньком сельском клубе. Заведующая, полнотелая, напоминающая продавщицу мороженого, крашеная блондинка, включала радиолу и сама подбирала пластинки: фокстрот, танго, вальс. Прочие, современные танцы – твист или чарльстон – пресекались самым решительным образом. Музыка останавливалась, и курсанты, потолкавшись возле клуба, уводили девушек в камыши или в лесопосадку. А над поселком из репродуктора вслед неслось:
- Хороши вы камыши, камыши, камыши.
- Вечернею поро-о-о-ю!
За нравственностью молодежи Зинаида Калистратовна, так звали заведующую, бдила строго, но только на отведенной ей территории. У нее самой подрастала дочка Тонька, которую в поселке называли «Выдри клок волос». В отличие от своей матери модные, современные танцы она обожала. Уже не подросток, но еще не девушка, она была для курсантов своим в доску «парнем».
Однажды, когда мать уехала в командировку, Тонька открыла клуб, и они с Тимкой отвели душу, поставили всех «на уши». А на другой день «на ушах» стоял весь поселок.
В благодарность за удачно проведенный вечер Шмыгин вызвался помочь Тоньке прополоть картошку в огороде. Пригласил меня, Ивана Чигорина, который в последнее время проходил у него стажировку. После работы Тонька пообещала нам истопить баню. Пока мы пололи картошку, Тимка натаскал с речки воды и, чтоб не было скучно, привел подружек. Вечером мы попарились в бане. После нас туда собрались девчонки. Чигорин вызвался принести воды. В это время вернулась из командировки Зинаида Калистратовна. Мы вышли на улицу, оставив Шмыгина налаживать с ней отношения. Он-то и предложил заведующей смыть дорожную пыль: мол, банька истоплена, воды много. И сам с разговорами пошел провожать, хотел похвастаться нашей работой в огороде. Тимка не подозревал: Чигорин оказался неплохим учеником. По дороге с речки он поймал гуся, желая подшутить над девчонками, принес его в баню и пустил плавать в бочку с водой. Гусь подергался, погоготал, Иван прикрыл бочку крышкой, и птица замолкла.
Зинаида Калистратовна разделась после девчонок и решила набрать в таз воды. Как только она приоткрыла крышку, гусь начал бить крыльями и с криком рванулся на волю.
«И летели в полутьме по огороду белые лебеди, – с придыхом рассказывал потом в казарме Чигорин, – а впереди всех, увертываясь от коромысла, несся черный гусак».
Зинаида Калистратовна хотела нажаловаться нашему начальству, но вмешалась Тонька, пригрозив, что уйдет из дома. Пришлось матери спустить все на тормозах: дочь – не клуб, ее не закроешь на замок.
Этим же летом Тонька поступила в педучилище. Когда мы вернулись из отпуска, она со своими подругами стала приезжать на центральный аэродром. Принимали их как родных, и я с грустью отметил: людей сближает не только уборка туалетов, но в большей степени – банные воспоминания.
Встречать Новый год мне выпало опять в наряде. Ну что с этим Умрихиным поделаешь! Неожиданно Тимка предложил подменить меня.
– Ты встреть Тоньку с девчонками, – сказал он, – и проводи в клуб. Не то третий отряд перехватит. А ты потом меня сменишь.
– А что сам не встретишь? – спросил я.
– Мне новую праздничную песню про старшину доделать надо, – хитровато улыбнулся Шмыгин. – В казарме не дадут. А повод – что надо. Сегодня в гости к нам Кобра должна прийти. Надо о себе напомнить, а то, поди, забыла.
На втором курсе вместо заболевшей учительницы английского языка с нами стала заниматься преподавательница из педучилища Клара Карловна. Была она невысокого роста, всегда в строгом темно-синем костюме, голубой рубашке и черном галстуке.
– Ей бы пошла портупея, – шепнул Тимка, когда она в сопровождении Умрихина уверенно вошла в класс.
Точно при выносе знамени, печатая шаг, Антон Филимонович Умрихин шел чуть сзади. Когда она начала знакомиться с курсантами, Шмыгин поинтересовался, какое училище она заканчивала. Преподавательница оглянулась на Умрихина. Тот тут же поднял Тимофея и объявил ему замечание. Англичанка еле заметно кивнула старшине и начала занятие. Вскоре все заметили необыкновенное усердие старшины. Он стал оставаться на дополнительные уроки, а после провожал англичанку до автобуса. Была она незамужней и старше его лет на десять. Но это обстоятельство Умрихина не смущало – суровое, стальное сердце старшины пронзила стрела Амура. Возможно, он уже видел себя командиром корабля на международных трассах, где без знания английского языка делать было нечего.
– Стратег, не то что мы! – разводил руками Шмыгин.
У него с Кларой Карловной отношения не сложились. Существовало правило: едва преподаватель появлялся в классе, дежурный обязан был доложить, кто присутствует на занятиях. Как все это произносится по-английски, Шмыгину написали. «Начни так: комрид тиче и далее по тексту», – посоветовали ему доморощенные полиглоты. Но ему удалось произнести лишь два первых, ставших впоследствии знаменитыми, слова.
– Кобра птичья!.. – звенящим голосом торжественно начал он, думая, что на английском это должно означать: товарищ преподаватель! И долго не мог сообразить, почему его доклад был остановлен визгливым гоготом Клары Карловны, который почему-то напомнил крик того самого деревенского банного гуся.
– Гоу аут! Гоу аут!
А Антону Умрихину, после того как Клара Карловна отбыла с нами положенный срок, почти каждый день из города стали приходить письма. Знатоки говорили: исключительно на английском. Отвечал он, обложившись словарями, морщил лоб, пыхтел, и мне казалось, будто старшина моет пол.
Мы подозревали, что сепаратистские настроения с проведением собственного новогоднего вечера имели под собой английскую основу.
Начальник штаба поручил всю организацию хозяевам – третьему отряду. Те задрали нос, начали ставить свои условия, заявили, например, что будут пропускать гостей по пригласительным и что оркестр на вечере будет свой – центрального аэродрома. Мы возмутились, пошли жаловаться. Нас активно поддержал Умрихин. Тогда Орлов предложил проводить вечер самим, в старом закрытом на ремонт клубе.
– Но все сделаете собственными силами, ремонт и все прочее: елку, музыку, оформление берете на себя.
Джага одним выстрелом решил убить двух зайцев. Деваться некуда, мы согласились, начали приводить клуб в порядок: чинить электропроводку, красить сцену, белить стены.
Автобус пришел из города раньше времени, и я девчонок проворонил. Они уже были в новой столовой, где проводил вечер третий отряд. Возле столовой встретил расстроенного Чигорина.
– Бесполезно, уже не пускают, – сказал он. – Выставили дежурных, говорят, у вас свой вечер – дуйте туда.
В столовую я проник через кухню, помогли знакомые поварихи. И попал на предпраздничную толкучку. Курсанты сдвигали в один угол столы и стулья. Гости выстроились вдоль стены и, оживленно переговариваясь, ждали.
– Чего вы здесь не видели! – сказал я, разыскав среди девчонок Тоньку. – Лучшие парни находятся сейчас в нашем клубе.
– Лучшие парни встречают там, где договорились! – сердито ответила она. – Как мы теперь отсюда уйдем?
– Через кухню.
– Еще чего! – подняв свои рыжие подкрашенные брови, протянула она. – Дин, нам предлагают перейти в клуб, – сказала она темноволосой девушке в черном свитере.
Та повернулась ко мне и с милой улыбкой язвительно проговорила:
– В туфлях по снегу? Летать мы еще не научились. Вы уверены, что и у вас не двигают столы?
Каким-то посторонним, незаинтересованным взглядом я отметил, что она красива. И почувствовал – остра на язык. Но это редкое сочетание одного с другим не тронуло, наоборот, обозлило. «Знает себе цену, вот и кочевряжится, – хмурясь, думал я. – Поставить бы ее на место».
Может быть, в другой раз я так бы и сделал, но на улице меня ждал Чигорин, ждали друзья, и от успеха этих переговоров зависело, каким сегодня будет у нас вечер. Я почувствовал: выполнить поставленную задачу можно только через эту языкастую девицу. Пойдет она – следом за ней пойдут остальные.
– Милые девушки, я обещаю: там вас ждет лучшая елка в Бугуруслане, оркестр и Тимофей Шмыгин, – голосом уличного зазывалы начал я. – Такое не повторяется!
– Кто такой Шмыгин? Первый раз слышу, – вскинув свои большие зеленые глаза, произнесла Дина.
– Я тебе говорила, Элвис Пресли! – всплеснула руками Тонька. – Забыла?
– Это тот, с кем ты меня хотела познакомить? – заинтересовалась Дина. – Но как же мы без пальто, одежду ведь у нас забрали?
– А мы завернем вас в шинели и унесем на руках, – пообещал я.
– Если так, то мы согласны! – засмеялась она.
Я быстро сбегал за ребятами, они захватили шинели и прибежали к столовой. Девчонки выходили через кухню, мы набрасывали им на плечи нашу курсантскую одежду, они, смеясь и оглядывая друг друга, гуськом шли в клуб. Лишь одна Тонька проверила, насколько наши намерения были серьезны. Мы с Чигориным посадили ее к себе на плечи и с шумом, как орловские рысаки, домчали до дверей.
– Ой, какая у вас елка! – в один голос воскликнули девчонки, переступив порог клуба.
Мысленно я похвалил себя: не зря старались. Елку мы с Витькой Суминым спилили и приволокли из питомника. Была тщательно обдумана и проведена криминальная операция. Хоронясь от милиции, тащили ее поздним вечером через весь город.
– У нас все, как в лучших домах Лондона, – скромно ответил я. – А какой оркестр, куда третьему отряду до нашего.
И тут Умрихин объявил, что в честь прибывших гостей проводится конкурс на лучшее исполнение современных танцев: твиста и чарльстона.
– Попробуем! – с каким-то скрытым вызовом, улыбнувшись, вдруг предложила мне Дина. – Лучшие парни должны уметь все!
Наверное, она захотела проверить, умею я танцевать или нет, или рядом не оказалось того, кто составил бы ей компанию.
Я пожал плечами: давай станцуем. Так, с твиста, мы и начали. Гибкая, подвижная, она танцевала легко, свободно, и мне оставалось только подчиняться, повторять все, что она предлагала. Я поглядел на себя как бы со стороны – получалось совсем неплохо. Вот где пригодились Тимкины уроки! Когда объявили, что первое место присуждается нашей паре, я не поверил, потом сообразил, что моей заслуги здесь не было.
Приз – плюшевого медвежонка – Умрихин торжественно вручил Дине. Рядом с ним, все в том же синем костюме и ядовито-желтой блузке, поправляя очки, стояла его английская подруга и строгими школьными глазами следила за всей церемонией. Тот, видимо, почувствовал ее взгляд, согнал с лица улыбку в обычное, озабоченное выражение.
Я засобирался уходить: надо было менять в наряде Шмыгина.
– Как! А Новый год встречать? – удивилась Тонька. – Сам позвал и убегаешь?
– Мне на боевой пост, – улыбнулся я. – Кроме того, я обещал вам еще Элвиса Пресли.
– Жаль, – сказала Дина. – Ты хорошо танцуешь.
– Тимка танцует лучше, – ответил я. – Он у нас – король твиста и чарльстона.
Еще раз поискав предлог, чтоб уйти, я вдруг почувствовал: уходить не хотелось. Я знал: как только ступлю за порог, тут же пропадет это удивительное праздничное чувство, исчезнет музыка, которая все еще звучала во мне.
– Скажите, а вы ходите на лыжах? – спросил я Дину.
– Она была чемпионкой школы, – с гордостью ответила за подругу Тонька. – Кроме того, она в совершенстве владеет английским. Училась в спецклассе.
– У меня возникла идея, давайте встретимся на Рождество, на Кинели под мостом, – предложил я. – Сходим в лес, я там недавно лосей видел. Только они иностранных языков не знают.
– Ничего не скажешь – оригинально, – засмеялась Дина. – Девушкам обычно в городе под часами свидания назначают. А здесь под мостом, да еще на лыжах. Хорошо, договорились.
* * *
После новогоднего вечера среди курсантов стала популярной песня, которую мы попытались петь в строю:
- Может, летом, а может, зимой
- Кобра птичья шла с вечера танцев домой.
- Словно в море крутая волна,
- Рядом с нею шагал старшина —
- Элвиса Пресли забыла, забыла она…
Но старшина шуток, тем более по отношению к своей персоне, не принимал, останавливал строй и начинал воспитывать. Мы в ответ говорили: не каждый может похвастаться, что про него есть песня, а Шмыгин сказал, что он по природе своей пацифист и желает мира во всем мире.
– Хватит травить баланду! – бросал Умрихин. – Вот узнаю, кто автор, и вкачу ему пару нарядов вне очереди. Вокруг нас сложная международная обстановка, а тут танцы-манцы. А ну, запевайте «Стальную эскадрилью»!
И курсанты, поймав ритм, запевали сочиненный все тем же Шмыгиным пацифистский припев:
- За прочный мир, в который раз,
- Привет, Анапа, дрожи, Кавказ, —
- Попить вина, расправив крылья,
- Летит стальная эскадрилья…
Вскоре Шмыгин попросил Дину перевести песню на английский и, запечатав в конверт, отправил его по почте Кларе Карловне. Через некоторое время листок с текстом вернулся обратно. Тимка обнаружил всего несколько карандашных поправок. Но больше всего его обрадовали красная жирная четверка и приписка. Клара Карловна высказывала свое удовлетворение попытками курсанта Шмыгина поднять свой общеобразовательный уровень. Тимка показал письмо Антону Умрихину, и тот, увидев подпись и оценку цензора, когда поблизости не было начальства, разрешил петь ее в строю. У песни, как и у человека, бывает своя судьба. После того как «Кобру птичью» хор курсантов исполнил на вечере художественной самодеятельности, она стала общегородским хитом.
На Рождество мы с Иваном Чигориным взяли лыжи и покатили на свидание под мост. Но в назначенное время девчонок там не оказалось. Я поглядывал в сторону города и гадал, придут или не придут. Левый берег реки был покрыт лесом, на ветках плотно лежал снег, и зимнему солнцу не хватало сил пробить его насквозь. Было сумрачно и тихо. Время от времени над примолкшими макушками деревьев, словно желая подсказать, что ждем напрасно, секли сизый холодный воздух вороны да с грохотом проносились по мосту редкие машины.
На другой день пошли на танцы в педучилище. Дина с Тонькой встретили нас так, будто ничего не произошло. Танцы получились скучными, и я предложил Дине погулять по городу. Она быстро согласилась.
Выбирая самые темные, застроенные деревянными домами улицы, мы пошли вниз к реке. Ко мне вернулось то самое легкое праздничное чувство, вновь хотелось танцевать, петь, прыгать, смеяться. Казалось, среди этих темных домов мы одни на целом свете. Я забегал вперед и бил ногой по заснувшим стволам тополей. Сверху из черноты неба на нас обрушивалась снежная лавина. С деревьев облетал куржак. Дина сняла с моей головы шапку, отряхнула снег и одним быстрым движением напялила по самые уши обратно. Мне захотелось поцеловать ее, но я не знал, как это делается. Произошло это само собой. Когда мы вышли на берег Кинели, она, смеясь, толкнула меня, и я, прихватив ее, повалился в сугроб. Упали, а вернее провалились, во что-то тугое и глубокое. Дина упала на меня сверху, рядом я увидел ее глаза и почувствовал мягкие горячие губы… А потом мы бежали с ней через весь город, она боялась, что я не успею на автобус.
– Опоздаешь, и мы с тобой можем не увидеться долго-долго, – торопливо, на ходу говорила она. – А я этого не хочу.
– Я сбегу к тебе в самоволку.
– Никогда не смей этого делать, – неожиданно остановилась Дина. – Обещаешь?
– Завтра же сбегу к тебе, – шутливо пообещал я.
Мне было приятно, что она беспокоится обо мне. За самовольные отлучки карали беспощадно, провинившихся отчисляли из училища. Сколько трагедий произошло на наших глазах.
– А почему не видно Элвиса Пресли? – через неделю, провожая меня на автобусную остановку, как бы невзначай спросила Дина. – Интересный парень, смешной. Он мне про свой север такое понарассказывал. Просто ужас!
– Их сейчас с Умрихиным трясут, – не сразу ответил я. – Залетели они крепко, могут отчислить.
– Что такое произошло? – встревоженно спросила Дина.
– У нас маршрутные полеты начались, – начал рассказывать я. – Умрихин полетел самостоятельно со Шмыгиным. Погода была паршивенькая. На обратном пути они заблудились. Чтоб восстановить ориентировку, они сели возле какого-то большого села на вынужденную. К самолету на «газике» подъехал председатель колхоза. Тимка выскочил, спросил, как называется село. Тот подозрительно глянул на его лицо, но все же ответил: «Русский Иргиз». Шмыгин, довольный, протянул председателю руку: «Будем знакомы – Элвис Пресли», – и в самолет. Умрихин – по газам. А самолет ни с места, – лыжи к снегу примерзли. Старшина помаячил ему: мол, выскочи и деревянной колотушкой по лыжам постучи. Зимой на «Аннушке» такую специально возим, объяснил я. Тимка выскочит, постучит, самолет стронется. Ну а пока до двери бежит, лыжи вновь к снегу прилипают. Решили не останавливаться. Тимка постучал, самолет покатился. Он к двери. Забросил в фюзеляж колотушку, а у самого сил не хватило, упал на снег. Умрихин стук услыхал, подумал, Шмыгин в самолете, по газам – и в воздух.
Председатель отъехал к селу, но решил проявить бдительность, достал бинокль, начал наблюдать за взлетом. И увидал: что-то живое выпало из самолета. Он в село, позвонил в больницу и милицию: так, мол, и так, садился к нам аэроплан. «Я сам разговаривал с темнокожим не то американцем, не то инопланетянином – Элвисом, и, похоже, один из них сейчас валяется за селом на снегу».
Ну а Умрихин только в воздухе обнаружил пропажу. Надо отдать ему должное, не бросил товарища, развернулся и снова сел на прежнее место. Подобрал Тимку и ухитрился на этот раз взлететь без происшествий. Прилетели на центральный аэродром и молчок. А в Русском Иргизе – переполох. Приехали врач, начальник милиции – ни самолета, ни инопланетянина. Еще раз выслушав председателя, повезли к доктору, подумали: расстроилась у человека психика. Тот обиделся, начал искать правду. И нашел!
Поймав Динин взгляд, я запнулся. Мне казалось, рассказываю я интересно, смешно, но она отстраненно молчала.
– Умрихин сейчас объяснительные пишет, – закончил я, – а Тимка в санчасти ждет, когда буря мимо пронесется.
– Он ведь мог действительно выпасть и убиться, – сказала она и, поежившись, спросила: – В следующую субботу обязательно приходите, может, все вместе сходим в лес на лыжах?
Но пойти в увольнение мне не довелось. Умрихин, оправившись от пережитого потрясения, поставил меня в наряд. А в следующие выходные наша летная группа заканчивала полеты.
Иван Чигорин принес записку от Дины. «Я ждала, а ты не пришел. Но был Элвис, и мы долго говорили о тебе. Ждем вас к нам на праздничный бал».
Собираясь на вечер в педучилище, я купил альбом, вклеил в него открытки с видами Байкала и Иркутска. И под каждой написал стихи. Пусть Динка знает: хорошие места бывают не только на севере.
Вечером зашел в каптерку, захотелось проверить, как Тимка отнесется к моей затее. Он сидел за столом и вел запись желающих попасть в полярную авиацию. Говорили, Шмыгину пришел вызов из Колымских Крестов, и он начал подбирать команду. Попасть туда мечтали многие. У северных летчиков были бешеные заработки и особый престиж. Первым в списке оказался Антон Умрихин. Но я почему-то подумал: для Тимки это очередной повод, чтобы разыграть людей.
– Молодец, здорово придумал, – посмотрев открытки, вялым голосом сказал он. – Ей должно понравиться.
Я обиделся, тоже мне друг называется. Вроде бы похвалил, но после его слов мне захотелось вышвырнуть альбом на улицу.
В педучилище я все же поехал. Начистил на кителе пуговицы, пришил свежий подворотничок и, завернув в целлофановый пакет, взял с собой альбом. Если не понравится, Динка скажет мне сама.
Был первый по-настоящему весенний день. Солнце было везде: на крышах домов, на заборах, на ветках деревьев. Его было так много, что казалось, оно заполнило все и я сам излучаю его. Жмурясь и перепрыгивая через лужи, я не спеша шел вверх по улице, улыбался встречным людям, себе, проползающим мимо автобусам. В скверике остановился. По ноздреватому весеннему льду, словно тоже получив увольнительные, распахнув свои черные шинельки, прогуливались вороны, и я неожиданно рассмеялся: наверное, и среди них тоже есть свой Умрихин.
В педучилище шел концерт. Тонька, подсев ко мне, шепнула, что сейчас будет выступать Динка. Она появилась в тельняшке и синей юбке, подстриженная под мальчишку. Следом на сцену в ослепительно белой рубашке и с неизменной гитарой вышел Тимка. Они исполнили совсем еще незнакомую песню Джорджи Марьяновича о маленькой девчонке, которая мечтала о небе и вот наконец-то полетела над землей.
По-моему, у Тимки никогда не было такого успеха. Зал хлопал и требовал еще и еще. Они переглянулись и запели песню о том, что глупо Чукотку менять на Анадырь и залив Креста на Крещатик менять. «И когда только они успели прорепетировать?» – думал я, чувствуя, что с каждой минутой мне почему-то становится грустнее и грустнее. Тимка своей гитарой, как лопатой, зарывал мое весеннее настроение. Я привык к своей курсантской робе, и обыкновенная белая рубашка заставила посмотреть на Шмыгина как бы со стороны. И был вынужден признать – Тимка смотрелся классно. Я достал из пакета альбом и протянул Тоньке.
– Это тебе, на память, – сказал я.
Тонька подозрительно посмотрела на меня, быстро глянула на открытки и захлопнула альбом. Она была вся там – на сцене. Я вновь остался наедине с собой и со своими грустными мыслями. А зал тем временем попросил на бис исполнить «Кобру птичью».
После концерта я предложил Динке погулять по городу. Она отказалась.
– Может быть, завтра после соревнований пройдемся на лыжах? – предложил я. – Скоро сойдет снег, и я так и не увижу бег чемпионки.
Ей почему-то шутка моя не понравилась. Неожиданно в разговор влез Шмыгин, начал хвастаться, что у него по лыжам первый разряд. Меня это задело. Честно говоря, на лыжах я его ни разу не видел. Стоявшая рядом Тонька тут же предложила: кто из нас на завтрашних соревнованиях быстрее пробежит десять километров, тому будет торт и поцелуй самой красивой девушки курса.
– Вы только покажите ее, а то бежать расхочется, – засмеялся Тимка.
– Это будет Динка! – коварно улыбнувшись, объявила Тонька.
– Ты в своем уме? – сердито сказала Дина. – Сама придумала, сама и целуй!
– Я бы с удовольствием! – согласилась Тонька. – Только мой Чигорин на лыжах не умеет, он в горячих песках вырос.
За победу Тимка боролся отчаянно, до самого конца. Где-то посреди дистанции даже опережал меня. У меня не было шапочки, и перед стартом наша врачиха обмотала мне уши бинтом. Спускаясь с моста, я упал, Тимка обогнал меня, но я успел подняться и последним броском сумел на финише опередить его. Я видел, как Динка кричала вместе со всеми, только не мог понять кому. После финиша ко мне подбежала Тонька, обняла и поцеловала в щеку.
– Что у тебя с головой, ты ранен? – спросила она.
– Убит, – хмуро ответил я, наблюдая, как Дина, виновато поглядевшая на меня, утешает Шмыгина.
С того дня началось непонятное. Динка писала мне торопливые записки, которые передавала через Тоньку. Та, в свою очередь, просила Чигорина передать их мне. В них Динка назначала встречу, но почему-то не приходила. Потом, в следующей записке, оправдывалась. Я верил и не верил тому, что она писала.
После успеха на вечере их со Шмыгиным начали приглашать на вечера и концерты. А вскоре они с Тимкой уехали с шефскими концертами по области. «Похоже, Тимка спикировал на нее, – сказал мне Иван Чигорин. – Ты предупреди: нельзя так с друзьями».
«Но кто устанавливает эти самые правила, что можно, а что нельзя? – расстроенно думал я. – Не прикажешь же, в конце концов!» Многое мне объяснила Тонька, когда я неожиданно встретил ее возле училища.
– Ты знаешь, я не пойму ее, – хмурясь, говорила она. – Я ей толкую: выбери и не мечись. Она забьется в угол и молчит. У нее до тебя уже был один парень-курсант. Его отчислили за самоволку. Тимке проще, ему увольнительных не надо, он в городе почти каждый день бывает.
Лучше бы она не упоминала Шмыгина. Узнав, что они вернулись с гастролей, вечером после отбоя я впервые сбежал в самоволку. Отыскал дом, в котором жили на квартире девчонки, постучал в окно. В накинутом на плечи пальто вышла Дина. Виноватая, молчаливая и до боли красивая.
– Ну зачем ты это сделал? – подняв на меня глаза, тихо сказала она. – Я ведь просила тебя.
– Хотел тебя увидеть. Поговорить.
– Знаешь, нам не надо больше встречаться, – опустив голову, сказала Дина. – И умоляю тебя, ничего не говори, молчи!
– Я и так молчу, – выдавил я из себя. – Не надо, так не надо.
Слова выходили не мои – чужие. Казалось, жизнь остановилась и все потеряло смысл: слова, клятвы, обещания.
Я развернулся и пошел вниз по улице. Думалось, она, как это было уже не раз, сейчас остановит, окликнет меня. Нет, сзади осталась тишина.
После соревнований мы с Тимкой не разговаривали, при встрече он отводил глаза в сторону. С Диной мне все же довелось встретиться. Когда заканчивались военные сборы, меня как дежурного по эскадрилье отправили в город за почтой. Машина с посылками почему-то задерживалась, и я решил прогуляться по городскому саду. Миновав центральный вход, совсем неожиданно на боковой аллее сквозь кусты увидел Дину. Она сидела на скамейке, в руках у нее была книжка. Рядом пристроился первокурсник, он что-то быстро и жарко, размахивая руками, говорил. По всему было видно, что он клеится к ней. От возмущения я, кажется, даже перестал дышать. Достав из кармана красную повязку, натянул ее на рукав, затем быстро через кусты подошел к скамейке и строгим, командирским голосом гаркнул:
– Товарищ курсант, прошу предъявить вашу увольнительную!
Увидев перед собой человека в армейской форме, курсант быстро вскочил, бросил испуганный взгляд по сторонам, затем, мельком глянув на мою красную повязку, торопливо начал искать по карманам увольнительную. И неожиданно, что-то выкрикнув, прямо через кусты бросился наутек.
– Товарищ курсант, куда вы, не попрощавшись?!
– Тамбовский волк тебе товарищ! – крикнул первокурсник, отбежав на безопасное расстояние.
– Беги, беги, а то рассержусь, догоню и уши оборву! Чего это вы себе, мадам, позволяете? – все тем же строгим голосом продолжил я, оборачиваясь к Дине. – Одним вы запрещали, а других поощряете. Исповедуете двойные стандарты? А если бы сейчас здесь стоял Тимофей?
– Может быть, ты и у меня увольнительную потребуешь? И чтоб обязательно была подписана Шмыгиным?
Глаза у Динки были веселые и довольные. Ее, видимо, позабавило, что я так ловко отшил приставалу. И вот это довольство, что я даже после того, как она дала мне отставку, все же подошел к ней, взорвало меня.
– Кто я такой, чтобы что-то требовать? – с горечью и злостью сказал я. – И кто мне ты? Может, сидишь здесь и ведешь счет своим поклонникам.
Я чувствовал, что меня понесло. И действительно, наговорил такое, о чем потом долго жалел. Но остановиться уже не мог. Кажется, даже назвал ее красивой, думающей только о себе мещанкой. Остановился только тогда, когда увидел бегущую по щеке у Дины слезу. Она захлопнула книгу, резко встала. Я вдруг понял, что допустил перебор, что собственными словами снял ее вину передо мной. А то, что она была, я не сомневался. Но что-либо поправить было уже невозможно.
Окончание военных сборов Тимка отметил в присущем ему стиле. Увидев, что начальство махнуло на выпускников рукой, он решил напомнить о своем существовании. Собрав конспекты по тактике ВВС, он уложил их в простыню, сверху положил текст песни про стальную эскадрилью. Затем четверо курсантов взяли простыню за углы и, подняв над головой, двинулись через дыру в заборе в сторону заросшей тиной Контузлы. Сзади во главе почетного караула, во главе своей джаз-банды, под звуки сонаты номер два Шопена, печатая шаг, шел Шмыгин. Будь здесь Умрихин, он мог бы гордиться строевой выправкой Тимохи. Торжественно и мрачно завывала труба, бил барабан, плача, надрывался аккордеон. Из Александровки, заслышав похоронный марш, в сторону центрального аэродрома побежала ребятня. На самом видном месте Шмыгин сделал паузу, дождался малолетних зрителей, затем медленно снял с себя солдатскую гимнастерку и брюки, что, видимо, должно было символизировать его всеобщее и полное разоружение. Оставшись в белой нательной рубашке и таких же белых кальсонах, он торжественно зачитал якобы последний приказ начальника штаба Орлова о роспуске курсантского хора и оркестра. После чего конспекты были свалены в кучу и подожжены. И тут же, быстро построившись и чеканя шаг, пошли в казарму, грянув напоследок «Стальную эскадрилью».
Говорили, что Орлов, узнав о Тимкиной выходке, сказал, что Шмыгину надо выдать не пилотское свидетельство, а направление в психдиспансер. Но все обошлось.
В последний свой училищный вечер мы с Чигориным ушли в город, дотемна бродили по улицам, ломали сирень и дарили первым попавшимся девчонкам. Потом он предложил пойти к Тоньке, но я отказался. Иван все же пошел, а я поехал на центральный аэродром.
По дороге у КПП мне попались машины с первокурсниками. Они ехали в Завьяловку на свои первые в жизни полеты. То, что для нас закончилось, для них только начиналось. Уезжая в летние лагеря, они пели нашу, но уже переделанную под себя песню:
- Мы «Кобру» птичью поднимем в небо,
- Пройдемся строем еще не раз, еще не раз,
- Мы старшину лишили хлеба, —
- Прощай, Антоша, молись за нас…
Вернувшись в казарму, я увидел в каптерке свет. Тимка собирал свои вещи. Я зашел в каптерку, открыл чемодан, достал бутылку шампанского, которую припрятал давно, чтобы отметить выпуск, и поставил на стол перед Шмыгиным. Тимка поднял на меня глаза, затем молча достал из-под стола граненые стаканы. Выстрелив, пробка ударила в потолок, и шампанское, пенясь, полилось на пол.
– Ничего, я смою, – торопливо сказал Тимка. – Помнишь мою методу? – он развел в сторону руки и одним движением потянул ладони к себе.
– Помню, как же, – усмехнулся я. – Повозил я тогда глину.
– Ты пойми меня правильно, – выпив шампанского, начал Тимка. – Перед тобой я себя последней собакой чувствую. И ничего с собой поделать не могу. Много было девок у меня, но пролетали мимо, как песенки-однодневки. А Динка как болезнь засела. Ты знаешь, она меня к себе не подпускала, – как бы желая выгородить ее, продолжал он. – Потом эта поездка по области. Приехали в Русский Иргиз, ну, в то село, где мы с Умрихиным на вынужденную садились. Председатель встретил нас как родных. Концерт в клубе прошел на ура. Организовал нам ужин, гостиницу. Там все и произошло. Вчера мы с ней подали заявление.
– Знаю, – коротко ответил я, хотя, честно говоря, это было для меня новостью. – Давай не будем об этом.
– Не будем, – согласился Тимка. – Может, позовем Умрихина?
– Он в городе, тоже сегодня подавал заявление, – засмеялся я. – Наверное, они сейчас уже по-англицки поют в два голоса про стальную эскадрилью. Антон Филимонович цель себе поставил и ни на один дюйм не отвернет от нее.
Мы враз замолчали, оставшись каждый со своими мыслями. Вспомнив Тимкино деление на земляков и братьев, я коротко попрощался:
– Ну что, будь здоров, брат. Авось свидимся. В авиации такое возможно. Как это в твоей песне:
- Попьем вина, расправим крылья.
- Жди нас, Анапа, дрожи, Кавказ…
И, увидев, как дернулось Тимкино лицо, я замолчал и, развернувшись, быстро вышел из каптерки. Мне не хотелось, чтобы он меня окликал. Точка поставлена, что еще ждать.
Ночью я сидел на скамейке под молодыми тополями. Было тепло, тихо, пахло травой и летом, и почему-то казалось, что меня обняли и, прощаясь, осторожно, чтобы запомнить, обнюхивают пахучие листочки. Я думал о том, что завтра нам должны выдать пилотские удостоверения. Все останется позади, начнется другая жизнь. Какая, я не представлял. Но знал: в ней уже не будет Динки, Шмыгина, Умрихина, всего того, что я приобрел и потерял в этом городе.
Через шестнадцать лет у себя в Иркутске перед вылетом меня попросили зайти в отряд. У дежурного для меня лежало письмо. Я посмотрел на обратный адрес – письмо было из Уфы. Сунув его в карман, я пошел в диспетчерскую. Уже в воздухе вспомнил и раскрыл конверт. С первых же строк понял: от Динки. Вот только ее фамилию, хоть убей, забыл. Я начал вспоминать все знакомые фамилии по алфавиту. И тут в голове словно вспыхнуло – Жилина.
Она писала, что у нее две девочки и что часто вспоминает Бугуруслан, меня. Шмыгин в Якутии, уже давно распрощался с летной работой. Пьет и халтурит в каком-то оркестре, с горечью сообщала Дина.
Через некоторое время письмо имело продолжение. Мне предстояло лететь в Чокурдах. На обратном пути, уже в воздухе, сообщили: Якутск закрылся из-за непогоды. Нам предложили следовать на запасной аэродром. Я решил садиться в Тикси, заправиться топливом и лететь дальше. И главное, я вспомнил: Дина писала, что там нынче обитал Тимоха Шмыгин.
Аэропорт находился на берегу Ледовитого океана, дул боковой ветер со снегом. При заходе на посадку пришлось исполнить настоящий танец со штурвалом в руках. Из самолета я вышел мокрым и поднялся в диспетчерскую. Подписывая задание, спросил про Шмыгина.
– Только что был здесь, – сказал диспетчер. – Кого-то встречал. Вы можете позвонить, у него есть телефон.
– Давай приезжай! – заорал Тимка, когда я позвонил ему домой. – У меня как раз гости. Попьем вина, расправим крылья, хоть наше Тикси и не Кавказ.
– Вот это точно! Ваше Тикси далеко не Анапа и не Кавказ. Тут и без вина ветер с ног сшибает. Так ты усек, через час вылетаю!
– Хорошо, подожди, я сейчас подскачу!
Через час, когда я, потеряв терпение, хотел захлопнуть дверь и начать подготовку к полету, к самолету подъехала пожарная машина. Из кабины выпрыгнул постаревший и пополневший Элвис Пресли, но глаза оставались теми же плутоватыми, шмыгинскими. Мы церемонно обнялись и, подшучивая друг над другом, отошли чуть в сторону от самолета.
– С Динкой мы разошлись, – начал рассказывать Тимка. – От меня у нее девка. Поди, уже вовсю за парнями ухлестывает. А Динка, она, как и многие в ее возрасте, принца искала. К сожалению, я до той планки не дотянул. И чтоб тепло было, а здесь, в Якутии, сам видишь, какие условия. Я – в рейсах, она – с оледеневшими пеленками. Начала скулить: домой хочу. Я ей: пожалуйста, езжай. Уехала, а без нее скукота, только этим можно спастись, – он выразительно постучал себя по горлу. – Это только в песне глупо Чукотку менять на Крещатик. В жизни все по-иному. Полгода полярная ночь. Кислорода не хватает. Как только появляется возможность, люди улетают на материк. Подергалась туда-сюда, а потом другого нашла. Может, она и правильно сделала. Как это у поэта? За то, что разлюбил, я не прошу прощенья. Прости меня, старик, за то, что я ее отбил тогда. Всем сделал хуже: тебе, ей, себе. Но кто из нас об этом думает? Тебя она вспоминала. Особенно поначалу.
Я понял: Шмыгин хотел оправдаться передо мной, а скорее перед собой. И мне почему-то, как и тогда в училище, стало жаль его. Но еще больше – Динку. Но жалостью еще никто никого не вылечил. И не вернул…
– А мне здесь нравится, живу как король! – наклонившись и перекрывая шум двигателей и пурги, кричал он мне в ухо. – В аэропорту все схвачено, каждая собака знает. Ты приезжай сюда в отпуск. Поохотимся, рыбы половим!..
Ветер рвал его слова, уносил их в ночную темень, в сторону близкого Ледовитого океана. Ухватывая обрывки Тимкиных слов, я улавливал то, что хоть как-то было связано со мною, пытался понять, что произошло в той жизни, где меня уже не было. И неожиданно почувствовал в себе давно забытую ноющую боль.
– Послушай, а где сейчас наш старшина? – желая перевести разговор на что-то более приятное, спросил я.
– Как где – здесь! – быстро ответил Шмыгин. – Антон Филимонович, как и тогда в училище, мой прямой начальник. Пожарку я у него выпросил. Командует здешней малой авиацией. И меня при себе держит. Можно сказать, мы с ним, как Моцарт и Сальери. И Кобра птичья здесь, – Шмыгин знакомо, как и в училищные годы, рассмеялся. – Теперь вся тундра, даже песцы в наших краях говорят по-английски. – Он на секунду замолчал и, грустно улыбнувшись, добавил: – Когда-то самолет казался мне хрустальной сказкой. Я забрался в него, а там капкан. На мои попытки совместить приятное с полезным он сказал: гоу аут! Жизнь не обманешь. Вот такие дела. Там я тебе, брат, свои последние песни привез, – кивнув на самолет, прощаясь, сказал он. – Водила должен забросить, спроси у бортмеханика.
Пожарная машина, пробивая фарами пургу, тронулась с места и через несколько секунд скрылась в снежной круговерти. Скользящая с пригорка поземка серым полотном, точно половой тряпкой, стерла следы колес и потекла себе дальше шлифовать взлетную полосу.
Уже в воздухе, когда мы набрали заданный эшелон, бортмеханик принес шмыгинские подарки. Новыми песнями Шмыгина оказались два мешка мороженой рыбы.
Капитан летающего сарая
– Какое у тебя звание?
Честно говоря, я не ожидал, что этим вопросом прямо на пороге штурманской комнаты меня встретит мой командир Иннокентий Ватрушкин.
После окончания летного училища в новенькой серой летной форме и белой рубашке, наглаженный и начищенный я приехал на свой первый вылет.
– Лейтенант, – бодро ответил я, еще не понимая, к чему этот неуместный в данном случае вопрос.
– Вот что, лейтенант! – Ватрушкин сделал паузу, быстрым глазом оглядел мою форму и строго произнес:
– Если хочешь стать капитаном, больше на вылет не опаздывай!
Я машинально глянул на часы. До вылета в Жигалово, который значился в нашем задании, оставалась еще уйма времени, целых пятьдесят минут. Тем более что рейс был почтово-грузовым, есть-пить не просил и жаловаться на задержку с вылетом ни у кого причин не было.
– Это не твое время, – словно угадав мои мысли, строго произнес Ватрушкин. – На вылет надо являться за час, а тот, кто хочет стать капитаном, является за два.
Я промолчал. Хотя Ватрушкину еще не было и пятидесяти, но он был знаменит на всю Сибирь, на него показывали пальцем: он-де знал самого маршала Иосипа Броз Тито. Друзья-летчики сказали: мне повезло, что посадили летать с таким опытным командиром.
Ватрушкин был одним из немногих, кто пришел в авиацию еще во время войны пятнадцатилетним мальчишкой. Был мотористом, потом переучился и стал летчиком. Рассказывали, что во время войны бывал в Италии, в той самой авиационной части, которая спасла Тито, когда партизанский штаб в Югославии обложил немецкий спецназ.
Были у Ватрушкина взлеты, когда он командовал авиаотрядом в Киренске, были и падения, и тогда ему приходилось начинать свою летную жизнь как бы с нуля. Впрочем, начальство, уважая его боевое прошлое, с пониманием смотрело на его очевидные слабости, например, всем была известна его склонность к послеполетным фронтовым, как он сам выражался, ста граммам. Для острастки иногда ему все же грозили пальцем: мол, смотри, Михалыч, делаем последнее предупреждение. Но где найдешь такого летчика! Такие, как Ватрушкин, на дороге не валяются.
Ватрушкин был летчиком от Бога, и ему доверяли самые трудные задания. Он летал на аэрофотосъемки, садился там, где не только приземляться, но и ходить-то было опасно. Он знал все пригодные и непригодные площадки, доставлял туда врачей, вывозил больных и не считал свою работу особенной.
– Нам сказали – мы слетали, нам бы стопочку подали, – посмеиваясь, говорил он, вернувшись из очередного полета.
К нему в экипаж меня направили после того, когда его второй пилот Коля Мамушкин на оперативной точке прогулял с местной красавицей ночь, а утром пришел на вылет, как было написано в медицинском протоколе, с остаточными явлениями алкоголя. Наказание последовало незамедлительно, Мамушкина было предложено уволить. Чтобы спасти его, Ватрушкин предложил на полгода отправить Мамушкина на одну из открывшихся посадочных площадок на север области. Скрепя сердцем летное начальство пошло ему навстречу, Мамушкина вначале отправили в Карам, а затем перевели в Ченгилей.
Сделав мне втык, Ватрушкин тут же приказал лететь на грузовой склад и получить почту, а если подвернется, то и попутный груз.
– Чтоб через двадцать минут все было в самолете! – добавил он.
На складе нашу почту еще никто не загружал. И, судя по всему, не собирался этого делать. Грузчики принимали московский рейс.
– Людей у меня нет, – развела руками начальник грузового склада. – Если хочешь вылететь вовремя, грузи сам. Кстати, а вот и ваша сопровождающая.
Он показал на светловолосую девчушку, которая упаковывала парашютную сумку. На ней была синяя колоколом юбка, и, глядя, как она приседает, мне показалось, что она похожа на подпрыгивающий шарик.
– Так это, значит, вас мы повезем до Жигалова? – улыбаясь своим мыслям игриво сказал я, подождав, пока шарик отскочит от земли.
Девушка резко оглянулась. На меня глянули огромные в пол-лица глаза.
– Что значит «повезем»? – медленно произнесла она, оглядев меня с головы до ног, и я увидел, как язвительная улыбка тронула ее губы. – Возят груз, а я лечу сама!
Испортив мне настроение, она, шмыгнув носом, присела и продолжила впихивать в сумку бумажный пакет.
– Давайте помогу, – я взял пакет и, нагнувшись, открыл сумку пошире. И неожиданно увидел в нем собранный по всем правилам ранцевый парашют.
– Вы поосторожнее, там у меня специи, – сказала девушка.
– Что, решили этого кабана, – я кивнул на лежащий парашют, – замариновать? Откуда он у вас взялся?
– Мне его подарили, – уже спокойнее ответила девчушка. – Вот, везу с собой как учебное пособие.
– Вы, случаем, автомат Калашникова не везете? – не очень удачно пошутил я.
– Да если бы и везла, вам-то до этого какое дело!
Ответ превзошел мои ожидания, сопровождающая повела себя так, точно она, а не я будет распоряжаться, что везти в самолете. В ее голосе почувствовалась обида. И все же меня это не остановило, более того, я решил поставить пассажирку на место.
– Мне до всего есть дело, – стараясь придать своему голосу необходимую твердость, сказал я. – У вас, должно быть, и документы на все это есть?
Девушка выпрямилась, глаза стали узкими и сверкнули, как бритва. Мне даже показалось, что сейчас между нами произойдет короткое замыкание. Но она погасила взгляд и спокойным голосом произнесла:
– У меня нет ничего, что было бы запрещено брать на борт.
Я отметил, что она грамотно и почти профессионально сказала «борт», а не самолет, как, говорят все не имеющие отношения к авиации люди.
– И паспорт у вас при себе?
Я решил не сдаваться и сгородил очередную глупость, но понял это, когда она протянула мне паспорт; ну не милиционер же я, в конце концов!
– Анна Евстратовна Каппель, – почему-то вслух прочитал я. – Да, а, а… фамилия у вас.
– Что, и это не нравится? – спокойно, но с некоторым вызовом произнесла девушка, забирая паспорт. – Вообще-то я окончила советский пединститут. И вот, по милости нашей славной авиации, уже который день торчу здесь и пытаюсь добраться до места своего распределения. Если надо, то я могу показать вам все свои документы. И медицинскую справку, что годна к полетам. Кстати, груз прошел всю необходимую для таких случаев проверку. Везу школьные материалы и наглядные пособия.
– И какая конечная точка вашего путешествия?
– Северный полюс под названием Чикан. Прилечу, мне в районо точно укажут. Туда и поеду.
– Но в Чикан самолеты летают только зимой! – воскликнул я. – От Жигалова туда еще семь верст киселя хлебать. Ну, если, конечно, воспользоваться парашютом, тогда можно добраться и побыстрее.
– Что хочу, то и везу! – неожиданно резко и зло осадила меня будущая учительница и поставила парашютную сумку на поддон, где уже лежали гитара, школьный глобус, объемистый чемодан и еще какие-то узелки, коробки и сумки. Рядом с вещами «парашютистки», так я про себя окрестил учительницу, уже лежали затянутые в материю белые посылки и серые газетные мешки.
Препираться далее не имело смысла, весь этот бутор надо было поскорее отвезти на самолет. Свободная грузовая машина стояла метрах в двадцати от поддона, но переносить эту поклажу на себе – нет, только не это. Я глянул на себя со стороны, через пять минут парадная форма превратилась бы в костюм грузчика. И тут мне в голову пришла блестящая идея. Возле стены стоял погрузчик, я подошел, подергал рычаги. Погрузчик подал признаки жизни, и я, забравшись на сиденье, потихоньку подогнал его к нашему грузу, кое-как со скрипом загнал железные клыки под поддон и, приподняв, начал разворот в сторону грузовой машины. Погрузчик вел себя послушно, нацелившись на кузов, я дал многотонной махине ход. Она, урча и переваливаясь на неровностях, покатила вперед. Когда до кузова оставалось метра два, я начал давить на педаль тормоза, но погрузчик вдруг показал свой норов, он даже не сделал попытки затормозить. И через пару секунд он со всего маху врезался в кузов грузовой машины. С ужасом я увидел, что все посылки, все мешки и коробки посыпались на бетонный пол. Но и это не остановило набравшую скорость многотонную махину, погрузчик, словно разъяренный слон, боднул кузов машины, она тронулась с места и опрокинула стоявшую впереди тележку с московской почтой. Сделав свое черное дело, погрузчик посучил еще немного колесами и заглох.
И тут понабежал народ! Учительница начала спасать свои школьные принадлежности, я бросился помогать, машинально откладывая в памяти: гитара цела, глобус не поврежден, их спасла парашютная сумка, приняв весь удар на себя. От гнева работников грузового склада меня спасла новенькая форма и любовь народа к летчикам. А так бы точно запихали под погрузчик.
Через какое-то время я, к своему ужасу, услыхал, что грузовой терминал прикрыли по техническим причинам, о чем тут же мне по телефону пришлось доложить Ватрушкину.
Но он уже был в курсе произошедшего и сухо поинтересовался причиненным ущербом.
– Так, мелочи. Раздавил пару посылок, – быстро ответил я. – Но мне пообещали, что составят акт, там ничего бьющегося не было.
Говорил я машинально, но бодро, пытаясь скрыть размер произошедшей катастрофы.
– Хорошо, что только грузовой прикрыли, могли бы закрыть аэропорт. Тогда бы точно, башку нам открутили, – буркнул Ватрушкин. – Ты там меня жди, я сейчас подойду.
– Кто твой командир? – нацелившись ручкой в лист бумаги, строго спросила меня начальница ночной смены с поджатыми, накрашенными губами. Я понял, что сейчас на меня будет составлен протокол.
– Иннокентий Ватрушкин, – буркнул я.
– А-а! Командир, как его, ах да, вспомнила – сарая! – накрашенная неожиданно прыснула, но тут же сделала строгое лицо:
– Если бы не он, то спустила бы с тебя штаны и выпорола как следует. Чего стоишь, давай собирай свои посылки.
Она захлопнула блокнот и ушла к себе. В помощь она прислала грузчика, который больше смахивал на породистого прикормленного волкодава.
– Выходит, с Кешей летаешь, – не то спросил, не то подтвердил свой вопрос грузчик и засмеялся лающим смехом.
– С ним, – я кивнул головой.
– Повезло!
– Не понял?
– Я говорю, тебе крупно повезло.
И все равно я не понял, с чем повезло – с командиром или с тем, что я мало раздавил посылок.
Грузчик присел на поддон, достал сигарету.
– Ты не переживай. Кто из нас в детстве мимо горшка не ходил.
Я бросил взгляд на учительницу, слова грузчика выходили за пределы педагогической этики, но вполне укладывались в те рамки, которые используют мужики, обсуждая свои сугубо деловые проблемы. Грузчик почему-то посчитал, что моя случайная напарница заслужила доверительного мужского общения. Но меня покоробило, что посторонний человек приравнял мой возраст к младенчеству, не хватало еще, чтоб мне протянули соску.
– Ты не бери в голову! – грузчик неожиданно рассмеялся, кивнув на разбросанные вещи, которые собирала будущая учительница. – Это мелочи. А вот года три назад произошло такое! – грузчик вновь зашелся лающим смехом. – Три дня аэропорт не работал. Все ассенизаторские машины города были тут.
– Что, так много наделал?
– Наделал. У них в экипаже был радист. В то время в городе дрожжей днем с огнем не сыскать было, вот он и привозил откуда-то с севера дрожжи. Какая бражка, самогон без этого продукта, да и хозяйкам в стряпне без него не обойтись. Кому-то это шибко не понравилось, сообщили куда надо, и к прилету самолета милиция в аэропорт пожаловала. Но Кешины друзья успели предупредить: так, мол, и так – встречают.
Они сели и порулили к вокзалу. Но по пути чуть в сторонку свернули, туда, где общественный сортир на восемь дыр стоял. Его еще до войны соорудили и считай, что с того времени не чистили. Кеша притормозил, прикрытый самолетом радист выскочил и выбросил дрожжи в этот самый сортир.
Я увидел, как учительница усмехнулась, затем сделала попытку поднять свой чемодан. Грузчик выказал неожиданную прыть, оборвав на полуслове свой рассказ, он перехватил у нее ручку чемодана и хотел одним махом забросить его в кузов. И неожиданно опустил чемодан на землю.
– Что там? – глухо спросил он.
– Книги, – виноватым голосом сообщила «парашютистка». – Я учительница.
– Слава богу, что не пианистка! Такие тяжести будете носить, перестанете рожать, – набрав в себя воздух, сказал грузчик и, как штангист перед снарядом, выдохнув, поднял чемодан в кузов. – Так вот, милиция обыскала самолет, – продолжал он с той же улыбкой, – но ничего не нашла. А тут, как назло, – жара, каждый день за тридцать, ну все и поплыло! Что было! Начальство стометровую санитарную зону вокруг аэропорта ввело. Потом бульдозерами яму сровняли и возвели нормальный толчок.
– Выходит, не было бы счастья?
У меня на языке вертелся вопрос, почему начальница смены грузового склада назвала Ватрушкина командиром сарая, но не решился, не та обстановка, чтобы заводить разговор на эту тему.
– А у нас все через задницу доходит, – философски подытожил грузчик и, присев на поддон, достал пачку папирос. Было видно – ликвидировать почтовый завал он не торопился.
Поблескивая своей кожаной курткой, подошел Ватрушкин, и мне показалось, что с его приходом в сумрачный темный склад заглянуло солнце, тут же откуда-то понабежали женщины, окружили моего командира, защебетали. Иннокентий Михайлович, как и подобает знатному жениху, начал их обнимать, впрочем, вскоре я убедился, что он ни на секунду не забывал целей своего визита на склад.
– Мои любимые и дорогие! – рассыпая синь своих глаз, с улыбкой говорил Ватрушкин. – Грех свой признаем, и за непредвиденную работу обязуемся привезти вам рыбки. И всего, что вы пожелаете.
– Мы многое чего можем пожелать! – смеялись женщины.
– Не сомневайтесь – исполним. Чего недоделаю сам, то попрошу вот этого лейтенанта.
– Да он еще, поди, нецелованный!
– Вот вы ему провозку и дадите.
Меня подставляли самым наглым образом, я краснел и потел, но приходилось терпеть – сам виноват, какие тут могут быть обиды. Краем глаза я видел, что учительница, посмеиваясь, с сочувствием смотрит в мою сторону.
Появление Ватрушкина сделало свое дело, через несколько минут уже не только мой ленивый, но разговорчивый волкодав, но и вся смена собирала посылки и газетные пачки.
Произошло чудо: завал исчез, и мы, почти по расписанию, взлетели и, набирая высоту, отвернув подрагивающий мотор от города, взяли курс на север. Через минуту, открутив голову Веселой горе, винт нашего самолета начал сжевывать Кудинскую долину, на которой, как и тысячу лет назад, буряты пасли скот. Минут через двадцать на капот наползла Усть-Орда.
Почему-то я вспомнил Золотую Орду и, взвесив в себе терзавшие меня мысли, подумал: то разорение, которое пришло с монголами на Русь, было конечно же несравнимым с тем, которое произошло по моей вине на грузовом складе.
«И на том утешимся», – сказал я себе и развернул свои мысли в другую сторону. А они перепрыгнули к другим, более поздним временам, я припомнил, что по тому пути, который связывал Иркутск с Леной и вдоль которого шел наш самолет, началось освоение Якутии. Да чего там Якутии, по этой дороге шло приращение России, по ней добрую сотню лет снабжалась вся Русская Америка. Позже этот путь был хорошо освоен ссыльными, которых направляли сюда на поселение. Все это я вычитал в книгах, когда начал готовиться к полетам по северным трассам.
Минуты через две после пролета Усть-Орды Ватрушкин, выкурив очередную папиросу, решил подремать.
– Если что, толкни меня, – сказал он и, подперев ладонью голову, прикрыл глаза.
Я покрепче взял штурвал и почувствовал, как неведомое досель горделивое чувство охватило меня с головы до ног: уже не в тренировочном полете, а в самом что ни на есть настоящем рейсе мне доверили вести самолет. Краем глаза, сличая карту с пролетаемой местностью, я про себя отметил, что вскоре должно показаться озеро, а за ним будут Ользоны.
Время от времени я нет-нет да и поглядывал в грузовую кабину, где, впялив лицо в боковой иллюминатор, сидела Анна Евстратовна. Поймав ее взгляд, я махнул рукой, приглашая в кабину. Она не стала кочевряжиться, встала с плоского металлического сиденья и подошла к кабинному проходу.
И тут дремавший до сей поры мой командир приоткрыл глаза. Он оглядел пассажирку, затем молча достал стопорящую рули красную металлическую струбцину, засунул ее учителке за спину и предложил сесть. Она с некоторой опаской и растерянностью выполнила его просьбу. Я, зная, что труба не лучшее средство для долгого сидения, начал крутить головой, чтобы найти что-то наподобие сиделки. И тут Ватрушкин, опередив мои мысли, достал из сумки толстый регламент и быстрым, почти неуловимым движением засунул его под попу учительницы. Я даже восхитился, как он молниеносно проделал эту операцию и как она быстро поняла, что от нее требуется, почти синхронно приподняла со струбцины свое легкое тело. Почти неуловимо она глазами поблагодарила Ватрушкина, а он чуть заметным кивком ответил и, закурив очередную папиросу, начал расспрашивать, кто она такая и зачем летит в северные края.
Позже я не раз стану свидетелем того, как совсем посторонние люди будут открывать Ватрушкину свою душу, свои незамысловатые тайны, рассказывать и доверять то, чего хранили в себе за семью печатями.
Учителка быстро разговорилась, и уже через какое-то время мы знали про нее все.
Оказалось, что отец у нее был военным летчиком, а мать учительницей и всю свою жизнь они мотались по разным гарнизонам, вплоть до того момента, когда у нее не стало отца. К нашему несказанному удивлению, она хотела стать летчицей, еще в школе записалась в парашютный кружок, участвовала в соревнованиях и совершила более ста прыжков. Мое лицо вытянулось в морковку, и нос нашего самолета пополз в сторону от выбранного курса, что вызвало быструю реакцию командира, – он шуранул ногой и установил самолет на заданный курс.
– Всю жизнь мечтала, но пилотом так и не стала, – с грустью в голосе поведала Анна Евстратовна. – Девушек в летное не берут. Пришлось поступать на исторический.
Когда пролетали Ангу, Ватрушкин, ткнув пальцем в стекло кабины, сказал, что в этом селе родился будущий патриарх всея Руси Иннокентий Вениаминов.
– Я туда летал, старики рассказывали, – добавил он для точности.
– Он был митрополитом Московским и Коломенским, – поправила его учительница. – В России в то время был синодальный период, и патриаршество было упразднено. Но вы правы, то положение, которое занимал Иннокентий, по сути, было патриаршим.
Нос самолета вновь повело в сторону, но я вовремя спохватился, таких тонкостей церковной жизни в летном училище не преподавали, там учили одному: четко и правильно держать курс. «Ну ладно, историки должны это знать, но откуда Ватрушкин знает?» – подумал я. Нет, непрост был мой командир, совсем непрост!
– А вон и Верхоленск! – через несколько минут он ткнул пальцем в стекло кабины. – Посмотрите, какая красивая церковь.
Анна Евстратовна привстала и стала внимательно рассматривать поселок.
– Моя мама здесь родилась, – сообщила она. – А я здесь никогда не была.
– Так надо было сюда попроситься, – сказал Ватрушкин.
– Но это другой район, я не знала.
– А вот скажи мне, дружок, – командир неожиданно повернулся ко мне. – Если у тебя нет компаса, как можно, глядя на церковь, определить стороны света?
От неожиданности я вспотел, надо же, учинил мне экзамен при постороннем человеке.
– Можно определить по кресту, – ответила за меня учительница. – Помимо большой перекладины на кресте есть нижняя малая. Верхний конец ее всегда указывает направление на север.
– Верно, – заметил Ватрушкин. – Если есть солнце, то сторону света можно определить по часам.
– Еще по деревьям, – наконец-то я пришел в себя.
– Весной по снегу, – добавила учительница.
От навигации командир перешел к астронавигации, похвалил казаков-землепроходцев, которые без компасов и моторов дошли до Восточного моря, так в России в старину называли Тихий океан.
Пока командир вел светскую беседу с пассажиркой, я запросил погоду Жигалова. Сводка оказалась неутешительной: к нашему прилету ожидалось усиление ветра до штормового. И самым неприятным было то, что он дул поперек посадочной полосы. Для нашего самолета предельно допустимой нормой было восемь метров в секунду. Но фактически сила его была одиннадцать, с порывами до пятнадцати метров. Я тут же сказал об этом Ватрушкину.
Нужно было принимать решение – следовать в Жигалово или уходить на запасной аэродром. Запасным у нас была Усть-Орда, которую мы пролетели час назад. Был еще Качуг, но он еще с утра был закрыт по технической причине, там ремонтировали полосу. Был еще вариант лететь до Осетрова, но туда могло не хватить бензина.
– Следуем к вам, – сообщил Ватрушкин свое решение жигаловскому диспетчеру. – К прилету прошу сделать контрольный замер ветра.
И Ватрушкин, и диспетчер понимали, что вся связь пишется на магнитофон, и, зная это обстоятельство, они оба делали поправку на это неприятное техническое новшество, которое в случае чего могло стать непоправимой уликой.
Через несколько минут Жигалово вновь вызвало нас на связь. Голос у диспетчера стал другим, более жестким и встревоженным:
– Ветер усиливается, ваше решение?
– О-о-о! Сам Ваня Брюханов поднялся на вышку, – протянул Ватрушкин и достал свежую папиросу.
– Следую к вам, сделайте еще раз контрольный замер, – доложил он. – И еще свяжитесь со столовой. Пусть к нашему прилету приготовят свежих пельменей.
– Уже сделали, семнадцать метров!
– Хорошо. К вам на точку выйду через десять минут, – прикурив папиросу, сказал Ватрушкин. Повернувшись к Анне Евстратовне, он попросил ее спуститься в пассажирскую кабину и пристегнуться покрепче ремнями.
– Это начальник аэропорта Ваня Брюханов, – объяснил мне Ватрушкин. – Он знает, что мне надо восемь, я думаю, мы договоримся.
– Но с ветром вряд ли, – заметил я. – Он-то нас не слышит.
– Пожуем, увидим.
Через десять минут мы были над Жигаловом. Было видно, что на земле действительно сильный ветер, полосатый конус на аэродроме стоял колом, макушки деревьев клонило к земле, а на улицах поднимались клубы пыли.
– Сделайте контрольный замер, – попросил Ватрушкин.
– Пятнадцать метров, – спустя некоторое время сообщил Брюханов.
– Вот видите, уже сбавил, – спокойным голосом сказал Ватрушкин. – Я сделаю кружок, а вы сходите на полосу. Судя по всему, ветер стихает.
Вместо ответа в наушниках раздалось что-то нечленораздельное.
Минут через пять, когда Ватрушкин вновь запросил погоду, Брюханов уже с сердцем в голосе выдавил:
– Ветер одиннадцать метров. Советую уходить на запасной.
– Он, видите ли, советует! Не страна, а дом советов, – прокомментировал Ватрушкин. И, выждав еще пару секунд, попросил: – Вы еще раз замерьте. А мы постараемся угадать между порывами.
В наушниках вновь произошло какое-то клокотание, через секунду все стихло и все же через пару минут выдохнуло:
– Ветер восемь метров, – Брюханов на секунду умолк, чтобы тут же добавить: – Но очень си-и-льный!
Ватрушкин показал мне большой палец и быстро начал снижение. Бороться с боковым ветром он не стал, а посадил взбрыкивающий от ветра самолет поперек полосы. Пробега как такового не было – едва коснувшись земли, самолет встал как вкопанный. Но это ощущение было секундным, мне показалось, что ветер опрокинет нас на крыло. Самолет начало корежить и наклонять, было такое ощущение, что уже без помощи мотора он может самостоятельно подняться в воздух или, чего доброго, его как щепку унесет в овраг. Но Брюханов быстро организовал всех мужиков, кто был на аэродроме, и они, повиснув на крыльях, помогли нам доползти до стоянки. Самолет тут же пришвартовали, зачехлили. И тут наконец-то я разглядел Брюханова. Был он крепок и высок ростом, на лице выделялся крупный нос. Он подошел к крылу, погрозил кулаком Ватрушкину, но уже через минуту они, два крепких, но уже поседевших хлопца, обнимались прямо у дверей самолета.
Освободившись от своих прямых пилотских обязанностей, я схватил чемодан Анны Евстратовны, в другую руку, для равновесия, взял парашютную сумку и тут же, вспомнив грузчика, чертыхнулся про себя и поволок увесистую поклажу к самолетной двери. Ватрушкин, глянув на мой новенький летный костюм, улыбнулся.
– Ты уж извини, но погрузчиков сюда еще не завезли, – перекрывая ветер, сказал он. – И грузчиков здесь еще долго не будет.
Вот так, аккуратно, но со значением, Ватрушкин припомнил мне грузовой склад. Я молча проглотил пилюлю.
Много позже до меня дошло: он хотел предупредить, что за всеми пассажирами багаж не наносишься и разгружать и загружать почту, груз в маленьких аэропортах придется самому и что моя новенькая, точно для кино, форма вскоре покроется пятнами и мне придется то и дело отмывать и очищать ее бензином. А пассажиры и пассажирки будут помнить меня только до той минуты, как я поставлю на землю чемоданы и они, подхватив их, тут же забудут, с кем летели, кто нес поклажу, побегут себе по своим делам дальше.
Мои размышления и впечатления прервал налетевший ветер, он сорвал с головы новенькую летную фуражку и покатил по траве. Я едва успел догнать ее, и тут с аэродромной вышки все тот же порывистый ветер чуть ли не в насмешку мне донес модную в то время югославскую песню из кинофильма «Любовь и мода», которая была больше известна как «Маленькая девочка»
- Всю жизнь мечтала, пилотом стала.
- И вот лечу я,
- И не страшно ничуть.
Мне пришлось еще раз возвратиться к самолету и, преодолевая порывистый ветер, перетаскать вещи Анны Евстратовны к деревянному зданию жигаловского аэровокзала. Анна Евстратовна решила сходить в районо, чтобы сообщить, что она прибыла и готова ехать, куда ей укажут. А нам оставалось готовиться к ночевке, погода испортилась окончательно, и лететь куда-то или возвращаться на базу нам запретили.
– Вот что, не в службу, а в дружбу, – когда мы уже разместились в пилотской гостинице, сказал мне Ватрушкин, – сбегай до магазина. Это тот, что в судоверфи. Командир протянул мне двадцать пять рублей. – Надо обмыть твой первый полет. Возьми коньяк. – На какое-то мгновение командир призадумался. – Две бутылки мало, три много. – Ватрушкин махнул рукой. – Вот что, бери пять. Не хватит, так останется. И сними свой парадный костюм. Лучше надень мою куртку. Увидят тебя жигаловские, подумают, что это Муслим Магомаев к ним прилетел.
Сравнение со знаменитым певцом мне польстило. Магомаев был тогда у всех на устах. И то, что командир предложил взять его куртку, своей предусмотрительностью сразило меня окончательно. Действительно, могут не понять: летчик, да еще молоденький, затаривается спиртным. А в куртке – другое дело: и покупателям, если такие будут, понятно, что берет коньяк бывалый летун.
– Да я вообще-то не пью, – заметил я.
– Что так? Больной? Или подлюка? – Ватрушкин как-то по-новому оглядел меня: – Пить не будешь, капитаном не станешь. Но насильно заставлять не буду. Как говорится: вольному воля.
– Спасенному – рай, – в тон поддакнул я. – А еще мой отец говорил: бешеному – поле, ходячему – путь.
– Лежачему – кнут, а бестолковому – хомут! – засмеялся Ватрушкин. – Тот, который на нас надевают.
– Считается не тот, который надевают, а тот, который мы надеваем на себя сами, – буркнул я.
– Уже и закукарекал, – удивленно протянул Ватрушкин. – Тебе бы надо на филолога, а ты в летчики! Ну что, идешь?
– А у меня есть выбор? Конечно, иду, даже не иду, а лечу.
– Вот и ладненько! Если увидишь там папиросы «Герцеговина Флор», возьми пару пачек. В городе их днем с огнем не сыщешь, а здесь бывают, должно быть, в память о тех временах, когда в этих краях в ссылке был соратник Сталина Валериан Куйбышев.
– Здесь еще бывал Радищев, – вспомнил я. – Который написал «Путешествие из Петербурга в Москву». И проездом Чернышевский.
Реакция командира оказалось мгновенной.
– «Что делать»? – прищурившись, спросил себя Ватрушкин. – Вот что прикажешь делать мне? Был у меня уже такой же филолог, фамилия у него была Тимохов. Любил играть в карты и филонить. Чем это завершилось? А тем, что сам себя сослал на Колыму. Дальше было некуда. Может статься, что и тебя могут в этот самый Чикан отправить, к Анне Евстратовне. Скоро туда откроются полеты, и там наверняка потребуется человек.
В Чикан мне совсем не хотелось. Я понял, что Ватрушкина начала раздражать моя говорливость. И не мой первый полет он хотел обмыть, а, скорее всего, снять то напряжение, которое еще с самого утра создал ему я. Вновь перед моими глазами встал почтовый завал, и, судя по словам командира, еще предстоял разбор, который не сулил мне ничего хорошего. Чего доброго, могут и сослать.
И я пошел в незнакомый мне северный поселок.
«Надо же, он даже знает, что в этих местах бывал Куйбышев, – размышлял я над последними словами Ватрушкина, – вообще-то забавный старикан. Но надо с ним ладить. Не то и вправду сошлет в Чикан. Тогда точно – не видать левого сиденья как своих ушей».
Удивительно состояние молодости. Как волна, накатило плохое настроение и тут же откатило. Через пару минут я уже с другим чувством посматривал на рубленые столетние деревянные дома, на одиноко сидящих на лавочках людей. Сколько событий прошло, и сколько разных людей проезжало мимо этих высоких гор, обступивших Лену. Жигаловские дома спокойно смотрели на очередного залетевшего в их края летуна.
- Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
- Нипочем ей страх,
- И идут по той дороге люди,
- Люди в кандалах…
Тихо про себя я стал напевать песню на стихи Есенина.
На улице все же было пустовато и ветрено. Но натянутая почти на самые уши летная фуражка крепко сидела на голове, а на ногах были не кандалы, а уже посеревшие от пыли тупоносые башмаки. И все же мне было приятно идти по улице в летной форме, ощущать на себе не какую-нибудь, а настоящую кожаную командирскую куртку. Появись я в ней на Барабе, уж точно было бы разговоров. Но до командирской куртки мне еще пылить и пылить. А здесь даже собаки с ленцой поглядывали на мою видавшую виды брезентовую, из-под самолетных формуляров сумку, которую Ватрушкин сунул в последний момент, чтоб скрыть цель моего похода в магазин.
Много позже, вспоминая свои первые летные дни, я приду к одному простому выводу: впечатления от второго полета никогда не станут первыми; все сольется в один рейс, с этими длинными, по нескольку дней задержками в разных аэропортах, а взлеты и посадки, которые происходили без спешки и по расписанию, станут тем же обыденным делом, например, как открытие и закрытие многочисленных дверей в нашей повседневной жизни.
В магазине, который располагался около судоверфи, была, судя по всему, обычная очередь, которая никуда не спешила. Я оглядел прилавки магазина, но ни водки, ни коньяка не увидел. Был питьевой спирт, папиросы «Казбек», «Беломорканал», «Прибой». Еще я увидел, что здесь можно купить белую нейлоновую рубашку. Они лежали нетронутой стопкой, и меня это удивило – в городе их днем с огнем не найдешь, а здесь лежат, бери – не хочу.
Позже Ватрушкин, используя ненормативную лексику, что с ним бывало крайне редко, объяснит, что деревенские быстро расчухали: в жару рубашка липнет к телу, и даже ее, как нам тогда казалось, несомненное достоинство – взял, постирал в холодной воде, встряхнул и надел – у них вызывало смех – не рубашка, а липкая резина.
– И я с ними согласен! – подытожил командир.
Еще раз подивившись увиденным, я пристроился в конец очереди.
«Не хватит, так останется», с улыбкой вспомнил я, поглядывая на безыскусные этикетки. И тут на меня из очереди знакомо глянули где-то уже виданные глаза. Анна Каппель! Так и есть – она. Вот уж кого-кого, но ее я не ожидал увидеть здесь. Она кивнула: мол, подходи и становись рядом.
Брать спирт на ее глазах было неудобно, но деваться некуда, и я с постным выражением лица сгрузил бутылки в брезент. Не объяснять же прилюдно, что выполняю ответственное задание, что у меня сегодня первый полет, кроме того, только что, почти на ее глазах, мы совершили сложную посадку, за которую командиру и мне, как его помощнику, могли запросто вырезать талоны нарушения, а их-то в пилотском было всего два, после чего можно смело ехать в деревню и пасти скот. Нет, я объяснять ничего не стал, лишь задал дежурный вопрос:
– Как ваши дела?
– Дела у прокурора, – улыбнувшись, сказала Анна Евстратовна. – В районо уже никого нет, придется ждать. Вот стою, надо что-то купить перекусить.
– Да, дела хуже прокурорских, – пробормотал я и, подумав секунду, добавил: – Вот что, давай-ка пойдем в аэропорт. Поужинаем в столовой. Здесь, кроме тушенки и рыбных консервов, брать нечего.
– Как же нечего, а это, – Анна кивнула на мою авоську.
– Командир сказал, что сегодня у него юбилейный полет. Хороший повод.
– Я уже поняла. А вот у меня настроение – хуже не придумаешь.
– А чего тут думать! – сказал я. – Все равно твои манатки в аэропорту. Будем делать погоду.
Я уже знал, в таких случаях не надо уговаривать, надо брать инициативу в свои руки. Сработало!
Когда мы вернулись в аэропорт, начался дождь. Крупные капли, шелестя, ударили по крайним, высоким листьям, затем с шумом набежали и начали долбить заборы, крыши домов, деревянные тротуары. Мы с Анной Евстратовной едва успели вбежать в пустой аэровокзал, как за нами зашумело, зашуршало, точно кто-то большой и невидимый принялся жарить на огромной сковороде свое жарево.
В столовой уже был накрыт для нас стол. На белой скатерти стояли граненые стаканы, на тарелках парили заказанные еще с воздуха пельмени. Кроме того, были красная рыба, огурцы и помидоры. И что-то еще шкворчало у поварихи на огромной сковороде.
Уже много позже я открою для себя, что подобное внимание к летчикам больше почти нигде не встречал; бывало, на сельхозработах приходилось спать без простыней на матрацах, которые сами набивали соломой, готовить себе ужин из тушенки или обходиться одним чаем. Здесь же по одному столу чувствовалось: в Жигалове к летчикам относились с должным уважением; накормят и спать уложат, и поднимут когда надо.
Я подошел к Ватрушкину и коротко доложил обстановку: мол, так и так, наша парашютистка попала в аварийную ситуацию. И ей нужна помощь.
– Зови ее сюда, – распорядился командир. – Тем более здесь есть представитель местной власти. – Ватрушкин кивнул на сидящего рядом начальника аэропорта Брюханова.
– Иван, выручай! – попросил Ватрушкин Брюханова. – Не в службу, а в дружбу. Девушке надо в Чикан. Она учительница и едет туда по распределению.
– Да, действительно добраться туда непросто, дорога размыта, – почесав затылок, сказал Брюханов. – Неделю шли дожди. Автобус не ходит. Сейчас туда можно добраться на попутном лесовозе.
– Надо что-то придумать, – сказал Ватрушкин. – Негоже бросать человека на полдороге.
– Ну разве что отправить на лесопатрульном вертолете, – подумав немного, ответил Брюханов. – Или спустить на парашюте. Но это если вертолетчики согласятся. У них Чикана в задании нет.
– Так пусть нарисуют, – засмеялся Ватрушкин.
– Вы сказали про парашют, – неожиданно сказала Анна Евстратовна. – У меня есть с собой парашют.
– Парашют?! – Брюханов озадаченно посмотрел на необычную пассажирку. – Что, уже и с парашютом начали летать? Забавно! А кто мне потом передачи в тюрьму будет носить?
– У нее действительно есть в багаже парашют, – я решил проявить свою осведомленность.
– Зачем ей в медвежьем краю парашют? – удивился Брюханов. – Все видел, и как медведь в самолет забирался, и как свиньи по воздуху летали. Кеша помнишь?
– Лучше не вспоминай, – вздохнул Ватрушкин.
– Я буду проводить военно-патриотические занятия, – сказала Анна Евстратовна.
– Все было, но чтоб прыгали медведи! – пытался перевести разговор в шутку Брюханов.
– Я не медведь, – заметила Анна Евстратовна. – Скажите прыгнуть, я прыгну!
– Представляете: учительница спускается в таежный поселок на парашюте, – рассмеялся Брюханов. – Можно писать очерк в районную газету.
– Парашют я везу, чтоб не медведей, а детей учить, – начала объяснять Анна Евстратовна. – К тому же он старенький, списанный.
– Понял, чтобы пацанва начала с кедров прыгать, – засмеялся Брюханов. – Да вы, милая, хоть представляете, куда едете?
– Думаю, что да!
– Ну если знаете, тогда прошу к столу, – после некоторой паузы перевел разговор Брюханов. – Ночевать вам, милая, все равно придется здесь, в пилотской у меня есть свободная комната. Чтоб запомнили, северяне умеют встречать и провожать гостей. А вы, собственно, уже и не гостья, а наш человек, который не забывает, что надо не только учить, но и воспитывать настоящих мужиков.
Глянув на стол, Анна исчезла, но не прошло и минуты, как она появилась с бутылкой вина.
– Мне сказали, что у вас сегодня юбилейный полет. Мне эту бутылку подарили перед вылетом. Я полагала, что открою ее коллегам по приезде на место, но раз такой случай…
– Ну, вы это зря! Мы больше привычны к этому, – Ватрушкин постучал пальцем по бутылке со спиртом.
– Надо же, запасливая, – протянул Брюханов. – И вино хорошее, «Кокур», аж из самой Массандры. Ты, Кеша, посмотри! Сколько медалей. Наверное, за каждого сбитого наповал вручали. Ты вот что, бутылочку эту спрячь. С коллегами в Чикане откроешь. Там она будет к месту, а здесь мы спирт по широте разводим. Какая у нас – шестидесятая? Значит, воды будет всего сорок. Микитишь? И вообще, я сейчас позвоню начальнику районо, пусть они тебя у нас оставят. Зачем тащиться в глухомань? Мы тебе здесь и жениха подыщем.
– Зачем искать, у меня есть! – сказала Анна.
– Что, он тоже прыгает с парашютом? – спросил я.
– Нет, у него аэрофобия. Сейчас он работает в театре и учится на режиссерском.
– Что, это он срежиссировал вашу поездку в наши края? – поинтересовался Брюханов.
– Нет, я сама. – дрогнувшим голосом начала Анна Евстратовна. – Я уже давно самостоятельный человек и делаю то, что считаю нужным.
И, неожиданно улыбнувшись, продекламировала:
- Не надо мне чужого хлеба,
- Поверьте, я должна сама
- Спустить с небес кусочек неба
- На эти серые дома.
– Хорошие стихи, – похвалил Брюханов. – Вот что, дочка, ты его перетаскивай сюда. И ему здесь место найдем. Интеллигенции у нас маловато, ты и сама это поймешь.
– Уже поняла.
– Да, здесь люди попроще, погрубее, – сказал Ватрушкин, поглядывая на Анну с какой-то непонятной для меня грустью. – Но они, если полюбят, уже никогда тебя не предадут. Вы сидите, а я пойду, покурю на свежем воздухе, – неожиданно сказал он и, поднявшись из-за стола, двинулся к выходу.
Я знал, что Ватрушкин был одинок, жена ушла от него, а вот другую не заводил, хотя, наверное, мог, у женщин он пользовался неизменным вниманием. Мой командир был худощав и крепок, настоящий мужик, про таких говорят: глянет своими небесными глазами и может взять женскую душу с одного захода.
– А знаешь, мил человек, что твой командир был когда-то и моим командиром, – повернувшись ко мне, сказал Брюханов. – И было это в славном городе Киренске. Михалыч там руководил летным отрядом. Это еще в пятидесятых было. Хотя высшего образования у него для такой высокой должности не было, но было, как говорится, хорошее среднее соображение. Ну и, конечно, война! Недаром тем, кто был на фронте, год за три шел. И вообще он человек исторический.
– Да ну, преувеличиваете! – протянул я.
– Вот тебе и да ну, – усмехнулся Брюханов. – Знать надо, с кем сидишь рядом. Так я о чем хотел рассказать? Михалыч – человек, как бы это вам сказать, который до всего пытается дойти сам. Расскажу один случай. Начала к нам в аэропорты приходить новая техника. Поначалу Михалыч не очень-то доверял ей. А тут привезли обзорный радиолокатор. Установили на горе. Ватрушкин решил в деле посмотреть и пощупать возможности новой, всевидящей, как говорили и писали, техники. Как это положено, заказал облет. Сам сел в кабину и полетел с проверкой. Взлетели, значит, и пошли по кругу. Кеша начал запрашивать у диспетчера место и положение самолета. Тот смотрит на экран локатора и дает: высота шестьсот, удаление двенадцать. Кеша через форточку посмотрит на землю и на высотомер.
– Верно!
Диспетчер по собственной инициативе подсказал, что сейчас они выполняют третий разворот.
– Верно, – подтвердил Михалыч, прикуривая очередную папиросу. Но не успокоился и решил еще раз перепроверить:
– А что я сейчас делаю?
– Курите, Иннокентий Михайлович, курите! – последовал ответ.
– Надо же! – изумленно протянул Михалыч. – До чего дошла техника, все видят, – тут Брюханов расхохотался, – даже самая последняя собака в Киренске знала: застать Ватрушкина без папиросы – все равно что увидеть Лену без воды.
– А между порывами ветра ему часто разрешаете посадку? – поинтересовался я.
– На этот случай смотри раздел руководства по летной эксплуатации, полеты в особых случаях, – нахмурившись, ответил Брюханов.
– Я смотрел, там об этом ничего не сказано.
– А ты посмотри в дополнениях, – с нажимом ответил Брюханов. – Там черным по белому написано: действуй по обстановке. В переводе на наш язык – соображай! – Брюханов поднял вверх указательный палец. Как хороший актер, он выдержал паузу.
– Расскажу еще один эпизод. Ты слушай-слушай, авось пригодится! И не лезь с дурацкими вопросами. – Было видно, что Брюханову явно не понравился мой вопрос про боковой ветер. И мне самому не понравился, посадка-то была на грани фола. Но начальник аэропорта не стал ставить меня на место: чего, мол, возьмешь с сопляка.
– В пятьдесят шестом в Киренск пришло пополнение. В их числе был и я, молодой, честолюбивый вам скажу, дальше некуда. Скорее-скорее в небо, а потом на большой лайнер. Такие у меня были мысли. Но по всем документам, прежде чем возить пассажиров, нам надо было налетать сто часов с грузом. А груза на складе нет. Сидим в доме отдыха, в карты играем, денег нет, что дальше будет – неизвестно.
Вот и начали с ближайших озер потаскивать домашних уток. Жители деревни нажаловались Ватрушкину: мол, нехорошо поступают ваши летуны.
И Михалыч неожиданно нагрянул к нам в гости. Мы сидим за столом, а на печи ведро с утятиной, а на столе графин с гамырой. Увидав высокое начальство, вскочили, вытянулись во фрунт.
– Включите радио. Нет, вы включите и послушайте! – загремел Ватрушкин. – Такая сложная международная обстановка, а вы здесь пьянствуете! Вы же все офицеры запаса. Первый выстрел – и в бой. А вы тут в запой!
– Так полетов нет, и денег тю-тю! – начали оправдываться мы. – Где же мы налетаем эти злосчастные сто часов, если на складе нет груза. Тут не только запьешь, но от безделья подохнешь!
И тут взгляд Ватрушкина наткнулся на лежащего в кровати летчика, фамилия у него была Тимохов. Тот как лежал, так и продолжает лежать, не обращая внимания на визит высокого гостя.
– Послушай, дружок, ты это чего? – повысил голос Ватрушкин. – А если бы сейчас война?
– Иннокентий Михайлович, – приоткрыв один глаз, ответил Тимохов, – если война, то я бы тогда надел каску и спал в ней.
– Ну, спи-спи, мы это учтем, когда будем составлять наряд – мрачно сказал Ватрушкин и, взяв со стола графин, понюхал, сморщился и вылил гамыру в помойное ведро.
– И вам не стыдно пить такую дрянь! – вновь загремел он. – Вы же летчики! На вас люди равняются.
Мы стояли, как остолбенелые, надо же так упасть в глазах командира.
– Так по Сеньке и шапка, – философски заметил Тимохов. – Употребляем то, что доступно. Мы же с маршалом Тито дружбу не водили.
И тут с Ватрушкиным что-то произошло, он прибрал живот, достал из кармана четвертную и уже другим, распорядительным голосом обратился к Тимохову:
– За то, что вспомнил про Тито – спасибо! Хватит, дружок, койку давить, слетай в магазин и купи коньяку. – Тут Михалыч сделал паузу и произнес: – Одну мало, две много…
– Возьми три. Не хватит, так останется! – воскликнул я.
– Молодец, выучил, – похвалил меня Брюханов. – Оглядел, значит, нас Михалыч и уже другим, командирским голосом рявкнул:
– Слушайте мой приказ! Еще раз местные пожалуются, отберу пилотские и пешком отправлю в Иркутск. А с завтрашнего дня будете возить свиней. Думаю, справитесь. Свиньи не люди, о них в воздушном кодексе ничего не сказано. Зарегистрируем, как груз. Вот вам и работа, вот вам и грузовые полеты.
И начали мы развозить свиней по колхозам и леспромхозам. Возили их в Сурово, Коношаново, Знаменку. И Иннокентий Михайлович сам сел возить свиней. И подложили эти самые свиньи свинью Михалычу, – вздохнув, подытожил Брюханов. – Этот филолог, Тимохов, поленился как следует связать свиней перед взлетом. А они в воздухе взбесились, порвали веревки и начали носиться по самолету. А в каждом хряке пудов по десять было. Самолет то на дыбы, то в пике. Хорошо, Кеша, приказал своему горе-помощнику открыть дверь. Ну, боровки, естественно, без парашютов, – тут Брюханов скосил глаза на Анну Евстратовну, – как из стайки, сиганули в бездну.
– Это же библейский сюжет! – воскликнула Анна Евстратовна. – Как только бесы вселились в стадо, свиньи взбесились, завизжали и бросились с высоты в воду.
– Ты, дочка, права, визг стоял на всю округу, – подтвердил Брюханов. – Потом начались разборки, стали проверять, кто разрешил возить и почему. На одной из таких партийных разборок кто-то возьми и заяви:
– Ну и что, что фронтовик! У него не самолет, а сарай, из которого свиньи прыгают, куда хотят.
– И имя вам – легион, – ответил Михалыч партийцу.
А у того глаза из орбит, начал стращать, что сделает все, чтобы лишить Михалыча пилотского. Михалыч не стерпел, взял и врезал «другану» в лоб. Его судили, дали условный срок.
– Жалко, – неожиданно всхлипнула Анна Евстратовна.
– У них выхода не было.
– У свиней?
– Да я не о том! Жалко Иннокентия Михайловича.
– Я же говорил, он мужик с характером. Таким всегда тяжело.
– А вы еще хотели про медведя рассказать. Который в самолет залез, – неожиданно вспомнила учительница.
– Там все очень просто, – махнул рукой Брюханов. – Охотники убили медведицу. А у нее осталось двое медвежат. Одного они предложили нам: мол, отвезите в зверинец. А мы тогда работали на аэрофотосъемке. Поселили медвежонка у себя. Особенно мишка любил сгущенку. Мы улетим, он ждет нас в пилотской. Но, как только заслышит звук мотора, бежит встречать самолет. Михалыч ему из своих запасов обязательно баночку сгущенки давал. А потом мы улетели в город, и медвежонок ушел в тайгу. Года через два мы прилетели и остались на ночевку. Утром прибегает техник, глаза по плошке. Кричит: медведь забрался в кабину самолета. Ну, мы с ружьями на стоянку. Точно – медведь! Выпрыгнул из кабины и к Михалычу. Тот самый, но повзрослевший. Пришел по старой памяти за сгущенкой. Мы его хотели взять в полет и опустить в тайгу на парашюте. Шучу! У мишки бы разрыв сердца мог случиться. Но скажу честно, летчики не слишком жалуют тряпку. Ну, извини – парашют. А уж тем более медведи. С ними мы летали, только когда бросали парашютистов, в других случаях – никогда. У нас говорили: лучше нырять с парашютом, чем прыгать с аквалангом. Сколько лет уже прошло, но я с содроганием помню свой первый прыжок.
Прыгали мы на По-2. Был такой самолет. Левая рука пилота вверх. Приготовиться! Сердце, что колокол на пожаре! Переносишь ногу через борт, спускаешься на крыло и по команде «Пошел!» – под углом сорок пять градусов отталкиваешься и летишь в бездну. Эти несколько секунд остаются с тобой навсегда. А тут проделать это сто раз! Умереть, да и только! Позвольте поцеловать вашу руку.
Но Анна Евстратовна не позволила, она смущенно захлопала глазами и беспомощно оглянулась на меня. Я решил прийти ей на помощь.
– Сегодняшняя посадка мне тоже запомнится надолго, – громко сказал я.
– Сильно болтало, – подтвердила Анна.
– А вот мы здесь болтаем уже больше часа, – глянув на часы, заторопился Брюханов.
– И все же расскажите, – попросила Анна Евстратовна.
– Хорошо, расскажу. – Брюханов хитровато улыбнулся. – Было это в том же Киренске. Однажды захожу на посадку, а на полосе туман. Видимость ноль. – Брюханов сделал паузу. – Первый раз я промахнулся. Захожу второй раз. А у меня перед глазами горят красные лампочки критического остатка топлива. Я напряг всю свою волю, все умение и посадил самолет. Иннокентий Михайлович прибежал к самолету, решил поблагодарить меня за успешную и героическую посадку. Протягивает мне для рукопожатия руку, – Брюханов поднял над столом свою руку-лопату, – а я ее из-за тумана не вижу.
Анна оценила очередную байку Брюханова, долго смеялась.
– Вот на этой ноте закончим. Завтра рано вставать. Ты не огорчайся, отправим тебя, – сказал он Анне Евстратовне. – А к осени, думаю, откроем рейсы в Сурово, Коношаново, Чикан и Чингилей.
Утром в пилотской раздался стук. Приехал директор зверосовхоза – крепкий молодой парень с широким восточным лицом. «Скорее всего, из эвенков или якутов», – подумал я. На нем, вопреки утверждениям Ватрушкина о нелюбви местных к новомодным новинкам, была белая нейлоновая рубашка и черный костюм. «Должно быть, чтобы все видели – начальник!» – усмехнулся я и даже подумал, что он выглядел как жених, который приехал за невестой, чтобы отвести ее в загс.
– Ну, кого здесь надо забрать? – громко спросил он, увидев Брюханова. – А то мне позвонили из районо, сказали, Петр Митрич, встреть учительницу.
– Запоздал маленько, мы решили ее оставить у себя, – пошутил Ватрушкин.
– Раз вам она так понравилась, значит, и нам подойдет, – легко и просто в тон Ватрушкину рассмеялся директор. – У вас стюардесс, должно быть, хватает.
– Такой нет, – сказал Ватрушкин.
– Не все вам, но и нам что-то достанется.
Переговорив еще о чем-то с Ватрушкиным, Петр Митриевич погрузил в машину вещи Анны Евстратовны, и она, помахав нам рукой, села в кабину.
– Если что, ты обращайся, – сказал ей Брюханов. – Меня в Жигалове все знают. Даже собаки. Надо будет в город, всегда отправим.
– А ты взял у нее адрес? – поинтересовался у меня Ватрушкин, когда машина отъехала от аэропорта.
– А то как же! Северный полюс. Деревня Чикан, – отшутился я.
Запоздало, но все же я успел уловить в его голосе неизвестные мне ранее нотки, что дало повод предположить: моему командиру Анна Евстратовна пришлась по душе. Но чем?
Позже через кабину нашего самолета пройдут сотни людей. Войдут, посидят пару часов и выйдут. А вот Анна Евстратовна запомнилась. И дело даже не в первом моем полете.
Постепенно я начал привыкать к своей работе: чтобы экономить время, приходилось самому разгружать и загружать самолет, отчитываться за почту и посылки, питаться неизвестно где и чем придется, все на ходу, все на лету. И большой пилотской зарплаты, как это считали мои знакомые, тоже не было, хорошо, что выдали добротную летную спецодежду, она выручала во многих случаях, не надо было тратиться на нейлоновые рубашки и костюмы.
Но такие мелочи и неудобства совсем не огорчали, главное, я – летчик! На мое место хотели бы попасть многие, но именно я вытянул счастливый билет.
Особенно мне нравились полеты ранним утром, когда земля еще спала и самолет шел без единого толчка, как по хорошо укатанному асфальту, нравилось, что, пребывая в хорошем расположении духа, командир продолжал читать мне лекции.
– Всю работу в полете выполняет мотор, – уже набрав высоту и прикуривая очередную папиросу, не спеша начинал Ватрушкин.
«Очень тонкое замечание», – думал я про себя. Но уже не высовывался, а спокойно продолжал крутить штурвал.
– Не ты крутишь коленвал, а это он, трудяга, вращает винт, тянет нас вперед, – продолжал Ватрушкин свою мысль. – А те твои движения и навыки в пилотировании – поднять самолет от земли, отвернуть, удержать на курсе, где убавить, а где прибавить мощность мотору, – всему этому тебя научили еще в училище. Здесь перед тобой другая задача: безопасно долететь, посадить, выгрузить и загрузить самолет. Существует еще одна работа, невидимая и неслышная, – Ватрушкин стучал пальцем по лбу, – она происходит вот здесь, когда ты свой предстоящий полет должен увидеть, продумать, выстроить и предусмотреть все кочки, все овраги, всю дорогу, то есть учесть погоду, ветер, облачность, размеры площадок, на которые придется садиться, знать необходимое радиообеспечение, которым оснащена трасса. И даже знать, где будешь обедать и ужинать. Научишься брать с собой термос, бутерброды – на голодный желудок много не налетаешь. Да и гастрит заработаешь. Хорошо, когда пассажирский рейс – они вошли и вышли, а если рейс почтовый или грузовой и светлого времени в обрез, то ты уже не только летчик, но и грузчик, и кладовщик одновременно. – Тут я согласно кивал головой, приходилось иногда за минуты перебросить тонну груза.
– Кроме того, второй пилот несет ответственность за сохранность груза, и именно тебя начнут таскать, если что потеряется, – сквозь шум мотора долетал до меня голос командира. Почему-то мне казалось, что этими словами он напоминает мне про случай на складе, когда я опрокинул телегу с почтой. Но тогда Ватрушкин сделал все, чтобы меня не наказали, и я на собственном опыта уяснил, что инициатива – наказуема.
– Это еще не все: на оперативных точках порой приходится самому заправлять самолет, а тут надо держать ухо востро, что за бензин в бочках, нет ли в нем воды и грязи, – продолжал наставлять меня Ватрушкин. – И если остаешься на ночевку, то приходится быть и охранником. Вот такая наша работа. Но кто это знает? Тебя встречают и провожают по одежке и ценят за то, что ты – летчик, король неба. Свою работу надо делать с твердостью и надежностью – без крика и суеты. Принял командирское решение взлетать – взлетай! Запомни: суетливый летчик вызывает раздражение, а бегущий – панику. Микитишь?
Я кивал головой – микичу! Ватрушкин говорил обыденные вещи, и мне казалось, что делает он все это, чтобы заполнить паузу между взлетом и посадкой.
– Вон видишь поляну, там можно сесть в случае отказа двигателя, – говорил он, ткнув пальцем в стекло, – на эту площадку лучше садиться в горку, а то, не дай бог, откажут тормоза, тогда точно будешь в овраге. Без нужды не лазь в облака, в них и летом можешь поймать лед на крылья.
А при заходе на посадку Ватрушкин учил меня правильно строить расчет на посадку в случае отказа двигателя, бывало, показывал полет на минимальной скорости с выпущенными предкрылками, когда нас внизу, на дороге, точно стоячих обгоняли машины. Еще были советы, как определить на земле ветер, когда сам подбираешь для посадки площадку. Иногда для интереса он показывал посадку, после которой самолет почти без пробега останавливался, как вкопанный. С юморком Ватрушкин рассказывал, как еще на По-2 садился на баржу, когда надо было, спасая людей, срочно доставить на посудину врача. Мне нравилось, как Ватрушкин закуривает в кабине, втыкает коробок между тумблерами и, откинувшись, смотрит куда-то в одну известную ему точку. Запах папирос внушал мне неведомое доселе спокойствие и уют, если такое вообще возможно в маленькой и тесной кабине.
Я долго не мог привыкнуть, что буквально через час после вылета из Иркутска, с его шумом и суетой, попадаешь в совершенно иную, тихую и размеренную, жизнь далекого таежного поселка. У меня было такое ощущение, что самолет – как машина времени, откручивает дни и года в ту или иную сторону, бывало, сядешь, например в Караме, а там все, как сто, и двести лет назад; тут же, неподалеку от посадочной площадки, пасутся коровы, едва откроешь дверь самолета, как в кабину врывался запах свежескошенной травы, и тебя начинали атаковать оводы. Обычно первыми самолет встречали местные лайки, а неподалеку уже толпились встречающие и провожающие. Они с интересом смотрели на тех, кто прилетел, что привез, чтобы через несколько минут эта новость обсуждалась по всему поселку. Северяне привыкли жить оседло, и любая поездка, новый человек вызывали у них живейший интерес.
На этих маленьких таежных аэродромах к летчикам было свое, особое отношение. А старых пилотяг, как иногда они сами подшучивали, летающих сараев, знали наперечет. Про Ватрушкина и говорить было нечего, там он уже давно был своим человеком. Но и для меня, вчерашнего курсанта, нашлась своя ниша. Поскольку дело с посылками и иными передачами приходилось иметь мне, то и обратная связь осуществлялась через меня. Бывало, передашь из города посылку, тебе суют полмешка рыбы или кусок сохатины. Ты начинаешь шарить по карманам, чтобы рассчитаться, а тебе говорят: да чего ты суетишься, у нас этого добра полно, нам будет приятно, если ты возьмешь и угостишь кого-то.
В одном из полетов я наконец-то познакомился с Колей Мамушкиным, проступок которого позволил мне занять то место, которое до того было отведено ему. Мы прилетели по санзаданию в Чингилей и, поскольку врач уехал к больному, остались ждать, пока он проведет консультацию и поставит диагноз.
Отбывающий на площадке ссылку бывший второй пилот Ватрушкина Коля Мамушкин, невысокого роста, с уже наметившимся животиком паренек, поздоровался с Ватрушкиным, затем подошел ко мне.
– Давай знакомиться, – сказал он, протягивая руку. – Мы с тобой вроде бы как из одного экипажа. – Мамушкин кивнул в строну Ватрушкина.
Подъехал «газик», и на нем вместе с врачом Ватрушкин уехал в деревню. Мамушкин сказал, чтобы я запер самолет, затем подозвал кого-то из местных ребят и распорядился, чтобы они охраняли самолет. Он повел меня к ближайшему ручью, где, по его выражению, смородина висела ведрами. И это было правдой, я быстро наполнил ягодой летную фуражку. Но это было еще не все, пытаясь загладить свою вину перед Ватрушкиным, Коля приготовил нам по куску сохатины. По его словам, он задружился здесь с директором зверосовхоза, и тот в свободное время берет его с собой на охоту. И совсем недавно они добыли сохатого. Поскольку холодильника у него не было, Коля решил угостить мясом нас. Когда я попробовал приподнять мешок с подношением, то едва оторвал его от земли.
Уже в обратном полете в город я отсыпал собранные ягоды врачу, и тот сказал, что такой вкусной и запашистой ягоды он не пробовал никогда в своей жизни.
Надо отметить, что натуральный обмен между летчиками и местными жителями был поставлен на широкую ногу; осенью из северных деревень и поселков везли ягоду и орехи, а из города летчики везли охотничьи припасы, сети, запчасти для лодок и катеров. Бывало, что заказывали лекарства, но, по рассказам Ватрушкина, деревенские болели меньше, чем городские.
– Да им и некогда, смотри, сколько у них работы! – подчеркивал он.
Но и в этот, я бы сказал, обособленный мир проникала обратная сторона цивилизации. На рыбе сильно не разживешься, а вот на пушнине – вполне. Собирая смородину, я попросил Колю Мамушкина достать мне ондатровые шкурки на шапку, и тот, нахмурившись, поведал, что сделать это будет непросто, поскольку начальник местных воздушных линий Ефим Жабин обложил площадки и малые таежные аэродромы своеобразным ясаком. Вот и приходится ему, чтобы сократить срок наказания и получить положительную характеристику, прискакивать перед ним, выменивать у охотников за спирт пушнину и передавать ее Ефиму.
«Вот это да! – подумал я. – Все, как и сотню лет назад. Есть хозяин, есть и приказчик. Только все в ином виде».
– Ты возьми выходные и прилетай ко мне, – сказал Мамушкин. – Есть у меня человек, через него, думаю, твою просьбу и порешаем. Заодно поохотимся и ягод пособираем. Будет тебе на шапку и чем друзей угостить. Билет брать не надо, свои же привезут и отвезут.
Я так и сделал, взял выходные и прилетел в Чингилей. Свою вынужденную ссылку Мамушкин коротал в стареньком, еще, наверное, оставшемся со времен Радищева домике. Видимо, зверосовхоз не рассчитывал на длительное пребывание в этих краях авиации, насмотрелись на разных перелетных птиц и решили: работа начальника площадки сезонная, чего тратиться, пусть сам обустраивает свое житье-бытье. И Коля решил не напрягаться, сегодня здесь, завтра в другом месте. Всю обстановку в доме, где обитал Мамушкин, можно было пересчитать по пальцам: стол, кровать, пара табуреток, умывальник, помойное ведро. На вбитых в стену гвоздях висели куртка, дождевик, в углу ружье и рыболовные снасти.
Только теперь я догадался, какой участи я избежал. Вся работа Мамушкина заключалась в том, чтобы вовремя перед посадкой самолета разогнать с посадочной полосы коров и в амбарной книге зафиксировать время посадки, номер борта и фамилию командира.
– С такими обязанностями справился бы не только Радищев, но и отбывавший в этих местах Троцкий, – пошутил Коля, заваривая чай. – Тот хоть газеты читал, а у меня и времени на это нет. Но здесь, в школьной библиотеке, попался мне большой энциклопедический словарь. Нашел в нем троих Бабушкиных. Один – ученый, другой – революционер, третий – полярный летчик. И ни одного Мамушкина!
– В следующем издании ты будешь первым, – пошутил я.
– Ты намекаешь, что эту посадочную площадку моим именем назовут, – улыбнулся Мамушкин. – Скажут: первым, кто отбывал здесь ссылку, был Коля Мамушкин. Что я здесь открыл? Большого ума не надо, чтобы понять, самолет как раз для таких медвежьих углов. Падая с неба на эти площадки, мы на минуту прикасались к земле и поднимались обратно. Для деревенских же мы, вернее вы, – Коля кивнул в мою сторону, – были и остаетесь небожителями. Они считают, что для летчиков открыты иные дали. Летчики могут войти сюда и тут же выйти, выпорхнуть на волю, а вот таким, как я, приходится перемалывать один на один и зимнюю скуку, и дожди, и жару, которая в иные дни бывает, как в Сахаре. Впрочем, то мой взгляд, мои представления об этих, забытых Богом местах.
Нарубив охотничьим ножом огурцы и открыв банку с тушенкой, Коля откуда-то из-под стола достал бутылку спирта, разлил в стаканы.
– Ну что, за твой приезд, – сказал он.
– Да я в общем-то не пью.
– Что, больной? – знакомо спросил меня Мамушкин. – Ты это брось! Пить не будешь, командиром не станешь. А я себе не отказываю. Можно сказать – спасаюсь. Тут от скуки подохнуть можно. Если бы не тайга и рыбалка, ушел бы в партизаны. А вон и мой друган. – Коля выпил спирт и пошел к двери на шум подъезжающего мотоцикла. Я вышел следом и увидел знакомого мне эвенка, который приезжал в Жигалово за Анной Евстратовной.
– О-о-о! Знакомые лица. Митрич, – сказал он, протягивая мне руку. Еще раз оглядев меня с головы до ног, он вернулся к мотоциклу и, порывшись, достал резиновые сапоги.
– Возьми. В такой обудке, как твоя, можно только по городским асфальтам ходить. А здесь тайга. Возьми и переобуйся. – Он снова вернулся к мотоциклу и принес мне толстые вязаные шерстяные носки.
– Надень, не то ноги собьёшь. И вместо полетов попадешь к доктору.
Попив чаю, мы кое-как уселись в его трехколесный мотоцикл «Урал» и по дороге, которую и дорогой было назвать сложно – пробитая и раздолбанная лесовозами, она напоминала залитые стоячей водой бесконечные грязные канавы, – разрывая ревом мотора деревенскую тишину, то и дело подпрыгивая на ухабах, мы потелепались за околицу.
Через час Митрич привез нас на старую гарь. То, что здесь когда-то бушевал пожар, выдавали все еще торчащие во все стороны с давними следами огня обугленные сухостоины и многочисленные уже заросшие мхом валежины.
– Вот здесь и остановимся, – сказал Митрич.
Точно с лесного оленя, он ловко соскочил с мотоцикла и принялся выгружать ведра, кастрюли, котелки и начал обустраивать табор. Чтобы не выглядеть гастролирующим туристом, я начал таскать к мотоциклу сухие лежащие на земле ветки.
– Ты побереги силы, – сказал Митрич. – Я сейчас свалю вон ту сосну, и нам хватит дров на всю ночь.
Он достал из мешка бензопилу, запустил ее с одного раза и ловко подпилил стоящую неподалеку сухостоину. Когда она, ухнув, упала на землю, он тут же, за несколько минут, распластал ее на мелкие чурки. Пока Митрич налаживал костер, мы с Мамушкиным пошли смотреть ягоду. Ее оказалось столько, что я, оглядев ближние полянки, остановился как вкопанный. Покрытые мхом кочки была черны от брусники. Тут же рядом была и черника.
– Я тебе говорил, ведрами стоит! – похвастался Мамушкин, доставая металлический, сработанный местным умельцем совок для сбора ягод.
– Комбайн, – я решил не отставать и продемонстрировал привычное для деревенского слуха название совка.
– Микитишь! – со знакомыми интонациями похвалил меня Мамушкин.
– Давайте, мужики, работайте, – крикнул нам Митрич. – Как у нас говорят: ешь – потей, работай – зябни, на ходу маленько спи. А мне ехать надо. Начальство должно из района пожаловать. А к вечеру я к вам вернусь, только не заблудитесь.
– Да с ориентировкой у нас в полном порядке, – засмеялся Мамушкин. – Или мы не летчики!
– Летчики, но не таежники, – улыбнулся Митрич. – Это в небе вам все знакомо, а здесь профессор я.
Митрич развел костер, вскипятил нам в котелке чай и укатил обратно в Чингилей.
К вечеру мы набили ягодой все, что мы взяли с собой, – картонные коробки, ведра и кастрюли. Когда солнце опустилось к ближайшей горе, усталый и довольный удачно складывающимся днем, я от избытка чувств устало завалился на спину в мягкий мох и стал смотреть на вечернее безоблачное небо, которое сизыми заплатками проглядывало сквозь наросшие после пожара березки. Отсюда, с земли, небо казалось далеким, немым, незначительным и, я бы сказал, крохотным. И нельзя было даже подумать, что оттуда, сверху, тайга и все, что ее населяет, все эти запахи, шорохи, перестук дятлов, посвист пролетающих птиц, шевеление листвы, существует как бы само по себе, без видимой связи с тем, что стояло над всем этим едва слышным человеческим ухом оркестром. Там же вверху, в прозрачности и необъятности, тоже шла своя невидимая взгляду жизнь, текли воздушные реки, вздымались ввысь многокилометровые вихри, зарождались и уходили за горизонт облака и менялись краски. Я знал, что были там свои горы и распадки, это хорошо ощущалось на самолете, который, бывало, без видимых причин бросало из стороны в сторону, а в иной раз разбушевавшаяся стихия готова была скинуть, как надоедливую железную птичку, в тайгу, прямо на вот эти лиственные колья.
Откуда-то из-за ближайшей горы неожиданно появился коршун, перед сном он, должно быть, делал контрольный облет своих лесных угодий, и сразу же небо приобрело свою, казалось бы, потерянную связь с окружающим земным миром, я знал, он хорошо видит нас, возможно, стережет, и, прослеживая его полет, мне стало тепло от одной мысли, что неслышно скользящий над нашими головами лесной собрат, пока мы отдыхаем, делает за нас воздушную работу.
– Завтра надо попросить Митрича заехать в Чикан купить сигарет. В Чингилее одна махорка осталась, – сказал Мамушкин.
И я неожиданно для себя припомнил, что в Чиканской школе работает знакомая учительница, Анна Евстратовна.
– Так она теперь не в Чикане, а у нас в Чингилее преподает, – сообщил Мамушкин. – Здесь такая штука приключилась. Накануне учебного года уехал в город в больницу учитель. Хотели возить ребят в Жигалово, но Анна Евстратовна попросила поехать в Чингилей. Других не нашлось, здесь все учителя приросли к своим домам. И она поехала. Теперь здесь все на ней. Скажу тебе, отличная училка! Ягодка! Школьный театр организовала, и они уже к эвенкам съездили. Боюсь только, что долго здесь не удержится, заберут в район или город. Охотников, шоферов в деревне полно, а вот такая – одна. Кстати, Митрич у нее вроде сторожа. Никого к ней на пушечный выстрел не подпускает. Все уже знают – втрескался. Но держит дистанцию. Когда Аннушка, так ее теперь все кличут, сюда приехала, то ее здесь не ждали. Мужики все в тайге, а у женщин своих хлопот полно. Стала она печь растапливать, а дрова сырые, не разгораются. И тут мимо Митрич ехал. Увидел, что учителка с сырыми чурками возится, завел трактор и приволок из леса пару сушин, распилил, наколол. С тех пор и она к нему питает особые чувства. Но дистанцию держит. У нее, говорят, городской ухажер есть.
Я слушал Мамушкина, и в душе у меня бродили какие-то непонятные, но ревнивые чувства. Конечно же, летая, я вспоминал Анну Евстратовну, как-никак она была моей первой пассажиркой. Из рассказа Мамушкина выходило, что мы из рук в руки передали ее на попечение Митричу. А уж он-то, я это уже успел оценить, умел быть заботливым и, судя по всему, надежным человеком. Вот с тем, городским, о котором она сообщила нам еще в Жигалове, я ее не мог представить, а вот к этому тунгусу Митричу – приревновал.
Митрич приехал поздно, привез рыбу, несколько крупных ленков, и мы сварили уху. Кроме ленков Митрич привез спальные мешки, и я, вспомнив, как он назвал себя лесным профессором, согласился: Митрич не только заботливый, но и предусмотрительный. По мнению Ватрушкина, это было главным качеством, которое отличает настоящего пилота от летуна. Действительно, с таким человеком не пропадешь. В разговоре у вечернего костра Митрич признался нам, что хотел стать летчиком и даже ездил поступать, но не прошел медкомиссию. И в конце сказал одну фразу, которая как вспышка уже по-новому осветила всю мою нынешнюю работу.
– Для того чтобы любить небо, не обязательно быть летчиком. И вообще, умные люди говорят: то, что сделано с любовью, и стоит долго и помнится всю жизнь.
После таких слов говорить больше не хотелось. Я забрался в спальник и, поразмышляв над словами Митрича, уснул сном хорошо поработавшего человека.
А утром, загрузив мотоцикл коробками и ведрами с ягодой, Митрич повез нас в Чингилей. Когда въехали в село, я попросил его подвезти нас к школе.
– Мне нужно повидаться со старой знакомой, – сказал я.
– С Анной Евстратовной, – догадался Митрич. – Это мы запросто. Но у нее сейчас уроки. Может, чуть попозже.
– Ничего, мы на минутку.
Митрич подъехал к деревянной, срубленной из вековых лесин школе и попросил бегающих во дворе девочек позвать Анну Евстратовну.
– Скажите, что к ней гости из города.
Девочки быстрыми глазами оглядели меня, прыснули и скрылись в школе.
Анна Евстратовна вышла в строгом сером костюме и в модных туфлях, что сразу бросилось мне в глаза, потому что ходить в них по улице после прошедших дождей было бы безумием. Увидев меня, Анна Евстратовна обрадовалась, сказала, что не ожидала, и, когда я начал мямлить, что заехал на минутку, она тут же настояла, чтобы я обязательно подождал, она сейчас закончит урок, и мы должны пообедать у нее.
Жила она здесь же, при школе, в пристрое, который, судя по свежим бревнам, был приделан совсем недавно.
– А вы зайдите, там не заперто, я сейчас подойду, – сказала она.
И мы зашли, но только с Мамушкиным. Митрич, сославшись на срочную работу, уехал по своим делам. Конечно, это было не жилье Мамушкина, у Анны Евстратовны все прибрано, чисто, крашеный пол, на столе – стопки тетрадей, на этажерке и полках – книги. И свежий пропитанный смолью и хвоей воздух.
Я еще раз осмотрел комнату, ну где же здесь можно было разложить парашют, его можно было показывать в разобранном виде только на школьном дворе или на аэродроме.
Коля нашел у Анны Евстратовны кастрюлю, наполнил ее ягодой, затем сходил в огород и подкопал картошку.
– Ну, чего расселся, давай будем чистить! – скомандовал он.
И мы начали чистить. Искоса я оглядывал комнату – так вот куда занесла ее учительская судьба! Через окно в комнату заглядывал кусочек неба, а далее был виден край деревенского поля, и, насколько хватало глаз, стояла тайга. А на столе небольшие часы отсчитывали свое и наше время. Оно неумолимо летело с такой скоростью, что даже и на самолете не угонишься.
Действительно, Анна пришла скоро, не вошла, а влетела, увидев, что мы заняты домашней работой, похвалила и, быстро переодевшись, придала нашим действиям ту осмысленность и законченность, которую может сделать только женщина.
Между делом она рассказывала, как ее здесь встретили, как быстро за пару дней соорудили вот этот пристрой.
– Побелили, покрасили, принесли новые табуретки и даже где-то разыскали барское кресло, перетянули его бараньей шкурой, а на пол под ноги бросили медвежью шкуру. Меня так и подмывало спросить про сырые чурки, но она и сама рассказала, как она боролась с вязкой, сырой древесиной, пытаясь растопить печь.
На это самое кресло она усадила меня, чтобы я чувствовал себя, как в кабине самолета. За столом, в свою очередь, я предложил ей помощь на тот случай, если потребуется что-то передать в город: отвезти, привезти посылку или ее саму в Иркутск. Она с улыбкой глянула на меня и сказала, что хотела бы передать в город работы учеников на конкурс.
– Нет проблем, передам, – бодрым голосом заверил я.
Она достала папочку и передала мне. Вместе с нею она передала пакет.
– А это вам с Иннокентием Михайловичем, – сказала она.
– Что это? – спросил я.
– Ондатровые шкурки, двенадцать штук, как раз на две шапки.
– Да ты что, я не могу и не буду брать такие подарки, – нахмурившись, сказал я.
– Ты меня обидишь, – ответила Анна. – Я была вам так благодарна!
– Бери, бери! – сказал Мамушкин. – Охотники здесь сдают их по пятьдесят копеек за штуку.
– Я их не покупала, мне принесли, сказали: сшейте себе шапку. Здесь такие холода!
– Они правы, здесь действительно холодно, – заметил я.
Мысли мои пошли зигзагами: взять, подумает, летчики все такие, берут и даже спасибо не говорят. Откажусь – обидится. Еще в детстве мама меня учила: не бери чужого. Взял – потерял. Отдал – приобрел. И тут до меня дошло. Должно быть, шкурки ей принес Митрич.
– Я не люблю меховые шапки. Мне нравятся платки, – сказала Анна.
– Нет, – твердым голосом сказал я. – Ты, пожалуйста, не обижайся. Мне Коля, – я кивнул на Мамушкина, – уже достал. – Мамушкин недоуменно глянул на меня, но я посмотрел на него долгим взглядом и он прикрыл уже раскрытый от возмущения рот.
На обратном пути к его обители Мамушкин выматерил меня, затем сказал, что к ноябрьским праздникам из тайги начнут выходить охотники и тогда он точно пришлет мне шкурки. За сданную пушнину государство платило охотникам гроши, и она уходила на сторону; в основном передавали или продавали в город; одним надо было устроить своих родственников в больницу, другим нужен был мотоцикл или лодочный мотор.
– А ты зря не взял, обидел девушку, – сказал Мамушкин. – Хочешь, я тебе соболей на шапку достану? Ты мне – пива, а я тебе – соболей. Идет?
– Я же не Чернышевский, – засмеялся я. – Это, говорят, он любил прохаживаться по Вилюйску в собольей шапке. Мне бы что-то попроще.
Была в нашей работе особая статья. О ней говорили мало, а если и говорили, то мимоходом, те дрожжи, которые вез радист Ватрушкина, не были чем-то особенным и из ряда вон выходящим событием. Многое чего приходилось возить летчикам. Так повелось, где-то чего-то много, а кому-то постоянно недостает.
Утром перед вылетом, у входа в стартовый здравпункт, нас поджидали разного рода ходоки. Одни просили привезти с Байкала рыбу, другие – орехи, ягоды, третьи – тушенку, гречку, тот же спирт и говорили, что просим не за себя и не для себя. Выяснялось, что у одного намечалась свадьба, у другого – именины или крестины, третьему надо было что-то нести в больницу. Поводов нагрузить, сделав заказ, было множество. Конечно, все то, что было в их просьбах, можно было найти на рынке, но там было дорого, а Ватрушкин, бывало, совсем не брал с них денег.
– Как пришло, так и ушло, – говорил он. – Богаче уже не стану, а бедным никогда не буду.
Чаще всего всю эту непредвиденную, левую работу он поручал мне, и я, не нарушая сложившихся традиций, брал передачи, посылки и разносил их по разным адресам. Хочешь стать командиром – терпи, говорил я самому себе. Но история с заказом Мамушкина имела продолжение. Однажды Ватрушкин, выслушав очередной, оформленный в привычные причитания, заказ, неожиданно для меня протянул ходоку десятку.
– Не в службу, а в дружбу, – с улыбкой сказал он. – Пока мы летаем, ты съезди на пивзавод и купи пива.
– Ты чо, Михалыч, охренел! – пожевав от удивления губами, буркнул тот. – Туда надо ехать на двух автобусах. Да и времени у меня нет.
– Но сюда-то приехать нашел время, – сухо заметил Ватрушкин. – Вот что, дорогой, у нас кроме ваших заказов своих дел полно. А вот он, – тут Ватрушкин показал на меня глазами, – каждый день ездит на работу на двух автобусах. Утром – сюда, а вечером – обратно, на дорогу полдня. И ничего – ездит. Бывает, и пиво возит. А еще ваши заказы развозит.
– Ну и летчики пошли, шаг лишний боитесь сделать, – надулся заказчик.
– Ты это мне или себе? – поинтересовался Ватрушкин и уже другим, непривычным для меня голосом добавил: – Вали отсюда и чтоб я тебя больше здесь не видел!
На моей памяти это был единственный случай, обычно Ватрушкин никому не отказывал, Не только брал и привозил, но и частенько на своей «Победе» развозил гостинцы и заказы по домам. А после и меня подвозил домой; из аэропорта добираться до Жилкино, где я жил в ту пору, мне действительно приходилось на двух автобусах.
Через некоторое время моя новенькая форма потеряла былой лоск, как бы притерлась к самолету, ко всему, что окружало полеты, я сам уже стал иным, и не глядел на себя со стороны. И когда входил в автобус, на меня уже не оборачивались, не смотрели как на белую ворону. В конечном счете все стало на свое место и мое каждодневное приземление в другие миры, в иную жизнь, уже не казались чем-то особенными, ожидание увидеть неизведанные ранее земли отошло в прошлое, а рассказы и авиационные байки на промежуточных ночевках стали неким сопутствующим гарниром обычной летной жизни. Они перешли в мою собственную жизнь и стали как бы продолжением моей биографии, моей жизни.
Как-то в один в один из осенних дней мы вновь прилетели в Чингилей по санзаданию, надо было срочно вывести пострадавшего при пожаре мальчишку в город. На площадке было непривычно много народа. Не сразу я разглядел среди провожавших Анну Евстратовну. Она как бы слилась с окружающей местностью, деревенский румянец на щеках, приталенная овчинная тужурка. Выдал ее модный, завязанный галстуком платок на шее. И еще резиновые сапоги на ногах, асфальта в Чингилее не предполагалось на ближайшие сотню лет, а вот дожди шли там регулярно. Она подошла к Ватрушкину и стала что-то оживленно ему объяснять. Оказалось, что пострадал ее ученик, пожар случился ночью, погибла бабушка, а у него множественные ожоги, теперь вся надежда на самолет.
Мимоходом она представляла нам своих учеников и пригласила Ватрушкина в школу, сказав, что для такой встречи она соберет не только школьников, но и родителей.
– Вы лучше его пригласите, – кивнув на меня, ответил Ватрушкин.
– А я вас не разделяю, – ответила Анна Естратовна. – Для меня вы одно целое. Как семья. Давайте назовем это встречей с экипажем.
И вскоре такой случай нам представился.
Перед ноябрьскими праздниками нас поставили в план лететь в Чингилей. Напросился или, наоборот, организовал тот полет Ватрушкин. Мне было все равно куда лететь, но я все же отметил, что в Чингилей Ватрушкин летает с особым удовольствием. И причина была понятна, обычно там нас встречала Анна Евстратовна.
Но едва мы пришли в диспетчерскую, как Ватрушкину позвонили с местных авиалиний.
– Вас тут домогаются артисты. Скандалят. Вы с ними разберитесь.
Разбираться Ватрушкин послал меня.
Выяснилось, что в Жигаловский район по приглашению администрации на гастроли летят артисты из филармонии. А скандал произошел из-за реквизита. Его оказалось много, и диспетчер побоялась, что он не поместится в самолете.
– Оформляйте через грузовой склад! – потребовала она.
Но артисты взбунтовались: они посчитали, что это их личные вещи и они могут, не оплачивая, взять с собой в самолет.
Руководитель группы заявил, что обо всем они договорились с начальником аэропорта Брюхановым и попросили связать их с Ватрушкиным.
– Нам сказали, что он отвечает за нашу доставку в Жигалово.
Когда я подошел в диспетчерскую, то неожиданно обнаружил, что уже встречался с руководителем ансамбля, им оказался друг Анны Евстратовны Вениамин Казимирский, которому она через меня передавала документы на конкурс.
Осмотрев вещи артистов, я решил, что оформлять через склад – только время терять, по моим прикидкам, реквизит входил в самолет, но загружать его надо было быстро, для полета в Чингилей нам могло не хватить светлого времени.
Но, пока загружали вещи в автобус, пока выносили и вносили вещи необычных пассажиров, ушло еще с час. Самое интересное, что артисты решили, что всю черновую работу должна делать служба аэропорта. А поскольку они – артисты, то их место в буфете.
Присланный мне в подмогу уже знакомый волкодав поглядел на шумливых пассажиров, на их выкрики: не так берете, не так несете, плюнул и, послав куда подальше, отбыл на свой склад.
Кое-как, с грехом пополам, мы все же загрузили весь артистический бутор, усадили уже подвыпивших артистов на жесткие металлические сиденья и поднялись в воздух. Если в городе на солнечных местах еще подтаивало, то за последними домами уже лежал снег. Темной шерсткой выделялся лес, в который огромными белыми лоскутами вдавались поля, справа в стороне Байкала поднимались к небу горы. Самолет шел параллельно им по уже не один раз протоптанной воздушной дороге.
Казимирский оказался разговорчивым парнем.
– Ну что, вперед и с песнями! – сказал он, притулившись в кабинном проходе на том самом месте, где сидела Анна Евстратовна, когда мы летели с ней в Жигалово. Но почему-то Ватрушкин не предложил ему сесть на струбцину, выкурив очередную папиросу, он, по своему обыкновению, решил подремать.
– Да, сложная у вас работенка, – сказал Вениамин, оглядывая кабину. – Один на один с этим белым безмолвием. – Он кивнул на землю. – Как это там в песне? «Может быть, дотянет последние мили мой надежный друг и товарищ мотор». Одна надежда на него, ведь так?
Я, вспомнив слова Ватрушкина о трудяге-коленвале, согласно кивнул, как там работают крылья и расчалки, меня интересовал мало. Действительно, двигатель, громкий и неутомимый, порою из-за его грохота и поговорить было сложно, всегда оставался для летчиков настоящим другом и помощником.
– Вот ты мне скажи, почему летчикам не выдают парашюты, – начал дергать меня за плечо Вениамин.
– Я выпрыгну, а ты останешься, – с улыбкой ответил я. – Что мне потом делать?
– Да, верно, помирать, так вместе, – согласился Казимирский. – Хочешь, расскажу анекдот про парашютистов? Летят. Вдруг один встает и идет к двери. Сосед останавливает: «Ты же без парашюта!» Ему в ответ: «Ну и что, это же учебный прыжок».
Он хохотнул, а я подумал: «Чего только не наслушаешься в полетах». Пользуясь тем, что я знаком с его подружкой, Вениамин решил избрать меня временным поверенным в своих давних переживаниях.
– Когда-то я тоже хотел стать летчиком и даже ходил на занятия в аэроклуб, – продолжил Вениамин. – И там насмотрелся такого!
Чего он там насмотрелся, мне было неведомо, почему-то вспомнился диагноз, который поставила ему Анна. Аэрофобия! Поразмыслив немного, я подумал, что говорит он много и возбужденно потому, что выпил перед полетом, так делают многие, чтобы спрятать свой страх. Думаю, он и в проход встал, чтобы не смотреть на землю.
Неожиданно Ватрушкин приоткрыл глаза:
– Послушай, а у тебя случаем нет спичек, – обратился он ко мне. – Я забыл свои.
Вениамин услужливо протянул Ватрушкину зажигалку.
– Значит, так, зачислили нас, усадили за столы, – продолжил Казимирский. – И начали гонять. Ну, я и заяви: нас принимали, как здоровых, а спрашивают, как умных. Меня взяли и отчислили.
– Вот что, дорогой, иди и сядь на место. Не дай бог, болтанет, – спокойным голосом сказал Ватрушкин. – А парашютов у нас действительно нет.
Казимирский оказался понятливым, подняв руки, он быстрым голосом проговорил:
– Все, все, понял – ухожу с горизонта.
Спустившись в грузовую кабину, он, подмигнув мне, уселся на свое место и на всякий случай демонстративно пристегнулся ремнями.
В Чингилее нас встречало полпоселка. Впервые сюда прилетели артисты аж из самого Иркутска. Был здесь и Брюханов. Он сказал, что договорился с Иркутском и мы будем возить артистов по району, а сегодня здесь намечены концерт и ночевка.
Концерт должен был состояться в школе. Анна Евстратовна, узнав, что прилетел Ватрушкин, попросила выступить его перед школьниками. И Ватрушкин согласился.
Я думал, что он начнет рассказывать о нашей работе, но он начал свою речь с того, что ему приятно бывать в таких вот отдаленных поселках.
– Основными скрепами, которые удерживают вот такие, как ваша, отдаленные деревни от вымирания и одичания, являются, – тут Ватрушкин начал загибать пальцы, – наличие работы, связь, я имею в виду транспорт, самолеты, машины. И сельские учителя. Лишится деревня хотя бы одной составляющей, и жизнь здесь станет ущербной и неполной, а может вообще сойти на нет. Немецкий канцлер Бисмарк говорил, что победа над Австрией была победой прусского школьного учителя. Он имел в виду наличие в Пруссии всеобщего школьного образования, которое позволило готовить квалифицированные кадры для армии. Продолжая его мысль, могу утверждать: наша победа над Германией была бы невозможна без школьного учителя. Давайте возьмем самолет. Можно управлять им, не имея образования? Давайте, как в цирке, посадим в кабину медведя. Думаете, найдутся охотники полететь на этом самолете? Вряд ли. А во время войны были подготовлены десятки тысяч технически грамотных летчиков. И кто их готовил? Учителя. И эти парни и девчонки побили фашистских асов.
Далее Ватрушкин рассказал, как во время войны они спасли маршала Иосипа Броз Тито.
– В сорок четвертом нашу часть отправили на авиабазу в Бари, – тут он подошел к висевшей на стене карте и ткнул пальцем в сапог Апеннинского полуострова. – Кто мне ответит, какая здесь находится страна?
– Италия! – хором закричали ученики.
– Молодцы! – похвалил Ватрушкин. – Ставлю пять вашей учительнице. Так вот, оттуда мы летали к югославским партизанам. – Палец Ватрушкина скользнул вправо поперек Адриатического моря. – Кроме нас на аэродроме базировались англичане, американцы. Наши летчики были привычны к полетам с подбором на маленькие горные и такие же, как у вас, площадки. Мы летаем, американцы и англичане сидят и ждут, когда им подготовят хорошие аэродромы югославские партизаны. Более того, они не верили, что мы туда летаем. Тогда Шорников купил на базаре плетеные корзины и, слетав к партизанам в Боснию, привез в них снег. Эти корзины мы поставили около английских самолетов: мол, посмотрите, снег есть только на Балканах. А позже Шорников вывез на самолете главу партизан Иосипа Броз Тито, которого немцы уже видели в своих руках. Можете представить, как после всего этого американцы и англичане смотрели на нас.
Я сидел в классе, вместе со всеми слушал Ватрушкина, смотрел на географическую карту, которая висела на стене, вспоминал свое школьное время. В моей жизни было несколько учителей, которые определили всю мою жизнь. Самая первая, еще в начальной школе, Клавдия Степановна, затем физик Петр Георгиевич, которого мы называли Сметаной. И конечно же преподаватель истории Анна Константиновна. Это она учила нас видеть себя и мир с большой высоты не только в пространстве, но и во времени. И вот теперь рядом со мной оказался Ватрушкин. Каждый день он садился со мной, образно говоря, за одну школьную парту. Перемещаясь от одного аэродрома к другому, он ненавязчиво подсказывал и показывал то, что позже станет и для меня привычным делом. Разлетаясь утром с базового аэродрома, мы, что пчелы, собирали пыльцу со всех сельских северных аэродромов и везли в город взяток. Наш неуклюжий и внешне похожий на деревенский валенок кукурузник, поднявшийся из прошлой, казалось бы, другой, доисторической, жизни, тащил нас вперед, в другие миры.
И вот рядом с ним здесь в Чингилее стояла маленькая, ладненькая Анна Евстратовна, которая рядом с ним совсем не походила на учительницу, встретив в коридоре, ее можно было признать за старшеклассницу. Но едва она начала говорить, как в классе наступала прозрачная, я бы даже сказал, благоговейная тишина. Что она знала такого, что ее слушали с таким вниманием? Историю? Ее знали и другие. Возможно, даже не хуже ее. А если разобраться, она была моей ровесницей. Но сегодня я был всего лишь вторым пилотом, дело которого – не мешать левому, держать ноги нейтрально и ждать зарплату. И мне еще учиться и учиться, пока доверят самолет и пассажиров.
Затем начался концерт. Вениамин со своими артистами спели несколько песен. Пели хорошо, с душой. Их долго не отпускали. А в конце, по просьбе Анны Евстратовны, артисты исполнили ее любимую «Маленькую девочку», которую они посвятили нашему экипажу:
- В огромном небе, необъятном небе,
- Летит девчонка над страной своей, —
- Кто в небе не был, кто ни разу не был,
- Пускай вздыхает и завидует ей…
Здесь же, в школе, нам был приготовлен ужин, да такой, что мы открыли рот, едва вошли в учительскую. На столе была рыба соленая, копченая, мясо пареное, вареное, жареное. Кроме того, картошка, соленые грузди, пельмени, брусника со сгущенкой. Было приятно смотреть за хлопотами Анны Евстратовны. Ей помогала деревенская интеллигенция: фельдшер местного здравпункта, почтальон и жена директора леспромхоза. Всем этим действом руководил Митрич. Он же предложил выпить за здоровье приехавших артистов, за приехавшую представительницу районо, за большого авиационного начальника Ивана Брюханова и конечно же за Анну Евстратовну. Не забыли и нас.
– Редко вы к нам прилетаете, – обращаясь к артистам, сказал Брюханов.
– Но метко, – пошутил Вениамин. – Прилетели и угодили прямо за стол. Я вот что хочу сказать. Самое устойчивое представление о прошедшей жизни – это мифы. Например, создали миф, что ссыльным здесь плохо жилось. Ну, комары, они и в Питере комары. Морозы, они у печки хорошо переносятся. У создателя Ревтрибунала Льва Троцкого, он, как вам известно, тоже отбывал ссылку в этих краях, насчет картошки дров поджарить, – тут Вениамин кивнул на стол, – тоже губа была не дура. И вообще, вожди наши любили поесть. Мне давно хотелось своими глазами посмотреть, где и как отбывал ссылку Лев Давыдович. Думаю, с тех пор здесь мало что изменилось. Разве что появился самолет. Убери его – та же картина.
– Мой дед был родом из Тутуры, – сказал Брюханов. – Когда я спрашивал про ссыльных, он говорил – дармоеды. Жили на всем государственном. Это потом их стали выдавать страдальцами за народ. А этот народ вкалывал с утра до ночи, жалел этих бедолаг и нес им, бедненьким, все, что заработал своим горбом. Пожили здесь, отдохнули – и в бега. Кто в Лондон, кто в Швейцарию.
– Но их можно понять, – заметил Вениамин. – Цивилизованный человек должен жить в своей среде. Я все время хотел понять революционную интеллигенцию, которая пошла в народ. И чего добились? Да ничего. Многие из них потом бомбистами стали.
Слушали Вениамина молча, иногда дипломатично кивали, и только: мало ли чего наговорит залетевший артист.
– Со стороны так, наверное, оно и должно, – перебил Вениамина Митрич. – Медведи должны быть с медведями, бурундуки с бурундуками. Это их среда. И вообще, сколько людей, столько и мнений. А справедливость, как и везде, имеет одно неуловимое, но определяющее свойство: подлаживаться под покупателя и служить тому, у кого больше прав. Диалектика!
Поняв, что разговор может повернуться в нежелательную для него сторону, Вениамин прекратил поминать ссыльных, поскольку они здесь жили по принуждению, а сидящие за столом – по собственной воле и никогда не жаловались, находя в житье-бытье свои выгоды и краски.
Но Митрич уже завелся. Скинув с себя пиджак и выказав всем свою ослепительно белую нейлоновую рубашку, которая подчеркивала, что и здесь знают толк в моде, он глянул в упор на Вениамина своими глазами-щелочками.
Но тут поднялась Анна Евстратовна.
– Петр Дмитриевич! – ласковым и примиряющим голосом обратилась она к директору. – Мы сегодня собрались по другому поводу. Давайте отложим уроки диалектического материализма на завтра. А сегодня будем общаться.
– Нет, не отложим! Вот что я вам, дорогие гости, хочу сказать, – глухим голосом продолжил Митрич. – До войны в наших краях жило двадцать пять тысяч. Более трех тысяч здоровых мужиков и парней ушло на фронт. Обратно не вернулось и половины. А сколько еще было выбито в Гражданскую? Ныне каждый год на учебу в город уезжают сотни, и сюда, как с фронта, почти не возвращаются.
И тут мой командир вновь удивил не только меня, но заезжих артистов и всех, кто был приглашен на ужин. Он встал, высокий, красивый, и спокойным голосом, так, как он обычно вел в воздухе связь, начал читать стихи. Я их слышал впервые.
- Не бывать тебе в живых,
- Со снегу не встать,
- Двадцать восемь огневых,
- Огнестрельных пять.
Присутствующий на ужине Мамушкин сказал, что Михалыч читал так, будто устанавливал радиосвязь с далекими мирами.
- Горькую обновушку
- Другу шила я,
- Любит, любит кровушку
- Русская земля.
Ватрушкин замолчал, в учительской повисла тишина. Молчание сломал Митрич.
– Вы верно сказали, – директор кивнул в сторону Ватрушкина, – нас спасает лес, тайга. Вырубим его, здесь будет пустыня. Кому захочется жить в пустыне? Никому.
Спасибо Аннушке, не побоялась, приехала в нашу глушь. Всем показала, что жить интересно можно везде.
– Петр Дмитриевич, я не знаю, как вас отблагодарить, – улыбнувшись, сказала Анна Евстратовна. – Такой теплоты, как здесь, я не встречала и, видимо, никогда не встречу. Я слушала вас и подумала: есть еще одна, но, может быть, главная составляющая, та, что нас сохраняет, охраняет и скрепляет государство. Это родной язык. Спасибо Иннокентию Михайловичу, что он вспомнил Анну Андреевну Ахматову. В сорок втором она написала еще такие стоки:
- Мы знаем, что ныне лежит на весах
- И что совершается ныне.
- Час мужества пробил на наших часах,
- И мужество нас не покинет.
- Не страшно под пулями мертвыми лечь,
- Не горько остаться без крова, —
- И мы сохраним тебя, русская речь,
- Великое русское слово.
Перед тем как идти к Митричу – он пригласил нас переночевать у него, – Ватрушкин поинтересовался у Анны, проводит ли она уроки по парашютной подготовке.
– Сюда я летела, мне виделось одно, – с какой-то грустной улыбкой ответила она. – Вот приеду и переверну этот медвежий угол. «Я опущу кусочек неба на эти серые дома». А он сам взял меня в оборот. Здесь на меня опустилось само небо. Все, как в затяжном прыжке. От нас недалеко в тайге живут эвенки. Деревня называется Вершина Тутуры. Туда на зиму свозят детей, считая, что там их нужно не только учить читать и писать, но и приобщить к благам цивилизации. Так вот они, как могут, сопротивляются той цивилизации, которую мы всеми силами им навязываем. Хотят жить по тем законам, по которым жили их предки. И все эти дезодоранты, духи, машины, мягкие кресла и диваны, телевидение и прочие блага они с удовольствием поменяют на хороший карабин и собаку.
– А парашют у меня стащили. Так, из баловства. Соседский мальчишка Пашка – тунгус. Так его здесь все называют. Вообще они чужого не берут. Взять чужое – большой грех. Но его кто-то подзудил: ткани там много, возьмем кусок, и будет у нас костюм для охоты. На снегу его совсем не видно. Ну, попортили мне учебное пособие, но натолкнули на хорошую мысль. Я решила разрезать парашют и сшить из него спортивные костюмы. Когда сделали выкройку и прикинули, то получилось, что хватит на целую команду. Мы собираемся на районную спартакиаду школьников. Оказалось, что здесь все лыжники и стрелки. Ну, словом, охотники.
– А запасной-то хоть остался?
– Запаска осталась, – Анна улыбнулась. – Даже если я очень захочу отсюда выпрыгнуть, то обратного хода нет. Ни запасного, ни какого-то иного. Меня отсюда попросту не отпустят.
– Это почему же?
– Да в нее вселился бес, – влез в разговор Вениамин. – Одних сюда ссылали, а ты себя сама закопала.
– Веня, концерт окончен, – спокойным голосом остановила его Анна Евстратовна. – Сколько можно? Притормози!
– Нет, вы видели! – усмехнулся артист. – Я бросил все, чтобы приехать и поддержать ее. Человеку свойственно двигаться вперед. Вот у летчиков есть хороший девиз: летать быстрее, дальше и выше всех. Я правильно говорю? Как там в песне? Все выше и выше, и выше!
– Ты говоришь, запасной у тебя остался, – сказал Ватрушкин. – Так отдай ему.
– Это еще зачем? – не понял Вениамин.
– Веня, я себя не закопала, я живу, – засмеялась Анна Евстратовна. – Живу нормальной жизнью. Костюмы шью, мне весь поселок помогает, детей учу. Чтобы понять меня, одного концерта мало. Надо здесь жить, а не прилетать.
Утром мы перелетели в Жигалово, затем в Сурово, Коношаново. Везде были встречи, концерты, а потом мы вернулись в Жигалово. Там Брюханов передал Ватрушкину радиограмму, нас срочно вызывали на базу. Тогда мне казалось, что мы расстаемся ненадолго. Несколько раз уже с другим командиром я прилетал в Чингилей, но Анну Евстратовну почему-то не встречал. Года через два, когда закрыли леспромхоз, посадочную площадку в Чингилее прикрыли, думали до весны, а оказалось – навсегда.
Позже, уже летая командиром на больших самолетах, возвращаясь с севера домой, с большой высоты я пытался найти в холодной и немой тайге крохотные огоньки Жигалова, и уже отталкиваясь от них по прямой, как еще в школьные времена, отталкиваясь от звезд Большой Медведицы по внешней стороне ковша, искал Полярную звезду, так и здесь я искал огоньки Чингилея. Иногда находил, но чаще всего ответом мне была пугающая пустота.
Уже тогда было ясно, что малую авиацию добивают, она подверглась такому разорению, после которого на восстановление понадобятся годы; все посадочные площадки и аэродромы зарастали кустарником и травой, а самолеты были пущены на слом. Коля Мамушкин на мой вопрос, как же теперь добираются люди до Жигалова, ответил, что до Чикана и Жигалова можно добраться на машине и что на месте Чингилея остался всего один дом.
– Это Ватрушкин любил летать туда и делал все, чтобы площадку не закрывали, – сказал Мамушкин. – И меня туда похлопотал, спасибо, я успел застать патриархальную таежную Русь, ту, которая была и которой уже никогда не будет. А Брюханов помер вскорости после того, как перестали летать в Жигалово самолеты, – поведал Коля. – Васька Довгаль видел его в поликлинике. Брюханов похвастал, что был у врача, давление сто двадцать на семьдесят, и пошутил, что ему с таким давлением можно и в космонавты.
– А через два дня в автобусе ему стало плохо. Успели только довезти до больницы.
Эти подробности я знал. Знал я и то, что Мамушкин так и не стал восстанавливаться на летной работе, после Чингилея его перевели работать в Киренск. Там он и застрял. Но говорить на эту тему не хотелось, чего ворошить прошлое. Уже прощаясь, Мамушкин добавил:
– Наша Аннушка, ну помнишь ту учителку, она, представь себе, уехала. Ты думаешь, к этому артисту? Нет! Кстати, у нее, говорят, от того артиста ребенок родился.
– Казимирский, – припомнил я.
– Аннушка Капелюшка, так ее прозвали в Жигалове, уехала не с ним, а с Митричем. Говорят, у них еще двое сыновей родились. Двоиняшки. Вот и пойми этих женщин. Диалектика! – Мамушкин поднял вверх указательный палец. – Пришел, привез сухих дров, растопил печь. И взял в полон! Много ли женщине надо?
– Ну, ты не скажи, им, как и всем, хочется многого, – сказал я, пораженный неожиданной новостью.
– Кстати, крестным отцом у них стал наш командир летающего сарая, – не замечая моих слов, продолжил Мамушкин. – За ним это прозвище прилипло, не оторвешь. Он после ухода на пенсию преподавателем в учебно-тренировочном отряде работал. Мамушкин неожиданно хохотнул: – Мне говорили, он и там рассказывал молодым летунам, как спасал Тито. Да, чуть не забыл сказать самого главного. Аннушка про тебя часто спрашивала, интересовалась, как складывается твоя летная судьба. Стал ли ты капитаном? Кстати, если говорить о ней, то она была настоящей учителкой, без всяких там но. Ее в Чингилее, да и в самом Жигалове еще долго вспоминали. Но кого бы она сейчас там учила? Медведей или бурундуков. Народу там совсем не осталось. Разъехались кто куда. Я недавно приезжал туда. Да, заброшенные избы стоят. А вот мой сарай остался. Я в нем переночевал, вспомнил, как мы с тобой по ягоды ездили. Встретил я там охотника – Пуляева, он там до сих пор белку и соболя промышляет. Так он мне сказал, что летную площадку до сих пор Мамушкинской называют. Еще он сказал, что хочет церковь там поставить. Как в Сурове. Приехал какой-то парень из Якутии и на месте родной исчезнувшей деревни поставил церковь.
– Оставил след на земле, – засмеялся я.
– Да, оставил, но вокруг все поросло бурьяном. Все! – с неожиданной злостью сказал Мамушкин. Нет главного – людей. Эх, Россея-матушка! Умом ее не понять. Даже с помощью диалектики.
Командировка в Киренск
Нет, нам еще повезло. Случись это минутой раньше, пришлось бы садиться на Лену или, чего хуже, падать в город. Мы уже прошли дальнюю приводную радиостанцию, когда в гул моторов вплелся посторонний звук, словно, попав на вибратор, заходила ходуном приборная доска.
– Отказ левого двигателя, – крикнул бортмеханик. Самолет, до этого послушный, податливый, вдруг взъерошился, заваливаясь набок, стал уходить с посадочного курса. Будто нес я на себе тяжелый рюкзак, переходил по бревнышку, и тут неожиданно лопнула одна лямка.
Я надавил на педаль, крутанул штурвал в сторону работающего двигателя, почти одновременно то же самое сделал второй пилот Александр Долотов.
Глухо, по-звериному ревел здоровый двигатель – на борту было около трех тонн свежих помидоров. Быстро, гораздо быстрее, чем нам бы хотелось, надвигались потемневшие от дождя крыши домов, мокрые огороды, острые, напоминающие охотничьи рогатины, заборы.
Мы примостились на краю аэродрома, разбрызгивая лужи, пробежали немного, я нажал на тормоза, самолет клюнул носом, остановился. На стоянке сразу же заметили стоящий колом винт, через несколько минут подошел трактор, к передней стойке самолета приткнули водило. Трактор поднатужился, из-под гусениц комьями полетела грязь, под нами жалобно заскрипели шасси, и нас потянули на стоянку.
Там тракторист отцепил водило, помахал нам рукой и уехал в гараж. Мой бортмеханик Николай Григорьевич Меделян, которого мы все по-свойски называем дядя Коля, выбросил из самолета металлическую лестницу и начал спускаться на землю. Следом за ним, придерживая фуражку, спустился второй пилот Долотов. Я перевел дух и, чувствуя, как утихает разбушевавшееся сердце, еще раз мысленно прокрутил аварийную посадку и похвалил себя: все было сделано четко и правильно. И свидетельством тому были мокрые стекла фонаря кабины, блестящие мокротой листья тополей и обычные шумы, доносящиеся с земли. В пилотскую кабину заглянул сопровождающий грузы Угринович, завертел по сторонам маленькой воробьиной головкой:
– Долго простоим, нет?
– Думаю, что долго, – ответил я, – вещи бери, придется ночевать здесь.
– Ай-я-я, – простонал сопровождающий, – пропадут овощи.
Что-то обещать было не в моих правилах, я молча собрал портфель, сунул в него полетные карты, обежал глазами кабину, не забыл ли чего.
Спустившись по шаткой лесенке, я увидел, что левая мотогондола и все брюхо самолета были залиты черным вспененным маслом, оно продолжало капать на землю, расплываясь сизыми пятнами.
Киренский техник Иннокентий Малышев, натянув на глаза мокрую замасленную беретку, подкатил к самолету стремянку, открыл капот и чуть не по пояс влез в двигатель.
На улице безразличный ко всему нудил мелкий дождь, и, должно быть, оттого было по-осеннему прохладно и сыро, и, хотя стоял конец августа и по календарю еще полагалось тепло, казалось, солнце по пути к этой северной земле, как и мы, сделало вынужденную посадку, и нам вместе с ним предстояло ждать следующего лета.
Всем экипажем мы столпились около стремянки, ждали, что скажет Малышев.
– Все как в кино. Прилетели, мягко сели. Высылайте запчастя. Фюзеляж и плоскостя, – глухо, будто из бочки, сказал техник. – Короче, головку у цилиндра со шпилек сорвало. Чего доброго, придется двигатель менять. Сейчас сделаем полную диагностику, посмотрим.
«Сидеть тогда нам здесь как минимум неделю». Я поймал себя на том, что задержка не входила в мои планы и вызвала досаду; еще несколько минут все шло-крутилось, а тут тебе на – сиди и жди. То, что могло с нами произойти, после отказа двигателя ушло на второй план, осталось где-то там над городом, сейчас, когда все уже было позади, а под ногами была крепкая, хотя и мокрая, земля, уже не воспринималось как реальная опасность.
Малышев топтался на стремянке, с его кирзовых слетали мокрые камешки, под подошвами чавкала глиняная каша. Был он невысок ростом, с виду неуклюж, чем-то неуловимо похож на моего бортмеханика. Я знаю, они с моим бортмехаником одногодки и даже вместе заканчивали одну техшколу. И ростом они одинаковы, про таких говорят – метр с кепкой.
«Должно быть, их сшили с одной колодки», – с улыбкой думал я каждый раз, когда они на стоянке встречали друг друга.
Малышев каждое утро приезжает в аэропорт на старом мотоцикле, ставит его около техдомика, натягивает замасленный комбинезон и растворяется, исчезает среди таких же замасленных чехлов, рукавов, шлангов. Возле самолета появляется неожиданно, но вовремя. У киренских техников он пользовался непререкаемым авторитетом. Да и летчики уважали его за добросовестность и умение находить решение в самых непростых ситуациях. Вспомнилось мне, как однажды зимой здесь застрял у нашего самолета двигатель. Техники долго не могли отыскать дефект, решили менять все свечи. Подошел Малышев, поднял кусок снега, поводил им по выхлопным патрубкам, через несколько секунд повернулся к молоденькому технику и сказал:
– Меняй свечи в шестом цилиндре. Видишь, бок у него холодный, даже снег не тает.
– Ну что тут скажешь, профессор! – почесав затылок оценил кто-то из молодых техников.
– Что скажешь – Кулибин!
Малышева я любил не только за профессионализм, но и за его байки и рассказы о старых летчиках, с которыми ему довелось встречаться. Он застал еще те времена, когда по ленд-лизу с Аляски через Киренск перегоняли самолеты на фронт и его лично знал командовавший летчиками-перегонщиками генерал Мазурук. Словно в подтверждение этих слов, Малышев как-то показал мне стену бревенчатого сарая, где сквозь многолетнюю пыль проступали слова из далекого боевого прошлого: «Сталинские соколы. Беспощадно уничтожайте фашистов на земле, воде и в воздухе».
Давно канули в Лету те грозные времена, но надпись держалась. Держался и хранитель тех времен Иннокентий Малышев, делая свое негромкое дело, радуя нас своими шутками-прибаутками и невыдуманными рассказами.
У Малышева трое детей. Одного – Владимира, я знал хорошо, он работал так же, как и отец, техником в Иркутске. Еще две девочки-близнецы, Маша и Наташа, учились в политехническом институте.
Раз в месяц он отправляет им посылки, передает их с летчиками. Когда пассажиры уже сидят в самолете и нужно закрывать входную дверь, он появляется около трапа со свертком в руках, смущенно хлопая короткими белесыми ресницами. Если посылка сыну, то берут без разговоров, его, если не встретит у трапа, можно разыскать на стоянке. Девочкам нужно завозить в общежитие, поэтому иногда и отказывают. У каждого свои дела, кому хочется делать лишний крюк.
Малышев не обижается, молча идет в техдомик, ждет следующий самолет, кто-нибудь да возьмет.
Меделян остался на стоянке, мы со вторым пилотом пошли в гостиницу. Нас разместили в угловой, на десять коек, комнате, предназначенной для транзитных пассажиров. Пахло прелой одеждой, селедкой, в соседней комнате урчал магнитофон, хлопали двери, люди входили и выходили, пили чай, брились, играли в карты; разный народ приютила, собрала под своей крышей старенькая пилотская гостиница.
Над моей кроватью висит карта. На месте Киренска – темное, затертое сотнями пальцев пятно. Везде, где бы я ни был, одна и та же знакомая картина.
Я отыскиваю взглядом Витим, по нему нахожу Маму. Нам предстоит сделать рейс в этот северный поселок, затем вернуться в Киренск, загрузить дизель, отвезти его в Ербогачен, там третий день сидели без света, и потом – домой. А там по графику – отпуск.
Мысль о том, что через несколько дней я буду далеко от этих мест, доставляет мне удовольствие. Я собирался съездить на море, покупаться в теплой воде, позагорать и отдохнуть от этих непредвиденных задержек, от этих грязных, раскисших аэродромов, от этих просьб привези и отвези, от самого себя, запряженного и привязанного к пилотской кабине. Но я знал и другое: пройдет немного времени, я снова буду садиться на этих аэродромах, снова придется ходить в местную столовую, ночевать в этой гостинице, слушать разные летные и житейские истории, которые будут рассказывать бывалые летчики, и засыпать под шлепки карт. И еще многое из услышанного и увиденного будет стоять у меня перед глазами.
Второй пилот начал разбирать постель. Мне спать не хочется, я вновь выхожу на улицу, некоторое время стою на крыльце, размышляя, куда бы пойти. Собственно, идти некуда. Киренский авиагородок небольшой – деревянный аэровокзал, грузовой склад, столовая, гостиница, гараж, баня, еще с десяток жилых домов. Рядом со столовой темные ели, посаженные, говорят, еще во время войны. Мы ходим всегда мимо них, по одной и той же дорожке: от самолета в диспетчерскую, потом в столовую и обратно.
Если случаются задержки, подобные сегодняшней, маршрут меняется ненамного, добавляется лишь гостиница. Чаще всего сидим зимой: аэропорт находится в низине, чуть температура упадет ниже сорока градусов, уже туман. Бывали случаи, сидели по полмесяца. Здесь нас все знают, даже собаки, обитающие в аэропорту, приветливо машут хвостами.
По узенькой бетонной дорожке, обсаженной тополями и черемухой, иду к перрону. Сегодня он пуст, самолеты зачехлены и мокнут под дождем.
Мимо меня, шлепая по лужам резиновыми сапогами, проходят техники, они довольны – полетов нет. Можно пораньше и домой.
Но Малышев по-прежнему возле самолета. Отказавший двигатель со всех сторон обставлен стремянками. Дядя Коля стоит неподалеку, размахивая рукой, что-то говорит Малышеву.
Я знаю, после войны они вместе проходили стажировку в далеком северном поселке Витим. Это было еще то время, когда запуск некоторых самолетов проводился при помощи натяжки амортизатора. И для облегчения натяжки использовали лошадь. Делали это следующим образом. Один конец резинового амортизатора цепляли за винт. А другой был закреплен на лошадиной сбруе. По команде летчика возчик трогал лошадь с места, амортизатор натягивался, и летчик по команде «Контакт!» начинал с помощью этого амортизатора раскручивать винт.
Но, когда молодые стажеры решили освоить новое для себя дело, лошадь заупрямилась. И тогда Меделян, вспомнив свое деревенское прошлое, сел на лошадь и заставил-таки стать ее на положенное место.
– Ну, Коля, ты прямо настоящий джигит, – похвалил его Малышев, который уже бывал на запуске, – только пригнись, не то она тебя сбросит.
– Меня сбросить сложно, не одну объездил, – самоуверенно проговорил Меделян.
Так вот, дядя Коля, тогда еще Колька, забрался на лошадь, подъехал к самолету. Малышев закрепил на винте амортизатор, летчик высунулся в форточку, крикнул:
– Контакт!
– Есть контакт, – отозвался Меделян и взмахнул кнутом. И тут лошадь проявила неожиданную прыть, рванулась вперед и, натянув до отказа амортизатор, неожиданно подогнув колени, рухнула на живот.
Сзади засвистело, амортизатор, сорвавшись с винта, со всего маху, как из пращи, полетел в спину Меделяна. Тот кубарем полетел через голову лошади и потом дня два не мог даже присесть на табурет.
– Ты что, думаешь, она не понимает, – хохотал Малышев, – ей тоже надоело получать по заднему месту…
Возможно, именно тогда родился знаменитый афоризм, который гласил, что «самый хитрый из армян – это Колька Меделян». Говорили, что его придумал Малышев, но он готов был перекреститься, что такое могли придумать только завистники. Но шутка вовсю начала гулять по всем аэропортам и трассам.
И бывало, когда я начинал нахваливать своего бортмеханика, то тут же от собеседников слышал эти знаменитые слова.
– А вы поищите еще такого, – отшучивался я, – который на плоскогубцах лучше любого штурмана считает путевую скорость.
Заметив меня, Николай Григорьевич вытер руки ветошью, с какой-то особой гордостью доложил:
– Двигатель цел, нужно заменить два цилиндра, ты дай радиограмму в Иркутск, может, они вечерним рейсом пришлют, Киренск вроде еще работает.
– Держится пока, – вздохнул Малышев, – когда только основную полосу сделают… Уже который год строят, строят, и конца не видно.
В Киренске сейчас две полосы, лежат они рядышком, точно стволы ружья, одна из них старая, фронтовая, с которой и производятся все полеты. Новая, заасфальтированная кусками, уже бездействует который год. И стреляет самолетами узенькая грунтовая полоска, часто с осечками, затяжные дожди быстро выводят ее из строя.
За полосой насыпана дамба, на ней – похожий на летучую мышь радиолокатор, дальше – Лена.
Сквозь зыбкую серую пелену дождя проглядывает противоположный берег, обросшая лесом гора. Под горой нефтебаза, издали кажется, что это огромная баба пришла по воду, поставила ведра и присела отдохнуть.
По Лене ходит теплоход «Хабаровск». За навигацию он успевает сделать всего два рейса до Якутска. Вот до чего длинная река, а с самолета это незаметно. Сам Киренск расположен на острове, в том месте, где Киренга впадает в Лену. Сверху остров напоминает полузатонувшую баржу, соединенную с берегом узкой, как канат, дамбой. И в большую воду кажется, что ее вот-вот сорвет с места, унесет вниз по течению. Орлиным гнездом называли его кочующие в этих местах тунгусы.
В основном городок деревянный, дома тесно прижались друг к другу, точно мебель во время побелки. На левом берегу под скалой есть крохотная гавань, рядом с ней – судоремонтный завод.
Зимой городок облеплен куржаком, сосульками, попыхивает трубами, летом исходит древесной смолой, солнце, не в пример сегодняшнему, надолго зависает над домами, точно паяльная лампа, обжигает землю, по реке бегают моторки, вода теплая, вялая, с утра до вечера плещутся в ней ребятишки.
Зимой Киренск замирает. О том, что есть другие города, что жизнь продолжается, напоминают самолеты; круглые сутки разрывают они воздух над городом.
В дверях аэровокзала я сталкиваюсь с сопровождающим.
– Пошел к начальству, – сообщает он. – Пусть завтра маленькие самолеты дают. А то испортятся помидоры.
Мне почему-то неудобно перед ним, хотя нашей вины здесь нет.
– Пошли вместе.
Начальник отдела перевозок выслушал нас молча, потеребил подбородок:
– Малышев сказал, там делов на пару часов. Зачем зря разгружать. Лишь бы погода была, привезут цилиндры, улетите.
Из диспетчерской я отправил в Иркутск радиограмму и поднялся на второй этаж. Здесь оживленно, сухо, как дятел, стучит телетайп, по коридору бегают операторы, из угловой комнаты доносится гулкий металлический голос – идет радиообмен с пролетающими самолетами.
Сегодня на смене мой земляк Василий Евтеев, он сидит за пультом в белой рубашке с засученными рукавами, что-то говорит в микрофон по-английски. Севернее Киренска проходит международная трасса.
Прямо перед ним черный раструб, в глубине по экрану локатора бежит светлая полоска, следом за ней ползет белая муха, чуть выше, у обреза, замечаю еще одну.
– Узнаю знакомый говорок, даже на английском, – смеюсь я.
– Японец на восток пошел, – объясняет Василий. – А это наш, из Хабаровска возвращается.
Глухо, с украинским выговором, бубнит динамик. На миг я представляю ведущего радиосвязь летчика, пилотскую кабину, где нет дождя, сырости, где минуты, часы наматываются в тугой клубок. У нас же появился разрыв, время движется тихо, это будет продолжаться до тех пор, пока Малышев не свяжет концы.
Вечером, когда уже начало темнеть, в гостинице появился Николай Григорьевич. Он долго умывался, затем, вытирая полотенцем лицо, сказал:
– Цилиндры везут. Как привезут, мы их поставим, – помолчав немного добавил: – Малышев к себе приглашал. Пойдем?
Я взглянул в окно, по стеклу шлепал мелкий дождь, над крышами домов ползли отяжелевшие облака, холодный мокрый день незаметно переходил в такой же сырой неуютный вечер. Честно говоря, мне не хотелось плестись куда-то по грязи.
– Пойдем, пойдем, они вдвоем с женой. Татьяна Михайловна приготовит, как надо, по-домашнему. Чего киснуть здесь!
Я молча оделся, мы вышли на улицу, по размокшей, скользкой дороге мимо темных сгорбившихся домов вышли к озеру. Через озеро был переброшен узенький, напоминающий засохшую сороконожку деревянный мостик. Возле воды было светлее, небо высвечивало темноту одинаково ровно сверху и снизу. Под нами прогибались, пружинили доски, по исклеванной дождем воде от свай расходились и убегали к заросшему травой берегу еле заметные круги.
Малышев встретил нас на крыльце, открыл двери и включил в сенях свет. Миновав еще одну дверь, мы очутились в натопленной кухне.
Запахло укропом, малосольными огурцами. Мы сняли плащи, пригладили перед круглым зеркалом волосы. Малышев с каким-то радостно-сосредоточенным выражением лица провел нас в боковую комнату, усадил на высокий обшитый дерматином диван.
Пол в комнате был устлан домоткаными, в полоску половиками. На стене я разглядел деревянную полку, на ней десятка два книг, в основном технических.
В комнату заглянула хозяйка – темноволосая, широкоскулая. В ней явно чувствовалась тунгусская кровь. Она ласково улыбнулась:
– Все уже готово. Проходите.
Стол был сибирский, каким бывает в конце лета: соленая рыба, соленые грузди, малосольные огурцы, отдельно в огромной белой латке дымилась молодая картошка.
Дядя Коля обежал взглядом стол и принес завернутые в газетный кулек красные помидоры. Я догадался, он их выпросил у сопровождающего.
– Мы высадили под пленку, но они еще не скоро подойдут, – заметила хозяйка, – висят еще зеленые.
Она сходила на кухню, порезала помидоры, заправила их сметаной. Стол приобрел праздничный вид, на нем как раз не хватало красного цвета.
За столом выяснилось, что у нее два дня назад был день рождения, но его не отмечали.
– Сколько вам исполнилось? – невпопад спросил я и тут же пожалел, ну кто спрашивает возраст у женщин!
– Пятьдесят шестой год, – спокойно ответила она.
– Не может быть! – исправляя мою оплошность воскликнул Николай Григорьевич. – Ну от силы лет тридцать бы дал.
– А я бы не взяла, – засмеялась хозяйка. – Мне своих хватает, зачем чужие. – Помолчав немного, все же ответила любезностью: – Это тебе, Коля, ничего не делается, хоть сейчас жени.
Дядя Коля выпрямил шею, молодцом посмотрел на хозяйку, в это время за стеной что-то щелкнуло, несколько раз жалобно пропищала кукушка.
– Вовка из города в подарок часы привез, – оглянулась хозяйка. – С ней как-то веселее, будто дома еще кто есть. Обещался прилететь, да, видно, не отпустили.
– Опять что-нибудь натворил, – буркнул Малышев. – Вот и не отпустили. И правильно сделали.
Татьяна Михайловна поджала губы, уставилась на мужа:
– Вечно ты к нему придираешься. Ну, вырвется к матери, чего не погулять. Здесь все у него друзья-товарищи. Митька Сахаровский вот что утваряет в твоей смене, ты про него молчишь, будто воды в рот набрал, а сына родного готов на порог не пускать.
Мы молчим, все знают, сколько хлопот доставляет Володька Малышев родителю. Еще парнишкой повадился каждую субботу летать зайцем в Иркутск. То на футбол, то в магазин за леской, то просто так. Влезет в самолет, спрячется где-нибудь в багажнике, а потом уже в Иркутске догонит командира, с хитрецой улыбнется:
– Ну, до чего же вы быстро летаете! Еле-еле я вас догнал.
Летчики, хорошо зная отца, погрозят ему пальцем, а на другой день отвезут обратно, сдадут отцу; тот выдерет его при всех ремнем, а через некоторое все повторится снова. Кое-как младший Малышев поступил в техническое училище, окончил его, стал работать в Иркутске, но продолжал чудить.
Бывало, принесешь ему посылку из дома, он тут же развернет ее, оттопырит толстые губы:
– Посмотрим, чего это нам родитель послал.
Вечером в комнате общежития, где жил младший Малышев, пир горой. Володька был непутевым, но и нежадным парнем. И многие прощали его за это.
– У хороших родителей есть один недостаток. Природа отдыхает на их детях, – как-то пошутил Николай Григорьевич.
У самого Меделяна тоже трое сыновей, всех он пытался пристроить летчиками, но только один смог подняться в небо. А с другими, как он сам выражался, случились холостые выстрелы. Во время войны дядя Коля был в составе действующей армии и рассказывал, как летал бомбить Хельсинки. И однажды, пригласив к себе домой, показал мне благодарственную грамоту от самого Верховного Главнокомандующего за успешно выполненную боевую задачу.
Татьяна Михайловна ушла на кухню, а наш разговор перекинулся на сегодняшний случай.
– Откажи двигатель пораньше – сидеть вам на Лене, – сказал Малышев, посматривая на меня. – На одном не ушли бы.
– По инструкции самолет должен идти и на одном, – возразил я. – В случае чего, выбросили бы груз.
– Инструкции, командир, двадцать лет, – возразил Малышев. – И писана она для новых двигателей. Этим двигателям двадцать часов до капремонта, со старого коня, сами знаете и спрос другой, можете считать – повезло.
– А все-таки хорош самолет, – влез в разговор Меделян. – Замены ему пока я не вижу. Вы посмотрите, какие у нас аэродромы, бетонных полос – раз два и обчелся. Нужен он здесь, по Северу, такой самолет, ой как нужен. Ему бы локатор поставить: летом грозы кругом, а мы точно слепые. Попадешь в грозу, он, бедный, скрипит, жалуется, но терпит. С большим запасом сделан, по-русски, надолго.
– Обслуживать его хорошо, удобно. Вскрыл капот – все на виду, а в этих новых не доберешься, – соглашается с ним Малышев.
– Зато на новых скорость, высота, автопилот, – заметил я.
– Ну и что, мы разве против, – сказал Николай Григорьевич. – Пусть они себе летают в Москву или Хабаровск, а сюда их не пошлешь, каждому – свое. Нам когда-то Ан-2 казался чудом техники. Собственно, так оно и было, приборов – полная кабина, можно лететь вслепую, груза берет много, сесть можно на любую поляну. Потом появился наш Ил-14. Ведь флагманом гражданской авиации был, международные полеты на нем выполняли. А сейчас и он старым стал. Быстро идет время.
– И мы вот так же состарились между Иркутском и Киренском, – вздохнул я, – самолеты дадут другие, а летать все равно сюда будем. Вот вы почему отсюда не уехали? – обратился я к Малышеву.
Тот как-то странно посмотрел на Меделяна, нахмурившись, сжал губы.
– Я одну историю расскажу, давно это, правда, было, – тихо сказал он. – Чтоб знали, почему я здесь на всю жизнь остался, почему не стал, как Коля, бортмехаником. – Он помолчал немного, собираясь с мыслями, потом не спеша стал рассказывать.
– В пятидесятом мы с командиром подразделения Мясоедовым вылетели в Ербогачен к геологам. Техники тогда вместе с летчиками летали. Дело шло к вечеру, с утра полетов не было, туман стоял. С нами штурман – Миша Поляков, сейчас он в Иркутске работает. В Преображенске встретили начальника партии: мужик здоровый, лысый, уже в годах, лицо что мореная лиственница. Мясоедову его и нужно было – на ловца, как говорится, и зверь бежит. Ихняя экспедиция как раз тогда алмазы искала, а мы их обслуживали. Почту возили, грузы, людей. После войны мы много работали с геологами. Кто-то из наших академиков предсказал, что в Восточной Сибири алмазы должны быть. Поиски решили начать с Киренги. Почему именно с нее, не хочу врать, не знаю. Все обшарили – нет алмазов. Перешли на Тунгуску. Начали с верховьев, за лето верст сорок-пятьдесят пройдут, а может, и того меньше. Дошли они так до Усть-Чайки, пиропы стали попадаться, а это первый спутник алмаза. Встали они там лагерем, горы породы перелопатили, тишина. Им денег все меньше и меньше давать стали. Сами понимаете – нет результата. Сидят ребята как-то в палатке, манатки сворачивают, домой собираются. И тут в палатку луч солнца завернул, и вдруг на полу что-то блеснуло, да так ярко, что старший из них как заорет: «Алмаз!»
Бросились они на пол, а алмаза-то нет. Так, можете представить, они потом всю землю, весь мусор под палаткой трое суток на ситечке просеивали и нашли. Алмаз-то меньше булавочной головки оказался.
Так вот, встретили мы начальника партии, фамилия у него, дай бог памяти, кажется, Хорев. Нужно было кое-какие вопросы решить. Железную дорогу тогда хотели прокладывать через Тунгуску аж до самого Норильска. Северный вариант БАМа. Летом должны были начать изыскания. Начальник пригласил нас к себе. Только мы навострили лыжи к нему, глядим, садится еще самолет. Лихо так подруливает. Вылазит из него техник Боря Макаров. Они тогда с выборной почтой летели, а это, вот Коля знает, правительственное задание – кровь из носу, а выполни. Развозили они бланки с бюллетенями, садились на лед рядом с поселком. Отголосовались, а на другой день урны с бюллетенями отвозили в Киренск. А уже оттуда на Ли-2 их отправляли в Иркутск, а потом, наверное, в Москву, кто его знает.
Боря увидел меня, расплылся своей обычной улыбкой, выскочил из кабины и навстречу в своих подшитых прорезиной валенках-скороходах ширк-ширк. Следом за ним во всем меховом, точно медведь, летчик Гудаев. Борис рядом с ним в своей старой повышарканной куртке как парнишка. Нам, техникам, меховое обмундирование не положено было, носили куртки, подбитые байкой.
– Ты что, в ней прилетел, замерзнешь? – говорю я.
– Ничего, – засмеялся Боря, – слетаем в Наканно с выборной почтой, схожу на склад, новую получу.
И тут к нам подошел Мясоедов.
– Слушай, Гудаев, – говорит он, – ты же дальше Ербогачена не летал, тебе нужна провозка по новому маршруту.
– Чего здесь сложного, бери курс ноль по реке – она выведет, – обиженно ответил Гудаев.
Постояли еще немного, посмеялись, пошли к начальнику. Посидели у него. И тут начальник экспедиции рассказал историю, которая произошла с ним несколько лет назад.
Вылетели они как-то зимой в Наканно, вниз по Тунгуске. Началась пурга. Летчик потерял ориентировку, больше часа шарахались над тайгой, кое-как отыскали реку. Сели. Это оказался Вилюй. Снесло их ветром на сто километров вправо. Так вот они три месяца в тайге сидели. Ободрали перкаль с самолета, сделали палатку. Поначалу продукты были, а потом кору березовую ели. Ну не саму кору, а эту мякоть, что между корой и самим деревом находится. А весной сплавились вниз по Вилюю. Только добрались до якутов, летчик от цинги умер, его там же на берегу похоронили.
– Вижу, – продолжал Малышев, – Гудаев притих, глаза со старика не сводит. Он ведь у нас в этих краях только начал летать, сам-то из Белоруссии. Что и говорить, умел начальник живописать, да так, что мороз по коже.
Посидели еще, мы с Борей партию в шахматы сыграли. А утром разлетелись: они – вниз по Тунгуске, мы – обратно в Киренск. Вечером по рации Министерства связи сообщили, что самолет Гудаева не прилетел в Наканно.
Малышев закашлялся, затем достал носовой платок, долго сморкался. Все молчали. Тишина в комнате заполнялась шуршанием дождя, да из кухни монотонно выстукивали часы с кукушкой.
– В Наканно его ждали целый день, – продолжал Малышев. – Жгли костры. А к обеду началась пурга. На земле слышали, как самолет прогудел где-то рядом и ушел дальше на север. Больше его не слышали. Сразу же организовали поиски. А тут, как назло, ударили морозы. Таких морозов я не помню с тех пор. В Киренске под скалой – минус шестьдесят три. Вся Сибирь покрылась туманом. Целый день сидели мы у самолетов, грели двигатели. После обеда туман чуть растянет, вылетаем. Поляков карту большую повесил в штурманской, черным карандашом обвел район возможного гудаевского полета. Красным зачеркивал то место, где уже летали поисковые группы. В первую очередь старались искать на крупных реках, затем на более мелких. Летали галсами, по спирали, охотники в тайгу выходили.
В это время из Красноярска сообщили, что в день выборов какой-то самолет пролетел над Усть-Илимпией, но почему-то не сел, а ушел вверх по реке. Полетели туда, и точно, километрах в восьмидесяти от поселка на реке Илемпии нашли следы от лыж самолета. По следам определили: летчик дозаправился и улетел дальше, но куда, никто не знал. А что это самолет Гудаева, никто не сомневался. Лыжи у него были с заплатой, так на снегу отчетливо был виден этот след.
Тут подвернулся начальник топографического отряда. Он сказал, что неподалеку от следов самолета есть зимовье, в нем склад с продуктами. Мясоедов, долго не раздумывая, берет меня, и мы вылетаем на Илемпию. Прилетели вечером, нашли зимовье, а оно разграблено. Одни бревна торчат, даже мох из пазов вытащен. А ночью мороз под шестьдесят. Воздух густой, будто холодные сливки, хватаешь чуть больше положенного, точно ежа проглотишь, лицо ломит – спасу нет. Мясоедов послал меня на самолет. «Слей, – говорит, – бензин, будем костер поддерживать, а то замерзнем». Так и дежурили поочередно у костра: я дремлю, он огонь поддерживает. Измаялись мы тогда, ведь до этого в Киренске ночи не спали. До сих пор те ночи дают знать, подцепил я тогда радикулит. Так вот, к утру Мясоедов еще раз за бензином сходил.
Утром заправили остатки бензина, вылетели в Усть-Илимпию, а через несколько минут винт остановился, кончилось горючее. Мы сели на реку. Снова развели костер, соорудили что-то наподобие балагана. Мясоедову я говорю: «Выходить надо», а он заупрямился: «Нет, нельзя, – говорит, – нам отсюда трогаться. Во-первых, будут искать самолет, человека в тайге найти, что иголку в стогу. А самолет – другое дело. Его далеко видно». Боялся он почему-то идти, может, потому что снег глубокий был. Просидели мы так трое суток, я за это время из лесины успел лыжи вырубить. Адская, скажу вам, работа. В музей бы их сдать. Еще одну ночь перекоротали, а потом решили идти. Кое-как привязали к ногам мои лыжи, пошли. Солнце только к обеду показалось – выползло из-за сосен, точно белка бурым пятнышком, помаячило сквозь ветки, и опять сумерки навалились, будто ледяной чехол на тайгу натянули. И пустота вокруг, ни души. Неделю шли по реке. Хорошо еще неприкосновенный запас был, галеты, шоколад. Так бы от голоду померли. За сутки километров пять делали, а может, и того меньше. Брови, ресницы, усы все в сосульках, валенки, унты задубели – не гнутся, точно в кандалах идем. Командир отставать стал, упадет в снег, уставит глаза в небо, лежит, не двигается. Взвалил я его на себя, не бросать же в тайге одного. Так еще двое суток ползли. Присяду, сил нет идти дальше. Ну, думаю, пропади все пропадом, только бы не вставать, а вспомню – дома дети ждут: Вовке тогда два года было и девчонкам по полгода, встаю и иду дальше. Потом увидел, по реке едут эвенки на оленях. Недалеко, метров пятьсот от нас, вот-вот за поворот скроются. Я ракетницу вытащил, хочу выстрелить, а пальцы не сгибаются, замерзли. Кое-как всадил патрон, выстрелил. Они сдуру перепугались, замахали бичами и скрылись. Ей-богу, заплакал я от злости, а слезы тут же на щеках замерзли. Полежал немного, сходил в лес, нашел сушину, наломал веток и развел костер. Еще одну ночь перекоротали, но чувствовал – последняя ночь. Мясоедов распухать стал, ноги не двигаются, померзли.
Утро настало, мороз вроде поменьше. Думаю, дальше идти надо, а от костра уходить сил нет. Взвалил я Мясоедова на спину, он мне слоном казаться стал, пошел дальше. К обеду вижу дымки, километра два до них. А сил тащить нет.
– Ты полежи здесь, а я схожу людей позову, – говорю Мясоедову. Он по-щенячьи как-то икнул и обхватил меня за ноги.
– Не бросай меня, замерзну, – бормочет, а губы белые-белые.
Оставил я его, чувствую, если не дойду, замерзнем оба, в двух шагах от людей. Кое-как дополз до поселка, а через полчаса Мясоедова принесли, – Малышев закашлялся, на лоб упали редкие с проседью волосы. В комнате появилась с чайником Татьяна Михайловна, разлила кипяток по кружкам:
– Мне о том, что ты потерялся, на третий день сообщили, – проговорила она. – Пришла ко мне соседка, сама-то я из дому никуда, печь топлю, чтоб ребятишки не замерзли. Я ее расспрашивать начала, гляжу, мнется, что-то недоговаривает. Ну, думаю, все знают, только не говорят. Попросила соседку посидеть с ребятишками, а сама в аэропорт.
Туман был: в двух шагах ничего не видно. Бегу, реву как дура. Прибежала, гляжу, начальство незнакомое. Поляков увидел меня, построжал.
– Ты, – говорит, – чего прибежала? Сиди дома, что узнаем, сообщим.
Ох и натерпелась я тогда, ночью где машина проедет – слушаю, не завернет ли к нашему дому. Через неделю привезли, худого, обросшего…
Татьяна Михайловна замолчала, посмотрела на мужа, и было в этом взгляде что-то такое, отчего у Малышева задергалась нижняя губа. Дрожащей рукой он пошарил по столу, отыскал пачку, заскорузлыми, короткими, точно плоскогубцы, пальцами вышелушил новую папиросу.
– Я тут немного добавлю, – посматривая на Малышева, неожиданно добавил Николай Григорьевич. – Нас из Иркутска вызвали, мы там как раз новый самолет получали. Вместе с нами прилетело начальство из Москвы и тут же распорядилось: поиски прекратить до весны. Прошло-то уже около месяца, как Гудаев потерялся. Собрали комсомольское собрание. Как же так, говорим, товарищи в тайге ждут, а мы их на произвол судьбы бросаем. Проголосовали. Решили поиски продолжать. Осталось-то, собственно, по Мишиной карте верховье Илимпии осмотреть. На другой день вылетели туда. Вот верите или нет, а сердце чувствовало – сейчас найдем. И точно. Смотрим: поворот Илимпии, белое пятно, а посреди белый крестик. Самолет. На носу стоит, скапотировал, значит. Покружили над ним – нет людей. Поначалу решили выбросить туда десант. А потом передумали. И в общем-то правильно. В тайгу надо посылать бывалых людей, охотников-промысловиков. Тогда решили: у поселка, где мы вышли из тайги, высадить группу, а оттуда на оленях идти к самолету. Помню, прилетели, берег видно, а вот река вся в тумане. Стали садиться, а направление держать по берегам.
Страшная, я вам скажу, посадка, на ощупь. Куда садиться – не видно. Командир мой, как раньше говорили, летчик милостью божьей. Звук двигателей странный, неземной какой-то. Только потом сообразили: от мороза он такой. По-быстрому выгрузили снаряжение, высадили людей – и самолет улетел обратно в Киренск. Мы потом к гудаевскому самолету пять суток добирались. Код разработали на всякий случай, вдруг что понадобится. Так мы только спирт просили. Ползем по тайге, а нам сверху путь указывают. Чуть в сторону отвернем, так командир что придумал: сажи набрал в коробки, и если мы не на ту речку свернем, так самолет снижается, и бортмеханик поперек реки сажу высыпает. Добрались мы до самолета, а на приборной доске записка: «Потеряли ориентировку, просидели трое суток. Мороз усиливается. Уходим вниз по реке». И еще: Гудаев написал адрес своей девушки в Минске, а Боря просил написать матери.
Их нашли в пятнадцати километрах, замерзших. Эвенк-проводник по следам рассказал все, что с ними произошло.
В первый же день они попали в наледь. Летчик промочил унты. Ночью по неосторожности сжег их на костре. Тогда Гудаев надел на ноги малицы, шел в них, обморозил ноги. Остановились теперь уже окончательно, развели костер. Идти дальше было невозможно, снег по пояс. Так просидели еще несколько дней. Продукты у них были. Потом Макаров решил все-таки идти, искать людей. Летчик отдал ему свою меховую куртку, они переоделись. Боря отошел метров пятьдесят, летчик не выдержал, заплакал. Тогда Макаров сорвал шапку с головы, бросил ее на снег: «Пропадать, так вместе». Вернулся к Гудаеву, лег рядом, укрылись они одной курткой. Так и замерзли. На щеке у командира остались замерзшие слезы, маленькие такие льдинки.
– А я после тех поисков в больницу попал, – вздохнул Малышев. – На ноге мне два пальца отняли. Через некоторое время ребята на бортмехаников поехали учиться. А мне инвалидность дали. Вот такие пироги. А уехать отсюда уже не мог. Прикипел, – Малышев глухо, вполсилы покашлял, жадно затянулся.
– А еще похожий был случай в геологической партии, – откашлявшись, продолжил он. – В сорок девятом это, кажется, было. Когда летчик на По-2 зимой повез в Киренск бухгалтершу. Красавица была. Малышев покосился в сторону кухни, где жена мыла посуду. Говорят, она его любовницей была. Взлетели и потерялись. Через месяц он вышел из тайги. На ногах у него вместо унтов были рукава от ее цигейковой шубы. Стали расспрашивать, где она, а он в слезы. Оказалось, съел он ее. Вот такие были здесь случаи.
– Какая дикость! – воскликнул я. – Даже не верится.
– А знаешь, сколько вдоль Лены лежит самолетов? Еще со времен войны. Вся трасса ими усеяна, до сих пор находят. Одни гибли по глупости, другие – спасая людей, – сказал Меделян.
– А знаете, на чем погорел Гудаев? – вернул разговор Малышев. – Когда они попали в пургу, он продолжал лететь вперед. Выскочили на реку. Ему, по всей вероятности, сильно запал рассказ начальника партии, и Гудаев подумал, что его тоже снесло на Вилюй.
Он дошел, как он считал, до устья Чоны и полетел на юг. Пролетев километров восемьдесят, сел, заправился и после взлета взял курс на Ербогачен. А на самом деле снесло его в другую сторону, выскочил он не на Чону, а на Илимпию. Эти реки как две капли похожи. И поворачивают в одну сторону. Только Чона впадает в Вилюй, а Илимпия – в Нижнюю Тунгуску. Он-то думал, летит в Ербогачен, а на самом деле летел от него. А могли бы спастись, если бы Боря не вернулся. За первым же поворотом на берегу стояло охотничье зимовье, там были дрова, печь, продукты. Вполне могли бы перезимовать.
– Кукушка прокуковала десять раз, мы молча переглянулись, время пролетело незаметно. Нужно было возвращаться в гостиницу.
– Нам пора домой, – сказал я и посмотрел на вешалку, где висели наши летные фуражки.
– Оставайся, – поймал мой взгляд Малышев, – чего по грязи топать. Таня вам постелит. Места хватит всем. А я через полчасика пойду, цилиндры привезли, думаю, за пару часов управлюсь.
– Да мы вместе сходим, – сказал Меделян. – Двоем-то оно сподручнее. А ты действительно ложись.
Мне не хочется идти в сырую, переполненную гостиницу, и я соглашаюсь. Хозяйка стелет мне в боковой комнате, Малышев, помогая, достает из комода чистое белье. Я смотрю на изрытое морщинами лицо Малышева, и мне покойно и хорошо. Так раньше бывало в детстве, когда дела сделаны, все собрались за столом, завтра воскресенье и не надо идти в школу.
– Если аэропорт не откроется, можно по ягоды махнуть на моторке, – сказал Малышев. – Тут недалеко, вверх по Киренге. Сейчас самая черника. Позавчера я за полдня два ведра набрал. Таня, а Таня, – вдруг соскочил он, – дай тарелку.
Он побежал на кухню, погремел там посудой, затем выскочил в сени. Принес тарелку с черникой, поставил перед нами на стол. Ягода темно-синяя, напоминает крупную свинцовую дробь.
– Ешь, ешь, для зрения эта ягода полезна, а летчикам ой как оно нужно.
Ягода мягкая, почти без сока, сладко давится на мелкие прохладные крупинки.
В комнате две высокие кровати с панцирной сеткой. При электрическом свете матово поблескивают никелированные головки. Стекла в комнате отпотели, покрылись изнутри рваными водянистыми полосами. Я забираюсь под одеяло и тут же проваливаюсь в мягкую перину. Я уже давно не спал на таких кроватях, мне хорошо и непривычно. Действительно, завтра поехать бы за ягодой, посмотреть деревни, реку, острова, каменные щеки, мне хочется еще побыть с Малышевым – поговорить, послушать его рассказы. Все это можно бы сделать позднее, нужно только собраться да и приехать сюда, но я знаю, чувствую, что не приеду: навалятся, подойдут другие дела, наступит осень, слетят листья, упадет снег. И желание, такое нестерпимое сейчас, отойдет, уступит место повседневным заботам, сиюминутным радостям и огорчениям, и будут они казаться важнее и нужнее. Отчего так происходит? Я начинаю припоминать, что в Маме у меня есть приятель – начальник аэропорта Гриша Чулинов, который вот так же, как и Малышев, встретит и накормит, и спать уложит. А в Ербогочене Миша Колесников, с которым мы на лодке по Тунгуске ездили к нему на зимовье, собирали там бруснику, охотились на уток, жарили карасей, а потом на той же Тунгуске ловили самую вкусную северную рыбу – тогунка. И он умел принять мой экипаж как родных, топил баню, угощал рыбой и сохатиной. Да сколько людей мне довелось узнать на этих северных трассах?
Ночью снилось, будто у нас оторвался двигатель, мы упали в тайгу, сидим в каком-то зимовье. На улице снег, но мне жарко, тело потное, мокрое. Рядом Малышев и дядя Коля, они вырубают из толстой сосны лыжи и не видят, что потолок прогнулся от снега, доски вот-вот вылезут из пазов, упадут нам на голову. Я хочу крикнуть и просыпаюсь.
В комнате светло, по стенке робко ползет неяркий солнечный луч, за окном, будто выстиранные простыни на веревке, висят облака, весело кудахчут куры, громко, видимо через забор, переговариваются женщины.
Николая Григорьевича уже нет в комнате, кровать его заправлена по-солдатски. Из кухни пахнет пирожками, хозяйка, пока мы спали, затеяла стряпню.
Я посмотрел вверх: в толстую, квадратную балку посреди комнаты ввернуто кольцо, видно, когда-то в этом месте висела детская люлька. С тех пор прошло много времени, кольцо забелено, о нем забыли, висит оно без дела, без работы. И что-то непохоже, чтоб оно снова приняло на себя веселый крикливый груз. Дети Малышева теперь не вернутся сюда. Девчонки, круглолицые, черноволосые, как и мать, прошлым летом улетели в город на нашем самолете. Они сидели на месте радиста в пилотской кабине притихшие, деревенские. Когда самолет кренился, цеплялись друг за друга и испуганно смотрели на нас.
Через полгода я встретил их в городе. Из разговора понял, что домой они возвращаться не собираются. Почему-то вспомнились заброшенные северные поселки по Тунгуске, где доживают свой век одни старики, где покосились избы и где широкими крестами поперек ставен темные доски. Вот так же потянулась оттуда ниточка прошлой жизни, а потом и оборвалась. Я начинаю размышлять: а что станет с этими северными землями, этими столетними, построенными еще нашими далекими предками, казаками-первопроходцами, деревнями и поселками, если сюда перестанут летать самолеты и вертолеты, где до ближайшей больницы сотни километром, а в некоторых деревнях нет даже фельдшерского пункта? И это уже забота государства, поскольку летающие по этим трассам, в этих краях, самолеты и вертолеты – что кровеносные сосуды. Недаром кто-то сказал: будет жива деревня, будет жива Россия.
А я унесу с собой отсюда, из этого дома, короткое тепло дождливого вечера и эти жуткие рассказы о нелегкой судьбе тех летчиков-первопроходцах, которые осваивали эти трассы задолго до меня.
И я уже знал, что должен, не просто должен, а обязан рассказать об этом другим, чтоб знали: эта северная земля сурова и жестока с теми, кто пытается взять ее наскоком. И не прощает малейшей ошибки.
К нам в комнату заглянула Татьяна Михайловна.
– Куда заторопились, отдыхайте. Аэропорт закрыт до десяти часов. Иннокентий приезжал, они уже с Николаем Григорьевичем наладили, цилиндры вам еще вчера местным рейсом прислали.
Мне становится неудобно, я здесь лежу, наслаждаюсь теплом, а мои коллеги уже давно на работе и уже почти сделали свою часть работы.
Я быстро оделся, вышел во двор. Только сейчас, при дневном свете, я разглядел, насколько стар дом Малышева. Бревна рассохлись, потемнели от времени. Под навесом стоит верстак, на нем тиски, в углу лодочный мотор «Вихрь». Недалеко от сарая летний душ, сверху на столбах закреплен выкрашенный черной краской топливный самолетный бак. У Малышева все сделано прочно и надежно и, казалось, предусмотрено на все случаи жизни.
Я вернулся в дом, хозяйка налила чаю со свежим черничным вареньем, поставила на стол пироги. Пока я пью чай, она вяжет свитер и рассказывает, как познакомилась с Малышевым. Встретились они в Нюрбе – это в Якутии. Он работал там в Сосновской экспедиции, обслуживал летающие к геологам самолеты. Дело было сразу же после войны. Малышев и пробыл там целое лето. В один из тех светлых, как день, ночей, когда можно спокойно читать газету, они встретились на берегу Вилюя на танцах. И потом увез ее в Киренск.
– А как переводится на русский «Нюрба»? – спросил я. – Несколько дней назад летели мы туда с эстафетой, я спрашивал – никто не знает.
Татьяна Михайловна перестала вязать, пожала плечами:
– Кто его знает. Рассказывают, очень давно жила в тех краях красивая девушка, звали ее Нюрба. К ней сватался якутский князь Вилюй. Князь был старый, у него уже было несколько жен. Девушка не хотела выходить за него замуж, любила она другого. Собралась как-то Нюрба в лес погулять, и тут ее подкараулил старик Вилюй – расправился с ней, отнял жизнь, а потом, испугавшись, убежал к Лене. Долго искали девушку отец с матерью. В том месте, где она потерялась, образовалось много озер – так это, говорят, слезы родителей.
– Верно, озер там много, – подтвердил я.
– Люди зря говорить не будут, – улыбнулась Татьяна Михайловна. Она встала с табуретки, подошла ко мне, приложила к спине свитер. – Вовка примерно такой же, должно подойти.
Посидев еще немного, я отправился в аэропорт. Еще с мостика услышал, как ревет двигатель нашего самолета. Николай Григорьевич, завидев меня, открыл форточку, показал вверх палец. Такой простой, но понятный знак. Только позже я узнаю, что они всю ночь с Малышевым провели около самолета и заменили цилиндры. Меня охватывает чувство благодарности к этим незаменимым помощникам, которые в любую погоду днем и ночью делают свое дело. И никогда не требуют к себе особого внимания. Молча, точно и вовремя.
Я почувствовал, как внутри во мне закрутился, завертелся барабан времени, когда я уже не хозяин себе. Скорее, скорее в воздух, в небо!
На метеостанции я глянул синоптическую карту, она была вся испещрена красными и синими линиями, холодный фронт за ночь сместился к Байкалу. Чернильное перо на барографе круто ползет вверх, стремительно растет давление – это добрая примета. Меня беспокоит состояние полосы здесь, в Киренске. Я заскакиваю в диспетчерскую, прошу топливозаправщик, чтобы проехать на нем по полосе, но мне отвечают, что он уехал закачивать топливо. Мы со вторым пилотом Долотовым идем пешком. На полосе уже руководитель полетов Виктор Тимофеевич Буланов, высокий, худой, он точно сажень отмеряет землю.
– Пожалуй, открываться будем. Ты взлетишь, подскажешь состояние полосы, – громко говорит он, и звук его голоса теряется, пропадает среди шума работающих двигателей. Пока мы шли на полосу, проснулась, дала о себе знать малая авиация, на дальней стоянке уже вовсю пробуют свои голоса вертолеты и «Антоны».
Навстречу нам, все в том же замасленном комбинезоне, но уже в старой, с вылинявшим верхом фуражке, медленно идет Малышев. Он с силой топает каблуком о землю, проверяет ее на прочность.
– Лучше с краю взлететь, – говорит он, – здесь, я помню, всегда повыше было, потверже. А там низина, ее гравием выровняли, сейчас она намокла, на взлете зароется колесо, поведет самолет, ничем не удержишь.
Малышев говорит дело, я смотрю на заросшую травой обочину, прикидываю расстояние до фонарей, лишь бы не задеть их винтом. Придется взлетать по обочине, пройтись по ниточке, главное здесь – выдержать направление. А вот садиться на такую полосу можно и по гравийке. Я стараюсь не думать о посадке, я думаю о взлете. Грунт мягкий, посреди полосы свинцовые заплаты луж, я знаю: они затормозят движение, погасят скорость. «Если не подниму до них переднее колесо, то не взлечу, – мелькает короткая, как вспышка, мысль, – нет, надо поднять его, для этого нужно сместить в самолете груз назад, сделать заднюю центровку».