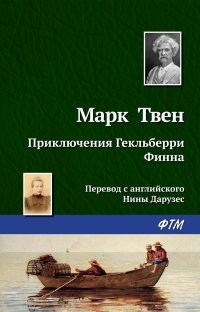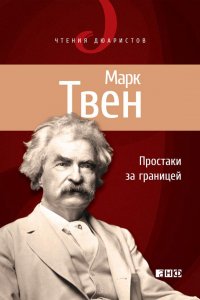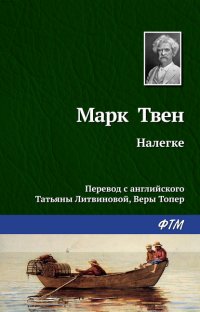
Читать онлайн Налегке бесплатно
- Все книги автора: Марк Твен
ОТ АВТОРА
Эта книга – не исторический очерк и не философский трактат, а всего лишь рассказ о пережитом. Я описал в ней несколько бурных лет моего бродяжничества, и цель ее – развлекать читателя в часы досуга, но отнюдь не томить его метафизикой и не раздражать ученостью. Все же из книги можно и узнать кое-что: например, о любопытнейшей главе в истории Дальнего Запада, главе, которую не написал ни один из тех, кто был на месте в то время и видел все своими глазами. Я говорю о начале, росте и разгаре серебряной лихорадки в Неваде, о явлении в некотором смысле чрезвычайно интересном, единственном в своем роде для того края; ничего подобного там прежде не бывало и, вероятно, не будет и впредь.
Да, в общем и целом в моей книге немало полезных сведений. Меня это очень огорчает, но, право же, я тут ничего поделать не могу: видимо, я источаю фактические данные так же естественно, как ондатра – драгоценный мускус. Иногда мне кажется, что я отдал бы все на свете, лишь бы удержать при себе свои знания, но это невозможно. Чем усерднее я конопачу все щели, чем туже завинчиваю крышку, тем обильнее из меня сочится мудрость. Поэтому я не смею оправдываться перед читателем, а только прошу его о снисхождении.
Марк Твен
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(Перевод В.Топер)
ГЛАВА I
Я назначен помощником Секретаря Невады. – Предел желаний. – Недолгие сборы. – Мечты и видения. – На реке Миссури. – Первоклассный пароход.
Моего брата только что назначили Секретарем территории Невада; это была поистине грандиозная должность, объединявшая в одном лице звания и полномочия казначея, ревизора, государственного секретаря и заместителя губернатора в отсутствие оного. Тысяча восемьсот долларов в год и титул «господин Секретарь» придавали этому высокому посту неслыханный блеск и великолепие. Я был молод, неискушен и от души завидовал брату. Мало того, что на его долю выпали богатство и власть, – он отправится в долгий, дальний путь, узнает новый, неизведанный мир. Путешествовать! Я еще ни разу не уезжал из дому, и для меня в этом слове таилось неотразимое очарование. Скоро брат мой уже будет в сотнях и сотнях миль отсюда, среди равнин, пустынь и гор Дальнего Запада. Он увидит индейцев и бизонов, луговых собачек и антилоп. Сколько у него будет приключений – быть может, его повесят или скальпируют, – и как это будет весело, и он напишет обо всем домой и прослывет героем! И еще он увидит золотые и серебряные прииски, и как-нибудь под вечер, управившись с делами, он на горном склоне наберет два-три ведерка блестящих самородков золота и серебра. И со временем он страшно разбогатеет, и воротится на родину морем, и будет походя говорить о Сан-Франциско, об океане, о «перешейке»[1], точно видеть воочию все эти чудеса – сущая безделица.
Что я выстрадал, думая о привалившем ему счастье, не описать пером. И когда он с полным хладнокровием, словно речь шла о пустяке, предложил мне должность личного секретаря, я не сомневался, что небо и земля прейдут и небосклон свернется, точно свиток! Это был предел моих желаний. О большем я и мечтать не мог. В какие-нибудь два часа я собрался в путь. Много времени на сборы не требовалось – нам предстояло ехать от границы штата Миссури до Невады в почтовой карете, и пассажирам разрешалось иметь при себе лишь небольшую поклажу. В те добрые старые времена, лет десять – двенадцать назад, не существовало Тихоокеанской железной дороги – ни одного рельса еще не было проложено.
Я намеревался пробыть в Неваде три месяца – у меня и в мыслях не было оставаться там дольше. Мне хотелось увидеть как можно больше нового, неведомого, а потом, не задерживаясь, вернуться домой и заняться делом. Я никак не ожидал, что моя трехмесячная прогулка затянется на шесть-семь необычайно долгих лет!
Всю ночь я грезил об индейцах, пустынях, серебряных слитках, а на другой день, в положенный час, мы в Сент-Луисе сели на пароход, шедший вверх по реке Миссури.
От Сент-Луиса до Сент-Джозефа мы плыли шесть дней; и таким скучным, дремотным и однообразным было это плавание, что оно не оставило и следа в моей памяти, – словно оно длилось не шесть долгих дней, а всего-навсего шесть минут. Я лишь смутно припоминаю страховидные коряги, которые мы хладнокровно приминали то одним колесом, то другим; и подводные камни, на которые мы сначала наскакивали, а потом отступали и перебирались в каком-нибудь другом месте; и песчаные отмели, где мы порой застревали и, посидев немного, при помощи багров продвигались дальше. Собственно говоря, наш пароход мог бы с таким же успехом проделать путь до Сент-Джозефа по суше, ибо он по большей части, можно сказать, шел пешком, терпеливо и настойчиво карабкаясь на подводные камни и перешагивая через коряги. Шкипер говорил, что пароход – первый класс, надо бы только больше напора и покрупнее колеса. Я лично считал, что ему не помешали бы ходули, но у меня хватило ума не сказать этого вслух.
ГЛАВА II
В Сент-Джозефе. – Мы прощаемся с лайковыми перчатками и фраками. – Вооружены до зубов. – Покидает Штаты. – Наша карета. – Нечто среднее между ухмылкой и землетрясением.
В тот радостный вечер, когда мы наконец сошли на берег в Сент-Джозефе, мы первым делом разыскали почтовую контору и заплатили по сто пятьдесят долларов за места в почтовой карете до Карсон-Сити, Невада.
На другое утро спозаранку, наскоро позавтракав, мы поспешили к станции. Тут возникло непредвиденное препятствие, а именно: оказалось, что тяжелый дорожный сундук никак не может сойти за двадцать пять фунтов багажа, – по той простой причине, что он весит гораздо больше. А нам полагалось только по двадцать пять фунтов на билет – и все. Итак, пришлось срочно открывать сундуки и второпях отбирать самые необходимые вещи. Мы сложили наши законные дважды двадцать пять фунтов в один чемодан, а сундуки отправили обратно в Сент-Луис. Это было грустное расставание, ибо мы очутились без фраков и белых перчаток, в которых думали щеголять на индейских раутах в Скалистых горах; не осталось у нас и высоченных цилиндров, и лакированных штиблет, – словом, ничего из тех предметов, кои необходимы в мирной и спокойной жизни. Мы перешли на военное обмундирование. Каждый из нас надел костюм из грубого плотного сукна, шерстяную солдатскую рубашку и сапоги, а в чемодан мы сунули несколько сорочек, исподнее белье и тому подобное. Брат мой, Секретарь территории Невада, прихватил фунта четыре законов, действующих в Соединенных Штатах, и шесть фунтов Полного толкового словаря, ибо мы – несчастные простаки, – не знали, что и то и другое продается в Сан-Франциско с доставкой в Карсон-Сити в течение одних суток. Я вооружился до зубов при помощи маленького семизарядного Смит-и-Вессона, пули которого напоминали гомеопатические пилюли, и только выпустив все семь зараз, можно было получить дозу, потребную для взрослого мужчины. Но это меня не смущало. Я считал, что обладаю вполне действенным оружием. У него оказался только один изъян: попасть из него в цель было совершенно невозможно. Один из наших кондукторов стрелял из моего револьвера в корову, и пока она стояла смирно, ничто ей не угрожало; но потом она начала двигаться, и тут-то кондуктор, уже нацелившийся на что-то другое, и всадил в нее заряд.
У моего брата, господина Секретаря, на поясе висел небольшой кольт для защиты от индейцев, и во избежание несчастных случаев он оставил его незаряженным. Спутника нашего звали мистер Джордж Бемис. Это была поистине грозная личность. Мы видели его впервые в жизни. У него на поясе висел допотопный пистолет системы Аллен, именуемый зубоскалами «перечницей». Система эта отличалась необыкновенной простотой. Стоило оттянуть курок – и пистолет стрелял; когда курок оттягивался, ударник поднимался, а барабан поворачивался, затем ударник опускался, и пуля вылетала вон.
Прицелиться из Аллена поверх поворачивающегося барабана и попасть в мишень – этот фокус, вероятно, еще не удавался никому на свете. Но все же револьвер Джорджа был надежным оружием, ибо, как сказал впоследствии один из наших кучеров, «если пуля не попадет куда надо, она попадет в другое место». И так оно и случилось. Однажды, когда Джордж навел пистолет на прибитую к дереву двойку пик, пуля угодила в мула, стоявшего в тридцати ярдах левее. Бемис не притязал на мула, но тем не менее хозяин его, появившись с двустволкой в руках, убедил Бемиса купить мула. Забавная это была штука – пистолет Бемиса. Иногда все шесть зарядов вылетали зараз, и тогда негде было укрыться от пуль – разве только спрятавшись у Бемиса за спиной.
Мы захватили с собой два-три одеяла на случай морозной погоды в горах. Роскоши мы себе никакой не позволили – взяли только трубки и пять фунтов курительного табаку. У нас было две больших фляги для запаса воды в прериях между станциями и маленький мешочек с серебром для текущих расходов – на завтраки и обеды.
К восьми часам мы в полной готовности уже были на другом берегу реки. Мы вскочили в карету, кучер щелкнул бичом – и мы умчались, оставив Штаты позади. Утро выдалось чудесное, все вокруг сверкало под летним солнцем, дышало свежестью и прохладой. Мы радовались избавлению от всех забот и обязанностей, и нам уже казалось, что годы, проведенные в душном, знойном городе, где мы трудились в поте лица своего, были растрачены зря. Мы мчались по Канзасу, и не прошло и двух часов, как мы довольно далеко углубились в прерии. Местность здесь волнистая; насколько хватал глаз, перед нами расстилалась бескрайняя равнина, на которой гряды холмов плавно чередовались с впадинами, – словно грудь океана, колеблемая ровным дыханием после пронесшейся бури. И повсюду виднелись квадраты кукурузных полей, выделяясь более темной зеленью среди необъятного простора зеленеющих лугов. Но вскоре этот океан на суше перестал «волноваться» и на семьсот миль простерся ровной, словно паркет, гладью!
Наша карета представляла собой громоздкую тряскую колымагу чрезвычайно внушительного вида – огромная люлька на колесах. Везла ее шестерка резвых лошадей, и рядом с кучером восседал кондуктор – особа, облеченная всей полнотой власти, ибо на нем лежала обязанность заботиться о почте, багаже, посылках и пассажирах. На этот раз, кроме нас троих, пассажиров не было. Мы расположились внутри кареты, на заднем сиденье. Все остальное пространство было заполнено тюками – мы везли с собой копившуюся три дня почту. Тюки, почти касаясь наших колен, отвесной стеной поднимались до самой крыши. Кроме того, груды посылок лежали на империале и оба багажника были полны до отказа. В общей сложности, по словам кучера, с нами ехало две тысячи семьсот фунтов почты: «Немного для Бригема, для Карсона и для Фриско[2], но больше всего для индейцев, а они и так уж обнаглели, что же это будет, когда они начитаются всякой всячины?» Так как при этом лицо его страшно исказилось, словно он хотел лукаво ухмыльнуться, но ему помешало землетрясение, – мы догадались, что замечание это – шутка и что, по всей вероятности, мы сбросим почти весь груз на дороге через прерии, где его подберут индейцы или еще кто-нибудь.
Лошадей мы меняли каждые десять миль в течение всего дня и буквально летели по укатанной ровной дороге. На каждой остановке мы выскакивали из кареты, чтобы размять ноги, и поэтому вечер застал нас свежими и бодрыми.
После ужина в карету села женщина, жившая в пятидесяти милях дальше по тракту, и нам троим пришлось по очереди ехать на козлах рядом с кучером. По всей видимости, это была особа неразговорчивая. Она сидела молча в сгущающихся сумерках, устремив неподвижный взор на комара, впившегося в ее руку, медленно поднимала другую руку и, нацелясь, хлопала по комару с такой силой, что зашаталась бы и корова; потом она с явным удовлетворением рассматривала трупик насекомого. Она ни разу не промахнулась, это был первоклассный стрелок с короткой дистанции. Трупы она не сбрасывала, а оставляла для приманки. Я следил за этим кровожадным сфинксом, следил до тех пор, пока мертвых комаров набралось штук тридцать – сорок, и все ждал, что она скажет хоть слово, но она упорно молчала. Наконец я сам вступил в разговор. Я сказал:
– Как много здесь комаров, сударыня.
– Еще бы!
– Что вы изволили сказать, сударыня?
– Еще бы!
Потом лицо ее прояснилось, она повернулась ко мне и заговорила:
– Лопни мои глаза, я уж думала, вы, ребята, глухонемые какие-то. Право слово. Сижу я тут, сижу, шлепаю комарей – и никак не пойму, что с вами такое. Сперва так и думала, что вы глухонемые, а потом кумекаю: может, захворали или ума решились? Да поглядела я на вас, поглядела – и вижу, что просто-напросто дурачки вы и говорить-то не умеете. Издалека ли едете?
Сфинкс уже не был сфинксом! Разверзлись источники великой бездны, и лил дождь сорок дней и сорок ночей – дождь из всех частей речи, – и нас захлестнули воды пошлой болтовни, не оставив нам ни уступа, ни вершины, за которую мы могли бы ухватиться и молвить слово среди этого бурного потока безграмотного вздора!
Какой это был ужас, ужас, ужас! Время шло час за часом, а она все тараторила, и я горько раскаивался, что своим замечанием о комарах вызвал ее на разговор. Она не умолкала ни на минуту всю дорогу, пока не добралась до цели своего путешествия; выходя из кареты, она растолкала нас (мы все-таки задремали) и сказала:
– Вот что, ребята, вы слазьте в Коттонвуде и пару дней задержитесь там, а я завтра к вечеру подъеду, и мы с вами малость поболтаем. Про меня говорят, будто я больно разборчива и нечего заноситься такой деревенщине, как я, ну а я, верно, всякую шушеру до себя не допускаю, иначе пропадешь, но ежели наскочу на подходящих людей, со мной еще водиться можно.
Мы решили не задерживаться в Коттонвуде.
ГЛАВА III
Лопнувшая скрепа. – Почта, сданная по адресу. – Беспокойный сон. – Полынь. – Пальто как предмет питания. – Печальная участь верблюда. – Предостережение неосторожным читателям.
Часа за полтора до рассвета, когда мы плавно катили по дороге – так плавно, что наша люлька лишь слегка покачивалась и мы, убаюканные мерным движением, стали забываться сном, – под нами вдруг что-то треснуло! Мы, разумеется, заметили это, но интереса не проявили. Карета остановилась. Мы слышали, как переговаривались кучер и кондуктор, как они искали фонарь и чертыхались, не находя его, – но у нас не было ни малейшего желания узнать, что же случилось; напротив, мы чувствовали себя особенно уютно оттого, что эти люди хлопочут и возятся в потемках, а мы укрылись в теплом гнездышке за спущенными шторами. Но, судя по доносившимся снаружи звукам, карета подверглась осмотру, а затем голос кучера произнес:
– Ах, черт! Скрепа лопнула!
Сон мигом слетел с меня – как всегда бывает, когда, еще не зная, в чем дело, чувствуешь, что стряслась беда. «Скрепа, – сказал я самому себе, – это, вероятно, часть лошади; и, очевидно, весьма существенная часть, потому что в голосе кучера явно слышалась тревога. Может быть, жила на ноге? Но как могла лопнуть жила у лошади на такой ровной дороге? Нет, что-то не то. Это просто невозможно, разве только она хотела лягнуть кучера. Что же это за штука – скрепа у лошади? Ну, что бы там ни было, признаваться в своем невежестве я не намерен».
Одна из шторок приподнялась, в окне показалось лицо кондуктора, свет фонаря упал на нас и на стену из почтовых тюков. Он сказал:
– Прошу публику ненадолго выйти. Скрепа лопнула.
Мы вылезли; было холодно, моросил дождь, и мы сразу почувствовали себя бесприютными и несчастными. Когда я узнал, что «скрепой» называют массивное приспособление, состоящее из ремней и рессор, я сказал кучеру:
– В жизни не видел, чтобы скрепа до такой степени износилась. Как это могло случиться?
– Очень просто. Не может одна карета везти почту за три дня. Вот так и случилось, – ответил он. – Кстати, тут самое то место и есть, куда отправлены мешки с газетами для индейцев, чтобы они читали, а не безобразничали. Счастье еще, что скрепа лопнула, не то я, пожалуй, впотьмах мимо бы проскочил.
Я знал, что он опять силится родить лукавую ухмылку, хоть и не мог видеть его лица, потому что он стоял нагнувшись; я мысленно пожелал ему благополучно разрешиться от бремени и стал помогать остальным вытаскивать увесистые тюки. Когда все было вытащено, на обочине дороги выросла внушительная пирамида. Скрепу починили, и мы снова заполнили оба багажника, но крышу не нагрузили совсем, а внутри кареты сложили значительно меньше того, что там было при выезде. Кондуктор опустил спинки сидений и нагрузил карету до половины во всю длину. Это вызвало решительный протест с нашей стороны, ибо теперь нам не на чем было сидеть. Но кондуктор оказался мудрее нас: он внушил нам, что лежать лучше, чем сидеть, и что при таком устройстве скрепы дольше выдержат. После этого мы охотно отказались от сидений. Удобное ложе было несравненно приятней. Я провел много увлекательных часов, растянувшись на нем, за чтением свода законов или Толкового словаря, с волнением следя за судьбой героев.
Кондуктор заявил, что с ближайшей станции пошлет человека подобрать оставленную почту, и мы покатили дальше.
К этому времени совсем рассвело; мы разлеглись на тюках, с наслаждением вытянули онемевшие ноги и смотрели в окна кареты, любуясь зеленым простором, подернутым утренним росистым туманом, вглядываясь в светлеющий восток с чувством полного, ничем не омраченного блаженства.
Карета быстро мчалась по дороге, шторки и наши пальто, висевшие в кожаных петлях, лихо развевались на ветру. Мы покачивались на мягких рессорах; стук копыт, щелканье бича, крики «Н-но, ходи веселей!» музыкой звучали в наших ушах; земля поворачивалась к нам, деревья кружились, словно молча приветствуя нас, а потом застывали на месте и глядели нам вслед не то с любопытством, не то с завистью; а мы полеживали на тюках, курили трубку мира и, сравнивая нашу теперешнюю роскошную жизнь с сереньким существованием в стенах города, где мы провели столько лет, пришли к выводу, что есть только одно истинное и полное счастье на свете, и это счастье мы обрели.
Мы позавтракали на какой-то станции – название я забыл, – а потом все втроем взобрались на крышу и сели позади кучера, предоставив кондуктору наше ложе, чтобы он мог немного вздремнуть. Когда солнце разморило меня, я улегся ничком на крышу кареты и, держась за шаткие перильца, проспал еще целый час. Вот до чего хороши там дороги! Невзирая на то, что лошади бежали со скоростью восьми-девяти миль в час, ничто не мешало человеку спокойно спать, покачиваясь на рессорах, а если карету встряхивало на кочках или ухабах, он инстинктивно хватался за перила. Кучера и кондукторы иногда спали на ровной дороге по тридцать, сорок минут, не слезая с козел. Я своими глазами это видел. И ни разу ни один из них не свалился: не было случая, чтобы спящий не ухватился за перила, когда карету подкидывало. Нелегкий труд возить почту через прерии, и никто не мог бы проделать весь путь, не вздремнув хоть немного.
Вскоре мы миновали Мэрисвилл, переправились через реки Биг-Блу и Литл-Санди; еще миля – и мы въехали в штат Небраска. Потом, покрыв еще милю, добрались до Биг-Санди: от Сент-Джозефа нас отделяли уже сто восемьдесят миль.
Когда начало смеркаться, мы увидели первый образец той породы животных, которая водится среди гор и пустынь и на протяжении двух тысяч миль – от Канзаса до Тихого океана – известна под названием «ослиные уши». Меткое название. Заяц этот почти ничем не отличается от своих собратьев, но он на одну треть, а то и вдвое крупнее их, и ноги у него – по отношению к туловищу – длиннее, а уши просто неправдоподобные: таких в самом деле не найдешь ни у кого на свете, кроме как у осла. Когда он сидит смирно, перебирая в памяти свои грехи, или погружен в раздумье, или чувствует себя в безопасности, его мощные уши торчат высоко над головой; но стоит хрустнуть сломанной ветке, как он, перепуганный насмерть, слегка откидывает их и пускается наутек. С минуту вы видите только вытянутое в струнку серое тело, скользящее в кустах полыни; голова поднята, глаза устремлены вперед, чуть отогнутые назад уши – словно кливер на паруснике – не дают вам потерять его из виду. Время от времени он делает огромный скачок, взлетая над кустарником на длинных задних ногах, – такому прыжку позавидовала бы скаковая лошадь. Потом он переходит на более плавную крупную рысь и вдруг, точно по волшебству, скрывается из глаз. Значит, он притаился за кустом и будет ждать там, весь дрожа и тревожно прислушиваясь, а как только вы подойдете к нему на расстояние шести футов, он опять побежит. Но для того чтобы такой заяц показал всю свою прыть, нужно разок выстрелить в него. Тут уж он себя не помнит от страха, и, закинув за спину длиннющие уши, сжимаясь и расправляясь, словно пружина, при каждом скачке, он покрывает милю за милей с легкостью поистине изумительной.
Общими усилиями мы «завели», – по выражению кондуктора, – повстречавшегося нам длинноухого зайца. Сначала Секретарь выстрелил из своего кольта; потом я брызнул всеми семью пилюлями моего Смит-и-Вессона; в ту же секунду допотопный Аллен открыл оглушительную пальбу. И переполошился же бедный зверек! Он опустил уши, задрал хвост и стрелой помчался прямо в Сан-Франциско – только мы его и видели! Еще долго, после того как он исчез, мы слышали свист рассекаемого воздуха.
Не помню, где именно впервые появились кусты полыни, но раз уж я упомянул о них, могу описать их и здесь. Сделать это нетрудно: пусть читатель представит себе старый вечнозеленый дуб, низведенный до размеров кустика в два фута вышины, но с такой же шершавой корой, с такими же листьями и искривленными ветвями – все, как полагается, – и он в точности будет знать, каков куст полыни. Сколько раз в часы безделья я лежал на земле, спрятав голову под кустик полыни, и развлечения ради воображал, что мошкара в его листве – крохотные пичужки, а муравьи, снующие взад-вперед между корней, – крохотные стада и отары, а сам я – великан из страны Бробдингнег, на досуге подстерегающий малюсенького человечка, дабы съесть его.
В общем, можно сказать, что куст полыни – это тот же могучий царь лесов, но только в миниатюре. Листья у нее зеленовато-серые, и там, где она растет, пустыни и горы словно окрашены в этот цвет. Пахнет она так же, как обыкновенный шалфей, и настойка из нее такая же на вкус, как столь знакомая всем мальчишкам настойка из шалфея. Полынь необычайно вынослива, она может жить в глубоком песке и на голых скалах, где не вздумалось бы расти никому, кроме одной «пучковой травы»[3]. Кусты полыни – с промежутками от трех до шести-семи футов – сплошь покрывают пустыни и горы Дальнего Запада до самых границ Калифорнии. На сотни миль здесь тянется пустынная голая земля, без единого дерева, – только полынь и ее сородич – солянка, столь схожая с нею, что о различии между ними и говорить не стоит. Ни согреться у костра, ни приготовить горячий ужин нельзя было бы на этих пустынных равнинах без дружественного содействия полынного куста. Ствол его толщиной с запястье подростка (а иногда и взрослого мужчины), кривые ветки наполовину тоньше; древесина плотная, твердая, крепкая, почти как у дуба.
Когда путники разбивают лагерь, первым делом рубят кусты полыни; и уже несколько минут спустя обильный запас топлива заготовлен. Выкапывают яму шириной в фут, глубиной и длиной в два фута и жгут в ней мелко нарубленный кустарник, пока она не наполнится до краев раскаленными углями, – тогда можно начинать стряпать; и так как нет дыма, то никто не чертыхается. Такой костер держит жар всю ночь, если изредка подбрасывать топливо; сидеть вокруг него очень уютно, и при свете его даже самый фантастический случай из жизни рассказчика кажется правдоподобным, поучительным и чрезвычайно занятным.
Итак, полынный кустарник – превосходное топливо, но в пищу он, безусловно, не годится. Ни одно живое существо не станет питаться им, кроме осла и мула, – его незаконнорожденного чада. Но на свидетельство этих животных полагаться нельзя, ибо они охотно поедают сосновые наросты, куски антрацита, медную стружку, свинцовые трубы, пустые бутылки – словом, все что попало, и вид у них при этом такой ублаготворенный, как будто они лакомятся устрицами. Мулы, ослы и верблюды обладают аппетитом, который временно можно обмануть чем угодно, но утолить нельзя ничем. Однажды в Сирии, у истоков Иордана, пока мы ставили палатки, верблюд занялся моим пальто. Сперва он критическим оком осмотрел его со всех сторон, словно намереваясь заказать себе такое же; после того как он основательно изучил его с точки зрения пригодности для носки, верблюд, видимо, решил испытать его пригодность в пищу: поставив на пальто ногу и ухватив зубами край рукава, он принялся усердно жевать, – и жевал до тех пор, пока не сожрал весь рукав; при этом он в поистине религиозном экстазе то закрывал, то открывал глаза, всем своим видом показывая, что в жизни не едал ничего вкусней мужского пальто. Потом он почмокал губами и потянулся ко второму рукаву. После этого он лизнул бархатный воротник и улыбнулся довольной улыбкой, давая понять, что именно бархатный воротник он почитает самой лакомой частью всякого пальто. За воротником последовали полы вкупе с пистонами, леденцами от кашля и константинопольским инжиром. А потом из кармана выпала рукопись – корреспонденция, написанная мною для американских газет; верблюд отведал и этой пищи. Но тут он ступил на опасный путь: ему стали попадаться куски неудобоваримой мудрости, камнем ложившейся на желудок; некоторые остроты так потрясали его, что он начинал стучать зубами; дело принимало дурной оборот для бедного верблюда, но он, не теряя надежды, держался стойко, пока наконец не наткнулся на сообщение, которое даже верблюд не мог безнаказанно проглотить. Задыхаясь, он разинул рот, глаза его вылезли из орбит, передние ноги разъехались, и четверть минуты спустя он уже лежал на земле недвижимый, как столярный верстак; вскоре он умер в страшных мучениях. Я подошел к нему и вытащил рукопись из его зева; оказалось, что чувствительное животное погибло, подавившись одним из самых безобидных и мирных сообщений, какие мне доводилось преподносить доверчивым читателям.
Я отвлекся от своего предмета и потому не успел сказать, что полынный куст бывает пяти-шести футов высоты, и тогда, соответственно, он и ветвистей, и листья у него крупнее; однако обычный его рост – два, два с половиной фута.
ГЛАВА IV
Прибытие на станцию. – Странное местоположение палисадника. – Наш почтенный хозяин. – Изгнанник. – Бурда-мура. – Обеденный этикет. – Мексиканские мулы. – Езда на почтовых и по железной дороге.
Когда солнце село и повеяло вечерней прохладой, мы стали устраиваться на ночь. Мы разобрали жесткие кожаные сумки для писем и тюки с выпирающими углами и обложками журналов, книг и посылок. Потом мы опять сложили всю почту, стараясь, чтобы ложе наше получилось как можно ровней. Отчасти нам это удалось; однако, невзирая на усердные труды наши, оно походило на маленькое море, по которому ходят бурные волны.
Затем мы извлекли свои сапоги из тайников между тюками, куда они запрятались, и надели их. После этого мы облачились в сюртуки, жилеты, брюки и теплые шерстяные рубашки, предварительно вытащив их из кожаных петель, где они болтались целый день, – ибо, поскольку особ женского пола не было ни на станциях, ни в карете, а погода стояла жаркая, мы, не стесняясь, уже в девять часов утра сняли с себя всю одежду, кроме исподней. Закончив таким образом приготовления, мы убрали подальше громоздкий словарь, чтобы не мешал, а фляги с водой и пистолеты положили поближе, чтобы можно было нащупать их впотьмах. Потом каждый из нас выкурил последнюю трубку, рассказал последнюю историю, после чего мы засунули трубки, кисеты и деньги в укромные местечки среди тюков и задернули все шторки, так что стало темно, «как у коровы в желудке», – по образному выражению нашего кондуктора. Несомненно, темнее и быть не могло – разглядеть что-нибудь, хотя бы и смутно, не было никакой возможности. И наконец мы свернулись, как шелковичные черви, закутавшись каждый в свое одеяло, и мирно отошли ко сну. Когда карета останавливалась для смены лошадей, мы просыпались, пытаясь – не без успеха – вспомнить, где мы находимся; через две минуты карета уже опять катила по дороге, а мы опять засыпали. Теперь мы ехали по местности, кое-где прорезанной ручейками. Берега у них были высокие, крутые, и каждый раз, как мы скатывались с одного берега и взбирались на другой, мы валились друг на друга. Сперва мы все трое, сбившись в кучу, съезжали к передку кареты в полусидячем положении, а в следующую секунду оказывались в другом конце ее, стоя на голове. Вдобавок мы брыкались и размахивали руками, ограждая себя от тюков и сумок, грозивших обрушиться на нас; а так как из-за всей этой возни столбом подымалась пыль, то мы хором чихали и по очереди корили друг друга, не всегда соблюдая правила учтивости: «Уберите свой локоть!», «А нельзя ли полегче?»
Каждый раз, когда мы перекатывались с одного конца кареты в другой, Полный толковый словарь следовал за нами; и каждый раз по его вине случалась беда. Для начала он саданул Секретаря по локтю, потом он въехал мне в живот, и наконец так своротил нос Бемису, что тот, по его словам, мог заглянуть себе в ноздри. Пистолеты и мешочки с деньгами вскоре улеглись на полу, но трубки, чубуки, кисеты и фляги с грохотом летели за словарем, как только он бросался в атаку, и всячески содействовали ему, засыпая нам глаза табаком и заливая воду за воротник.
Но все же в общем и целом мы отлично провели ночь. Тьма постепенно рассеивалась, и наконец серый предутренний свет проник сквозь щели сборчатых шторок; мы полежали еще немного, сладко зевая и потягиваясь, затем сбросили с себя коконы и почувствовали, что отлично выспались. По мере того как встающее солнце согревало землю, мы снимали один предмет одежды за другим, после чего стали готовиться к завтраку – и в самое время, потому что пять минут спустя кучер разбудил зеленые просторы зловещим гласом почтового рожка и вдали показались два-три строения. И вот под громкий стук колес, цоканье копыт нашей шестерки и отрывистую команду кучера мы на предельной скорости с шиком подкатили к станции. Чудесная это была штука – стародавняя езда на почтовых!
Мы выскочили из кареты в чем были – полуодетые. Кучер, бросив вожжи, слез с облучка, потянулся, разминая онемевшие члены, скинул толстые кожаные рукавицы – все это не спеша, с нестерпимым высокомерием, не удостаивая взглядом подбежавших к карете станционного смотрителя и нескольких конюхов – заросших волосами полудикарей, которые с живейшим участием справлялись об его здоровье, подобострастно шутили и, всячески выражая свою готовность услужить, проворно выпрягали наших лошадей и выводили из конюшни свежую упряжку, – ибо тогдашний кучер почтовой кареты смотрел на станционных смотрителей и конюхов как на существа низшего разряда: они, несомненно, приносят пользу и обойтись без них было бы трудно, но тем не менее значительному лицу не пристало якшаться с ними. В глазах же смотрителя и конюхов, наоборот, кучер был героем – могущественным сановитым вельможей, гордостью и славой народа, баловнем всего мира. Обращаясь к нему, они безропотно сносили его оскорбительное молчание, – именно так ведь и должен вести себя великий человек; а когда он открывал рот – с благоговением ловили каждое его слово. (Он никогда не заговаривал с кем-нибудь в отдельности, но дарил свое внимание и лошадям, и конюшне, и окружающему пейзажу, а кстати, и человеческой мелкоте.) Когда он отпускал обидную шутку по адресу одного из конюхов, тот целый день чувствовал себя именинником; когда он произносил свою единственную остроту – старую, грубую, пошлую, плоскую, которую он повторял слово в слово и в присутствии тех же слушателей, сколько бы раз карета ни останавливалась на этой станции, – все угодливо прыскали от смеха, хлопали себя по ляжкам, словно в жизни ничего уморительней не слыхали. А как они мчались со всех ног, когда он требовал таз для воды, или флягу с водой, или огня, чтобы раскурить трубку! Но если бы подобное желание дерзнул выразить пассажир, в ответ на свою просьбу он получил бы только презрительный отказ. Примером им служил в таких случаях тот же кучер, ибо не подлежит сомнению, что кучер почтовой кареты презирал своих пассажиров ничуть не меньше, чем конюхов.
Что касается кондуктора, то, хотя именно он обладал подлинной властью, смотритель и конюхи только отдавали ему долг вежливости, а преклонялись и трепетали они единственно перед кучером. С каким восхищением взирали они на него, когда он, восседая на высоком облучке, с небрежным видом натягивал рукавицы, в то время как сияющий конюх держал наготове вожжи, терпеливо дожидаясь, чтобы кучер соизволил взять их в руки! И какими восторженными возгласами они разражались, когда он, щелкнув длинным бичом, пускал лошадей вскачь!
Почтовые станции тех времен помещались в длинных низких строениях, сложенных из высушенного на солнце бурого кирпича (так называемого самана). Крыши, почти не имевшие ската, были соломенные, а сверху покрыты толстым слоем земли, на которой довольно густо росли трава и сорняк. Мы впервые в жизни увидели палисадник не перед домом, а на крыше его. Станция состояла из сараев, конюшни на двенадцать-пятнадцать лошадей и трактира для приезжающих. Тут же спали смотритель и один-два конюха. Здание трактира было такое низенькое, что на стреху можно было облокотиться, а в дверь входили нагнув голову. Вместо окна в стене зияло квадратное отверстие без стекла, в которое с трудом пролез бы взрослый мужчина. Пол был земляной, но утоптан плотно. Печи не имелось, впрочем, ее с успехом заменял очаг. Не было ни полок, ни шкафов, ни кладовых. В одном из углов стоял открытый мешок муки, а у подножия его примостилось несколько почерневших допотопных кофейников, жестяной чайник, фунтик соли да свиной окорок.
Перед дверью в конуру смотрителя, на земле, стояли жестяной таз и ведро с водой и лежал кусок желтого мыла; с крыши свисала синяя шерстяная рубаха, заменявшая смотрителю полотенце, и только двум лицам – кучеру и кондуктору почтовой кареты – дозволялось пользоваться им. Однако ни тот ни другой этого не сделали: второй – из скромности, а первый потому, что не желал поощрять авансы какого-то смотрителя. У нас имелись полотенца – на дне чемодана, – и проку от них было столько же, как если бы они оказались в Содоме и Гоморре. Мы (и кондуктор) утерлись платками, а кучер прибег к помощи штанин и рукавов. Внутри, возле двери, висела ветхая рама, в углу которой сохранилось два осколка зеркала. Отражение в них получалось весьма забавное, ступенчатое: одна половина лица дюйма на два возвышалась над другой. К раме привязан был обломок гребешка, – но если бы мне предложили либо описать эту реликвию, либо умереть, я немедля заказал бы себе гроб. Гребень, видимо, принадлежал еще Исаву и Самсону[4], и за долгие годы на нем накопилось изрядное количество волос и грязи. В одном углу комнаты было сложено несколько ружей и мушкетов, а также рожки и сумки с патронами. Смотритель щеголял в плотных домотканых штанах с нашитыми сзади и на внутренней стороне икр кусками оленьей кожи, которые заменяли ему краги при езде верхом; поэтому штаны были наполовину синие, наполовину желтые и эффектны до чрезвычайности. Костюм его дополняли высокие сапоги, украшенные внушительными испанскими шпорами, железные колесики и цепочка звякали при каждом его шаге. Борода у него была до пояса, усы густые, шляпа старая, с обвисшими полями, рубашка синяя шерстяная – ни подтяжек, ни жилетки, ни сюртука; на поясе висел длинный флотский пистолет в кожаной кобуре, а из голенища торчала роговая рукоять охотничьего ножа.
Убранство трактира не отличалось ни пышностью, ни обилием. Качалки и мягкие диваны отсутствовали, да их здесь никогда и не бывало, а обязанности их исполняли два колченогих табурета, сосновая скамья длиной в четыре фута и два пустых ящика из-под свечей. Обеденным столом служила засаленная доска, положенная на козлы, а что касается скатерти и салфеток, то они не появились, – да их никто и не ждал. Каждый прибор состоял из обшарпанной жестяной миски, ножа, вилки и жестяной кружки, но перед кучером поставили еще фаянсовое блюдце, знававшее лучшие дни. Разумеется, этот вельможа восседал во главе стола. Среди предметов сервировки выделялся один, который являл собой трогательное зрелище былого величия. Я имею в виду судок. Он был из мельхиора, перекореженный и ржавый, но до такой степени не на своем месте здесь, что казался оборванным королем-изгнанником, который очутился среди дикарей и в самом падении своем еще окружен ореолом высокого сана. Из бутылочек сохранилась только одна – без пробки, засиженная мухами, с разбитым горлышком; в уксусе, налитом до половины, плавали вверх лапками законсервированные мухи, явно сожалея о том, что сунулись сюда.
Смотритель поставил стоймя каравай недельной выпечки, формой и величиной напоминавший большой круг сыра, и отрубил от него несколько ломтей, столь же прочных, как камни мостовой, только что помягче.
Потом он отрезал каждому по куску солонины; однако есть ее отважились одни старые, закаленные работники станции, ибо эта солонина, предназначенная для гарнизонов, была отвергнута правительством Соединенных Штатов, не пожелавшим кормить ею своих солдат, а компания, коей принадлежал почтовый транспорт, купила ее по дешевке для своих пассажиров и служащих. Быть может, нас потчевали забракованной армейской солониной не именно на этой станции, а где-нибудь подальше, но что нас ею потчевали – факт неопровержимый.
В заключение смотритель налил нам некоего пойла, которое он не без остроумия называл «бурда-мура». Собственно говоря, выдавало оно себя за чай, но в нем содержалось слишком много мочалки, песку и прогорклого шпига, чтобы мало-мальски сообразительный пассажир мог обмануться. К чаю не дали ни молока, ни сахару, – даже ложки не дали, так что нечем было перемешать его составные части.
Мы не стали есть ни хлеба, ни мяса и не отведали «бурды-муры». А глядя на жалкую бутылку с уксусом, я вспомнил анекдот (старый-престарый анекдот, даже для того времени) о путешественнике, севшем за стол, на котором не было ничего, кроме макрели и баночки горчицы. Он спросил трактирщика, нет ли еще чего-нибудь.
– Еще чего-нибудь! Да разрази меня гром, этой макрели хватит на шестерых!
– Но я не люблю макрель.
– Ах вот что! Ну так кушайте горчицу.
Меня всегда очень смешил этот анекдот, но сейчас в нем было столь удручающее правдоподобие, что мне вовсе не хотелось смеяться.
Глаза наши видели приготовленный для нас завтрак, но зубы наши бездействовали. Отведав еды и понюхав чай, я выразил желание выпить кофе. Смотритель застыл на месте и в немом изумлении уставился на меня. Наконец, опомнившись, он отворотился и сказал таким тоном, каким окончательно сбитый с толку человек разговаривает с самим собой:
– Кофе! Ну и ну! И повернется же язык!
Есть мы не могли, беседа тоже не завязывалась – погонщики скота и конюхи, сидевшие за одним столом с нами, не разговаривали между собой. Они только иногда по-приятельски обращались друг к другу с просьбой, выраженной кратко и энергично. Сначала их манера выражаться поразила и заинтересовала меня чисто «западной» свежестью и новизной; но вскоре она наскучила мне своим унылым однообразием:
«Дай сюда хлеб, скунсов сын!» Нет, я ошибся – не «скунсов», а что-то другое; насколько мне помнится, словцо, было еще покрепче, я даже уверен в этом, но оно выскочило у меня из головы. Впрочем, не беда – оно, вероятно, все равно не годилось бы для печати. Но оно послужило вехой в моей памяти, отметившей тот пункт нашего путешествия, когда я впервые узнал сочный, образный язык, присущий обитателям западных гор и равнин.
Отказавшись от дальнейших попыток насытиться, мы заплатили по доллару с головы, разлеглись на тюках в карете и в виде утешения закурили трубки. Здесь нас постигла первая перемена к худшему в нашей доселе роскошной езде: нашу шестерку благородных коней выпрягли и заменили шестеркой мулов. Однако это были дикие мексиканские мулы, и пока кучер усаживался и натягивал рукавицы, возле каждого стоял конюх и крепко держал его под уздцы. А когда кучер взял в руки вожжи и гикнул, конюхи отскочили в сторону, и карета умчалась прочь от станции так стремительно, словно вылетела из пушки. Как бешено скакали буйные животные! Ни на минуту не убавляя шагу, они неслись ожесточенным, яростным галопом, пока не покрыли десять-двенадцать миль и не остановились перед хибарками и конюшнями следующей станции.
Так мы летели сломя голову весь день. В два часа пополудни вдали показалась узкая полоска леса на берегу Северного Платта, которая отмечает его извилистый путь по просторам Великих равнин. В четыре часа пополудни мы пересекли рукав реки, а в пять – самую реку и очутились в форте Карни, проделав путь от Сент-Джозефа – триста миль! – за пятьдесят шесть часов.
Такова была езда на почтовых по бескрайним прериям лет десять – двенадцать тому назад, когда едва ли два десятка людей во всей Америке надеялись увидеть еще на своем веку, как вдоль этого тракта до самого океана протянется железная дорога. Но железная дорога уже построена, и сколько картин встает в моей памяти, сколько контрастов поражает меня, когда я читаю напечатанный в «Нью-Йорк таймс» нижеследующий очерк о поездке по тому же почти маршруту, по которому следовал и я в описываемом путешествии. Мне трудно даже представить себе новое положение вещей.
ЧЕРЕЗ КОНТИНЕНТ
В воскресенье, в четыре часа двадцать минут пополудни, поезд отошел от вокзала в Омахе; так началась наша длительная прогулка на Запад. Несколько часов спустя нам объявили, что готов обед – немаловажное событие для тех из нас, кто еще не испытал, что значит пообедать в пульмановском отеле на колесах; итак, перейдя по ходу поезда в вагон, примыкающий к нашему спальному дворцу, мы очутились в вагоне-ресторане. Этот наш первый в пути воскресный обед был для нас сущим откровением. И хотя мы обедали таким образом четыре дня кряду и сверх того завтракали и ужинали, мы не уставали восхищаться этим нововведением и радоваться комфорту, который он нам доставлял. Среди покрытых белоснежными скатертями столиков, на которых сверкало массивное серебро, сновали темнокожие слуги в белой, без единого пятнышка одежде, и перед нами, словно по волшебству, появлялись яства, коих не постыдился бы сам Дельмонико[5]; и право же, в некоторых отношениях этому прославленному кулинару трудно было бы тягаться с нашим меню, ибо, помимо всего, что обычно составляет первоклассный обед, нам ведь подавали отбивные из антилопы (тот, кто не отведал этого блюда, – ах, что он понимает в лукулловском пире!), чудесную речную форель, отборные фрукты и ягоды – и наконец пикантная приправа, какой не купишь и за миллион: благоуханный, возбуждающий аппетит воздух прерий! Можете не сомневаться, что мы отдали должное этим лакомым кушаньям, не забывая пополнять бокалы искристым вином; и так как вдобавок мы мчались со скоростью тридцати миль в час, то и пришли к выводу, что столь головокружительной жизни еще никогда не вели. (Однако через два дня мы побили этот рекорд, покрыв двадцать семь миль в двадцать семь минут, причем ни одна капля не пролилась из наших полных до краев бокалов шампанского!) После обеда мы перешли в салон-вагон, и так как вечер был воскресный, то мы спели несколько старинных торжественных гимнов – «Славен господь, дарующий нам…», «Сияющий брег», «Венец творения» и так далее, и мужские и женские голоса, сливаясь, стройно звучали в вечернем воздухе.
А между тем наш поезд мчался в неведомую даль, и его единственное око, точно огромный горящий глаз Полифема[6], прорезало густой мрак, окутавший бескрайние прерии. Потом мы улеглись в свои роскошные постели и почивали сном праведников, а проснувшись наутро (в понедельник) в восемь часов, обнаружили, что мы находимся у переправы через Северный Платт, в трехстах милях от Омахи, – и это за пятнадцать часов и сорок минут!
ГЛАВА V
Новые знакомства. – Койот. – Собачий опыт. – Разочарованный пес. – Сородичи койота. – Трапезы, вкушаемые далеко от дома.
Вторая ночь прошла, как и первая, – часы мирного сна сменялись суетой остановок. Но утро наконец настало. И опять пробуждение принесло нам отраду свежего ветерка, широкого простора зеленеющих лугов, яркого солнца, торжественного безмолвия; ни живой души, ни признака человеческого жилья, а воздух такой прозрачный, что деревья, удаленные на три мили с лишним, казались растущими у самой дороги. Мы опять сняли с себя лишнюю одежду, но крепко привязали шляпы, чтобы волосы не унесло ветром, – и уселись на крыше кареты, свесив ноги через край, да так и ехали, время от времени покрикивая на резвых мулов, отчего они откидывали назад уши и мчались еще быстрее, и жадно вглядываясь в расстилавшийся перед нами необъятный, как мир, зеленый ковер, каждое мгновение ожидая увидеть что-нибудь новое и интересное. По сей день сладостная дрожь пробирает меня, стоит мне вспомнить такое упоительное утро в пути, когда от радостного ощущения необузданной свободы кровь плясала в моих жилах!
После завтрака, в течение примерно часа, нам повстречались первые норы луговых собачек, первая антилопа и первый волк. Если мне память не изменяет, это был койот – луговой волк западных пустынь, и в таком случае я могу сказать с уверенностью, что ни красотой, ни респектабельностью он не отличался; я могу судить о нем со знанием дела, ибо впоследствии близко познакомился с его породой. Это длинное тощее существо, несчастное и больное на вид, в серой волчьей шкуре, с хвостом довольно пушистым, но неизменно поджатым, что придает всей его фигуре выражение крайнего уныния и безысходной тоски; взгляд у него увертливый и злобный, морда вытянутая и острая, приподнятая верхняя губа не закрывает зубов. Весь он какой-то вороватый.
Койот – живое воплощение нужды. Он всегда голоден. Он всегда беден, незадачлив и одинок. Самая последняя тварь презирает его, и даже блохи предпочли бы ему велосипед. Он так смирен и труслив, что, хотя зубы у него угрожающе оскалены, вся морда словно просит простить его за это. А какой урод! – костлявый, худющий, щетинистый и жалкий. Увидев вас, он приподымает верхнюю губу и скалит зубы, потом слегка сворачивает со своего пути, втягивает голову и пускается крупной неслышной рысью сквозь заросли полыни, время от времени оглядываясь на вас через плечо, пока не уйдет так далеко, что пуля догнать его не может; тогда он останавливается и внимательно рассматривает вас; делает он это через равные промежутки: пробежит пятьдесят ярдов и остановится; еще пятьдесят ярдов – и опять остановится; и наконец серая окраска его скользящего тела сливается с серым цветом полыни, и койот исчезает. Все это при условии, что вы ничем ему не угрожаете; в противном же случае он проявляет несравненно большую прыть, мчится, словно наэлектризованный, и между ним и вашим оружием оказывается столько недвижимого имущества, что к тому времени, когда вы взведете курок, вы убеждаетесь в необходимости иметь винтовку Минье; прицелившись, уже понимаете, что вам нужна пушка; а когда вы спускаете курок, для вас совершенно ясно, что догнать его могла бы только необычайно выносливая молния. Но самое потешное – это пустить в погоню за койотом быстроногую собаку, особенно если она высокого мнения о себе и привыкла считать, что резвостью ее никто превзойти не может. Койот, по обыкновению, рысит мягко, плавно, будто и не спеша, и время от времени оглядывается через плечо, улыбаясь коварной улыбкой, чем пуще раззадоривает собаку, так что она еще ниже опускает голову, еще дальше вытягивает шею, еще больше задыхается, прямее выставляет хвост, с яростным ожесточением все быстрее перебирает лапами, а за ней вздымается туча песку – все шире и шире, выше и гуще, – отмечая ее долгий след по пустынной равнине!
А койот неуклонно бежит впереди собаки на расстоянии каких-нибудь двадцати футов от нее, и она, хоть убей, не может понять, почему это расстояние не сокращается; она начинает злиться, ее бесит, что койот бежит так легко, не обливается потом, не перестает улыбаться, собаку охватывает неистовый гнев: как нагло провел ее этот незнакомец, и какой подлый обман эта размеренная, плавная, бесшумная рысь! Собака замечает, что очень устала и что койот, чтобы не убежать от нее совсем, замедляет ход, – и тут-то выросшая в городе собака окончательно выходит из себя, она плачет, бранится, в исступлении месит лапами песок и, собрав последние силы, кидается за койотом. После этого броска только шесть футов отделяют ее от ускользающего врага, но две мили – от друзей. И вдруг, в то самое мгновение, когда глаза собаки загораются новой надеждой, койот еще раз поворачивается к ней, приветливо улыбается, словно хочет сказать: «Ну что же, придется мне покинуть тебя, дружок, – дело есть дело, не могу я целый день прохлаждаться с тобой», раздается шорох, треск, свистит рассекаемый воздух – и уже собака одна-одинешенька среди безмолвной пустыни.
У нее голова идет кругом. Она останавливается, озирается по сторонам, взбегает на ближайший песчаный пригорок и всматривается вдаль, задумчиво мотает головой и, не проронив ни слова, поворачивает и трусит обратно к своему каравану, где смиренно забивается под самый задний фургон, чувствуя себя несчастной и униженной, и потом неделю ходит с поджатым хвостом. И еще целый год, всякий раз когда поднимается крик и улюлюканье, эта собака лишь равнодушно глянет в ту сторону, явно говоря про себя: «И совсем мне это ни к чему».
Койот обитает преимущественно в самых безлюдных, самых глухих пустынях, наряду с ящерицей, длинноухим зайцем и вороной, и ведет весьма необеспеченную жизнь, с трудом добывая скудное пропитание. Видимо, кормится он только трупами волов, и мулов, и лошадей, отставших от переселенческих караванов, всякой падалью, а подчас и тухлым мясом, полученным в наследство от белых путников, достаточно богатых, чтобы обойтись без забракованной армейской солонины. Он поедает решительно все, чем не брезгают его ближайшие родичи – индейцы, кочующие в пустынных прериях, – а те едят все, что можно куснуть. Удивительное дело: индейцы – единственные известные истории существа, которые в состоянии отведать нитроглицерина и – если не умрут – попросить еще.
Койоту пустынь по ту сторону Скалистых гор живется особенно трудно, ибо его родня, индейцы, не хуже его самого умеют распознать соблазнительный запах, приносимый ветерком, и пуститься на поиски издохшего вола, от коего сей аромат исходит; в таких случаях он волей-неволей довольствуется тем, что сидит на почтительном расстоянии и смотрит, как люди, вырезав и отодрав все годные в пищу куски, уходят со своей добычей. А затем он вместе с поджидающими воронами обследует скелет и обгладывает кости. По общему мнению, кровное родство койота с этой зловещей птицей и с индейцами пустынь не подлежит сомнению потому, что все они населяют безлюдные пустынные земли, причем живут между собой в мире и согласии, дружно ненавидя все остальные живые существа и мечтая принять участие в их похоронах. Койоту ничего не стоит отправиться завтракать за сотню миль, а обедать – за полтораста; ведь он отлично знает, что от одной трапезы до другой пройдет не меньше трех-четырех дней, так не лучше ли повидать свет и полюбоваться красотами природы, чем бездельничать и увеличивать бремя забот своих родителей?
Мы очень скоро научились различать отрывистый, злобный лай койота, который доносился по ночам с погруженных во мрак прерий, нарушая наш сон среди почтовых тюков; и, вспоминая его жалкий вид и горестную судьбу, мы желали ему – за неимением лучшего – провести для разнообразия хоть один удачливый день, а наутро оказаться владельцем необъятного склада припасов.
ГЛАВА VI
Начальник участка. – Кондуктор. – Кучер. – Наглядные уроки. – Наш старый друг Джек и паломник. – Бен Холлидэй по сравнению с Моисеем.
Наш новый кондуктор (только что сменивший прежнего) не спал двадцать часов кряду, – отнюдь не редкость в те времена. От Сент-Джозефа, штат Миссури, до Сакраменто, штат Калифорния, почти тысяча девятьсот миль, и почтовая карета зачастую проделывала этот путь в пятнадцать дней (теперь поезд идет четыре с половиной дня), но, помнится, по контракту с почтовым ведомством и согласно расписанию полагалось восемнадцать или девятнадцать суток, потому что всегда могли случиться непредвиденные задержки из-за зимних заносов или буранов или еще по какой-нибудь причине. Компания разработала отличную систему перевозок и строго ее придерживалась. Почтовый тракт был разбит на участки в двести пятьдесят миль, и над каждым участком поставлен начальник, облеченный немалой властью. Он покупал лошадей, мулов, упряжь, припасы для людей и корм для скота и время от времени по своему усмотрению снабжал этим почтовые станции. Он возводил станционные здания и рыл колодцы. Он выплачивал жалованье смотрителям, конюхам, возницам и кузнецам и увольнял их, когда ему заблагорассудится. Это был могущественный, очень могущественный человек на своем участке – нечто вроде Великого Могола, властителя Индии, в присутствии которого обыкновенные смертные почтительно молчали и вели себя тише воды ниже травы; в сиянии его царственного величия даже блистательная слава почтового кучера казалась тусклым пламенем сальной свечи. На почтовом тракте через прерии таких властителей в общей сложности имелось восемь.
Вторым по рангу и положению лицом после начальника считался кондуктор. Длина его участка составляла те же двести пятьдесят миль. Сидел он рядом с кучером и (в случае необходимости) проделывал этот ужасающе длинный путь без отдыха, без сна, сутками не слезая с крыши быстро несущейся кареты, где лишь урывками удавалось вздремнуть. Подумать только! На нем одном лежала вся ответственность за почту, посылки, пассажиров и карету, покуда он не сдаст их под расписку сменившему его кондуктору. Поэтому он должен был обладать умом, мужеством и изрядной долей распорядительности. Большинство кондукторов отличалось ровным, приветливым нравом, они добросовестно исполняли свои обязанности и держались по-джентльменски. Что касается начальников, то для них джентльменство не было обязательным, и они частенько обходились без него. Но распорядительностью они обладали в полной мере, а мужеством и цепкостью не уступали бульдогу – иначе командование оравой буйных подчиненных не принесло бы им ничего, кроме оскорблений и угроз, и неизбежно к концу первого же месяца их ждала бы пуля и ранняя могила. Кондукторов на пути через прерии было шестнадцать или восемнадцать, так как почту везли ежедневно в обоих направлениях и на каждую карету полагалось по кондуктору.
Следующим после кондуктора по рангу и положению, и официально и фактически, был мой любимец – кучер почтовой кареты. Однако мы уже видели, что в глазах толпы кучер так же высоко стоял над кондуктором, как адмирал флота над капитаном флагманского судна. На долю кучера приходилось много езды по дороге и мало сна на почтовых станциях, и если бы не всеобщее преклонение, он вел бы жизнь тяжкую, безрадостную и скучную. Кучера наши сменялись ежедневно или еженощно, и ездили они взад-вперед все по одному и тому же перегону, поэтому мы никогда не успевали сойтись с ними так близко, как с нашими кондукторами; да и почти никто из них не удостоил бы внимания каких-то несчастных пассажиров. Все же при каждой смене мы очень волновались, ибо каждый раз нам либо не терпелось избавиться от неприятного субъекта, либо жаль было отпускать симпатичного малого, с которым у нас уже завязалась дружба. И как только карета подъезжала к станции, где предстояла смена кучеров, мы первым делом спрашивали кондуктора: «Который этот самый?» Вопрос звучал не очень грамотно, но мы тогда не могли знать, что он со временем попадет в книгу. В общем, кучеру почтовой кареты, пересекающей прерии, жилось неплохо, покуда не нарушался заведенный порядок; но стоило его товарищу внезапно захворать, как дело принимало для него скверный оборот: почтовая карета должна продолжать путь, и вот сей вельможа, который провел ночь на своем высоком посту, в темноте, под дождем и ветром, и уже готовится сойти на землю, мечтая всласть поспать и отдохнуть, вынужден остаться на месте и заменить больного. Однажды в Скалистых горах я заметил, что кучер крепко спит, сидя на козлах, а мулы мчатся, как всегда, сломя голову; но кондуктор сказал мне, что это не беда, никакой опасности нет, а кучер, мол, работает вторую смену – проехал семьдесят пять миль в одну сторону, а теперь без передышки ведет нашу карету в обратном направлении. Сто пятьдесят миль – и непрерывно сдерживать шестерку разъяренных мулов, не давая им лезть на деревья! Это кажется невероятным, но точно помню цифру, названную кондуктором.
Станционные смотрители, конюхи и прочие, как уже говорилось, были люди грубые, неотесанные; и немалое число их – от западной части Небраски до Невады – смело могло быть отнесено к разряду преступников: нарушители закона, скрывающиеся от правосудия, уголовники, которым надежным убежищем служил этот край, где даже для видимости не существовало законов. Когда начальник участка отдавал приказ одному из своих подчиненных, он отлично знал, что, быть может, ему придется прибегнуть к своему флотскому шестизарядному пистолету, и потому ради поддержания порядка он никогда не расставался с оружием. Ему случалось всадить пулю в голову какого-нибудь конюха, хотя при иных обстоятельствах и в иных условиях он легко добился бы требуемого с помощью дубинки. Но тамошние начальники участков были люди решительные, энергичные: если они находили нужным преподать урок подчиненному, они свою науку накрепко вбивали ему в голову.
Изрядная доля этого огромного предприятия – сотни людей и карет, тысячи мулов и лошадей – находилась в руках мистера Бена Холлидэя. Он владел всей западной половиной тракта. Здесь уместно вспомнить об одном эпизоде моего путешествия по Палестине, и я слово в слово привожу рассказ о нем, записанный в моем тогдашнем путевом дневнике.
Кому не известно имя Бена Холлидэя – человека несокрушимой энергии, который на бешеной скорости мчал через весь континент пассажиров и письма в своих почтовых каретах, – две тысячи миль в пятнадцать дней, по часам! Но здесь речь пойдет не про Бена Холлидэя, а про юного жителя Нью-Йорка, по имени Джек, совершившего вместе с нами путешествие в Святую Землю (а за три года до этого он ездил в Калифорнию на почтовых мистера Холлидэя, о чем вспоминал с неизменным восхищением). Джек был очень милый девятнадцатилетний юноша, приветливый и добросердечный; вырос он в Нью-Йорке, и, хотя отличался живым умом и знал уйму полезных вещей, в его сведениях по части священного писания имелось столько пробелов, что, по правде сказать, вся история Святой Земли оставалась для него тайной, а все библейские имена, никогда не искушавшие его девственного слуха, – неразрешимой загадкой. Зато другой наш спутник, пожилой паломник, в противовес Джеку оказался большим знатоком и почитателем библии. Он служил нам ходячей энциклопедией, и мы не уставали слушать его разъяснения, а он – давать их. По поводу любого прославленного города или селения – от Васона до Вифлеема – он произносил целую речь. Однажды, когда мы расположились близ развалин Иерихона, он разразился такой тирадой.
– Посмотри, Джек, вон на ту горную цепь, замыкающую долину Иордана! Это Моавитские горы, Джек! Вдумайся хорошенько, сынок, – древние Моавитские горы, прославленные в священной истории. Мы стоим перед их знаменитыми ущельями и вершинами, и – кто знает? (тут он благоговейно понизил голос) – быть может, именно сейчас наши взоры устремлены на то самое место, где находится неведомая могила Моисея! Вдумайся в это, Джек!
– Моисея? А по фамилии как?
– По фамилии! И не стыдно тебе, Джек? Это же просто возмутительное невежество. Ну можно ли не знать, кто такой Моисей, бесстрашный предводитель, воин, поэт, законодатель древнего израильского народа! Джек, вот отсюда, где мы стоим, вплоть до Египта, на триста миль протянулась грозная пустыня, – и вот через эту пустыню великий пророк вел сынов Израилевых, вел целых сорок лет, с неиссякаемой мудростью, по зыбучим пескам, меж неприступных гор, пока наконец на этом самом месте не открылась перед ними земля обетованная, и здесь они вошли в нее, радуясь и воссылая богу хвалу! Это был подвиг, великий подвиг, Джек! Подумай только!
– Сорок лет? Каких-нибудь триста миль? Фью! Бен Холлидэй доставил бы их за тридцать шесть часов.
У Джека не было никакого злого умысла. Он не знал, что так говорить нехорошо и бестактно. Поэтому никто его не выбранил, никто не оскорбился, только человек, совершенно лишенный великодушия, мог бы рассердиться на опрометчивое суждение простодушного юнца.
На пятый день нашего путешествия, в полдень, мы уже достигли «Переправы через Южный Платт», или «Джулсберга», или «Оверленд-Сити» – четыреста семьдесят миль от Сент-Джозефа, – такого чудного, удивительного и странного западного города, на какой нам, неискушенным путникам, еще не доводилось взирать.
ГЛАВА VII
Оверленд-Сити. – Переправа через Платт. – Охота на бизонов. – Нападение бизона на Бемиса. – Лошадь Бемиса сходит с ума. – Цирковой номер. – Гениальное средство спасения.
Нас поражало уже одно то, что мы снова в городе после столь долгого, как нам казалось, пребывания среди глубокой, неподвижной, почти мертвой и безлюдной тишины! Очутившись на оживленной улице, мы почувствовали себя словно существа с другой планеты, невзначай свалившиеся в чуждый им неведомый мир. Добрый час мы с таким вниманием приглядывались к Оверленд-Сити, как будто сроду не видали ни одного города. А этот досужий час выдался потому, что нам пришлось сменить нашу карету (на менее роскошный экипаж, именуемый «мокровоз») и перегрузить почту.
Затем мы снова тронулись в путь. Вскоре показался мелководный, мутно-желтый Южный Платт, его низкие берега, песчаные отмели и крохотные островки; эта неказистая река медлительно ползет посреди необъятной плоской низменности, и если бы не деревья, словно часовые, редким строем стоящие на обоих берегах, то никто не мог бы различить ее невооруженным глазом. Нам сообщили, что Южный Платт поднялся; и мне очень захотелось посмотреть, каков он, когда вода в нем падает, – неужели еще более хилый и жалкий? Нам сообщили также, что сейчас переправа через него очень опасна, ибо при первой попытке пересечь его вброд плывуны способны поглотить карету вкупе с лошадьми и пассажирами. Но почта должна быть доставлена, и мы решились на эту попытку. Раза два на самой середине реки колеса столь угрожающе увязали в илистом дне, что мы уже готовы были поверить, будто мы всю жизнь трепетали и сторонились моря только для того, чтобы под конец потерпеть крушение в «мокровозе» посреди пустыни. Но мы благополучно выбрались на берег и покатили дальше, вослед заходящему солнцу.
На другое утро, перед самым рассветом, когда между нами и Сент-Джозефом уже легло пятьсот пятьдесят миль, наш «мокровоз» сломался. Остановка предстояла долгая, часов пять-шесть, поэтому мы приняли приглашение повстречавшихся нам охотников и, наняв лошадей, поехали вместе с ними стрелять бизонов. Хорошо было скакать во весь опор по равнине свежим росистым утром, но для нас охота окончилась позорным провалом, ибо раненый бизон целых две мили гнался за нашим спутником Бемисом, после чего тот покинул свою лошадь и взобрался на дерево. В течение ближайших суток Бемис хранил угрюмое молчание, но потом мало-помалу отошел и наконец заговорил:
– Ничего смешного в моем положении не было, и очень глупо, что это дурачье так потешалось надо мной. Они ужасно разозлили меня. Я чуть было не всадил пулю в того долговязого увальня, которого они звали Хенком, но только я побоялся, что изувечу еще человек шесть, – мой старый Аллен, черт бы его побрал, такой неугомонный! Хотел бы я посмотреть на этих бездельников, если бы они сидели на дереве, – небось, не стали бы смеяться. Будь еще у меня стоящая лошадь – так нет, как только бизон повернулся к ней и заревел, она взвилась на дыбы. Седло заскользило подо мной, и я обхватил руками ее шею и принялся молиться. Потом она стала на передние ноги и задрала задние; и можете себе представить – даже бизон остановился и перестал реветь, так поразило его это зрелище. Потом он подскочил ко мне и взревел над самым моим ухом, а лошадь совсем очумела и начала невесть что выкидывать; честное слово, она простояла на голове не меньше пятнадцати секунд, и при этом из глаз ее текли слезы. Она окончательно помешалась, уверяю вас, и сама не понимала, что делает. Потом бизон бросился на нас, и лошадь, став на все четыре ноги, начала чудить сызнова: целых десять минут она непрерывно кувыркалась, да так быстро, что бизон растерялся и не знал, куда всадить рога; он топтался на месте, вздымая тучи песку, чихал и, наверно, думал, что на завтрак ему попался цирковой конь в полторы тысячи долларов. Ну, а я сперва лежал на шее – на лошадиной, не на бизоньей, – потом очутился под брюхом, потом на крупе – то вверх ногами, то головой; признаюсь, приятного в этом было мало – проделывать такие фокусы, можно сказать, на волосок от смерти. Потом бизон разинул пасть и отхватил что-то – кажется, кусок хвоста моей лошади, – впрочем, я не уверен в этом, потому что был занят другим; так или иначе, но что-то побудило ее искать уединения. Вы бы видели, как эта старая костлявая кляча на паучьих ногах помчалась галопом! А бизон пустился за нею вслед – пригнув голову, высунув язык, задрав хвост; как он ревел, как подминал траву, взрыхлял землю, вихрем кружил песок! Ну и гонка, доложу я вам! И я и седло съехали на круп, я зажал поводья в зубах и обеими руками держался за луку. Сначала мы оставили позади собак; потом мы обогнали зайца; потом опередили койота и уже настигали бегущую впереди антилопу, как вдруг прогнившая подпруга лопнула, я отлетел влево шагов на тридцать, седло съехало с крупа лошади, и она так наддала задними ногами, что оно взвилось в воздух ярдов на четыреста, – лопни мои глаза, коли вру! Я упал у подножия единственного на девять соседних округов дерева (в чем каждый мог убедиться невооруженным глазом); в ту же секунду я впился всеми ногтями и зубами в кору, а в следующую уже сидел верхом на самом толстом суке и так богохульно радовался своему спасению, что во рту у меня запахло серой. Я перехитрил бизона, – если только его не осенит одна мысль. Этого я боялся, очень боялся. Конечно, бизон мог не подумать об этом, – а вдруг все-таки подумает? Я стал прикидывать, какие меры приму, если такая мысль придет ему в голову. От сука, на котором я сидел, до земли было сорок футов с лишним. Я осторожно размотал лассо с луки моего седла…
– Седла? Вы что же, захватили с собой седло, когда лезли на дерево?
– Захватил седло? Какой вздор! Конечно, нет. Никто бы не сумел этого сделать. Седло просто зацепилось за дерево, когда падало.
– А-а, понятно.
– То-то же. Я размотал лассо и прикрепил один конец к суку. Лассо было лучшего качества, из зеленой сыромятины – тонны могло выдержать. На другом конце я сделал петлю, а потом свесил его вниз, чтобы измерить длину. Его хватило на двадцать два фута, столько же оставалось до земли. Потом я зарядил двойным зарядом все стволы Аллена. Теперь я был спокоен. Я говорил себе, что ежели бизон не подумает о том, чего я боюсь, – отлично; а ежели все-таки подумает, тоже не беда – я приготовился. Но вы же знаете, что с человеком всегда случается именно то, чего он боится. Это уж непременно. Я следил за бизоном, следил в таком страхе, какого не понять тому, кто не попадал в мое положение и не чувствовал, что ему ежеминутно грозит смерть. И тут-то глаза бизона вспыхнули, и я прочел его мысли. Так я и знал, сказал я себе. Ну, теперь держись, иначе ты погиб. Разумеется, он сделал в точности то, чего я боялся, – полез на дерево…
– Кто? Бизон?
– Ну, конечно. Кто же еще?
– Но бизон не может влезть на дерево.
– Ах, вот как? Не может? А вы почем знаете? Вы сами-то видели, как он лезет?
– Нет! Я даже вообразить этого не могу.
– Тогда зачем же вы спорите? Если вы чего-нибудь не видели – это еще не причина, что такого не бывает.
– Ну ладно, рассказывайте дальше. Что же вы сделали?
– Бизон полез на дерево, и сначала дело у него ладилось, но на высоте десяти футов он споткнулся и соскользнул вниз. Я вздохнул с облегчением. Он опять полез – взобрался немного повыше – и опять соскользнул. Однако он снова попробовал, и на этот раз действовал осмотрительно. Он карабкался все выше, а у меня душа уходила все ниже. Так он и лез – дюйм за дюймом, а глаза горят, язык высунул. Подтянется, зацепит ногой сучок, да и смотрит на меня: попался, мол, приятель. И опять лезет – выше и выше; и чем ближе ко мне, тем сильней его разбирает. И вот уж он в десяти футах от меня. Я глубоко перевел дух, сказал себе: теперь или никогда! Свернутое лассо я держал наготове; я стал медленно разматывать его, и, когда петля очутилась над головой бизона, быстро затянул ее вокруг его шеи. Потом мгновенно выхватил свой Аллен и всадил весь заряд ему в морду. Раздался оглушительный грохот – бизон, должно быть, перепугался насмерть. Когда дым рассеялся, я увидел, что он висит в воздухе, в двадцати футах от земли, и сводит его судорога, да так быстро раз за разом, что и не сосчитать! Ну, я не стал задерживаться – считать его корчи, а мигом съехал по стволу вниз и пустился наутек.
– Скажите, Бемис, все это вправду так было, как вы рассказываете?
– Лопни мои глаза, провалиться мне на этом месте!
– Да нет, зачем же? Мы вам верим. Но, знаете, будь у вас какие-нибудь доказательства…
– Доказательства? А я принес с собой лассо?
– Нет.
– А лошадь я привел обратно?
– Нет.
– А бизон вам повстречался?
– Нет.
– Ну чего же вам еще? В жизни не видел, чтобы человек так придирался из-за пустяков.
Я решил про себя, что если Бемис не врун, то очень смахивает на такового. Кстати, о врунах – мне вспоминается один случай, который произошел много лет спустя, во время моего краткого посещения Сиама. Среди европейцев, проживавших в маленьком городе неподалеку от Бангкока, был англичанин по фамилии Эккерт, который врал так много, вдохновенно и убедительно, что прославился на всю округу. Такая способность лгать казалась просто сверхъестественной; все неустанно повторяли самые знаменитые выдумки Эккерта и не упускали случая похвалиться им в присутствии чужих; но это не всегда удавалось. Дважды его приглашали в тот дом, где я гостил, но ничто не могло выжать из него мало-мальски интересную ложь. Наконец некий Баском, весьма влиятельный плантатор, человек самолюбивый и несколько раздражительного нрава, предложил мне вместе поехать к Эккерту. По дороге он предупредил меня:
– Знаете, в чем причина неудач? Нельзя давать Эккерту повода к подозрениям. Он всегда начеку, и как только его начинают подзуживать, он, конечно, умолкает, и слова из него не вытянешь. Это вполне естественно. Но мы возьмемся за дело более тонко. Пусть он говорит о чем ему угодно, пусть обрывает разговор или заводит новый. Лишь бы он видел, что никто не хочет что-то выудить из него. Мы его предоставим самому себе. Тут-то он и забудется и пойдет врать, как заведенный. А вы не торопитесь – помалкивайте и ждите, уж я его обломаю. Он у меня заговорит. Надо быть дураком, чтобы не понимать таких простых вещей.
Эккерт принял нас очень радушно и оказался чрезвычайно приятным и любезным хозяином. Мы просидели целый час на веранде, потягивая английский эль, беседуя о короле, о священном белом слоне, о «спящем Будде» и о всякой всячине; при этом мой спутник ни разу сам не начинал разговора и не направлял его, а только следовал за Эккертом, сохраняя полную невозмутимость и ничем не выдавая своего нетерпения. Его тактика вскоре возымела действие. У Эккерта развязался язык; он уже непринужденно болтал с нами, откровенничал. Так прошел еще час, и вдруг Эккерт сказал:
– Да, кстати! Чуть не забыл. Я могу показать вам кое-что. Это нечто поразительное – ручаюсь, что ни вы и никто другой даже и не слышали о таком. У меня есть кошка, которая ест кокосовые орехи! Обыкновенные зеленые орехи. И не только ест их, но выпивает молоко. Правда, правда – даю вам слово.
Баском быстро глянул на меня, я понял этот взгляд и сказал:
– Ну и ну, отродясь не слышал. Бросьте, этого быть не может.
– Я знал, что вы так скажете. Сейчас притащу кошку.
Он вошел в дом. Баском сказал мне:
– Ну, что я вам говорил? Вот как надо обходиться с ним. Я его не понукал, не подзуживал – и он забыл о своих подозрениях. Очень хорошо, что мы приехали сюда. Вы всем расскажете про кошку, когда мы воротимся. Жрет кокосовые орехи, ах ты господи! И всегда-то он так – наврет с три короба, а потом начинает выкручиваться. Кошка да чтобы ела кокосовые орехи! Дурень он, и больше ничего.
Но тут явился Эккерт со своей кошкой.
Баском улыбнулся, потом сказал:
– Дайте мне кошку, а вы принесите орех.
Эккерт расколол кокосовый орех и срезал несколько ломтиков. Баском украдкой мигнул мне и поднес кошке один ломтик. Она выхватила его, с жадностью проглотила и потребовала еще!
Обратный путь мы проделали молча, держась подальше друг от друга. Вернее, молчание хранил я, ибо Баском нахлестывал лошадь и ругательски ругал ее, хотя она вела себя примерно. Когда я, попрощавшись, сворачивал к дому, Баском сказал мне:
– Лошадь пусть останется у вас до утра. И знаете что – не надо никому рассказывать про эту… глупость!
ГЛАВА VIII
Резвая почта. – Пятьдесят миль без передышки. – «Едет!» – Щелочная вода. – Верхом на обвале. – Бой с индейцами.
Прошло немного времени, и вот уже все мы вытягиваем шею, стараясь получше рассмотреть «верхового» – неутомимого гонца, который мчит письма через континент, покрывая в восемь дней тысячу восемьсот миль от Сент-Джозефа до Сакраменто! Подумать только – каково это для бренного тела коня и человека! Такой верховой почтальон обычно представлял собой существо низкорослое и худощавое, однако энергии и выносливости в нем было хоть отбавляй. В какое бы время дня или ночи ни наступал его черед, будь то летом или зимой, шел ли дождь, снег или град, вела ли по его участку прямая ровная дорога или неистово петляла горная тропа, извиваясь среди расселин и пропастей, лежал ли его путь через мирные места, или кругом кишели враждебные индейцы, – ему надлежало в любую минуту вскочить в седло и умчаться с быстротой вихря! Тут уж не помедлишь, не передохнешь. Пятьдесят миль кряду при свете дня, луны или звезд, а то и в непроглядной тьме, как придется.
Лошадь под ним резвая, не хуже скаковой, по-барски кормленная и выхоленная; десять миль она несется галопом, затем на ближайшей станции, где два конюха еле удерживают свежего скакуна, почтальон вместе с почтой в мгновение ока пересаживается, и вот уже улетели конь и всадник, скрылись из глаз, прежде чем кто-либо успел хоть мельком взглянуть на них. Оба они – и лошадь и человек – путешествовали налегке. Почтальон носил тонкую, плотно облегающую одежду: недлинная куртка, круглая шапочка, штаны, заправленные в сапоги, как у жокея. При нем не было оружия, не было ничего, кроме самого необходимого, ибо и так уже оплата словесного груза, который он вез, составляла пять долларов с письма. Нечасто в его сумку попадали досужие послания – по большей части он доставлял деловую переписку. Лошадь его тоже не обременяли лишней тяжестью.
Седло ее – в виде небольшой лепешки – напоминало жокейское, потник если и был, то незаметный для глаза. Подковы весили немного, или их вовсе не было. Маленькие плоские сумки, прикрепленные к седлу и приходившиеся под ляжками почтальона, смогли бы вместить разве что букварь школьника. Однако они вмещали целые пачки деловой и газетной корреспонденции: все письма ради экономии места и уменьшения тяжести писались на почти невесомой и тонкой, как фольга, бумаге.
Почтовая карета покрывала за день (вернее, за сутки) от ста до ста двадцати пяти миль, верховой почтальон – около двухсот пятидесяти. Не меньше восьмидесяти всадников постоянно, день и ночь, непрерывной вереницей мчались между штатами Миссури и Калифорния – сорок на восток, сорок на запад; четыреста резвых коней обеспечивали им огромный заработок и возможность ежедневно любоваться красотами природы.
С самого начала нашего путешествия мы сгорали от желания увидеть верхового почтальона, но почему-то получалось так, что обгоняли они нас или скакали навстречу непременно ночью, и потому мы лишь слышали свист и окрик, и неуловимый призрак пустынных прерий исчезал во мраке, прежде чем мы успевали высунуться в окошко. Но теперь мы с минуты на минуту ждали одного из них, и не ночью, а в ярком свете дня. И вот кучер наш крикнул:
– Едет!
Все шеи вытянулись еще дальше, все глаза раскрылись еще шире. Далеко-далеко, за бескрайней плоской равниной, на горизонте появилось черное пятнышко, и ясно видно, что оно движется. И как движется! Уже спустя две секунды оно превращается во всадника, он несется вскачь – раз-два, раз-два, все ближе и ближе, его видно все яснее, все отчетливее, – еще ближе, и с крыши кареты гремит наше приветственное «ура», в ответ почтальон молча машет нам рукой, и вот уже всадник пролетел мимо наших пылающих от волнения физиономий и унесся вдаль, словно запоздалый порыв ветра!
Все это произошло так молниеносно, что казалось вспышкой разгоряченного воображения, и если бы не белые хлопья пены, которые пузырились и оседали на тюке с почтой, после того как исчезли на миг мелькнувший всадник и его конь, мы, пожалуй, решили бы, что это нам просто померещилось.
Вскоре мы перевалили через Скотс-Блафс и где-то здесь впервые увидали на дороге неподдельную щелочную воду, что было встречено нами с восторгом, – и мы уже предвкушали, как напишем об этой диковине домой и поразим наших невежественных дикарей. От щелочной воды дорога была точно в мыле, а в некоторых местах казалась выбеленной известью. Мы восхищались этой водой не меньше, чем другими чудесами, уже встретившимися нам на пути, и я отлично помню, как весело стало у нас на душе, как довольны мы были и собой и всем миром: еще один феномен в списке удивительных вещей, которые нам довелось увидеть, а другим-то вот не довелось! В сущности, мы недалеко ушли от тех простаков, что без нужды взбираются на грозные вершины Монблана и Маттергорна, не испытывая при этом ни малейшего удовольствия, но утешаясь мыслью, что лишь немногие способны на такой подвиг. А бывает и так, что один из них вдруг оступится и съезжает на собственном сиденье по крутому склону, а позади него дымится снежный наст, и его швыряет из стороны в сторону, с уступа на уступ, при каждом ударе о землю под ним трещит лед, целые айсберги наваливаются на него, платье изорвано в клочья, но он летит все дальше, в тщетной надежде спастись, хватаясь за встречные деревья, – и вывернутые с корнем стволы несутся вместе с ним, вниз катятся сначала камни, потом обломки скал, потом сплошные глыбы льда и снега, вперемешку с небольшими рощами, – и все летит быстрей и быстрей, пока, наконец, он не домчится во всем этом великолепии до края пропасти глубиной в три тысячи футов, после чего, помахав шляпой, торжественно въедет в бессмертие верхом на грохочущем, рассвирепевшем обвале!
Все это очень мило, но не будем увлекаться, а лучше трезво рассудим, что подумает о своем приключении сей герой на другой день, когда шесть или семь тысяч футов льда и всякой всячины, наваленные на него, охладят его пыл?
Мы пересекли гряду песчаных холмов вблизи того места; где в 1856 году индейцы совершили ограбление почты, причем погибли кучер, кондуктор и все пассажиры, кроме одного, – так по крайней мере предполагали; но, очевидно, то была ошибка, потому что я лично в разное время знавал на Тихоокеанском побережье не менее ста тридцати трех человек, раненных при нападении и спасшихся только чудом. Не верить этому я не мог – они сами так говорили. Один из них рассказал мне, что еще лет семь спустя находил в своем теле наконечники стрел; а другой поведал о том, как он был буквально засыпан стрелами, и после ухода индейцев, когда он встал и посмотрел на себя, слезы так и брызнули у него из глаз, потому что костюм его оказался безнадежно испорченным.
Однако наиболее достоверное преданье гласит, что только один человек, некий Бэббит, уцелел после побоища; тяжело раненный, он ползком (одна нога была сломана) тащился несколько миль до почтовой станции; на это ушло почти две ночи, а днем он лежал притаившись и в течение сорока часов изнемогал от голода, жажды и нестерпимой боли. Индейцы унесли все, что находилось в почтовой карете, включая немалую сумму казенных денег.
ГЛАВА IX
Среди индейцев. – Нечестная игра. – Оружие вместо тюфяка. – Полночное убийство. – Месть уголовников. – Опасный, но ценный гражданин.
Мы миновали форт Ларами ночью и наутро седьмого дня нашего путешествия очутились в Черных холмах. Пик Ларами высился у нас под боком (по видимости), большой, одинокий и очень темно-синий – так хмуро старый исполин глядел из-под нависших на его чело грозовых туч. На самом деле до него было миль тридцать – сорок, но казалось, что он стоит сейчас же за низкой горной грядой, справа от нас. Мы позавтракали на станции «Подкова» – шестьсот семьдесят шесть миль от Сент-Джозефа, – а днем миновали станцию Лапарель. Теперь мы находились в стране враждебных индейцев, и пока мы подъезжали к станции, мы успели насладиться пренеприятной уверенностью, что чуть ли не за каждым деревом, мимо которого мы проносились на расстоянии вытянутой руки, прячется один, а то и два индейца. В прошлую ночь притаившийся таким образом индеец прострелил куртку верхового почтальона, но тот продолжал свой путь, потому что почтальону запрещено останавливаться и расследовать такие случаи, если только он не убит. Пока в нем теплится жизнь, он обязан держаться в седле и скакать дальше, хотя бы индейцы поджидали его целую неделю и уже всякое терпение потеряли. Часа за два до нашего прибытия на станцию Лапарель смотритель четыре раза стрелял в индейца, но тот, как он сообщил нам с обидой в голосе, «уж так-то сигал во все стороны, что все дело испортил, а ведь патронов тоже не густо». Судя по тону, каким это было сказано, смотритель искренне считал, что индеец нарушил правила честной игры. В передней стенке нашей кареты зияло круглое отверстие – память о последнем путешествии по этой местности. Пуля, пробившая стенку, слегка ранила кучера, но он не жаловался. Он говорил, что это сущий пустяк; вот в прежнее время – до того как компания стала гнать почту по северной дороге, – вот тогда, на юге, среди апачей, в самом деле бывало жарко. Он говорил, что апачи не давали ему ни минуты покоя, и он чуть не умер с голоду, невзирая на всяческое изобилие, потому что они так изрешетили его пулями, что «съестное не удерживалось в нем». Надо сказать, что далеко не все принимали на веру сообщаемые этим кучером факты.
В ту первую ночь пути по неприятельской территории мы наглухо задернули шторки и подложили под себя оружие. Мы немного поспали, но по большей части просто лежали на нем. Разговаривать тоже не хотелось, мы молчали и прислушивались. Ночь была темная-претемная, иногда моросил дождь. Со всех сторон нас обступали леса и горы, скалы и ущелья – мы были словно заперты в своей карете, и сколько мы ни вглядывались в щель между шторками, ничего не могли различить. Кучер и кондуктор на империале – как все люди, которым грозит невидимая опасность, – тоже помалкивали, лишь изредка переговариваясь. Мы прислушивались к стуку дождевых капель по крыше, к скрипу колес по мокрому щебню, к унылому вою ветра; и как всегда бывает, когда едешь ночью в карете с плотно задернутыми шторками, нас ни на минуту не покидало нелепое ощущение, что мы стоим на месте, – вопреки толчкам, тряске, цоканью копыт и скрипу колес. Мы подолгу прислушивались, напрягая слух, затаив дыхание; если один из нас давал себе волю – глубоко, с облегчением переводил дух и начинал что-то говорить, кто-нибудь другой неизменно останавливал его внезапным «слышите?» – и он тут же умолкал и опять настораживался. Медленно тянулись минуты и часы этой тоскливой ночи, пока наконец переутомленное сознание не начало туманиться, и мы забылись сном, – если только можно так выразиться, когда спишь под охраной взведенного курка. Это был сон, в котором обрывки кошмарных видений свивались в дикий, гнетущий хаос. И вдруг наш сон и сонные грезы спугнул громкий выстрел, и в угрюмую тишину ночи ворвался долгий, душераздирающий, отчаянный вопль. Потом мы услышали в десяти шагах от кареты:
– Помогите! Помогите! (То был голос нашего кучера.)
– Убей его! Пусть околеет, как собака!
– Убивают! Дайте кто-нибудь револьвер!
– Берегись! Держи его, держи!
Два револьверных выстрела; разноголосый гул и топот множества ног – словно целая толпа собралась и сгрудилась вокруг одного предмета; несколько тяжелых глухих ударов, вероятно дубиной; умоляющий голос: «Не убивайте, господа, пощадите!». Потом слабый стон, еще удар – и карета умчалась во тьму, оставив позади нас зловещую тайну.
Как мы взволновались! Все произошло в какие-нибудь восемь секунд, быть может, даже в пять. Мы только успели кинуться к одной из шторок и неловкими от нетерпения пальцами наполовину отстегнуть ее, как уже щелкнул бич над головой, и мы под громыханье кареты и стук копыт неслись под крутой уклон.
Таинственное происшествие занимало нас всю ночь – вернее, остаток ночи, ибо уже близился рассвет. Нам так и не удалось найти разгадку, – в ответ на наши вопросы мы не услышали от кондуктора ничего, кроме заглушаемых стуком колес двух слов, означавших, видимо: «Скажу утром!».
Тогда мы, закурив трубки и отогнув угол шторки, чтобы выходил дым, снова улеглись в темноте, и каждый рассказал о том, что он испытал, сколько тысяч индейцев, осадивших нашу карету, сперва померещилось ему, какие он запомнил звуки и какова, по его мнению, была их последовательность. Мы выдвигали разные предположения, но ни одно из них не могло объяснить, почему голос нашего кучера раздался не с империала, а с земли и почему кровожадные индейцы так чисто говорили по-английски, если, конечно, это в самом деле были индейцы.
Так мы покуривали и рассуждали до утра, чувствуя себя очень уютно, ибо безотчетная тревога, томившая нас всю ночь, рассеялась точно по волшебству, как только появился вполне реальный повод для беспокойства.
Мы так и не узнали всю правду об этой темной истории. Из отрывочных сведений, которые нам удалось собрать утром, мы поняли только, что это случилось на станции, где сменился наш кучер; что он имел неосторожность ругать уголовников, от которых житья нет в этой местности («Здесь нет ни единого человека, чья голова не была бы оценена и который осмелился бы сунуть нос в поселенье», – сказал кондуктор); а раз он поносил уголовников, то и должен был, «подъезжая к станции, держать револьвер под рукой, возле себя на сиденье, и стрелять первым, – ведь каждый дурак мог сообразить, что они поджидают его».
Вот и все, что нам удалось узнать, и мы ясно видели, что ни кондуктора, ни нового кучера отнюдь не тревожит совершившееся на их глазах убийство. Они явно не питали уважения к человеку, который имел глупость столкнуться с оскорбленными им людьми, не приготовившись «подкрепить свое суждение о них», – что на их языке означало убийство любого ближнего своего, недовольного этим суждением. К тому же что, кроме презрения, мог внушить им глупец, который отважился раздразнить таких отчаянных головорезов, как эти уголовники. И кондуктор добавил:
– Поверьте мне, на такое не пойдет и сам Слейд.
Эти слова круто повернули мое любопытство в другую сторону. Я мгновенно забыл об индейцах и даже потерял интерес к убийству кучера. Слишком сильно волновало меня это магическое имя – Слейд! Днем ли, ночью ли, я всегда готов был бросить все, лишь бы узнать что-нибудь новое про Слейда и его кровавые подвиги. Еще раньше, чем мы добрались до Оверленд-Сити, мы уже слышали о Слейде и его участке (ибо он был начальником участка); а после того, как мы выехали из этого города, наши кондукторы и кучера говорили только о трех предметах – о Калифорнии, о серебряных приисках Невады и о разбойнике Слейде. Причем больше всего говорили именно о нем. Мало-помалу мы составили себе понятие о Слейде как о человеке, чье сердце, душа и руки пропитаны кровью людей, задевших его честь; человеке, который беспощадно мстит за все оскорбления и обиды, за каждую насмешку или непочтительное слово тут же на месте, если это удастся, а если нет, то при первом удобном случае, хотя бы он представился лишь много лет спустя; человеке, который день и ночь снедаем ненавистью, пока месть не утолит ее – и не какая-нибудь заурядная месть, а полная и окончательная гибель врага, не иначе; человеке, чье лицо озарялось дьявольским злорадством, когда он застигал недруга врасплох и чувствовал, что тот у него в руках. Занимая высокий пост и верно служа компании, закоренелый преступник и гроза всех преступников вокруг него, Слейд пользовался славой самого кровожадного, самого опасного и в то же время самого ценного гражданина этого дикого горного края.
ГЛАВА X
Биография Слейда. – Встреча с Джулсом. – Рай для преступников. – Слейд – начальник. – Слейд – палач. – Слейд – пленник. – Храбрая жена. – Дружба со Слейдом.
Поистине с того самого дня – накануне нашего приезда в Джулсберг – кондукторы и кучера только и говорили, что о Слейде. Для того чтобы читатели восточных штатов могли отчетливо представить себе, что такое головорез Скалистых гор, достигший высшей стадии своего развития, я сведу все несметное множество местных сплетен о нем к одному бесхитростному рассказу и изложу его так:
Слейд родился в штате Иллинойс, в почтенной семье. Двадцати шести лет он в драке совершил убийство и бежал из родных мест. В Сент-Джозефе, штат Миссури, он примкнул к одной из первых партий переселенцев, направлявшихся в Калифорнию, и был поставлен во главе каравана. Однажды в прериях он повздорил с подчиненным ему возницей фургона, и оба выхватили пистолеты. Но возница оказался проворнее и первым взвел курок. Тогда Слейд заявил, что жаль отдавать жизнь из-за такой безделицы и не лучше ли бросить оружие и разрешить спор в кулачном бою. Доверчивый возница согласился и кинул пистолет на землю, после чего Слейд, весело смеясь над простаком, застрелил его!
Ему удалось бежать, и некоторое время он вел кочевую жизнь, воюя с индейцами и скрываясь от шерифа, которого прислали из Иллинойса, чтобы арестовать Слейда за первое убийство. Говорят, что в одном бою он своими руками убил трех индейцев, потом отрезал им уши, каковые и послал в виде подарка вождю племени.
Слава о бесстрашии и решимости Слейда быстро распространилась, и этого было достаточно, чтобы назначить его на должность начальника участка в Джулсберге вместо уволенного мистера Джулса. За последнее время шайки уголовников все чаще задерживали почтовые кареты и уводили лошадей, причем не допускали и мысли, что у кого-нибудь хватит смелости сердиться на них. Однако Слейд рассердился. Уголовники вскоре узнали, что новый начальник участка не боится ни единой живой души на свете. С преступниками разговор у него был короткий. Нападения на почту прекратились, имуществу компании ничто не грозило, и кареты на участке Слейда беспрепятственно совершали свой путь, что бы ни случилось и кто бы при этом ни пострадал. Правда, ради столь благотворных перемен Слейду пришлось убить несколько человек (кто говорит, троих, кто – четверых, кто – шестерых), но мир от этого только выиграл. Первая серьезная стычка произошла между Слейдом и бывшим начальником участка Джулсом, который и сам прослыл человеком бесстрашным и отчаянным. Джулс ненавидел Слейда за то, что тот занял его место, и только и ждал удобного случая, чтобы подраться. Для начала Слейд не побоялся принять на службу работника, когда-то уволенного Джулсом. Затем Слейд захватил упряжку почтовых лошадей, утверждая, что Джулс увел их и припрятал для собственного пользования. Итак, война была объявлена, и в ближайшие два дня оба они ходили по улицам с оглядкой, подстерегая друг друга: Джулс – вооруженный двустволкой, а Слейд – своим уже легендарным пистолетом. Наконец, Слейд однажды вошел в лавку, и, едва он переступил порог, Джулс, прятавшийся за дверью, выпустил в него весь заряд из своего ружья. Слейд мгновенно ответил несколькими выстрелами и тяжело ранил противника. Потом оба упали, и, когда их развозили по домам, оба клялись, что в следующий раз уже промаха не будет. Оба долго пролежали в постели, но Джулс оправился первый, собрал свои пожитки, навьючил их на мулов и бежал в Скалистые горы, чтобы там в безопасности набраться сил для окончательного сведения счетов. Много месяцев о нем не было ни слуху ни духу, и наконец все забыли его – все, кроме самого Слейда. Не такой это был человек, чтобы забыть о своем недруге. Напротив: по общему утверждению, Слейд обещал награду за поимку Джулса – живого или мертвого.
Некоторое время спустя почтовая компания, убедившись, что благодаря энергичным действиям Слейда мир и порядок восстановлены на одном из самых беспокойных участков дороги, перевела его на другой участок – в Роки-Ридж, расположенный в Скалистых горах, – надеясь, что и там он сотворит такое же чудо. Этот новый участок был сущим раем для уголовников и головорезов. Даже намека на законность там не существовало. Произвол стал общим правилом, сила – единственной признаваемой властью. Даже мелкие недоразумения улаживались на месте при помощи пистолета или ножа. Убийства совершались непрестанно и притом среди бела дня, но никому и в голову не приходило расследовать их. Считалось, что, если кто-нибудь совершил убийство, значит, у него имелись на то свои причины, и всякое постороннее вмешательство показалось бы неделикатным. Этикет Скалистых гор требовал от свидетеля убийств только одного: пособить убийце зарыть подстреленную им дичь – иначе ему припомнят его нелюбезность, как только он сам убьет кого-нибудь и будет нуждаться в дружеской помощи для предания земле своей жертвы.