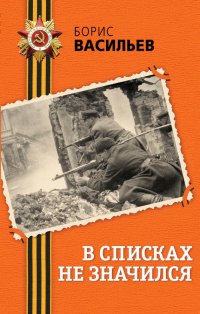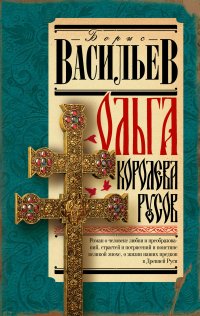Читать онлайн Отрицание отрицания бесплатно
- Все книги автора: Борис Васильев
Россия – странная страна. Ее истоки следует искать не в истории, не в легендах и даже не в мифах. Она – прямое порождение ледника, а потому – согласно законам диалектики – и гибель ее заключается в леднике. Тепло населяющих ее душ обязано заледенеть изнутри, уничтожив все. Ласку и приветливость, добродушие и сострадание, любовь и нежность.
Россия – дочь Отрицания жизни.
Оглянемся и посмотрим далеко-далеко, в сизые льды, когда-то медленно и неторопливо отступавшие на север. А на их месте постепенно появлялись лишайники и мох, трава, плауны, ползучие плети хвощей, изредка выбрасывающие из своих узлов робкие столбики, похожие на крохотные елочки. На согретых ими местах начали робко появляться первые кустики, они накапливали корни, рождали новые побеги и упрямо росли. Росли вопреки всему. Бедной почве, ледяному прослою земли, студеным злым ветрам. Росли вопреки всему, и этот «рост вопреки» через много лет привел к господству кустарников.
Они заполонили собою все пространство, нехотя, с метелями и жгучими морозами уступаемое ледником. Лоза, мелкий осинник и березняк, крушина, волчьи ягоды, нескончаемые заросли малины и красной смородины, таволги, крыжовника, черемухи, багульника заняли все пространство свободных земель России, не давая никакой возможности прорастать деревьям. Они губили их семена во мхах и травах, они крали у них нежаркое солнце и высасывали все соки из тощей почвы. Это было их царство, за которое они боролись с остервенением, ничего нигде не уступая.
И когда могучие деревья все же вознесли свои кроны, научились прятать семена в шишках, разбрасывая потом их повсюду, кустарники продолжали борьбу. В конце концов тайга победила, выгнала их из-под своих непробиваемых солнцем крон, но кусты по-прежнему продолжали свою тихую войну, захватывая всякое свободное пространство. Борьба эта продолжается и поныне, хотя деревья гордо возвышаются над ними – где лесом, где перелеском, а где и отдельными гордыми упрямцами.
И поныне кусты упрямо лезут на нивы, пажити и даже в огороды. И люди были вынуждены включиться в войну на стороне деревьев, беспощадно вырубая упрямые кусты.
Столбовые деревья и сегодня ведут свой нескончаемый бой с упорной кустарниковой ратью. И война эта бесконечна, ибо опирается на Отрицание.
Ведь и в человеческой жизни кусты изо всех сил мешают деревьям, а деревья стойко продолжают борьбу. И только тогда, когда «социальный» кустарник дозрел до мысли об объединении, получил численное преимущество, армии кустов смели с лица России ее последние тысячелетние дубы и вековые сосны.
Однако начнем разговор не с капризов природы, а с отрицания как дела рук человеческих.
Итак…
Отрицание первое, или Гунькина коза
1
Почему так называлась малоприметная возвышенность в чистом поле, никто уже и не помнил. Даже старожилы из ближайшей деревни Хлопово, в которой, правда, кроме старожилов, уже никто и не проживал. А на самой возвышенности не было ни козы, ни Гуньки, а только хрен. Дремучие хреновые заросли, которых хватило бы на всю область. Если бы было, с чем его есть. Ну, представьте себе картину бывшей Великороссии, ныне за что-то прозванной Нечерноземьем. От селища до селища – выстрел из береговой батареи. Здесь укрупняли обедневшие вконец деревни, как утверждалось, ради того, чтобы запустить могучую сельскохозяйственную технику, а на самом-то деле, чтобы народишко подсобрать из разбежавшихся селений. Тут, почитай, любой парень, на службу призванный, в родную избу уж и не возвращался, а девчонки, каждый год из-за такого государственного расклада без женихов оставаясь, на любую стройку завербовывались, лишь бы в старых девах не оказаться. Месили голыми ногами ледяной бетон на великих стройках коммунизма, лопатами рыли каналы и котлованы, клали тяжеленные шпалы без всяких подъемных кранов, добровольно записывались прокладывать метрополитен, пробивать в горах тоннели, поднимать целину, строить новые города в глухомани. Природа, она природа и есть, и никакой завтрашний социальный рай ей не требуется. Ей сегодняшний нужен, чтоб сама жизнь не прекращалась.
А вместо жизни получили пампасы из хрена.
Старики на завалинках вспоминали времена радостных гармошек при коллективизации. А чего гармонь через пузо не растянуть, когда соседа раскулачивают? Оно, конечно, самое полезное для хозяйства куда-то утекало, но и соседям перепадало – если не старая лошадь, так хоть старый хомут. Только вот старики толковали, что и до коллективизации она уже была. Эта самая коллективизация. Только что называлась по-другому, так разве ж в названии дело?..
– Порешил сход помещика-кровопийцу из дома выселить со всем семейством, а землю никакому не колхозу, а крестьянству по жеребию, – важно рассказывал седой до мертвой желтизны старик. – Ну и имущество, конечное дело, тоже по жеребию, как положено. Чтоб, значит, всем, а не одному крикуну-агитатору. Помню, в двадцать четвертом годе солдаты с войны вернулись, сход собрали, да и порешил тот сход…
– Какой еще сход? – не понимая, а потому с унтерпришибеевским раздражением перебил корявый, без руки, но весь в медалях, очень заслуженный солдат.
– Сказали, мол, такая установка нынче, что, значит, всем всего поровну. Без всяких кровопивцев…
– Катись ты, дед, со своим сходом! И не сход вовсе, а мы, которые кровь проливали, порешили все то дело.
А неподалеку жили-были – тому уж добрых две сотни лет – мелкопоместные дворяне Вересковские. Земля чахлая да и немного ее, а в семье одних детей аж пять душ. Старший сын Александр на фронте с пятнадцатого, слава богу, до командира батальона дослужился, орденов – поликоностаса да плюс – солдатский Георгий, особо почитаемый именно офицерами, так как давался по ходатайству роты за личную отвагу в рукопашном бою. За ним две дочери-погодки последовали – Таня и Наташа. Хорошие девочки, в губернском городе в гимназии учились. Таня с золотой медалью окончила и собиралась в Московский университет на медицинский факультет. В связи с войной туда теперь и женщин принимали. Наташа из-за болезни на год опоздала, окончила гимназию только в семнадцатом и мечтала о консерватории. Еще – Павел. Ну, с ним сложнее дело обернулось, а последней Настенька родилась. Любимица, красавица, только что здоровьем тоже вроде бы слабовата, как и старшие девочки. Так считала мама Ольга Константиновна. Семья имела в губернском городе квартиру с прислугой, но старшие предпочитали жить в поместье, а в квартире проживали девочки, когда учились в гимназии. За ними Антонина Кирилловна присматривала, ну и горничные, естественно.
В старые-престарые времена Вересковским принадлежали две деревеньки, а села ни одного не было, так что и церковь-то чужой оказалась, подле которой они упокоившихся своих хоронили. Когда-то предок очень по этому случаю расстраивался, но последние хозяева в меру заразы атеистической нахватались. Во храм ходили по привычке – крестины да похороны, двунадесятые праздники да привычные свадьбы. И расстройство предка забылось.
Старшие в поместье жили безвыездно. Хозяин, отставной генерал Николай Николаевич, ученым был, что-то там писал историческое, а жена Ольга Константиновна за дворней присматривала. Был у них старый дворецкий, хозяина в детстве обихаживавший, повар, экономка да две горничные. Еще кто-то мелькал, но это так. Приживалы, что ли. Или – долгие гости скорее. Вересковские хлебосольством на всю округу славились.
С соседями своими – то бишь с бывшими крепостными – жили душа в душу. Парни каждое Рождество в каждой деревне елку ставили, а девочки ее украшали вместе с местными ребятишками. И так это всем нравилось, что с елок тех ни разу ни одной игрушки не пропало. Крестьянам это по душе было, мальчишек приструнивали, но парни тогда особо не озорничали, схода побаиваясь. Ведь рекрутский набор обществом решался по заведенной издревле привычке, тут было, отчего забояться.
И вот в конце того же двадцать четвертого года, что ли, бывалые, колотые и стреляные, тертые-перетертые, газом травленные и казачьих сабель навостренность собственным телом постигшие, свою сходку собрали. Сказали, правда, что любой дед-прадед с правом спора на нее приглашается, как и все прочие по всяким хворям не служилые мужики. Только бабам ход туда был заказан, потому как отвыкли солдаты от бабьего слезного воя настолько, что уж и слушать его не захотели.
– Равенство нам обещают после дождичка в четверг! – проорал косматый солдат. – А наши подзолистые души не в четверг, а сегодня дождичка желают! Какой сегодня день, старики уважаемые?
– Четверг.
– Самое, стало быть, оно!
Рванули было с места да на рысь, только один из дедов вовремя закричал тоненько:
– Ишь, куды ж?.. Ружья наземь… клади!..
И вся рысь замерла. Положили солдаты ружья – аккуратно положили, как вот такими дедами велено было, – а потом пошли шагом. Тоже привычным – четыре версты в час. За ними чуть поодаль бабы шли, малышни орава да мужики неслужилые. А парнишки постарше неспешно вели под уздцы нестроевых крестьянских лошадок с пустыми телегами. Это обратно кони должны были потрудиться по доставке добычи, необходимой для наступления всеобщего равенства.
Приехали. Нестроевые с парнишками остались, а бывалые, пороха понюхавшие, вперед вышли.
– Эй, хозяева!
Хозяева на крыльце появились. Сам Николай Николаевич, сама Ольга Константиновна и – девочка Настасья, а остальных детей лихие дни раскидали неизвестно куда. И она, эта последняя девочка, что-то радостно закричала, углядев в третьих рядах подружек, с которыми каждый год весело наряжала в деревнях елки.
Но толпа безмолвствовала, что, как известно, ей свойственно в ситуациях озадачивающих.
– Грабить пришли? – помолчав, спросил Сам.
– Грабить – слово буржуйское, – хмуро сказал солдат с отсохшей рукой. – А наше слово – зекс… эксприация.
– Не понял, – сказал Сам.
Тут какой-то дед, передних раздвинув, к крыльцу вышел и достал мятую бумагу, которую еще не успели раскурить. Развернул ее и зачастил, не читая:
– Постановление схода. Всего нашего общества то есть. Все ваше личное имущество можете взять с собой, мы вам даже телегу дадим, только своих коников нам оставите, они вам больше без пользы. Потому тогда грабеж, когда личные вещи берут. А когда не трудом добыто, а наследством это называется, нет на то согласия бедняцкой части.
– Да у меня предки во всех коленах за Россию кровь проливали. – Хозяин даже в грудь кулаком тюкнул. – У меня старший сын Александр на фронте с пятнадцатого года, три ранения получил, четыре ордена имеет и солдатским Георгием награжден за личное мужество!
– Достоин, стало быть, – сказал старик. – Потому мы и не грабим, как некоторые. Мы по-людски. Полчаса на сборы хватит?..
Заплакали Ольга Константиновна и барышня, если, стало быть, по-старому считать. Но сам генерал Николай Николаевич Вересковский зыркнул глазом, и пошли они собираться.
А толпа стояла и молчала. Может, и копошилась в какой ни то душе некоторое несогласие, но наружу не вылезало. Опыт уже был – свое при своем храни, дольше проживешь. Потому-то и молчали все.
Вышли хозяева и их горничные вместе со старым дворецким. И каждый – с чемоданом, и девочка с чемоданом, а Сам – аж с двумя баулами. Но тут взроптали солдатики: мол, чего прешь-то, хозяин? Может, золото какое?
– Золото, – сказал хозяин и открыл оба баула.
Подошли. Посмотрели.
– Бумажки какие-то…
– Работа это моя, – вздохнул хозяин, застегивая баулы. – Всей жизни работа… О русской армии.
Помолчали все с уважением. Даже не спросили: «Почему, мол, русской, а не Красной?..»
Еще живо было, видать, в их уже тронутых бессердечием душах уважение. Это потом с ним, с уважением то есть, расстанутся, потом, когда придет соответствующее распоряжение. А тогда еще такого распоряжения не было. Потому никто в опустевший дом и не ринулся, пока бывшие жильцы да телега с ними да пожитками их с глаз не скрылась.
Медленно, мучительно медленно расставался народ с духовным своим богатством. Это погодя, потом все ускорили, когда церкви да монастыри громить распоряжение вышло. А заодно и могилы раскапывать в поисках золотишка под бдительным надзором молодцов в кожаных куртках с маузером через плечо аж до колена.
Да и в пустой дом не навалом, не кто первый, тот и в дамках, вошли. А вполне степенно и даже, как бы мы сегодня сказали, словно на экскурсию. На стенах – картины в рамах, на полу – ковры, кровати все постелены, а в буфетах – их целых три оказалось – чего только нет! И все – чистое, все хрусталем отливает, серебром отсвечивает и красками – словами и не перескажешь. Бабы первыми не выдержали, разахались, но дед, которого сход выделил, сказал строго:
– Делить все – по-честному. А как так – по-честному-то? А так. Ты, к примеру, спиной к буфету оборачиваешься, я во что-то тыкаю, а ты кричишь, кому достанется. Можешь, конечно, и «мне!..» заорать, а вдруг не угадаешь, во что глазища завидущие уткнулись? Вот потому и орешь: «Марье!»
Ан Марье-то заветное и досталось. Очень от таких дележей сердца изнашиваются, очень. Считается, что к тридцать седьмому году совсем износились, ученые так говорят.
Вот так, в общем-то мирно и тихо, и шел дележ. Насте – поварешку, Федору – седло, Игнату – кресло, Прасковье – стул, ну и так далее. И все бы вполне мирно и закончилось, если бы бывалые да настырные солдаты в погреб не заглянули. Заглянули… Батюшки, все полки – в бутылках, все бочки – с вином!.. И это – при сухом-то законе!.. Так они оттуда и не вылезли, от запаху обалдев. Сперва от разного запаху, а потом и от разного вкусу.
А наверху тем временем дележ шел.
Все разделили по справедливости, то есть с условием, когда за тебя кто-то выбирает. Так мы с седых времен ее, то есть справедливость, и воспринимаем. И когда эта справедливая дележка была закончена и все, что только оказалось в доме, было вытащено через окна и двери, тогда и ушли, про солдат и не вспомнив. И очень довольные разошлись по домам. А дома приняли на грудь самогоночки по семейному любовному соглашению. И принявши по согласию, закусили чем бог послал, и завалились спать, устав от непривычного дня. И никто о солдатах так и не вспомнил, за исключением тех семей, откуда они происходили. Но и в тех семьях особо не кручинились, привыкнув, что русский солдат сам собою возникает и сам собою растворяется.
Только ночью полыхнуло вдруг в полнеба злым багровым заревом. Тут уж не до сна стало, тут вспомнилось проклятье библейское за злодейство, как попы с малолетства всем талдычили.
Повскакали. Заорали спросонок:
– Усадьба горит!..
Ну, тут все дружно поднялись, как извеку положено было. Кто с ведром, кто с багром. Только ветер тоже поднялся и погнал дым, искры да и само пламя точнехонько на деревню. Заметались все – кто избы тушит, кто скотину выводит, кто добро подальше от огня оттаскивает, кто ревмя ревет и зазря под ногами путается. А лето-то, как на грех, сухим выдалось, и как ни кричали, как ни суетились, как ни плескали на огонь, сгорела та деревня дотла. Тогда заорали:
– Пожог!.. Баре проклятые с полпути вернулись!..
– В Чеку!.. В Чеку заявить надобно! Пусть пожогщиков накажут прилюдно!.. На месте, сами глядеть желаем!..
Послали двоих верховых. Часа через четыре вернулись они вместе с крепким милицейским отрядом и пожарной машиной с колоколом. Только тушить уж было нечего.
А на пожарище вой стоит, детишки мечутся, скотина ревет. Тут и начальство местное пожаловало. Поглядело, вой послушало и велело завалы после тушения разбирать. Да не деревенские – там все дотла выгорело, – а бывшего хозяина Вересковского. Разобрали, а там – два сгоревших под завалами да два вусмерть упившихся в подвале. Тогда и Чека приехала, только ничего эта Чека не нашла. А личности быстро установили: вояки деревенские. И причину пожара – по обломкам рояля, который ни в какую дверь не пролезал, почему его и не вынесли. А два пьяных воина рояль разломали да и жечь его начали. Может, поджарить чего хотели…
Погорельцам по решению области поселок построили по типичному образцу. В каждом бараке – по четыре квартиры и при каждой квартире – маленький палисадничек. И построили не на старом месте, а на выгоне. Ряд в ряд, как казармы. И назвали Вересковкой.
Только вот хлевов в этой новой Вересковке никто не предусмотрел. Помаялись новоявленные вересковцы со скотинкой, повздыхали да и порезали ее. А что делать прикажете, когда из крестьянского сословия они напрочь выпали, а в рабочее сословие еще не впали.
Но власть решение приняла, и все трудоспособное население помаленьку начало обживать бывший уездный городишко. Там аккурат кое-что строить начали, а тут – рабочая сила. И построили вскорости целых три предприятия. Завод колючей проволоки, фабрику пошива шинелей да почему-то парашютный завод. Про запас, что ли?.. Но местный автобус зато пустили, и все вересковцы, в одну огненную ночь превратившиеся в пролетариат, стали теперь ездить туда на работу. Точно к началу трудового дня.
Зато, правда, в колхоз не угодили и получили через несколько лет паспорта, чего колхозники не имели еще не одно десятилетие. А им – повезло, почему они с красными флагами и просветленной душой радостно ходили на всякие демонстрации.
Вот какая история стала прологом интенсивной индустриализации данного энского района.
2
А теперь отъедем назад. В 1917 год. Понимаю, что в жанре повествования это не очень-то принято, но нарушим традиции ради связного рассказа.
Роковой для России год этот застал штабс-капитана Александра Вересковского в военном госпитале губернского города Смоленска. Угодил он туда в июне, не упав вовремя от огня австрийского пулемета. Мог упасть, но заставил себя не делать этого. Вообще не любил при солдатах осторожничать, но главное – уже фронты разваливались, уже солдаты в атаки бежали с неохотой, уже офицеры после отказа государя не верили ни в победу русского оружия, ни в восстановление монархии.
– Оставьте, господа, – говорил Александр в Офицерском собрании. – Россия обречена на монархию несмотря на то, что иногда ее монарха зовут Борисом Годуновым. Ну, поорет Россия, постреляет, пожжет, пограбит, а потом все равно восславит очередного батюшку-царя.
– Кого, капитан, кого? Михаил отказался от скипетра, цесаревич мал и безнадежно болен.
– Может, родственников из-за границы пригласить?
– Да нет уж. Своего искать надо.
– Горластого социал-демократа.
– Керенского, что ли?
– Что вы, господа офицеры? Россия ненавидит интеллигенцию, так что скорее согласится на любое пролетарское происхождение.
– Ну, вас-то как раз солдатики любят.
– А я из воинов, а не лавочников. И тайком под одеялом офицерский паек не жру. Я его слабосильным отдаю, как то предками было заведено, а сам ем из солдатского котла.
Смертельно уставший на долгой, грязной, бессмысленной войне никого любить не может, потому что для любви нужны силы, а их уже нет, исчерпались они ковшом кровавым. Александр об этом знал, не обманывался, но – верил в своих солдат и берег как мог. Как предки завещали. И потому-то перед пулеметом не упал: командирский пример на солдат действует, как неизбежность. И они не испугались, а наоборот, в ярость пришли. И пулеметчика гранатами забросали, и в окоп ворвались, закрепились, и санитарам время дали, чтобы командира вытащить.
За этот бой он получил последний орден. Но не последнюю награду, о чем, естественно, еще не догадывался.
Из госпиталя его выписали в конце сентября, но не на фронт, а в офицерский резерв, обязав раз в неделю ходить на перевязки и осмотр. Не он один на эти процедуры ходил, зато первым отметил процедурную сестру милосердия. Так их исстари на Руси называли, но, когда милосердие себя до донышка исчерпало, стали именовать сестрами медицинскими. Чтобы еще с какими-нибудь сестрами не спутали, что ли.
Назвать сестру милосердия красивой или даже хорошенькой было бы затруднительно. И скулы чуть выше положенного залезли, и носик подкачал, и фигурка не статуэтка, как говорится. И все же в ней что-то было. Что-то необыкновенное, прочное что-то. Вглядеться следовало, и Александр вгляделся не окопным истосковавшимся взором, когда все женщины становятся прелестными, а отдохнувшим, что ли. Или ухом вслушался, уже достаточно привыкшим к шуршанию юбок за время постельного режима.
Словом, звали ее Аничкой, и это Александру понравилось. Что так по-домашнему зовут: не Анечка, а Аничка.
– А меня – Александром.
– Вы – господин капитан. – Аничка мило улыбнулась.
И он улыбнулся.
– Вы – местная?
– Смоленская.
– А я никогда в Смоленске не был. Госпитали черт-те где, извините. То есть на Покровской горе.
– Весь Смоленск – на юге. За Днепром. Там – крепость и очень красивый центр самого города.
– Если бы вы согласились быть моим гидом.
– С удовольствием. Послезавтра, если вам удобно.
– Благодарю, мадемуазель Аничка.
– Подцепил? – усмехнулся сосед по комнате. – Она, между прочим, дочка патологоанатома.
– Я не суеверный, поручик.
Через день он нанял коляску и заехал за Аничкой в условленное место. День был солнечным и задумчиво тихим – не вздрагивали даже начавшие наливаться бронзовым цветом листья кленов. И яблок еще не собрали, и торчали те яблоки через заборы нестерпимо сочными боками и оскомины не вызывали.
– Смотрите, какие яблоки искусительные, – сказал штабс-капитан. – Вам бы мне хоть одно протянуть, Ева.
Ева, то бишь Аничка, промолчала.
Спустились вниз, к Рыночной площади, где привычно шумели вокзалы, пересекли Днепр и через пролом в крепостной стене въехали на Большую Благовещенскую…
– Влево уходит улица на Рачевку, – поясняла Аничка. – Там теперь лесосплав, плоты сплачивают и буксиром тащат до Рославля. А когда-то там протекала река Смядынь, на которой изменник повар зарезал несчастного князя Глеба.
Возле огромного собора толпились прихожане, нищие, беженцы, бродяги. А дальше улица круто взяла вверх, лошадь перешла на шаг, и ее шустро обогнал маленький звонкий трамвай.
– В нашем городе был пущен первый электрический трамвай, – не без гордости объявила Аничка. – Зимой обычная конка не могла подниматься по этой крутизне. Лошади падали.
– А почему трамваи вниз скатываются пустыми?
– Дешевле, – улыбнулась Анечка. – Горожан до Днепра и ноги донесут. Левее Большой Благовещенской идет параллельная улица, которая называется Резницкой. Папа говорит, что ее прозвали так потому, что по ней текли реки крови, когда поляки ворвались в город, который оборонял боярин Шеин. А это – женская гимназия, в которой я училась…
Аничка смущалась и поэтому болтала без умолку. А Александр поймал себя на том, что старательно запоминает все улицы и переулки, о которых она рассказывает. Почему? Инстинкт боевого офицера, что эти знания когда-то понадобятся ему?.. А ведь – понадобились…
– …А это – центр Смоленска: видите часы? Это знаменитые часы, от них отмеряют все расстояния, а под ними назначают свидания. Направо уходит Кадетская, улица вечерних прогулок с дамами и тросточками. Но мы сначала поедем прямо. К Молоховским воротам.
Проехали к узким, сводчатым и мрачноватым Молоховским воротам, которые упорно не сдавались наполеоновским войскам, полюбовались на памятник 1812 года, где орлица, охраняя гнездо, цепко держит руку галла с мечом. Проехали вдоль крепостной стены и южных башен до плаца для парадов по праздничным дням под сенью обелиска в честь защитников Смоленска, велели кучеру ждать и прошли в Лопатинский сад.
– Его заложил губернатор Лопатин, почетный гражданин города. А его дети расписались на развалинах второго крепостного вала, позже превращенного в застенок. Хотите посмотреть?
Перешли по красиво изогнутому над протокой меж прудами деревянному мостику и очутились в проломе старинного крепостного вала, заросшего поверху деревьями. Входы в его таинственные подземелья были закрыты тяжелыми коваными решетками.
– Это была страшная подземная тюрьма, – сказала Аничка почему-то приглушенным голосом. – Здесь сидел Кочубей со своим верным Искрой в ожидании казни.
Александр с уважением подергал решетку.
– А теперь посмотрите, что выбито перед нею.
– Ка-бо-грал-ло. Что это значит?
– Это значит «Капитолина, Борис, Григорий, Александр Лопатины». Дети губернатора Лопатина. Остались на века.
– На века останется только Смоленск, – сказал Александр. – Древнейший город собственно России. Насколько мне известно, он упомянут в византийских хрониках еще шестого века. Извечный страж Москвы, как его когда-то называли наши предки.
– И не случайно, – сказала Аничка. – Идемте, господин капитан. Я покажу вам документ, подтверждающий это гордое название.
Они пересекли Лопатинский сад и остановились на внешнем валу, к которому с обеих сторон примыкала крепостная стена. На левой стене красовалась памятная табличка:
СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ ВЫДЕРЖАЛА ПЯТЬ ОСАД.
Александр одернул мундир, вытянулся во фрунт и вскинул руку к фуражке. И застыл, отдавая честь безымянным защитникам Руси. Потом почему-то смутился, спросил:
– Гордитесь своим городом?
– Самый лучший в мире!
– И внуков научите гордиться, – улыбнулся Александр.
– И правнуков, если Бог пошлет.
Александр с непонятным самому почтением поцеловал ее руку.
– Прошу отобедать со мной в ресторации. Пожалуйста, не откажите раненому офицеру.
– С удовольствием. Я проголодалась.
– Случайно не знаете, где можно достать хорошие вина? Я понимаю, сухой закон…
– Случайно знаю. – Аничка улыбнулась. – Недалеко от Днепра, на Энгельгардтовской.
Они вкусно пообедали с отличным рейнским вином, после чего Александр доставил Аничку домой. Прощаясь, она сказала:
– Следующий обед – у нас, господин капитан.
– Благодарю. – Он поцеловал ее руку. – Буду жить этой надеждой, мадемуазель.
3
Через неделю после ознакомления штабс-капитана Вересковского с достопримечательностями губернского города Смоленска владелец Вересковки генерал-майор в отставке Николай Николаевич Вересковский отмечал свое пятидесятилетие. Он терпеть не мог никаких праздников, а уж тем паче искусственных, потому что они отрывали его от любимой работы. Николай Николаевич был крупнейшим специалистом по истории русской армии и единственным знатоком дворянского корпуса России. Однако профессорского звания не имел, потому что предпочитал не учить избранных, а растолковывать всем читающим героическую историю России в научных трудах и популярных книжках. И ничего не желал, кроме трудов и покоя среди карт и схем, книг и рукописей, но пришла супруга Ольга Константиновна, нарушив привычный покой.
– Извини, друг мой, но я – с просьбой и надеждой.
– У надежды более трепетные крылышки, – улыбнулся генерал. – Так что начнем с нее.
– Изволь, друг мой. Я очень надеюсь, что ты не откажешь мне в личной просьбе.
– Полагаю, она в моих силах?
– Вполне. Устроим бал по поводу твоего юбилея.
– Какого юбилея? – Николай Николаевич слегка опешил.
– Увы, через два года тебе исполнится пятьдесят лет.
– Вот тогда и отметим. Раньше времени неприлично.
– Не будь суеверным букой. Тебе это не идет.
– Ох, – он недовольно поморщился. – Время неподходящее.
– Неподходящее, – тотчас же согласилась Ольга Константиновна. – Особенно для наших девочек.
– Что ты имеешь в виду?
– Войну, мой друг.
– Войну… – Генерал вздохнул и вдруг оживился: – Знаешь, какая парадоксальная мысль меня неожиданно посетила, Оленька? В войну убивают тела, но не души, которым достается благодарная память потомков. А во времена террора гибнут прежде всего души. Террор убивает души людские!
– Нашим девочкам нужны романтические влюбленности, Коля, – озабоченно сказала Ольга Константиновна, проигнорировав научный восторг супруга. – И мы с тобой откроем этот бал вальсом, как в доброе старое время. Интересно, но все старые времена в России всегда почему-то считаются добрыми.
Балу предшествовал легкий банкет, поскольку генерал выговорил себе право на рюмку-другую доброго коньяка. Он чтил законы, но полагал, что они касаются водки, которую поэтому и не держал в доме. А, как известно, вторым указом после объявления состояния войны с Германией был указ о сухом законе, который Николай Николаевич и относил к потреблению водки и всяческих настоек, поскольку всегда пил только вино. Или очень хороший коньяк.
На банкете именинник произнес тост:
– Дамы и господа! Я горжусь тем обстоятельством, что на моем празднике присутствует столько молодежи. Ей принадлежит завтрашний день, а мы, увы, уже сделали, что могли. Так каким же он будет для них, этот завтрашний день? Время определяет не столько бой часов, сколько бои нашего Отечества. Мы – вечные пограничники меж Европой и Азией, меж христианством и исламом, меж кочевниками и землепашцами. Потому сила нашей Отчизны не в торговле, не в мореходстве, не в пшеничных закромах и тысячных гуртах скота, а в армии ее. А мощь армии – в ее дворянском офицерском корпусе, в исторически сложившейся военной касте России. Ныне эта мощь исчезает на наших глазах. И не только потому, что дворян-офицеров заменили скороспелые прапорщики из конторщиков, но и потому, что немецкая пропаганда разлагает нашу армию. Немецкие кабинетные идеи легко усваиваются конторщиками, но им не по силам управлять Россией с учетом ее особой, пограничной роли. Нельзя забывать, что мы – вечные пограничники. Если когда-нибудь забудем, все кончится небывалым в мире террором.
Генералу похлопали с тем особым старанием, которым каждый прикрывает свое полное непонимание. Николай Николаевич это почувствовал, но не расстроился. Он полагал, что исполнил свой долг, предупредив легкомысленную юность, каково будет тяжеломыслие их возможных завтрашних вождей, и как они, эти вожди, станут его компенсировать. Он сказал то, что обязан был сказать, хотя, признаемся, почему-то испытывал некоторое внутреннее неуютство.
Но оно рассеялось, как только Павел восторженно начал читать стихи. Он любил Блока не только как поэта, но и как соседа по имению, у которого бывал в гостях. За Павлом следом сестры-погодки в четыре руки исполнили «Времена года», и тоже не просто потому, что любили Чайковского, – великий Чайковский жил совсем недалеко, в Клину, и это делало сестер Вересковских как бы причастными к его трудам.
А потом начался бал, который открыли Николай Николаевич и Ольга Константиновна вальсом. Пройдя круг со старомодным изяществом, они поклонились присутствующим и заняли кресла зрителей.
– Друг мой, извини, но ты забыл представить наших девочек, – с тихим огорчением сказала Ольга Константиновна.
– Кого?..
– Но мы же затеяли этот бал ради…
– Да, да, я запамятовал. Важнее было предупредить их.
– О чем предупредить?
– О том, что никакого счастья у них не будет.
– Не будет?..
– Не будет. Не надо обманываться.
Супруги помолчали. Потом Ольга Константиновна огорченно вздохнула и тихо сказала:
– А они все равно познакомились. Танечка с юным Майковым, он в университете учится. Наш сосед, внучатый племянник поэта. Очень милый юноша. Наташа – с прапорщиком Владимиром Николаевым, он в отпуске по ранению. А Настенька…
– Ни с кем.
– Молода еще, но прошла два круга с Павликом. Он – добрый мальчик. – Ольга Константиновна помолчала. – Зачем ты пугал их?
– Незнание – почва для ужаса. А ужас парализует.
– Странно слышать это от военного историка. Как будто наша армия впервые терпит поражения.
– Меня страшит не разгром армии, а кабинетные немецкие идеи о всеобщем благе, легко усвояемые вчерашними конторщиками, не говоря уж о безграмотных солдатах, друг мой. Им с детства рассказывали сказки о Беловодье, и это навсегда осталось в их душах.
– Что-то я не знаю такой сказки.
– Тебе читали другие сказки. Братьев Гримм, Перро, Андерсена. А им – о благодатном крае, где нет помещиков, а земля рожает сама собой. Только бросай семена да опять на печь.
– Все сказки хороши, друг мой.
– Кроме социальных о всеобщем равенстве, потому что существует только равенство безделья, а равенства труда в мире не существует и существовать не может. Так вот, вся марксистская доктрина построена на этой самой русской легенде о Беловодье.
Многое, очень многое знал кабинетный генерал, блестящий специалист по истории русской армии, в особенности ее дворянского офицерского корпуса. Но и в страшном сне не мог предугадать, каким эхом отзовутся его слова в самом недалеком будущем.
Может быть, его жена что-то предчувствовала благодаря утонченной тысячелетиями женской интуиции? И поэтому сказала:
– И все же не надо стращать детей, друг мой.
4
Но дети жили своей жизнью, и не подозревая, что их может устрашить что бы то ни было. Уж так они все устроены, эти дети, что их завораживают сказки, когда они маленькие, а жизнь – как только они начинают ощущать, что она струится именно по их жилам. Тогда девочкам снится любовь, а мальчикам – героические подвиги, чтобы ее заслужить.
Только старшей, Танечке, ничего подобного не снилось, потому что она знала, кем будет. Она окончит медицинский факультет, будет лечить детей и в строгом соответствии с медицинскими показателями подбирать себе мужа. Чтобы ее дети росли здоровыми, умными и счастливыми. Танечка была самой целеустремленной в их семье. Эта черта начала прорастать в ней еще в детстве и весьма почему-то настораживала отца.
– Для нее цель важнее средств.
– Господь с тобой, – пугалась Ольга Константиновна. – Просто девочка пытается найти рациональную дорогу к женскому счастью, с девочками это случается сплошь да рядом. Это – мечты. А влюбится, даст бог, и все встанет на свои места.
– Она не умеет грезить.
– Ну уж этому свойству девочки обучаются со сказочной быстротой. Дай ей бог влюбиться, и все войдет в норму.
Вот тут мамина тысячелетняя память предков, которая почему-то упорно именуется интуицией, знание дочери и основательный житейский опыт вдруг расписались в своей полной беспомощности. Дочь не только не отвергла молодого Майкова, но, наоборот, обратила на него внимание, какого доселе никто не удостаивался. Она охотно и не без удовольствия танцевала с ним, мило улыбалась, мило болтала и – изучала. Неспешно и очень дотошно.
Несколько сутуловат, но дворянской стати не растерял. Ловок и грациозен в танцах. Бесспорно умен и, что хорошо, этого не афиширует. Легко поддерживает светские беседы ни о чем. О политике говорить не любит, что тоже неплохо. Судя по рукам, достаточно силен, а по дыханию – отменно здоров. Тогда почему же его не взяли в армию?.. Щурится. Следовательно, близорук. Застенчив – значит не уверен то ли в себе, то ли в своей неотразимости. Или – воле, что еще лучше…
Фигуры кружились в вальсе, чинно и грациозно раскланивались в полонезе, сходились и расходились в контрдансе, рисуя узорчатую вязь на сверкающем дубовом паркете. А Танечка, мило улыбаясь, неторопливо и тщательно пополняла досье на господина Сергея Майкова.
Наташа танцевала с наслаждением, всею душой своей. Она любила танцы, веселые разговоры и раннюю, еще не проснувшуюся, еще потягивающуюся природу на утренней заре.
И в этот день, как, впрочем, почти всегда, встала раньше всех. Вышла в сад через веранду, которая не закрывалась даже в морозы, вдохнула полной грудью густой, за ночь накопившийся аромат, пропитанный цветочной росою, и вдруг радостно подумала, что живет в России.
«Какие же мы счастливые! Ну, что там, в жарких странах? Сухой период, дождливый период. А у нас зимою – сон природы, ее отдохновение. И в снежные бури Мороз-воевода дозором обходит владенья свои. А весной все начинает просыпаться, потягиваться, сквозь снег пробиваются подснежники, мать-и-мачеха, и за ними начинает все расцветать, как в раю. А воздух, настоянный на цветах, хочется пить и пить, вливать в себя и чувствовать, как бурно расцветают твои собственные силы, как тебя вдруг тянет петь и танцевать.
А какой карнавал устраивает весна перед тем как уступить дорогу лету и уйти! Уйти навсегда, совсем уйти, потому что через год придет уже другая весна, другая девушка. И она, зная это, изукрашивает цветами деревья и кустарники, разворачивает свежие липкие, трогательно нежные листочки, добавляет ярких красок даже в хмурые ельники. Нет, ни Париж, ни Рим, ни Венеция, ни даже Бразилия не видывали ничего подобного и не увидят никогда. Это – одновременно и похороны весны, и торжество вечной жизни, это вакхическое торжество жизни над смертью. И я бы хотела торжественных похорон, непременно оговорю это в завещании и заставлю нотариуса его заверить всеми печатями».
Наташа отдавалась танцам всей душой, не забывая мило улыбаться раненому офицеру. Только вот мысли ее были далеки и от танца, и даже от кавалера. Она азартно придумывала все новые и новые подробности ритуала собственных похорон.
Господи, чего только не взбредет в девичью голову в безмятежные шестнадцать лет!..
Было, было время, когда все молодые были счастливы, хотя сегодня вы можете мне и не поверить. И вы будете правы, но я останусь при своем мнении. Счастье – производное не только от возраста человека, но и возраста собственной страны. Когда она еще злой, обовшивевший, потерянный и вечно голодный ребенок, она мстит. Месть же одинаково лишает счастья обе стороны. И ту, которой мстят, и ту, которая мстит. И обе стороны не понимают, за что же им такая мука. А Россия вплоть до семнадцатого года еще сохраняла веру в безусловную греховность мести как формы существования.
Во всей большой семье Вересковских самым счастливым был Павлик. Меж поместьем и деревней никогда не было глухого забора, предупреждающей о частном владении просеки или хотя бы устного запрета. Вместо них существовали сложившиеся обычаи, которые не нарушала ни одна из сторон. В поместье можно было прийти только по делу, в деревню – на праздники. На Пасху, Рождество, святки и тому подобное. И взрослые, и в особенности дети Вересковских по иному поводу обычно в деревне не появлялись. Никто – кроме Павлика.
В нарушение всех исторически сложившихся традиций Павлик не только ходил в деревню каждый день, но и приглашал к себе своих деревенских приятелей, которыми весьма быстро обзавелся. Отец смотрел на это сквозь пальцы, но Ольге Константиновне такое поведение решительно не нравилось. Она пыталась объяснить сыну, что подобное не просто не принято, но и неприлично. А уж водить в сад ватагу босоногих мальчишек – извините. Это, как говорится, ни в какие ворота не лезет.
– А что, мне с девчонками в индейцев играть?
– Друг мой, вразуми нашего сына, – умаявшись уговаривать Павлика, Ольга Константиновна обратилась к супругу.
– Вразумлю, – кратко ответил Николай Николаевич.
И купил сыну монтекристо, патронташ и целый ящик патронов.
Старший Александр оборудовал тир непосредственно в саду. Там были расставлены мишени, фанерные фигурки зверей, и мальчишки лупили по ним, не нанося урон местной фауне.
И только Павлик упорно стрелял птиц. Всех подряд. Ворон и сорок, синиц и соловьев. Что летало или пело, в то и стрелял. И – радовался, что делает это метко.
Павлик не бросил своих деревенских друзей и тогда, когда поступил в гимназию. Приезжая домой на каникулы, при первой же возможности разыскивал их, в тире начиналась стрельба, а в лесу – охота на пернатых. Но тут пришла война с немцами, во всеуслышание объявленная Второй Отечественной, и в стрельбе появился определенный смысл.
– Я буду готовить из них снайперов.
– Молодец, – сказал Александр, приехавший повидаться с родными перед отправкой на фронт. – Так держать!
За войной последовала революция, но Павлик упорно продолжал готовить своих снайперов и не оставил этого занятия даже после Октябрьского переворота. Теперь, правда, неизвестно, для какой из воюющих армий предназначались эти гипотетические снайперы.
Татьяна в августе поехала в Москву. По пути – в губернском городе у нее была пересадка на московский поезд – зашла в гимназию, поблагодарила учителей, попрощалась с ними и, нагруженная советами и пожеланиями, отбыла во вторую столицу. Писала аккуратно, но редко и очень уж коротко.
Поздней осенью поползли упорные слухи, что большевики введут всеобщее образование, закрыв гимназии и реальные училища, равно как и коммерческие вместе с кадетскими. Говорили, что преимущества получат дети рабочих и сельских бедняков, которые не будут сдавать никаких экзаменов вообще. И что хорошо бы обзавестись справкой о том, сколько классов гимназии окончил учащийся из среды лишенцев. Павлика тут же снарядили в город, указали, чтобы остановился на квартире, получил справку в гимназии и немедля отправился бы домой. В родное именье Вересковку.
Павел тут же выехал и… И пропал. Для очень многих – навсегда.
Выпал в отрицание.
5
– Всякая революция есть отрицание живого организма нации, сложившегося тысячелетиями. Его судьба прерывается, накопленные традиции, обычаи, привычки да и вся естественно создавшаяся мораль общества разрушается, погружаясь в муть и тину далекого прошлого, откатываясь в детство свое…
Патологоанатом госпиталей Смоленска Платон Несторович Голубков – крупный мужчина с мощными плечами и устрашающе огромными ручищами – очень любил пофилософствовать. Общаясь с двумя одичавшими помощниками да бесконечным потоком трупов в мертвецкой, он отдыхал в возвышенных разговорах с друзьями и гостями.
– Возникает иная цепочка развития, поскольку в полном согласии с диалектикой всякое отрицание рождает свое отрицание. Отрицание отрицания – не только непреложный закон диалектики, но и закон, предупреждающий общество о зловещем постоянстве бесконечного отрицания.
Александр с большим вниманием слушал известного в Смоленске профессора. Не с приторно вежливым молчанием гостя, а с искренним интересом. Он повидал то, в чем ежедневно копался патологоанатом Голубков, до сей поры не мог отмыться от липкого запаха смерти, ему и теперь виделись горы окровавленных трупов с оторванными конечностями, разможженными черепами и сизыми внутренностями, вывалившимися из разорванных животов. Еще живые, дышащие, доживающие свою жизнь внутренности. И его не раз убивали, и он не раз убивал, и насильственное отрицание жизни для него было явью, реальностью, а не устрашающими рассказами для гостей…
– Вспомните Великую французскую революцию. Отрицание королевской власти рождает гильотину, гильотина – невиданный всенародный и прилюдный террор. И отрицание шло за отрицанием, породив в конечном итоге Наполеона. И опять – реки крови, горы трупов, артиллерийский огонь по толпам санкюлотов. Не говоря уже о том, что великий корсиканец распространил террор далеко за пределы Франции, включив в него всю Европу. А ведь все началось с революции, переломавшей хребет французскому народу. И принцип отрицания отрицания перестал действовать только тогда, когда Франция вернулась к началу, возвратив власть королевской династии и тем самым отринув саму причину диалектического возмездия.
– Полагаете революцию злом?
– Величайшим! А особенно – для России.
– Слышу голос ура-патриота, профессор.
– А они правы, утверждая, что Россия – страна особая. Это не Европа, но и не Азия, а некая косоглазая меженица. На Руси кто на Запад смотрит, кто – на Восток, да так пристально смотрит, что и под ноги себе не глянет: не там ли утерянный грош завалялся?
– Но все же радуются падению царизма, папа, – заметила Аничка. – Искренне радуются.
– Радуются, доченька. – Платон Несторович вздохнул. – Радости так мало отпущено было народу нашему, что он собственные похороны готов в праздник превратить. Все восторгаются, все нацепили алые банты и славят свободу, свободу, свободу… Какую, позвольте спросить?.. Ведь русский человек и ведать не ведает, что свобода – разрешительный коридор, выстроенный государством. Вот в стенах этого коридора ты – свободен, а как только черту перешел – свисток полицейского и пожалуйте в участок. Вот что такое свобода. Мы, русские, этого движения по коридору не знаем и не признаем. Мы признаем только волю. Гуляй, душа русская!.. И вот все это наше внутреннее инстинктивное безграничье и отпустили на волю. Полагаю, что подобное случилось бы и тогда, когда Пугачеву удалось бы захватить Москву.
– И каковы же выводы из вашей странной аналогии? – спросил Александр.
– Выводы последуют. Причем очень скоро. Общее отрицание, отрицание всего и вся уже произошло в душах. И как только солдаты, то есть мужики с ружьями, вернутся домой, придет второе отрицание. Отрицание сущего порядка, помяните мое слово.
– И все же?
– Явление нового Пугачева и есть новый виток отрицания. История – не веревка, ее заново не свяжешь, однажды разрубив. Понадобится новая веревка, которую и начнут вить из народа.
– Нет, – вдруг тихо сказала Аничка. – Не из народа. Совсем не из народа, который принес домой винтовку. Из нас.
Все несколько озадаченно помолчали. Потом Александр сказал с неудовольствием:
– Но государство не может существовать без элиты.
– Может, – буркнул Платон Несторович. – Очень даже комфортно может существовать. Государству нужна безраздельная власть, а отнюдь не уровень культуры, определяемый элитой общества. И оно создаст свою элиту, отвечающую удобному для него уровню культуры. Хотите – средневековому абсолютизму, хотите абсолютизму просвещенному, хотите – пещерному. На свете не существовало и не может существовать государство, целью которого была бы забота о населении, а не об удобствах и процветании самой этой власти. Любая власть самодостаточна, а потому существует только ради самой себя и во имя самой себя. Это аксиома. Любая власть, кроме наследственной, потому что наследственная власть существует ради собственных детей, внуков, правнуков и прапрапра. Я что-то не припомню альтруистов во главе государства.
Помолчали. Потом Аничка робко спросила:
– А как же Александр Федорович?
– Керенский?
– Да. Его же буквально носят на руках. Я сама видела фото в журнале.
– А кто носит, разглядела? Засидевшиеся в девах бывшие гимназистки да истеричные дамы полусвета. Керенский – интеллигентный, милый, добрый человек, которого гнетет свалившаяся на его плечи забота о будущем России. Он при первой же возможности сбросит с плеч эту историческую суму неподъемную. И это будет следующим звеном цепочки отрицания отрицания, только и всего. Революция запустила конвейер беспрерывного отрицания сущего, что неминуемо приведет к возникновению личности, в которой сконденсируются все отрицания. Это будет сам Отрицатель Отрицания, для которого не может быть и не будет ничего постоянного, ничего святого!
– Папа, сознайся, что ты нас пугаешь.
– Предупреждение об опасности всегда вселяет страх. А это вполне естественно, потому что законы диалектики неотвратимы и, следовательно, беспощадны.
– С законами диалектики бороться бессмысленно, – сказал Александр. – Но у всяких законов есть следствия их проявления. И вот со следствиями бороться не только можно, но и необходимо. Особенно, если зло начинают творить люди во имя собственных корыстных интересов. И мы, фронтовики, будем бороться. Будем!.. Во имя спасения Отечества своего – до плахи, виселицы или расстрела. А чтобы этого не случилось, мы вздыбим всю Россию.
– Так уж и всю, – насмешливо прищурился Платон Несторович. – Россия велика безгранично, потому что она внутри каждого из нас. Покинуть Россию невозможно, потому что каждый покинувший увозит ее с собой, от края и до края.
– Мы создадим офицерские армии, мы призовем казаков, мы объясним народу, что такое отрицание отрицания, – с непривычной горячностью сказал штабс-капитан Вересковский. – Это – гибель всего и вся, семьи и личности, потому что это гибель России…
– Попытаетесь остановить диалектику? Но диалектика – не поезд, на подножку которого умудрилась вскочить матушка Россия. Она неостановима. Отрицание отрицания – непреложный закон бытия. Непреложный!..
И могучий, как трехсотлетний дуб, патологоанатом вдруг тяжело вздохнул и горько покачал седой косматой головой.
6
Настенька подхватила простуду с высокой температурой и заложенными бронхами. Трудно дышала, бредила по ночам, и родные, использовав все домашние средства, послали в город за врачом Трутневым Петром Павловичем. Они познакомились с ним недавно, но доктор был немолод, что вселяло надежду в Ольгу Константиновну, поскольку молодым врачам она решительно не доверяла. Кроме того, в Трутневе было еще одно качество, которое Ольга Константиновна подсознательно ставила выше профессиональных. Он сохранял святую верность жене, погибшей в молодости во время родов, и душа генеральши трепетала пред таким постоянством.
На этот раз, однако, доктор приехал не один. Его сопровождал очень серьезный молодой человек лет девятнадцати, еще не раздавшийся в плечах, а потому и выглядевший несуразно длинным. Просто – длинным, и все. И эта особенность затмевала все иные черты. Ольга Константиновна даже не могла вспомнить, какого цвета у него глаза.
– Мой новый фельдшер, – представил Петр Павлович. – Беженец из Трансильвании и редкий знаток лекарственных трав. Имя сложное, зовите просто Игнатием, как Лойолу.
– Очень приятно познакомиться, – сказала генеральша, потрясенная видом фельдшера.
– С вашего позволения мы осмотрим больную.
– Но… – Ольга Константиновна неожиданно смутилась. – Она – девица, а молодой человек…
– Молодой человек представитель нашего сословия. А у нас нет ни девиц, ни юношей, ни прочих измерений, а есть только больные и здоровые. Куда прикажете проследовать?
Проследовали в спальню Настеньки под конвоем мамы. Настенька застеснялась, натянула одеяло на голову, но доктор стащил одеяло, сердито сказав:
– Врачи не смотрят, а лечат, девочка.
Молча, очень внимательно осмотрели больную, прослушали и простукали. Затем Трутнев спросил:
– Ваше мнение, коллега?
– Сильный бронхит, осложненный ангиной. Однако бронхит поверхностный, и воспаления легких я не ожидаю.
– Как намереваетесь приступить к лечению?
– Сначала приведу температуру к норме.
– Действуйте. Ольга Константиновна, Игнатий останется здесь, а меня извините. Больных полгорода.
– Но как же так, Петр Павлович? – растерялась Ольга Константиновна. – Какой-то фельдшер… А она – девочка…
– А так, что все аптеки просроченными лекарствами завалены, дорогая госпожа Вересковская. Безвластие, никакого контроля нет, и лечить сейчас можно только по старинке. Травками, знаете ли, травками, медом да малиной. А лучше Игнатия травника в городе нет. Его бабка воспитывала, самая известная знахарка тамошняя.
И уехал. А длинный Игнатий остался и продолжал ежедневно лечить Настеньку. Ставил ей банки и припарки, делал растирания, а Ольга Константиновна потеряла покой окончательно. Днем она неусыпно следила за каждым шагом диковатого внука трансильванской знахарки, а по ночам вместо здорового сна прислушивалась, не крадется ли он в спальню любимой дочери.
Но все было тихо, и она почти успокоилась. Настолько почти, что позволила себе подремать перед рассветом, а проснулась вдруг… от звука шагов. Кто-то крался, осторожно крался!..
Накинула пеньюар, сунула ноги в домашние туфли, выскочила. А длинный трансильванец сапоги в передней натягивает.
– Куда это вы?
– Нужные мне травы по росе собирают. А больную пора на питье переводить, мокроты много.
И вышел, аккуратно, без шума притворив за собою двери в сад. Ольга Константиновна почему-то окончательно успокоилась.
Вернулся он через час. В доме уже прислуга готовила завтрак, горничные осторожно начинали прибирать нежилые помещения. Игнатий прошел к себе, позвал экономку:
– Мне нужен фарфоровый чайник и три фарфоровых миски.
– Это уж как хозяйка скажет, господин хороший.
– Ну так спросите у нее.
– Не вставали еще.
– Придется встать, когда вопрос касается здоровья ее дочери.
– Батюшки!.. – всплеснула полными руками, бросилась к Ольге Константиновне. Пока бегала, фельдшер развернул пакет, полный трав, цветов и кореньев, и стал неторопливо раскладывать содержимое по кучкам.
– Что вы меня, сударь, с утра пугаете? – сердито спросила хозяйка, едва переступив порог.
– Распорядитесь, чтобы кухарка выдала мне то, что я просил. Все должно быть чистым безукоризненно. А вас, Ольга Константиновна, я очень прошу подняться в мою комнату. Ваша Настенька стала барышней, Ольга Константиновна, – сказал он, как только они вошли. – Кажется, это несколько преждевременно, но вполне безопасно. И если вы спокойно растолкуете ей, как следует вести себя при этих новых обстоятельствах…
– Как… – Ольга Константиновна захлебнулась в праведном гневе. – Это… Это бессовестно!..
– Все естественное разумно, – пожал плечами Игнатий. – Для этого ее совсем не обязательно обследовать. Вполне достаточно посмотреть на радужную оболочку ее глаз.
Поскольку хозяйка растерянно замолчала, Игнатий позволил себе нечто, отдаленно напоминающее улыбку.
– Моя бабушка никогда не раздевала больных, чтобы поставить диагноз. И, представьте, никогда не ошибалась.
Ольга Константиновна по-прежнему молчала. Игнатий вдруг взял ее за плечи и развернул лицом к окну.
– У вас нездоровая печень. Боли обычно ощущаете ночью, после сытного ужина. Прошу вас ужин отдавать врагу, как то всегда полагали латиняне.
– Да, – растерянно подтвердила она. – А что сейчас следует делать с Настенькой?
– Настеньке следует пить отвары. Я набрал росных трав, к вечеру все приготовлю. Но то, что с нею произошло и происходит, должны растолковать ей вы. Мама.
7
Поздняя осень выдалась в Смоленске на редкость дождливой, черной, неприветливой. Постоянные ветры сдували последние листья каштанов и кленов, ими, мокрыми и скользкими, были усеяны все улицы, даже Большая Благовещенская. То ли дворники уже не успевали ее мести, то ли уже не хотели, поскольку в самом смятенном воздухе города витало нечто скользкое, прилипчиво мокрое и отвратительно вчерашнее. И даже на самой главной улице города Большой Благовещенской трамваи скользили и сползали назад, вниз, к Днепру. И все вокруг, стремясь вперед, неудержимо сползало назад, словно вся Россия бессильно и обреченно скатывалась неизвестно куда. Куда-то вниз, вниз, вниз…
И все митинговали. На Рыночной площади, на Блонье, на плацу, даже на Соборной горе, тесня верующих. Митинговали эсеры, анархисты, большевики, социал-демократы всех оттенков, и только социал-обреченные старались нигде не появляться. Смутное время уже рвалось на улицы и площади, и удержать его было невозможно. Страна вдруг разуверилась в своем вчерашнем кумире Александре Федоровиче Керенском и даже в самом процессе ленивого выбора вершителей судеб России. То бишь депутатов в Учредительное собрание.
– Настоятельно рекомендую господам офицерам появляться в городе только группами никак не менее трех человек, – сказал Александр. – Естественно, вооруженными.
Здесь следует напомнить о реальностях, которые осознанно забывались советскими историками и по непонятной инерции забываются и сегодня. Дело в том, что к началу 1917 года Российская империя потеряла два флота: Черноморский и Балтийский. Первый был частично разгромлен Турцией и Австро-Венгрией, а то, что уцелело от разгрома, оказалось надежно запертым в Севастополе и Новороссийске. И все южное побережье от Одессы до причерноморских степей было переполнено списанными на берег и болтающимися без дела морячками с наколками и нестерпимо острой жаждой выпить и закусить, что и привело многих из них во время Гражданской войны в многочисленные бандитские формирования юга Малороссии.
Та же участь постигла и флот Балтийский, в результате разгрома оттесненный и запертый в Кронштадте и Питере. Единственным боевым кораблем, уцелевшим в этих трафальгарах, был крейсер «Аврора», который бездеятельно стоял на Неве, не решаясь высунуть нос в когда-то открытое, а ныне, увы, прочно запертое море. Тысячи списанных на берег моряков-балтийцев болтались неприкаянными в Кронштадте и Питере. Однако эти сухопутные морячки примкнули к большевикам, соблазненные лозунгом «Грабь награбленное!». Вот они-то и ринулись штурмовать Зимний дворец, хотя штурмовать было абсолютно некого. Бывшая царская резиденция, где ныне заседали члены Временного правительства, почти не охранялась.
От неминуемого разграбления Зимний дворец караулили юнкера, а внутри дворца с этой же целью располагались уцелевшие в единственном бою с немцами отважные дамы из созданного Керенским Женского батальона.
Вот их-то, то есть необстрелянных мальчишек и женщин, и ринулась штурмовать с ревом и матом вечно полупьяная матросня, выписанные из госпиталей солдаты да многочисленные босяки, сбежавшиеся в столицу империи со всей России. Никакие представители рабочего класса в штурме замечены не были, поскольку руководство профсоюзов запретило своим членам участвовать в разграблении народного достояния. Герои большевистского эпоса – в тельняшках, перекрещенных пулеметными лентами, оказались единственными, кто тогда поддерживал большевиков, почему и захват Лениным единоличной власти представляется одной из неразрешимых загадок и без того загадочной истории России.
Кулисы истории, а в особенности ее костюмерные, хранят неисчислимое количество карнавальных масок, личин, картонных корон и вполне осязаемых скипетров. А работяги за кулисами отлично знают, когда и какой именно занавес опустить или поднять для уважаемой публики, именуемой народом.
– Вот и получили компот с грибами, – вздохнул Николай Николаевич. – Уж эти-то и перед возрождением каторги не остановятся, можете не сомневаться. Грибки-то в компоте смертельно ядовитые.
– Ядовитые? – настороженно спросила Ольга Константиновна.
А другой доморощенный философ, патологоанатом Голубков, отец Анички, вздохнул с густой горечью:
– Вот вам и начало смертельного колеса диалектики. Отрицание отрицания включилось в историю Руси…
8
Александр обладал изрядной долей харизмы, заразительно действующей не только на солдат. Этот природный дар, умноженный на незаурядную энергию и хорошее домашнее воспитание, снискал ему главенствующее положение и среди раненых офицеров. Кроме того, он обладал уменьем трезво взвешивать обстановку и делать выводы не на основании заученных правил и привычных стереотипов, как то случается сплошь да рядом и с людьми весьма образованными, а из самой создавшейся обстановки. Словно предчувствуя нечто – а он и вправду предчувствовал, – штабс-капитан старался расширить возможности получения сведений из первых рук, почему и завел знакомство с телеграфистом Юрием, брат которого прапорщик Алексей лежал в том же госпитале, а потом долечивался в том же офицерском резерве, что и сам Александр Вересковский. И вскоре перевел это «просто знакомство» во взаимную дружбу, хотя многое тут противоречило его личным дворянским предрассудкам, поскольку Юрий, равно как и его брат, были сыновьями приходского священника.
Больше всего Александра поразил разговор с патологоанатомом Голубковым, отцом Анички. Александр прекрасно понимал, что диалектика для офицерства – звук пустой, но для него он был все равно что звук трубы Иерихона. Для него это было еще одним предупреждением, что система отрицания взяла в России старт и что ее движение чрезвычайно трудно остановить. Он знал, кого имел в виду Платон Несторович, говоря о новом витке отрицания, поскольку не ленился читать на фронте не только листовки о «штыках в землю», но и «Правду», которую ему приносили его же подчиненные. И больше не верил в разрешенные довыборы депутатов Учредительного собрания, потому что и сами эти довыборы поставили под жесткий контроль большевики-ленинцы.
Он физически ощущал необходимость решительных действий если не завтра, то уж после выборов в «Учредиловку», как тогда говорили, – это точно. Штабс-капитан верил своему внутреннему голосу, а потому и начал готовиться заранее к неминуемой схватке, отлично поняв, что красноречивая русская интеллигенция способна разве что на очередные нескончаемые беседы под вечерний чаек с малиновым вареньем. Да и то – в сумерках.
Приятельство с телеграфистом Юрием было первым звеном подготовки, как разведка – первое звено боевых действий. А из задушевных разговоров с его братом, прапорщиком Алексеем Богославским, Александр легко выяснил, что остатки оружейных складов, располагавшихся на Покровской горе неподалеку от госпиталей, охраняются списанными в запас георгиевскими кавалерами из унтер-офицеров. Складами, правда, давно уже не пользовались, поскольку центр фронтовых операций сместился к югу, но Александр не без оснований полагал, что использовать все запасы армия не могла. По крайней мере, винтовки и патроны должны были там сохраниться. Должны были, и он пошел к караульным кавалерам, из всех своих орденов оставив на груди только солдатского Георгия.
– Вы не хуже меня знаете, господа кавалеры, что немецкие шпионы принудили царя-батюшку отречься от престола, – сказал он, собрав всех, свободных от караулов. – Ныне немецкие наймиты большевики захватили силой дворец Его Императорского Величества Государя Николая Второго, за что их вожак беглый каторжник Ульянов, называющий себя Лениным, получил миллион марок золотом. Завтра он отработает эти деньги, лишив жизни царя и всю его семью. Неужели мы, истинные русские патриоты, доказавшие своей отвагой преданность Государю и Отечеству своему, позволим кучке отпетых негодяев захватить Россию, убить Государя Императора и подписать позорный мир с Германией, которая немедленно захватит наши лучшие земли?
Кавалеры воинственно взревели, но Александр поднял руку, и все тут же примолкли.
– Я поднимаю всех господ офицеров, чтобы не допустить этого. Но у нас практически нет оружия, почему я от имени нашей России прошу вас открыть нам склады…
Склады были открыты. Правда, там, как и предполагал штабс-капитан, не оказалось ничего, кроме винтовок и патронов к ним. К счастью, нашлось несколько ящиков гранат, чем Александр был бесконечно обрадован. Кавалеры перетащили винтовки и ящики с патронами и гранатами в указанное штабс-капитаном место, кое-кто из них, еще не окончательно покалеченный, примкнул к господам офицерам, а остальные отправились агитировать в воинские команды, располагавшиеся в Смоленске неподалеку от госпиталей.
Вернувшись, Александр поручил пятерке крепких офицеров перетащить оружие в помещение офицерского резерва, сам тем временем разбил свой отряд на дружины, назначил в них командиров и связных и поставил задачу во что бы то ни стало прорваться в центр города, закрепиться в нем, разгромить или уничтожить рабочие отряды и приступить к мобилизации населения.
Оружие и ящики с патронами и гранатами были доставлены. Пока офицеры привычно вооружались, подгоняя оружие к собственному снаряжению и удобно подвешивая гранаты, штабс-капитан вдруг почувствовал, что ему позарез необходимо кое-кого повидать. Времени было очень мало, но он все же рискнул:
– Мне необходимо кое-что уточнить в топографии города. Капитан Штапов остается за старшего.
И умчался. Прямиком к дому Анички.
– Мы решили захватить Смоленск и тем дать большевикам пример первого сопротивления.
– Чему? – усмехнулся Платон Несторович, открывший дверь, как на грех, раньше прислуги и Анички. – С диалектикой, запустившей свое чертово колесо, бороться бессмысленно.
Тут, слава богу, появилась Аничка, и Александр не стал ввязываться в никчемные споры.
– Офицеры выбрали меня командиром, и мы выступаем прямо сейчас. Я зашел попрощаться.
– Стало быть, понадобится сестра милосердия, – невозмутимо отметил Платон Несторович. – Аничка, надень форму сестры милосердия и не забудь о косынке с красным крестом. А я пока соберу тебе сумку со всеми необходимыми медицинскими причиндалами.
И оставил молодых людей наедине.
– Вы не пойдете со мной, – твердо сказал Александр. – Не пойдете, вам там нечего делать.
– Я иду не с вами, господин капитан. Я иду помогать раненым и тем исполняю свой долг милосердия.
– Милосердия? – неожиданно зло улыбнулся Вересковский. – Какое может быть милосердие в междоусобной схватке, где враги ненавидят друг друга и боятся друг друга вот уже тысячу лет?
– Чтобы меньше боялись и меньше ненавидели, я и должна идти. У каждого свой долг, капитан. У каждого.
– Я воюю с ними по понятиям чести, а не долга. Я ничего им не должен, а потому ничего и не собираюсь отдавать. Ни имущества, ни земли, ни уж тем более власти!
– Вами управляют сословные предрассудки, а мною – любовь и милосердие к несчастным. И потому мы никогда, никогда – слышите? – не поймем друг друга. Никогда!.. Но пойдем вместе…
А пока шла эта сословная перебранка, солдаты запасного батальона сапогами и прикладами добивали последнего из трех георгиевских кавалеров. Двое других уже были растерзаны.
В чем их обвинишь сегодня? Ведь большевики им Беловодье обещали, где землицы, сколь душа пожелает, и бар никаких нету. Ни бар, ни урядников. И, главное, пахать не надо, такая там землица. Бросил зерна по весне и хоть до урожая с печи не слезай…
9
– Задача: прорваться в центр города и атаковать все места скопления солдатни и сторонников большевистских Советов. – Штабс-капитан отдавал боевой приказ, а потому и речь его была неукоснительно твердой и непреклонной. – Шинелей не надевать, кто боится подхватить в бою простуду, пусть лучше пребывает в резерве. Вопросы есть?
Вопросов не было, как, впрочем, и особого энтузиазма. Всем было уже решительно все равно, но воля командира действовала, и никто не посмел отказаться.
Однако прорваться по мостам в южную часть города с первого лихого удара не удалось. С мостовых укреплений неожиданно ударили пулеметы, и Александр приказал лишь демонстрировать атаку, всячески сковывая противника.
– Я возьму две дружины, переправлюсь у лесопилки и ворвусь в город, минуя мосты.
Штабс-капитан принял на себя командование основной группой не только потому, что это стало направлением главного удара, – он хотел увести с собою Аничку от остервенелого пулеметного огня боевых отрядов красных, предупрежденных солдатами запасного полка.
– Со мной пойдет сестра милосердия.
– Я не…
– Не спорьте, мне нужен проводник в городе.
Тут он лгал всем и прежде всего – самому себе. Сестра милосердия уже ознакомила его с городом, хотя и в общих чертах, да и проводник у него был: он включил в свою дружину не только телеграфиста Юрия, но и его брата прапорщика Богославского… Да ведь нужен повод, чтобы удалить от опасности Аничку, – это во-первых, а во-вторых…
«Во-первых, во-вторых… Чушь какая-то, считать начал, как конторщик», – с неудовольствием подумал он.
Просто интуиция сработала. Та самая, фронтовая, надежная, которая бросает тебя вдруг наземь, когда пуля уже летит в твою голову. Интуиция – память предков, заложенная в генах, и в это мало во что верящий фронтовой штабс-капитан верил, как в «Отче наш».
С утра пошел дождь. Робкий, осенний, безнадежный какой-то. Стали темнеть смоленские кирпичные тротуары, зажурчали первые ручейки с горок к Днепру, посыпались последние листья.
«Хорошая погода, – подумал Александр. – По такому дождичку и не высунется никто».
На лесопилке никого не оказалось, поскольку красные отряды еще воевать не умели. Офицеры-фронтовики еще не служили в новой армии, не обучили ее, не организовали, не передали ей фронтовой опыт, рожденный не без помощи предков, вековых защитников Руси. Это потом им нехотя начали доверять, потом, когда сообразили, что офицеров не на части рвать надо, а привлекать к службе в Красной армии. А тогда…
А тогда у мостов стрельба началась. Палили все и со всех сторон, но опытное ухо определило точно: у красных было как минимум четыре пулемета. И патронов они не жалели, почему на открытых мостах через Днепр идти на них в атаку было верной гибелью.
По счастью, на берегу оказались рыбацкие лодки. Сбили замки, столкнули в воду, расселись.
– Куда лучше?
– К Чертову рву, – сказала Аничка. – Спускайтесь по течению ближе к правому берегу.
– Всем, кроме гребцов, лечь на дно, – распорядился Александр.
Пристали в устье ручья, вытекавшего из глубокого («Чертова», как назвала его Аничка) рва. Быстро выгрузились, вытащили лодки на отмель, разобрали оружие, окружили Александра.
– Вдоль крепостной стены скрытно – к мостам, – распорядился штабс-капитан.
– Обождите, – сказала Аничка. – Мы попадем в крепость через башню Веселуха. Мне кажется, это проще, чем силой пробиваться через центр города к Козьей горе.
– А зачем нам эта гора? Необходимо прежде всего нащупать их штабы, места скопления.
– На Козьей горе раньше был штаб фронта. Большевики вполне могли его использовать.
– Это весьма серьезное предположение, – сказал штабс-капитан. – Ведите, мадемуазель.
– Сначала – вверх по ручью. Следуйте за мною, господа. Только на всякий случай не разговаривайте.
Дождь размочил крутые глиняные откосы. Ноги скользили, кое-где приходилось ползти на четвереньках.
– В Смоленске ходит легенда, будто свое имя «Веселуха» башня получила потому, что в ней устраивали оргии французские офицеры при захвате города Наполеоном. Но это всего лишь легенда. Башня названа так за свою красоту. Она действительно самая красивая во всем ожерелье крепости. Красный кирпич кладки через равные промежутки отделан поясами из белого камня…
Аничка болтала без умолку из-за некоторого смущения, остановившись перед крутым подъемом. Ей предстояло показывать дорогу офицерам, и она очень беспокоилась, не станут ли при этом мелькать ее панталончики. Но выхода не было, и она, подавив вздох, сказала:
– За мной, господа.
И отважно полезла к башне, по последней крутизне Чертова рва. За нею, оступаясь и оскальзываясь, гуськом последовали офицеры, стараясь не бряцать снаряжением.
– В детстве мы любили здесь кататься на салазках, – чуть задыхаясь, сообщила Аничка.
– Берегите дыхание, – строго сказал Александр. – В башню первым проникну я, за мною – двое офицеров, и только потом – вы, мадемуазель. Там осмотримся, и вы расскажете – в общих чертах, разумеется – о плане Смоленска. В каком направлении нам лучше отходить, если придется выбираться в одиночку.
В башне перекрытий уже не осталось, а пол был замусорен, загажен и завален ржавым железным ломом. Две столь же замусоренные лестницы вели на правое и левое крылья крепостной стены.
– Поднимемся наверх, – сказала Аничка. – Только на стене попрошу всех по возможности скрываться за зубцами. На всякий случай, этот район весьма плотно заселен.
Она поднялась первой, пропустила вперед офицеров, но задержала штабс-капитана.
– Останьтесь, здесь – лучше обзор. Нас просто примут за влюбленных, если кто-нибудь и заинтересуется.
Офицеры скользнули за зубцы, а Александр, оставшись рядом с Аничкой, одной рукой обнял ее за плечи.
– Господин капитан…
– Для вящей убедительности, мадемуазель Аничка. Рассказывайте, что перед нами. И танцуйте от собора. Это – точка привязки, он виден из всех районов города, если не ошибаюсь.
– Танцую от собора, господин капитан. Между крепостной стеной, на которой мы стоим, и собором – местечко, населенное более состоятельными евреями, чем те, которые проживают на Покровской горе. Здесь обосновались ремесленники, мелкие торговцы, мелкие ростовщики, ссужающие деньги под проценты своим же землякам. Козья гора, на которой прежде располагался штаб фронта, левее этого места. Он находился на улице, которая напрямую ведет к центру города, возле часов пересекает Большую Благовещенскую и выходит на Блонье. Вокруг Блонье расположены здания городской управы, особняк губернатора и другие службы города. Полагаю, что сейчас их заняли Советы.
– Стало быть, у нас две цели для внезапных ударов, – сказал Александр. – Первая – бывший штаб фронта, который советские дружины могли приспособить для своих надобностей. И вторая – всяческие ревкомы, комитеты и тому подобные карикатуры на власть освобожденных трудящихся.
Все промолчали.
– Тогда вниз.
Все так же молча спустились в башню.
– Разделимся, – приказал штабс-капитан. – Пять человек – со мной, остальных мадемуазель скрытно проведет к центру. Там ждать, пока не подойду. Если не появлюсь через час, приказываю действовать самостоятельно.
Разошлись. Аничка повела свою группу левее собора, чтобы миновать Большую Благовещенскую и там перебраться через нее в правые улицы. А штабс-капитан, дождавшись, когда они скрылись, приказал разведать подходы к штабу.
Разведчики вернулись быстро.
– К штабу не подобраться, – сказал телеграфист Юрий, которого Александр как человека гражданского и знающего город послал поглядеть подходы к штабу. – Само здание хорошо охраняется. Возле него – пулеметная точка. А на всех перекрестках, в переулках и дворах вокруг стоят патрули.
– Обидно, но делать нечего, – вздохнул штабс-капитан. – Идем на соединение с нашими. Ведите, Юрий. Только другим путем, чтобы не примелькаться. Может быть, чуть выше собора.
– Тут евреи живут, – сказал телеграфист. – Народ робкий.
Еврейский поселок был плотно застроен одноэтажными домишками с палисадниками перед лицевыми окнами и небольшими огородами сзади. Улочки были кривыми, запутанными и немощеными, почему дождь и превратил дорогу в труднопреодолимое месиво. Офицеры, оскользаясь, цеплялись за ограды, которые, как правило, тут же и ломались, поскольку не были рассчитаны на мужскую тяжесть.
– Ведите напрямик, – с неудовольствием сказал штабс-капитан. – Сами же сказали, что народ робкий.
– Два погрома пережили, – вздохнул Юрий. – Это серьезное испытание.
И повел офицеров напрямик.
Шли по жирной огородной земле, пудами налипавшей на сапоги. Ломали плетни и изгороди, топтали грядки, пока не уткнулись в глухой забор из добрых трехаршинных досок.
– Этот не сломаешь. Обходить, что ли?
– Обойдем.
Сочно шлепали по грязи, унылый дождь глушил шаги. Телеграфист шел впереди, но, завернув за угол, отпрянул.
– Часовые у входа в дом.
Александр поднял руку. Офицеры привычно замерли. Штабс-капитан шагнул к Юрию, осторожно выглянул.
Как ни мгновенен был его натренированный взгляд, он успел засечь все. И часовых на крыльце, и красный флаг над входом, и грузовой автомобиль чуть ниже дома. Это был «уайт» с низким железным кузовом и работающим на холостом ходу мотором. Отпрянул за угол, оглянулся, шепнул:
– Швыряю гранату. После взрыва – все в кузов автомобиля. Лечь на пол и не двигаться до моей команды.
Выдернул кольцо гранаты, зажав в кулаке рычажок взрывателя. В сумраке увидел растерянное лицо телеграфиста.
– Пробирайся к Анне, я знаю дорогу в центр. Скажешь ей, чтобы немедленно отводила всю свою группу к башне и далее – на лодке через Днепр, к офицерскому резерву.
– Я…
– Живо!..
В шепоте штабс-капитана было столько ярости, что Юрий поспешно передвинулся подальше, за спины выстроившихся за Александром офицеров.
– Раз… Два… Три!..
Александр швырнул гранату и – дым еще не рассеялся – рванулся из-за угла к автомашине. Не оглядываясь, кто там стонет, кто – кричит, включил передачу и отпустил ручной тормоз. Машина покатилась неспешно, ревя мотором, потому что штабс-капитан притормаживал, по грохоту кузова определяя, сколько человек из его дружины успело впрыгнуть на ходу и лежит сейчас за его спиной.
– Стрелять из-за бортов, не высовываясь! Лучшим стрелкам, по очереди и – только по целям!
Целей хватало, потому что сейчас они катили с Козьей горы по параллельной улице. Здесь оказалось много красных, растерявшихся как от внезапного нападения, так и от неизвестно кем занятой движущейся машины. Офицеры палили из-за бортов, но сам Александр на стрельбу не отвлекался, предчувствуя, что этот путь скоро кончится и ему придется выворачивать на прямой спуск с Козьей горы. Он представлял себе еврейскую старательно изолированную от центра застройку в утробе крупного русского города, зная, что именно в Смоленске и начались первые погромы.
Отходящий от параллельной улицы переулок вел вниз, к Днепру, откуда и до сей поры слышалась неспешная перестрелка. Притормозил, крикнул:
– Прыгайте! Найдите группу, которую вела сестра милосердия, и прежним путем уходите на тот берег Днепра. Меня не ждать, сам выберусь через…
Он замолчал, поскольку не забыл о заповеди командира никогда не объяснять подчиненным того, что их непосредственно не касается. Заповедь была фронтовой, ясной, многократно проверенной. Как только офицеры покинули кузов «уайта», Александр круто заложил руль и, ломая плетни, вылетел на прямой спуск с Козьей горы.
10
Доктор Трутнев Петр Павлович нагрянул к Вересковским неожиданно. Не потому, что не уведомил о приезде, а потому, что надобности в нем не было. Настеньку лечил Игнатий, в уездном городишке, где практиковал Петр Павлович, пациентов хватало, а он – взял да и прикатил. Занятый своими думами, генерал не обратил на внезапность появления доктора особого внимания, но Ольга Константиновна мельком поинтересовалась, не случилось ли чего-либо экстраординарного.
– Никоим образом, Ольга Константиновна, что вы! – торопливо забормотал Трутнев. – Никоим образом.
Нервно ответил. Очень нервно.
– Решили проведать нас или своего фельдшера?
– Да, да. Он – лучший травник. У него бабка – знаменитая знахарка в Трансильвании. – Доктор говорил торопливо и маловразумительно, потому что правду почему-то сказать не решался. – Простите великодушно, любезная Ольга Константиновна, не может ли Николай Николаевич принять меня?
– Разумеется, Петр Павлович, он будет весьма рад. Прошу пройти прямо в кабинет.
Трутнев поспешно, а потому несколько неуклюже поклонился и прошел к генералу-историку.
Николай Николаевич и впрямь был рад видеть доктора. Что-то говорил, пожимая руку и усаживая гостя в кресло. Что-то, разумеется, необязательное, но в ответ слышал еще более необязательное:
– Да, да. Да, да.
– Что-нибудь случилось, Петр Павлович?
– Как бы сказать… – Доктор помялся. – И да, и нет. Словом, после переворота я пошел в милицию, и там сказали, что я совершенно свободен и могу ехать куда захочу.
– А при чем тут милиция?
– Я ведь был выслан сюда под надзор, – вздохнул Трутнев. – Я не решался признаться, что моя супруга вовсе не умерла при родах, а была осуждена на десять лет одиночного заключения в Бутырском замке, а я – определен под надзор полиции в этом городишке. Нет, нет, ничего уголовного, дорогой Николай Николаевич, иначе не осмелился бы навещать вас. Нет, нет, хуже. То есть лучше. Приличнее как-то. Она была в какой-то тайной организации, в какой – я не спрашивал. И ее арестовали. А сейчас – выпустили.
– Вам сказали об этом в милиции?
– Нет, что вы. Она сама прислала телеграмму…
Петр Павлович суетливо и долго шарил по карманам и, наконец, протянул генералу телеграфный бланк:
- «ТЕМНИЦЫ РУХНУТ – И СВОБОДА
- ВАС ПРИМЕТ РАДОСТНО У ВХОДА,
- И БРАТЬЯ МЕЧ ВАМ ОТДАДУТ».
– Без подписи, – сказал генерал.
– Конспирация, – пояснил доктор. – Но это – она. Она всегда, всегда придерживалась конспирации.
– Вы поедете к ней?
– Немедленно. Только…
И вдруг замолчал.
– Что именно, Петр Павлович?
Трутнев вздохнул, помялся.
– Приютите у себя моего Игнатия. Он – беженец, живет без документов. Простите, но… И Настенька не совсем здорова.
– Разумеется, Петр Павлович.
Доктор повздыхал, помялся. Он вообще был не очень уверен в себе, когда дело не касалось его непосредственной специальности. Спросил наконец:
– Как по-вашему, Николай Николаевич, большевики долго еще продержатся?
– Большевики – это размах русского молодца. Отобрать, выпить, закусить. Не дадите, отберут силой, причем с веселым удовольствием. А продержатся до той поры, пока на Руси будет что отбирать. Это – сила разрушительная, а не созидательная. Вот новую дубину или плеть они сотворить могут, а что-либо разумное, доброе, вечное – извините. Это не по их части, как говорится.
– Но ведь Россия – очень богатая страна.
– Вот когда станет очень бедной, тогда и большевики кончатся, уважаемый Петр Павлович. Не раньше. Закон предельного насыщения, который действовал на татар, на них не распространяется.
– Не распространяется, – уныло вздохнул Трутнев. – Закон и – не распространяется. Удивительно, почему не?.. А?..
– Люмпены и маргиналы пишут законы сами. Точнее – для себя. Потому-то Маркс и выкинул лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А в Древнем Риме пролетариями называли городских бездельников. Теперь представьте себе на одно жуткое мгновение, что эти городские бездельники захватили власть. Представили? Так вот, они ее уже захватили. Точнее – сцапали. Завтра приступят к написанию удобных для себя законов.
– А справедливость? Существует же какая-то справедливость, за которую шли на плаху и на каторгу?
– Справедливость на Руси с успехом заменяется целесообразностью. А целесообразность – необходимостью затянуть гайки или урезать норму хлеба до фунта в день. Или – своеобразием текущего момента. Между прочим, Ульянов-Ленин – юрист по образованию. Присяжный поверенный, и уж что-что, а законы составлять умеет. Скоро сами в этом убедитесь, дорогой Петр Павлович. На собственном горьком опыте.
11
На заснеженном и разъезженном подъеме к центральному перекрестку Смоленска, где висели знаменитые городские часы, лошади поднимались с превеликим трудом. Все было в липкой глинистой грязи, все оскользалось, падало или норовило упасть, и пожилые люди на всякий случай обходили этот подъем по другим, мощеным улочкам.
«Уайт» гремел всем своим железом. Его нещадно мотало, потому что гладкая резина, которой были облиты его колеса на манер танковых траков, не цепляла дорогу. Однако мотор тащил вперед, и грузовик, виляя задом, кое-как взбирался по крутому склону.
Позади началась разрозненная стрельба. По ее бессмысленности штабс-капитан понял, что ею никто не руководит, что каждый стреляет, как ему сподручнее, без общей задачи. Это давало шанс успеть проскочить гребень подъема, пока случайная пуля не попадет в него. Густые сумерки неосвещенного города были на его стороне, равно как и то, что красные упорно не стреляли залпами.
«Уйду…» – радостно подумал он и тут же отогнал от себя эту утешительную мысль.
Он считал, что мысль притягивает. Не веря ни в какую чертовщину, он тем не менее в это верил, потому что слишком долго находился под огнем.
Руль «уайта» был расположен по центру. Поскольку пассажиров не было ни справа, ни слева, Александра свободно мотало по жесткому сиденью, и он держался только за рулевое колесо. И это позволяло ему, болтаясь из стороны в сторону, не упускать из виду дорогу.
Он вылетел на центральный перекресток с диким ревом и грохотом, миновал часы (отсчет расстояний и место встреч, как объясняла когда-то Аничка, показывая ему город) и погнал напрямик по усыпанной каштановыми листьями респектабельной Кадетской.
Здесь никого не было, а стрельба прекратилась сразу же, как только Вересковский миновал подъем. Но скорость он не сбрасывал, понимая, что выигранное время – его единственный боевой резерв.
И на той же ревущей и грохочущей скорости вылетел к Блонье. Этот аккуратный, всегда ухоженный сквер с памятником композитору Глинке окружал продуманный ансамбль зданий, занятых государственными и общественными службами. Александр хорошо запомнил слова Анички, что если городской центр – это часы, то управленческий – район Блонье. Запомнил и резко свернул налево, против движения и часовой стрелки. Но сейчас он собирался перевести все часы города Смоленска назад.
Здесь, как он помнил из объяснений Анички, должна была находиться городская управа. Приближаясь к ней, он сорвал с ремня гранату, зубами вырвал кольцо и метнул ее в подъезд. Промчался мимо, услышал, как грохнул за спиной взрыв. Едва свернув направо, услышал еще один. Оглянулся и увидел напряженное, но весьма решительное лицо прапорщика Алексея Богославского.
– Вы здесь?..
– Да. Еще круг вокруг Блонье, капитан. Пока они не очухались. Перед поворотом у большевиков что-то вроде ревкома. Я метну гранату в момент, когда вы будете поворачивать.
Александр кивнул, слова тратить было некогда. Чуть притормозив перед следующим поворотом направо, услышал взрыв и, как ему показалось, какие-то крики. Опять началась частая, но одиночная стрельба. Из нагана, как на слух определил он.
– Еще раз направо! – крикнул прапорщик. – Второе действие!.. Дайте мне ваши гранаты и не отрывайтесь от руля!..
Капитан отцепил гранаты, протянул за спину, уже не оглядываясь, но подумал, что этот поповский сын на фронте не проповедовал, а очень даже неплохо занимался делом. Распоряжения его были вполне разумными, и Александр ощутил вдруг некое подобие тепла в охолодевшей от войны душе. Появился надежный товарищ, фронтовик, с которым стоило разделить судьбу.
На второй длинной стороне Блонье прапорщик дважды метал гранаты, но штабс-капитан не отвлекался от дороги. Уже началась стрельба, уже все выходы из четырехугольника, по которому они гоняли ревущую машину, были заняты набежавшими солдатами. Пальба была разрозненной, пулеметных очередей пока не слышалось, но штабс-капитан не сомневался, что это – только вопрос времени. Временем же располагал противник, и следовало отрываться от стрельбы как можно скорее.
– Куда сворачивать? – крикнул он прапорщику.
– В Лопатинский сад! Ломайте ворота!
На втором круге Александр резко повернул налево, крылом снес железные узорчатые ворота городского парка и погнал по центральной аллее. Она была достаточно широка, нависавшие деревья немного прикрыли ее от дождя, да и песок впитал воду. Прапорщик Богославский перебрался на переднее сиденье.
– Впереди, кажется, тупик? – спросил Александр.
– Да. В конце бросим машину.
– Ну уж нет! – усмехнулся капитан. – Такого трофея они от меня не дождутся.
– За Королевским бастионом – очень крутой скат. Там невозможно удержать автомобиль.
– Перед скатом – прыгайте.
– А вы?
– А я угроблю грузовик и поднимусь к вам.
Промчавшись через мостик, который рушился за их спинами, они миновали садик с беседкой, вдоль левой крепостной стены поднялись на Королевский бастион. Штабс-капитан чуть притормозил.
– Прыгайте, прапорщик.
Богославский спрыгнул. Александр на второй передаче поднялся на гребень вала, а когда машина перевалила через него, поставил на нейтральную скорость и выключил двигатель. Машина продолжала катиться с крутизны. Убедившись, что она не остановится, штабс-капитан выпрыгнул подальше, перекатился и на четвереньках поднялся на вал. Оглянулся.
«Уайт» продолжал свободно катиться, все больше набирая скорость. Потом вдруг высоко подпрыгнул на каком-то ухабе, перевернулся и рухнул. Раздался мощный взрыв.
– Ну, вот и все, – сказал Александр. – Прощай, старина. Ведите, прапорщик. Полагаю, вдоль стены?
– Вдоль стены нельзя, – сказал Богославский. – Ниже пойдут кварталы рабочих льняного завода, где нас немедленно схватят. Надо пробираться мимо них по крепостной стене, я знаю, где можно на нее подняться.
– Заранее готовили побег?
– Играл здесь мальчишкой. Я же – смолянин.
Пройдя вдоль стены, он указал место, где высыпались кирпичи. Здесь и впрямь можно было подняться наверх.
– Только осторожнее, капитан. Пробуйте кирпич, прежде чем поставите на него ногу. Мы потяжелели с детской поры.
Поднимались они медленно и осторожно. То, что в детстве было просто забавой, сейчас оказалось испытанием терпения и спокойствия. Под Александром дважды рушился кирпич, но, к счастью, удалось удержаться.
Прапорщик взобрался раньше и подал Вересковскому руку.
– За мной до угловой башни. Там спустимся.
– Ползти? – осведомился штабс-капитан.
– Просто пригнитесь.
Благополучно добравшись до угловой башни, спустились по заваленной кирпичами и мусором лестнице. Прапорщик осторожно выглянул, прислушался, потом вышел. Александр ждал, укрывшись в нише. Богославский вернулся, сказал приглушенно:
– На берегу никого. Дождь разогнал.
Тихо пробрались на берег, где стояло множество вытащенных из воды лодок. Прапорщик быстро отыскал легкую лодочку с веслами. Пояснил зачем-то:
– Рыбачат тут помаленьку. Подкармливаются.
Столкнули суденышко в воду. Штабс-капитан сел на весла.
– Оттолкните, прапорщик.
– Я переправлю, – сказал Богославский. – Переправлю и вернусь. Тут в церкви служит мой дядя. Укроюсь пока у него.
– Может быть, со мною в офицерский резерв?
– У него безопаснее, до сей поры шум в городе не затих. И лодку надо на место вернуть, а то наверняка вычислят, что кто-то переправлялся. Слышите, как ищут нас?
Александр прислушался. В пропитанном дождем воздухе глухо раздавались чьи-то шаги вразнобой, доносились неразборчивые голоса, где-то далеко грохнул винтовочный выстрел.
– Крепость обшаривают, – сказал прапорщик. – Вам, капитан, тоже нельзя появляться в резерве. Постарайтесь пробраться к отцу Анички, он спрячет. Дорогу найдете?
– Найду.
– Я высажу вас поближе к его дому. – Богославский влез в лодку, сел за весла. – Если, не дай бог, вдруг выйдет луна, на всякий случай пригнитесь.
Переправились благополучно. Когда лодка заскребла днищем по песку, Вересковский спрыгнул в воду. Протянул руку:
– Спасибо, прапорщик. А вообще нам следует пробираться на юг. К казакам.
– По Днепру сплавляют баржи от льнозавода до Рославля. Это – реальная возможность, капитан. Удачи!..
12
Татьяна писала редко и слишком уж сухо. Жива, здорова, сыта, одета. А в следующем письме – вдруг длинное объяснение, почему она решила поступать не на медицинский, а на историко-филологический факультет. Дескать, папин труд всегда был для нее примером, ну и так далее.
– А живет-то как? – озабоченно спрашивала Ольга Константиновна. – И как с этим самым поступлением? Не отменили прием без экзаменов для золотых медалисток?
– Сообщила бы, если бы отменили. – Генерал в то утро был не в духе, потому что никак не мог припомнить, куда он задевал папку с заметками по сражению под Мукденом. – Почта пока еще…
Он не закончил фразы, поскольку почта и вправду была «пока еще», уже работая с перебоями и запозданием доставок.
– Все – «пока еще»… – вздохнула супруга. – Мы живем в обществе «пока еще». Пока еще есть хлеб, но уже за ним – очереди с утра. Пока еще есть какая-то власть, но уже ее как бы и нет. Пока то, пока се… Все стало призрачным, друг мой. Миражом и бутафорией все стало. Будто ушли актеры, не доиграв пьесы, а декорации остались, в зале – публика, а на сцене – пустота и вооруженные рабочие за кулисами.
Ольга Константиновна не была склонна к монологам. Поэтому слегка удивленный генерал сказал «да-с» и ушел разыскивать папку по русско-японской войне в свой кабинет, до невозможности перегруженный книгами и бумагами. Папки он так и не научился подписывать, полагаясь на свою память, но последнее время она порою почему-то отказывала, и тогда начинались шумные бессистемные поиски.
Николай Николаевич понимал, как нервничает супруга. Александр где-то в Смоленском госпитале, от Павлика ни слуху ни духу, Татьяна озабочена только собой, а почта и впрямь «пока еще». И до какого еще «пока», спрашивается? Свихнулась Россия, свихнулась, а она – сила темная и непредсказуемая. Она – не в Петрограде, не в Москве, не в старых барских усадьбах – она где-то живет вне. Вне городов, вне рабочих поселков… Солдаты бегут с позиций, а господа офицеры ничего, в сущности, поделать не могут, за хлебом – с утра очереди с записью на ладонях химическим карандашом. А оружия в стране – прорва, и в чьих руках окажется это оружие, тот и закажет танцы. То ли вальс с полонезом, то ли вприсядку под гармошку.
Вздыхал генерал. И папка с русско-японской войной порою ему уже казалась не очень-то нужной. Что исследовать, когда время исследований либо уже прошло, либо еще не наступило. А что наступило?.. Междометие. Время междометий. Одних междометий вместо существительных с глаголами.
Осторожно постучали в дверь. Так стучит дворецкий.
– Что тебе?
– Господин прапорщик Николаев.
– Отправь его в сад. Там Наталья с природой общается.
– Они вас спрашивают. Для совета.
– Какого совета?
– Мне не сказано. Вашего, наверно.
Вздохнул генерал. Опять какое-то междометие.
– Проси.
И вошел прапорщик Владимир Николаев. Худощавый, даже скорее недокормленный, проступает юношеская худоба. Значит, из студентов, почему-то решил генерал.
Но доложил по всей строевой форме. «Ваше превосходительство…» и так далее.
– Присаживайтесь, прапорщик. Прошу.
Николаев сел. Аккуратно, на краешек кресла. Николай Николаевич с приятностью отметил хорошее воспитание.
– И что же вас привело ко мне, отставному генералу?
– Скорее всего – растерянность, ваше превосходительство. – Прапорщик неуверенно улыбнулся.
– Мое превосходительство зовут Николаем Николаевичем. Тем более что мы знакомы.
– Благодарю вас, Николай Николаевич. – Прапорщик вздохнул. – Ко мне с фронта прибыла делегация в составе унтер-офицера и двух старослужащих из моей роты. Привезли коллективное письмо.
– Личного характера?
– Не совсем, Николай Николаевич. – Прапорщик достал письмо, протянул генералу.
– «Господин прапорщик, – забормотал генерал, читая письмо вслух. – Сим извещаем вас, что общее собрание роты в составе унтер-офицеров…» таких-то… «…а также рядовых…» таких-то… «избрало вас председателем ротного Комитета, так как все господа офицеры дезертировали и что нам делать мы не знаем пред лицом злобного врага…»
– Дезертировали, а солдаты не знают, что им делать пред лицом злобного врага!.. – сердито проворчал генерал, возвращая письмо Николаеву. – Ну, и что же им делать пред лицом этого злобного?
– Керенский мира не заключал, Николай Николаевич. Так что войну следует продолжать.
– Да, войну следует продолжать, но как ее продолжать при дезертировавших офицерах? Как? Да еще при сплошном междометии? Нонсенс! Вы откуда? Из запаса?
– Да. Недоучившийся студент. Имею некоторый боевой опыт, награды. И буду воевать…
– Не-ет. – Генерал потряс пальцем. – Вы не будете воевать в старом смысле этого слова. Вы будете исполнять волю какого-то там комитета. Откуда комитеты, откуда? Где командование, штабы, планы, задачи, разработка операций? Я, знаете ли, документы по всей русско-японской войне утерял. Символично? Весьма. Весьма символично. И все, все решительно утеряли документы. Страна утерянных документов!.. Воюют несчастные юноши, которые не утратили чести. И это все! Все, что осталось от великой державы. Междометие! Междометие, но вас, юноша, это не касается. Вы – смелый человек, позвольте пожать вашу руку.
И торжественно, даже несколько картинно пожал руку растерянному прапорщику.
Пригласили к чаю. Генерал начал было что-то выспренно излагать о необходимости защиты родины в эпоху кошмарных междометий, в систему которых она угодила. Вошла Наташа.
– Могильный венок флоры, – сказала она, водрузив посреди стола ветки с остатками листьев. – Красный цвет – знак ее гибели и торжества фауны. И клыкастая фауна уже готовится к своему торжеству. Здравствуйте, Владимир.
– Прапорщик на фронт уезжает, – вздохнула Ольга Константиновна. – Налить тебе чаю?
– Зачем? – резко спросила Наташа. – Зачем вы едете на фронт? Убивать? Быть убитым?.. Это – бессмыслица. Бессмыслица!.. Какая-то чудовищная нелепость!..
– Но ведь война, мадемуазель, – смущенно сказал прапорщик. – Наша родина воюет с тевтонами…
– Тевтоны, славяне – какая средневековая чушь. Война несет смерть, а смерть – отрицание жизни. Как красный цвет для флоры. Посмотрите на эти листья – красивое удобрение, не правда ли? Красный цвет – заготовка удобрений, а удобрение щедро поставляет война.
– Война, к сожалению, не прекращена Временным правительством. – Генерал был слегка озадачен напором дочери. – И долг подданных государства Российского…
– Папа, папа, извини, но это все – багаж прошлого, сданный в камеру хранения не до востребования, а за ненадобностью. Нет больше Российской империи, нет, не существует ее! Отказались от нее владыки, политики, генералы, солдаты. И нашему гостю лучше исчезнуть на время, спрятаться хотя бы у нас, а когда хоть что-то изменится или хотя бы станет понятным…
– Но, мадемуазель Натали, я – офицер, а война продолжается, и я обязан…
– Междометие! – вдруг громко объявил генерал. – Кончились существительные вместе с глаголами. Вякать теперь будем. Вякать да мычать, когда на бойню поведут!..
И все сидящие за столом растерянно примолкли.
13
Аничка осторожно отводила свою группу к нарядной башне Веселуха, когда в центре города уже слышались взрывы, суматошная стрельба, беготня, крики. Сейчас все внимание было отвлечено на противоположную от Большой Благовещенской сторону, и Аня надеялась пройти незамеченной.
Ей удалось не только беспрепятственно выйти на берег, но и не терять время в извивах Чертова рва. Она переправила офицеров через Днепр под шум и выстрелы, указала им кратчайшую и безопасную дорогу к госпиталям, а сама открыто пошла к мосту.
Вскоре остановили окриком.
– Стой! Кто такая?
– Милосердная сестра.
– А тут чего?
– Стреляют, – кратко пояснила Аничка.
– Да то ж с госпиталя, – сказал второй. – Процедуры ставит. Давай, сестричка, давай отсюдова.
Аничка не стала спорить. Она сделала главное: отвлекла солдат запасного полка, выиграла время для офицеров, и ей самой надо было уходить.
Это выигранное время позволило Александру перебраться через Днепр. На заваленном хламом берегу штабс-капитан сразу же спрятался в куче каких-то нетесаных досок. Требовалось оглядеться, сообразить, где оказался, а уж потом прокладывать наиболее безопасный путь или к госпиталям, или к стоявшему на отшибе дому Анички. Там отлежаться, пока не утихнут поиски, и во что бы то ни стало пробраться на юг.
Недвижимо лежа под полусгнившими досками, штабс-капитан Вересковский обдумывал дальнейшие действия. Ясно, что он оказался на Покровке, но как с этого захламленного пустого берега добраться до госпиталей?
Итак, это – восточная часть Покровской горы. Кто здесь живет? Кто?.. Аничка что-то говорила, но – что? Что?.. Поляки? Нет, польские улицы – южнее собора. Литовцы? Тоже нет, они в южном углу. Татары?.. Может быть, они оседали под крепостью. Татары не вмешаются, будут держаться нейтрально. Они не станут участвовать в чисто российских играх, их не касается ни отрицание прошлого, ни возникновение порочного круга неумолимой диалектики.
Не станут?.. Слишком категоричное заключение. Скажем так: они не должны влезать в наши дела. Стало быть, готовность номер один, штабс-капитан Вересковский.
Осторожно выбравшись из-под досок, Александр долго прислушивался, хотя унылый октябрьский дождь глотал все звуки. Не уловив ни шагов, ни учащенного дыхания, ни тем паче топота сапог, он бесшумно двинулся от берега, не забывая после каждого шага носком сапога притаптывать собственный след.
Он миновал прибрежный песок, вышел на заросший травой участок. Дождь не прекращался, и штабс-капитан испытал некое облегчение. Капли окончательно размоют следы, противник потеряет его направление. Пытаясь сквозь дождевую сетку разглядеть, куда следует уносить ноги от опасного берега, ничего толком не увидел, шагнул…
– Стой! Стрелять буду!..
Александр, падая, выстрелил на оклик, дважды перекатился по мокрой траве и замер.
– Куда пальнул? – спросил другой, басовитый голос.
– Да вроде стоял кто-то.
– Показалось.
– А выстрел?
– Сколько их? А нас двое. Им с земли мы – как на ладошке. Тут связываться – себе дороже.
Вересковский разглядел две фигуры в сплошной мути ночного дождя. И почему-то подумал, что устав пока действует. Вот когда без оклика стрелять начнут, тогда…
Он не додумал, что тогда будет, потому что фигуры окончательно растворились в моросящей мгле. Пора было уходить самому и уходить кружным путем, отрываясь от реки подальше.
Ноги сами несли его к татарской слободе. Он убедил себя, что татары не полезут в русский бунт, не задержат, не станут стрелять из-за угла, а потому есть крохотная надежда, что он где-либо отлежится. Отлежится, переднюет, сориентируется, а там решит, как пробираться на юг. В крайнем случае, вернется в офицерский резерв, а там видно будет. Может быть, придется на время спрятаться у Голубковых.
Одного не учел опытный окопный офицер. И ведь отметил это, но – не продумал до конца. Устав еще действовал, а потому те двое патрульных солдат при первой возможности доложили по команде. Встретили, мол, группу, оказавшую вооруженное сопротивление.
И потому на подходе к замершей татарской слободке, где даже собак в домах попрятали, чтоб не лаяли зазря, капитан был вновь предупрежден уставным окликом:
– Стой! Стрелять будем!..
Предупреждающий глагол обещал многое. Это капитан сообразил мигом и тут же нырнул в сенную одурь какого-то сарая. Сено, перевязанное шпагатом в тяжелые тюки, лежало по обе стороны прохода. Прятаться здесь было неразумно, утрамбованную упаковку сена одному с места не сдвинуть, и штабс-капитан тут же перебрался к стене, ногой вышиб доску, увидел перед собою другой сарай, перепрыгнул через проход, выломал доску дулом нагана и скрылся во втором сарае, который оказался обычным сеновалом с узким, усыпанным сенной трухой проходом в центре. За ним шел третий такой же, четвертый – целая цепь сеновалов, которые, правда, неизвестно, куда именно вели. Сзади орали, стреляли, бегали, топали, и Александр решил, что придется поглубже зарыться в сено.
К счастью, не успел. Дымком потянуло, и он понял, что солдаты просто подожгли сеновалы, чтобы выкурить оттуда неизвестных с оружием. Тяга была, как в фабричной трубе, огонь уже шумел за спиною, и капитан прыгнул в дождливую темень, поскользнулся, упал и на четвереньках полез в гору к смутно темнеющим строениям.
Штабс-капитан уже не думал о солдатах, потому что пламя мгновенно занявшихся сеновалов оказалось между ним и его преследователями. Они не могли его видеть, и, достигнув строений, Вересковский остановился и внимательно огляделся.
Он оказался в районе, застроенном казенного вида кирпичными трехэтажными зданиями. Строгая планировка, мощенные кирпичом улицы были почему-то знакомы, и Александр понял, что вышел к госпиталям с другой, мало ему известной стороны. Где-то неподалеку должен быть корпус офицерского резерва, клиника, куда он ходил на перевязки к Аничке, и – ее дом. С отцом-философом с огромными ручищами и вкусным обедом. Идти следовало не в офицерский резерв, где наверняка уже была выставлена охрана, а – к Аничке. Но идти очень осторожно, чтобы не притащить за собою преследователей.
Тенью скользя вдоль стен корпусов и пригибаясь, пересекая улицы, Вересковский добрался до стоящего на окраине возле морга дома патологоанатома Платона Несторовича Голубкова. Постоял, прислушиваясь, и три раза стукнул пальцем в стекло тускло освещенного окна. Кто-то чуть откинул занавеску, но окно не открылось, и капитан снова постучал – три раза.
Окно распахнулось, из него высунулся патологоанатом:
– Кому я понадобился?
– Капитан Вересковский. Мне вы пока еще не понадобились, но, если пустите в дом, буду премного обязан.
На секунду мелькнув перед окном, чтобы доктор мог его увидеть, штабс-капитан скользнул к двери. Звякнула щеколда, и дверь приоткрылась.
– Быстро, – шепнула Аничка, пропуская его в дом. – Вы устроили такой тарарам, как бы не нагрянули с обыском.
– Можете спрятать?
– Могу, – сказал Платон Несторович, появляясь в дверях комнаты. – Мертвяков не боитесь?
– Насмотрелся.
– Тогда прошу. – Доктор посторонился, пропуская Александра. – Аничка, будут стучать, заговори их, пока не вернусь.
Он молча провел Вересковского в свой кабинет, откуда шел коридорчик в прозекторскую. Здесь остановился.
– Раздевайтесь до белья.
– А оружие?
– Я спрячу.
Штабс-капитан торопливо разделся, оставшись в одном белье. Платон Несторович сам сдернул с его ног носки и протянул марлевую повязку.
– Дышать только через марлю и, по возможности, неглубоко. – Он открыл баночку. – Натрите ноги.
– Холодит.
– А вы – покойник, – невозмутимо пояснил патологоанатом. – Если кто и коснется, сомнений не возникнет. Прошу в мертвецкую.
Открыл дверь в подвал, где горела тусклая электрическая лампочка. Первым спустился, и следовавший за ним в кальсонах и нижней рубахе капитан невольно остановился на последней ступеньке.
В углу лежала груда трупов. Кто в нижнем белье, кто – в чем мать родила.
– Единственный способ, – несколько виновато пояснил Голубков. – Придется полежать под ними, пока гости не уйдут.
Он отбросил в угол несколько трупов, подвинул еще два. Образовалась впадина, на которую Платон Несторович и указал своей огромной ладонью:
– Прошу, капитан. Повторяю, дышать только через марлю.
Александр послушно улегся на живот, всем телом ощутив мертвый, безжизненный холод окоченевших тел. Положил лоб на согнутый локоть, чтобы дышать по возможности собственной живой теплотой. Спиной, когда Голубков завалил его сверху, чувствовал не столько тяжесть, сколько жутковатый потусторонний холод. Услышал голос:
– Не шевелиться. Никоим образом не шевелиться.
Скрипнула дверь, свет погас. Вересковский лежал не шевелясь и дыша через нос, как было велено, но смутное чувство внутренней тревоги не оставляло его. Нет, он не боялся, что его предадут или найдут: иной была эта тревога. Тревога из сказок, легенд, баллад, слухов и каких-то детских, смутных представлений о потусторонности, в которой нет ничего живого, кроме упырей. Он понимал, что это – оттуда, из царства страхов без причин и последствий, но ничего с собою не мог поделать. И мечтал только о том, чтобы все побыстрее закончилось.
Скрипнула дверь, вспыхнул свет, послышались шаги.
– Вот мои постояльцы. – Он узнал голос патологоанатома. – Предупреждаю, все – от сыпняка. Не подцепите ненароком.
– А чего ж тут бережешь? – Голос был чужим, грубым, махоркой прокуренным.
– Для того, чтобы сжечь их, требуется заключение врачей с тремя подписями и разрешение от Управы.
– Мы теперь Управа.
– Ну, так дайте разрешение и бочку керосина.
– Зачем тебе керосин? Пришлем интеллигентов, зароют.
– Померших от сыпного тифа сжигать положено. Инфекция в землю уйдет, а там и в Днепр.
– Ладно. Чтоб завтрева заявка была.
Вышли. А Вересковский и не слышал, что вышли.
Обморок, что ли. Очнулся, когда Платон Несторович мертвые тела с него сбросил и чего-то понюхать дал. Из склянки.
14
На окраинах собственно России, то есть той территории, которая долгое время именовалась Московской Русью, сохранилось немало губернских центров, весьма важных для времен мирной торговли и мирного управления. Их невозможно представить себе без особой стати редких городовых, обязательного памятника какому-либо императору, торговых рядов, степенных лавочников, воображающих себя купцами, и хитроглазых купцов, на всякий случай выглядящих лавочниками при заключении миллионных сделок на лен или коноплю. Здесь летом непременно гуляют по вечерам с тросточками и зонтиками вдоль реки, а в осеннее ненастье собираются в Благородном собрании или Купеческом товариществе, где пьют исключительно французские вина из Таганрога и некое неизвестное шампанское с пеной, способной погасить небольшой пожар. Это – царство благодушия и несокрушимой веры в завтрашний день, который зреет в двух гимназиях, реальном училище и общественном приюте для особо одаренных девиц, утративших отцов-кормильцев. Жизнь в таком городе не течет, как река-кормилица, а струится из мраморных губок Амура, которого подарил городу предпоследний губернатор. Вот почему при наступлении времен смутных и непредсказуемых жители такой тихой заводи оказываются никому абсолютно ненужными и лишь путаются у всех под ногами.
Подобным губернским городом, как вскоре выяснилось, и стал тот, в гимназии которого набирался ума и знаний общий любимец семьи Вересковских Павлик. Здесь у них была городская квартира, где он и остановился, плотно перекусил, опоздал в гимназическую канцелярию и отправился разглядывать город, ощущая себя почти взрослым, самостоятельным и независимым.
А в городе происходила очередная смена власти. И началась она с проверок шатающегося без дела населения, не столько ради введения жандармского порядка, сколько ради пополнения вдруг отощавшего местного бюджета посредством наложения штрафов.
У легкомысленного гимназиста ни денег, ни каких-либо документов при себе не оказалось, и его загребли в участок. Павлик объявил эти действия произволом и наотрез отказался назвать лицо, которое могло бы за него поручиться. Поступал он так из юношеского убеждения, что свобода не столько общественное достояние, сколько личное, и это убеждение, как выяснилось, определило всю его дальнейшую жизнь и судьбу.
В участке на него никакого внимания не обращали – хочет сидеть, пусть сидит – и занимались собственными делами. А тут власть в городе опять переменилась, и захватившие ее борцы за свободу первым делом начали улучшать жилищные условия неимущих граждан. И городская квартира Вересковских была тут же объявлена коммуной, прислугу попросили немедленно ее покинуть, а так как мандатом служил товарищ маузер, то все очень быстро ее и покинули.
Павлик об этом не знал, продолжал упорствовать, поскольку в участке его кормили и поили, а борцы за удобства неимущих приступили ко второму пункту своей немудреной программы, объявив лютую борьбу интеллигенции как классу, от которого нет решительно никакой пользы. Полицейские участки стали переполняться, кое-как допрошенную интеллигенцию тут же спихивали в тюрьму, а так как Павлик подходил под эту категорию, то в конце концов туда же спихнули и его. Он перепугался, поспешно назвал адрес того, кто мог бы подтвердить его личность, но по указанному адресу проживали уже какие-то коммунары. Тут, как на грех, власть снова переменилась и стали сажать в тюрьмы вчерашних социально близких, которых во всем просвещенном мире называли просто уголовниками. Интеллигенцию начали отпускать после легкой проверки, но Павлика это не коснулось, поскольку его уже успели зарегистрировать в участке как беспаспортного бродягу.
Вначале было сносно. Дружно хлебали баланду, возмущались несправедливостью, горевали, гадали, спорили. Блатные играли в карты и никого не трогали, потому что деньги пока путешествовали по кругу. Но потом стали все чаще задерживаться в одних руках, матерщина крепчала, а в итоге проигравшиеся блатняки начали все чаще нехорошо оглядываться на прочую публику. Наконец, не выдержав, один из них вскочил, неожиданно схватил Павлика за шинель и заорал:
– Ставлю на кон!
Ставка была принята, с юноши сорвали шинель, которая через два круга уплыла в собственность снявшего банк. Павлик кричал, остальные возмущались не столь громко, но игра тем не менее продолжалась с прежним азартом.
Павлик пытался сопротивляться, получал по шее, а сорванные с него вещи неумолимо оказывались чьей-то собственностью. Оставшись в одной нательной рубашке, босиком, но пока еще – в штанах, он ринулся к двери и забил в нее кулаками:
– Откройте!.. Откройте!..
Повезло, в коридоре охранник оказался. Открыл.
– Чего тебе?
– Раздевают!..
– Отыграйся, – ухмыльнулся охранник, намереваясь закрыть дверь.
– Погодите, погодите… – зачастил Павлик. – Я в армию добровольно записываюсь.
– В какую армию?
– В эту… В вашу.
– Эй, Семен! – закричал охранник кому-то в коридоре. – Какая армия сейчас у нас в городе?
– Да бог его знает. Вроде бронепоезд левых эсеров пришел. На втором пути стоит. А что?
– Да тут доброволец у меня сыскался.
– Выводи. Добровольцев велено отпускать. Народу у них не хватает, что ли. Отведи пока к дежурному, он на станцию позвонит.
– Ну, пойдем… доброволец, – сказал стражник. – Пока штаны ворью не проиграл.
И повел Павлика к дежурному по гулкому пустому коридору.
Через два часа гимназист Павел Вересковский стоял на перроне второго пути перед штабным вагоном бронепоезда «Смерть империализму!» в сопровождении матроса, одетого в кожаную куртку, с деревянной коробкой маузера, спускавшейся ниже колена. Морячок был свойским, болтал всю дорогу, поносил международный империализм и поднимал до небес левых эсеров.
– За нас они, понимаешь? За потных людей.
Павлик не очень понимал, почему нужно заступаться за людей, не успевших вовремя вымыться, но не спорил.
Распахнулась дверь вагона, в проеме появилась фигура столь же экзотического морячка, что и сопровождающий, только с пулеметной лентой через плечо.
– Чего надо?
– Да вот. Доброволец до нас.
– Доброволец? – Матрос с пулеметной лентой иронически поглядел на Павлика. – Погоди тут. Доложу.
И исчез.
– У товарища Анны – глаза… – вдруг шепнул сопровождающий. – Вообще-то серые, но коли поголубеют, значит, под счастливой звездой тебя родили. А коли почернеют – всё.
– Что – всё?
– На распыл. Тут же.
В проеме тамбура появился морячок с пулеметной лентой.
– Проходи, доброволец.
Павлик с трудом взобрался на высокую подножку, ощутив вдруг незнакомую дрожь в коленях. Матрос подтолкнул его в спину, и он пошел по узкому коридору штабного вагона.
– Стой!
Остановился. Матрос дважды ударил кулаком в бронированную дверь, и ее тотчас же открыли. Это было двухместное купе, в углу которого у бронированной щели окна сидела худощавая женщина лет сорока в казачьих штанах с лампасами и кожаной куртке, наброшенной на плечи. А у выхода стоял щуплый очкарик в студенческой тужурке.
Сопровождавший матрос закрыл дверь, и наступила тягостная для Павлика пауза. Он не отрывал настороженного взгляда от глаз женщины, хотя толком и не разглядел их, потому что сидела она в темном углу. Видел только два провала, а ему нужен был цвет ее глаз.
– Значит, доброволец? – резко спросила она.
– Хочу сражаться за…
– Мы не сражаемся за. Мы сражаемся против.
– И я тоже.
– Против чего?
Павлик этого не знал. Он просто не хотел, чтобы его раздевали воры-картежники.
– Разрешите, товарищ Анна, я с ним поговорю, – сказал молодой человек в студенческой тужурке. – Запуган парнишка.
Женщина в углу у оконной щели бронепоезда промолчала. Очкарик открыл дверь:
– Прошу.
Павлик затравленно посмотрел на товарища Анну, потоптался, вздохнул и вышел из купе. Студент вышел следом, молча провел по узкому, ощетиненному амбразурами коридору, открыл одну из дверей и еще раз сказал:
– Прошу.
Павлик вошел в насквозь прокуренный матросский кубрик, где трое морячков играли в карты.
– Выйдите все, – сказал сопровождающий. – Мы ненадолго, потом доиграете.
Все вышли. Студент молча указал Павлу, где сесть, после чего плотно прикрыл дверь и устроился напротив.
– Знаешь ли ты, кто такая товарищ Анна? – строго спросил он. – Товарищ Анна – святой человек, отдавший себя на заклание во имя идеи. Она собственной рукой казнила наиболее жестоких представителей царской бюрократической машины, в том числе и одного губернатора. Ее присудили к смертной казни, она встретила приговор спокойно и гордо. Смертная казнь была заменена вечной каторгой, и товарищ Анна написала письменный отказ. Отказ не приняли, вечную каторгу она отбывала в одиночке Бутырского тюремного замка, откуда ее вызволила лишь Февральская революция.
Все это очкастый студент рассказывал с невероятной гордостью, будто не товарищ Анна, а он лично выслушивал приговор и собственноручно писал письменный отказ. Горящие неистовой верой глаза его сверкали сквозь стекла очков, и на Павлика смотрел уже вроде бы и не человек, а некий светящийся восторг сам по себе.
– И добровольно вступая в наши ряды, ты должен принять ту же клятву, которую я дал себе.
При этих словах студентик со светящимися линзами очков вытащил из кармана складной нож и открыл лезвие.
– Какую клятву? – запоздало насторожился Павел.
– Кровавую.
– Да что ты?..
– Откажешься – матросов позову. Мы все ее дали, весь наш бронепоезд «Смерть империализму!». Позвать?
– Не надо, не надо. Даю.
– Обнажи грудь. – Он подождал, пока Павлик лихорадочно расстегивал рубаху. – А теперь протяни палец. Да не тот, безымянный.
Растерянный Павлик протянул безымянный палец левой руки. Очкарик чиркнул ножом, пошла кровь.
– Пиши кровью на груди четыре святых буквы «АННА». Если крови не хватит, еще надрежу. Поглубже.
– Господи… – вздохнул Павлик. И написал. Только на самый хвостик последнего «А» крови не хватило.
– Допишешь, когда ранят, – утешил очкастый фанатик.
15
Редко и очень сухо писавшая письма Татьяна вообще перестала их писать. Ольга Константиновна, испугавшись, не очень, правда, понятно, чего именно, попробовала было жалобно поплакать, но Николай Николаевич пресек это занятие на корню:
– Стыдитесь, сударыня! Вы – дворянка.
Сам он никогда прилюдно не страдал и не позволял себе ничего громкого, кроме криков по поводу очередной затерянной папки. Но молчание московской студентки обеспокоило не только домашних, следствием чего явился визит тихого внучатого племянника поэта Майкова.
– Вам Танечка пишет? – робко спросил он.
– Кавардак! – ответствовал генерал. – Когда происходит ломка сущего, все впадают в эйфорию, которая является всего-навсего формой сумасшествия. И все перестают работать. Чиновники – на почте, полиция – на улицах, дворники – во дворах, рабочие – на заводах, а прочие – на местах. Все идет кувырком, а Россия радуется, потому что работать она не любит. Она любит пить самогон и орать лозунги, потому и плохо живется…
Он выпалил монолог на одном дыхании и вынужден был замолчать ради нового вдоха. Это и дало возможность Майкову задать давно мучивший его вопрос:
– Но хоть какие-то известия о ней есть?
– Увы… – Ольга Константиновна прижала платочек к левому глазу, потому что именно из него вдруг выползла слезинка. – Николай Николаевич слушать меня не хочет…
– Дорогая, Николай Николаевич сказал, почему именно не хочет. И просит помнить его слова.
Генерал всеми силами скрывал собственное беспокойство по поводу молчания дочери в столь неопределенные, а потому и тревожные времена. Он был историком, верил в законы повторения событий в иной, непривычной внешне, трагической внутренне сущности. Боялся русской смуты, которая всегда перерастала в русский бунт, бессмысленный и беспощадный как по форме, так и по содержанию.
Он знал и ужасался, а Таня не знала, но предчувствовала. Предчувствовала неминуемый приход чего-то озверелого, что беспощадно перечеркнет прошлую жизнь. Все ее мечты, все надежды, все планы… Да что там планы с мечтаниями! Потрясет сами основы. Она предчувствовала неизбежность великого русского сотрясения. И для себя называла его русотрясением, потому что сотрясаться будет не земля русская, а сам русский народ.
Предчувствие родилось не на пустом месте. Московский университет издавна славился свободомыслием, на которое власти смотрели сквозь пальцы, из жизненного опыта зная, что эта говорильня исчезнет сама собой, как только вчерашний студент получит по окончании приличное место службы. Однако после Февральской революции споры перекинулись в аудитории и конференц-залы, втягивая в бесконечные диспуты и профессуру. Гремели речи об историческом пути Отчизны, в котором никто не сомневался, лишь предлагая некий свой. Но после Октябрьского переворота единая в принципах аудитория начала заметно раскалываться.
И вот тут-то Таня, всегда упрямо спорившая о путях развития России, внезапно примолкла. Она приметила то, что раскол среди яростно спорящих проходит не по убеждениям, а по классовой принадлежности, и представители дворянской интеллигенции при этом оказываются в меньшинстве.