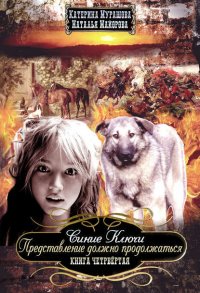
Читать онлайн Представление должно продолжаться бесплатно
- Все книги автора: Екатерина Мурашова, Наталья Майорова
Старые усадьбы
- Дома косые, двухэтажные,
- И тут же рига, скотный двор,
- Где у корыта гуси важные
- Ведут немолчный разговор.
- В садах настурции и розаны,
- В прудах зацветших караси,
- – Усадьбы старые разбросаны
- По всей таинственной Руси.
- Порою в полдень льется по лесу
- Неясный гул, невнятный крик,
- И угадать нельзя по голосу,
- То человек иль лесовик.
- Порою крестный ход и пение,
- Звонят вовсе колокола,
- Бегут, – то значит, по течению
- В село икона приплыла.
- Русь бредит Богом, красным пламенем,
- Где видно ангелов сквозь дым…
- Они ж покорно верят знаменьям,
- Любя свое, живя своим.
- ……
- О, Русь, волшебница суровая,
- Повсюду ты свое возьмешь.
- Бежать? Но разве любишь новое
- Иль без тебя да проживешь?..
Пролог,
В котором офицер и его денщик, возвращаясь с полей Первой мировой войны, неожиданно попадают в зачарованное волшебное царство.
Конец сентября, 1918 год
– А заправляет там всем ледяная девка Синеглазка…
Осень – рыжая лиса. Пробегает мимо, лукавая, с острой мордочкой и теплым мехом. Машет ветреным хвостом – направо, налево. Плывут по Сазанке к Оке опавшие рыжие и золотые листья. Хочется стоять под ярко-синим небом с непокрытой головой и ждать зимы.
Но людям все неймется и они куда-то едут, или плывут, или даже летят. На поездах, пароходах, аэропланах, на автомобилях, верхом…
Вот и от железнодорожной станции в Алексеевке едут на крестьянской подводе двое. Лежат на сене, запрокинув руки за головы, смотрят в небо. Лядащая лошаденка трусит помаленьку. Возница как будто задремал.
– Гляди, Федот, какое небо синее…
– Точно так, Осип Тимофеевич, небо – как будто все жандармами застлано…(жандармы в царской России носили синие мундиры – прим. авт.)
– Нету нынче жандармов…
– Дак не только жандармов. Считай, ничего из прежнего не осталось… Новая власть…
– Чтоб ей пусто было… А что ты про Синеглазку-то говорил?.. Вранье ведь, конечно, байки…
– Никак нет, Осип Тимофеевич. Земляк наш с вами, Андрюха Еникеев из второй роты зимой в отпуск в Торбеевку поехал, обещал моих навестить…
– Да ведь Еникеев из отпуска не вернулся.
– Точно так. Дезертировал Андрюха. Однако слово свое сдержал, и мне в письме все подробно отписал.
– И что же?
– Я одно понял: в расположении Черемошни нехорошо.
– Так там красные или белые? Или анархисты какие, прости Господи?
– Не то! Не то! – бывший денщик помотал головой и понизил голос. – Нечисто там!
– В каком смысле – нечисто? – поручик удивленно поднял белесые брови. – Что за чушь? Тебя что, Федот, никак прошлогодняя контузия догнала? Вот не вовремя…
– Зря вы так, Осип Тимофеевич! – Федот укоризненно покачал головой. – Вы ж сами в этих местах выросли и понимать должны: в такое время, когда все наперекосяк идет, не токмо из отдельных душ, но и изо всех углов всякая пакость лезет…
– Согласен, – подумав, кивнул поручик (впрочем, погоны с его кителя были предусмотрительно спороты). – Но хотелось бы все-таки подробнее…
– Колдунья там над оврагом у ключей много лет жила, вы помнить должны. А теперь еще и оборотни в Черемошинском лесу завелись, и русалки, и кикиморы. И леший тропы путает и в болоте топит. А если кто замышляет чего-нито против Синеглазкиного воинства, так ее допрежь летающие огни предупреждают…
– Летающие огни? Вот так прямо летят и предупреждают? – Осип Тимофеевич иронически скривил губы.
– Так и летят! – неожиданно обернулся возница. – Я сам видал. Когда наши, алексеевские с торбеевскими стакнулись и хотели бар из Синих Ключей, как и прочих, как следует потрясти, и комитет калужский нам добро дал… Вот тут они, огни-то, нам навстречу и полетели… и птицы еще… и волки с железными зубами…
– С железными зубами?! Любезный, а ты вообще-то здоров? – обеспокоено спросил Осип Тимофеевич. – У тебя жара нет? Как тут насчет тифа?
Офицер с денщиком перевернулись и на карачках подползли ближе к рассказчику.
– Полсотни человек то же видала, ваше благородие, какой тут тиф…
– Ты это брось, нету нынче благородиев. Осип Тимофеевич я.
– А еще, Осип Тимофеевич, я о прошлой зиме вот этими глазами огромный пень видал…
– Пень? – недоумевающе переспросил Федот. – И что ж с того? Эка невидаль – пень…
Возница поправил шапку, поскреб скрюченными пальцами в бороде, потом ковырнул одним из них темную ноздрю. Словно сам испытывал беспокойство и неудобство от своего рассказа.
– Пень-то от старого дуба остался, который еще при отце моем молнией расщепило. И нож в него воткнут вот на эдакой высоте (возница показал себе на грудь), большой да ржавый…
– Ну. Воткнул кто-то по лесному делу нож да позабыл, – пожал плечами поручик.
Федот между тем нахмурился. Уроженцы одной деревни и почти друзья детства, поручик и его денщик все же происходили из семей разного достатка. Родители Осипа держали четырех лошадей, нанимали на жатву работника, и все трое их сыновей ходили в своих сапогах. У безлошадной Федотовой семьи на семерых детей приходилась всего одна пара сапог, и, несмотря на три года войны в окружении всех видов смертоносного металла, Федот помнил отчетливо: крестьянин в лесу большой нож просто так, за здорово живешь, не позабудет. А позабудет, так тут же и вернется. Бывшее ваше благородие, произведенный из унтеров в офицеры за военную храбрость, просто покуда не скумекал…
– Вот свернем сейчас на короткую дорогу, я вам и тропку тую покажу… А коли без вас ехал бы, так через лес и нету моего согласия. Страшно. Особливо после того раза… А вы люди военные, небось и оружие при себе, с вами не так боязно… Говорю: снег тогда свежий выпал. Я, помню, хворост на волокушу кинул, подошел на нож поближе взглянуть – может, сгодится еще? И вижу, что не я первый. Но вот диво-дивное: с одной-то, с моей стороны следы человечьи, а дальше, сразу по-за ножом – волчьи, да такие огроменные… А человечьих больше и вовсе нету…
– Через нож перекинулся?! – ахнул Федот.
– А ты что думал…
Въехали с поля в лес и сразу словно с деревьев спустились лиловые сумерки. Багрянец листвы напомнил Федоту пламенеющие угли на догорающем пепелище. Ему было совсем немного лет, когда в 1902 году пожгли и разграбили Синие Ключи. Мать за пазухой принесла с пожарища скомканную розовую занавеску в мелкий цветик и потом пошила из нее юбки сестрам. Федотка хотел рубаху, но ему не хватило… Тогда было до соплей обидно, что не удастся на ярмарке да в церкви перед ребятами пофорсить, а вот сейчас кажется – оно и к лучшему, что так обернулось…
– У страха глаза велики, – сказал Осип Тимофеевич. – Дикость российская.
Возница, не ответив, покачал головой, снял шапку и отер ею лицо. Лошаденка внезапно подняла щетинистую морду и заржала.
Федот вздрогнул и огляделся.
– Вон! Вон там, смотрите! – воскликнул поручик. – Что это?
Небольшое озерцо, или пруд, или просто заросший уже почерневшим к осени папоротником разлив лесного ручейка, бегущего из одного мшистого болотца в другое.
Темно-желтые кафтаны кленов, мерцание и судорожное трепетание осин – красные листья и изумрудный отлив серых стволов, сочная хохлома рябин – оранжевая с золотом тонкая роспись на черном фоне вечереющего ельника.
И тонконогая, медленно выступающая из сгущающегося под сенью леса мрака, белая фигура. Серебряная, подрагивающая шкура, огромные лиловые глаза, легко взлетающий сзади хвост…
– Лошадь? В лесу? Мелковата, но вроде хороших кровей. Откуда отбилась? Надобно нам… – договорить поручик не успел, прерванный сдавленным шепотом своего денщика.
– Какая лошадь?! Ваше благородие, вы ей на морду… на башку взгляните…
– Пошла! Ну пошла, мертвая! – дурным голосом заорал на свою клячу алексеевский возница.
Осип Тимофеевич вгляделся и ахнул.
На лбу удивительного серебристого создания отчетливо просматривался небольшой рог.
– Единорог…
– Точно так!
– Н-но! Ну давай, милая, ходу давай! Пока оборотни тебя вместе со шкурой и господами не сожрали!
– Послушайте, но ведь мы можем теперь узнать…
– Не можем, Осип Тимофеевич! – решительно возразил Федот. – Не для того я три года против германца живой выстоял, чтобы нынче до родителей с женой десяти верст не доехать!
Поручик покорился воле своих спутников, но, покуда было можно, все оглядывался назад, ловя глазами лунно-серебристый отблеск.
Когда подвода окончательно скрылась за поворотом дороги, невысокая девочка с ореховыми глазами вышла из еловой тени, улыбнулась, положила узкую ладошку на шею единорога, а другой рукой полезла в карман за сахаром.
Глава 1,
В которой Александр Васильевич Кантакузин и княгиня Юлия Бартенева ищут определения счастья и гражданских свобод, Адам Кауфман сравнивает восставший народ с бегущими вшами, а уездный доктор оглашает свое кредо.
Март 1917 года
Мужчина сотрясся в победной судороге, пробормотал невнятно: «Люблю, люблю, люблю…» – и тут же откатился по широкой кровати, замер, раскинув руки.
Женщина приподнялась на локте, с внимательным интересом рассмотрела его трепещущие коричневые веки, глубокие залысины на высоком, костистом лбу, синеватую шерстяную тень подмышками. Потом перевела взгляд в зеркало и встретилась взглядом сама с собой. Коснулась рукой груди, приподняла ее, осторожно ковырнула ногтем крошечный прыщик, поправила локон.
– Юлия, это счастье?.. – не открывая глаз, произнес мужчина.
Она не поняла, был ли в его словах вопрос, но на всякий случай ответила.
– Конечно. Белое полное счастье, тихое и чистое, как только что выпавший снег.
– И такое же холодное?
– Да. А счастье вообще холодно. К другим и на ощупь. Ты разве не знал?
Он вспомнил присыпанные первым снегом поля и перелески в Синих Ключах, и словно наяву увидел свою жену, лунной ночью скачущую по этим полям на лошади. Вниз, к только что замерзшему озеру, которое под опрокинутым звездным небом похоже на чашу, налитую ртутью. И многозвездный нимб над этой картиной… Едва не выругался вслух.
– Юлия, мы с тобой – свидетели истории. Это не может не воодушевлять.
Она подумала, что именно революция вдохновила его наконец-то лечь с ней в постель, и усмехнулась.
Постель, где они лежали, была такая обширная, что двоим любовникам не удалось привести ее в беспорядок. За приоткрытой рамой широкого окна трепетал почти апрельский ветер – пытался шелохнуть хоть край тяжелой портьеры, пробраться в комнату, пролететь, разогнать духоту. Кованая цапля – напольная лампа (Юлия заказывала ее по швейцарскому каталогу перед свадьбой вместе с будущим мужем), изогнув длинную шею, свысока взирала на темное тело мужчины, вытянувшееся на простынях.
– Алекс, я не историк и не пролетарий, – сказала женщина. – Войны и революции не воодушевляют – они пугают меня. К тому же я – княгиня Бартенева, то есть по рождению и замужеству принадлежу к тому классу, против которого и направлена эта революция.
– Не говори ерунды, – горячо возразил мужчина. – Сейчас всем предстоит огромная работа. И она будет проделана непременно. Неужели ты не понимаешь? Теперь, когда хирургическим путем нарыв вскрыт, удалена вся гниль самодержавия, и Америка наконец вступила в войну… Германия истощена и обречена, при поддержке союзников и Союза Американских штатов наша обновленная, революционная армия победоносно закончит войну, а после войны все требования России несомненно будут удовлетворены… Ты только представь себе ожидающее нас могущество: контроль над Проливами, древний Византий в составе третьего Рима, республика… Я понимаю, что это только начало и еще многое предстоит сделать… Но ведь даже американский президент Вильсон сказал: это правительство должно быть хорошим, потому что его возглавляет профессор… (П. Н. Милюков, историк по образованию – прим. авт.) Наконец-то Россию возглавят лучшие люди, а не казнокрады и выжившие из ума мистики… После победы интересы всех классов общества будут учтены, каждый получит свое…
– А разве мы уже победили? – зевнув, спросила княгиня. – Отец говорил мне, что в русской армии развал – солдаты дезертируют тысячами, потому что боятся: дома без них начнут землю делить и, как всегда, обманут. Там, где противники австрийцы, процветает продажа оружия противнику. Там, где немцы, наши доблестная армия просто отказывается воевать и бежит, бежит…
– Это отдельные разложившиеся части, где имели успех большевистские пропагандисты, которые агитируют за немедленное прекращение войны. Представь: все армии должны побросать оружие, обняться через колючую проволоку, а потом разойтись по домам. Там им следует тот час же перебить все образованные, управляющие обществом классы, объединиться в упоении анархии и… вероятно, сдохнуть от голода? Не следует считать солдат дураками, немногие из них могут вдохновиться подобной чушью. В целом армия, конечно, в восторге от революции. Ведь за солдатами впервые признали гражданские права…
– Ты уверен, что гражданские права – это именно то, что им сейчас нужно?.. А, впрочем, ты, конечно, прав, я ничего не понимаю во фронтовых делах, – женщина потянулась, выгнув спину. – За три года войны я, может быть, единственная в нашем кругу, никогда не работала в госпитале и не посылала собственноручно сшитые кисеты «нашим бедным героическим солдатикам». Во мне недостаточно то ли доброты, то ли лицемерия…
Она сидела к нему боком и смотрела в зеркало. Мужчина не слышал ее слов, он видел ее двигающиеся губы и пепельные волосы, изгибом стекавшие по спине вдоль затененной ложбинки. Она в зеркале поймала его взгляд и улыбнулась медленной, пробующей саму себя на вкус улыбкой.
– Ты как вино, – он угадал ее мысль (это часто бывало между ними). – Я пьян тобою.
Она удовлетворенно кивнула и положила свои прохладные кисти ему на плечи. Он обхватил ладонями ее запястья, сжал их и застонал сквозь зубы от обуревающих его чувств.
Оконная рама чуть слышно звякнула – это усилившийся ветер проник таки в комнату и раскачал золоченую портьерную кисть. Цапля вытянула клюв и застыла, примериваясь, кого ловчее клюнуть, женщину или мужчину.
* * *
Адам Кауфман – Аркадию Январеву
Из Петрограда в расположение 323‑й Юрьевецкого пехотного полка
31 марта 1917 года
Аркаша, дорогой, какие нынче события, а?
Кто бы мог подумать?
Почта работает плохо, на фронте, как я понимаю, значительная неопределенность, я даже не знаю, дойдет ли мое письмо, но все равно не могу удержаться и пишу тебе.
Нынче я по обычаю пребываю в полной растерянности – ты знаешь, меня всегда по настоящему пугало все, что происходит на площади, превышающей поле зрения под окуляром микроскопа или размер одного человеческого мозга. Плюс второй смысл: агора – площадь неконтролируемого извержения эмоций толпы. Я трусоват. Со времен, когда в московском дворе незлая в сущности свора сорванцов подтравливала «жиденыша»?
Ты же, напротив, никогда не боялся движения масс и даже приветствовал их. Камешек по имени Аркаша, приветствующий схождение лавины. Торжествуй теперь!
Помнишь, я грезил охотой на львов в саванне? А профессора Сазонова, читавшего у нас зоологию позвоночных, помнишь? Он рассказывал нам про сезонное движение по саванне антилоп-гну – когда наступает время, они несутся по вековым маршрутам неудержимо, миллионными стадами. Прыгают с откосов, переплывают реки, вытаптывают почву до камней. Извечный враг антилоп, лев, случайно оказавшийся на пути этого ежегодного потока, будет поглощен и насмерть затоптан в течение минуты…
Моя аналогия прозрачна до примитивности? Прости, если оскорбил твои чувства…
Но не думаешь ли ты, что нынче, когда все таким радикальным образом меняется, и движение приблизительно разумной материи свершается буквально у нас на глазах, тебе должно быть в центре событий? Не того ли ты и твои сподвижники ждали все эти годы? И не довольно ли уже фронтовой схимы и смиренных масок – солдатского унтера, загадочного Знахаря с непонятно откуда взявшимися медицинскими познаниями и журналиста-инкогнито, – которыми ты жонглируешь с небрежной грацией символиста и, кажется, с достаточным удовольствием.
Возвращайся, Аркаша. Коли Москва тебе противопоказана из личных историй, приезжай в Петроград. Хотелось бы ошибиться, но скоро тут будет избыток с юности любимой тобою работы: если фронт развалится окончательно и солдатская масса затопит столицу (уже сейчас тому есть все признаки) – грядут эпидемии.
Я видел все доподлинно, буквально заставлял себя смотреть, несколько раз ходил на митинги в «Модерне». Ибо решившись посвятить жизнь врачеванию психики человека, не имею права отворачиваться ни от каких данных, могущих пролить свет на закон функционирования этой самой психики. Однако, как много зоологии… Повсеместно буквально вспоминал господина Дарвина и завидовал ему, его жизни в уединенном поместье страстно – он был подлинным революционером в науке, но ему не довелось жить в эпоху перемен.
От общего уличного и салонного воодушевления меня все время тошнило, в самом буквальном смысле. Все дни так называемой революции периодически совал два пальца в глотку и очищал желудок. Тогда ненадолго наступало облегчение.
Громкие дамы в огромных шляпах с красными бантами, торжествующие писаря и присяжные поверенные, в сюртуках, с измазанными чернилами пальцами. Малиново-красная тяжелая мебель в бельэтаже (хочется, справедливости ради, порезать обивку ее на флаги). Пузырьки в бокале шампанского. Празднуют свободу. Кого? От кого?
И колышущиеся толпы на улицах, ходящие туда-сюда. Как бездумно тянущиеся, темные змеи. Время от времени женщины (там было очень много женщин, я думаю, ты отвык от этого на фронте) начинали мерно и страшно завывать: хлеба! Хлеба! Хлеба! Кому они кричали? Царю – слабому и беспомощному заложнику своей семьи и своего, ныне безнадежного, положения? Кайзеру Вильгельму? Автомобили с фонарями и ревущими клаксонами – горящие глаза змеи и погремушки на ее хвосте. Знаешь, что самое ужасное? Ведь никто ничем не руководил. Всем просто хотелось думать, что происходит нечто осмысленное, кем-то где-то запланированное и наконец осуществленное.
Где-то на улице услышал привычное про жидов, которые все устроили, и, буквально сорвавшись в истерику, бросился туда: покажите мне этих жидов! Я сам жид и хочу их видеть! Шарахнулись и разбежались, как кошки, в которых плеснули водой…
Никого нет. Лишь судорога гибнущего (или перерождающегося?) на наших глазах общественного организма.
Кто-то зачем-то поставил заставы на мостах. Словно соблюдал напоследок правила игры или, напротив, любопытно проверял неврологическим молоточком рефлексы толпы.
Люди перелились через парапет и, рассыпавшись (черное на белом) вшами из солдатской шинели, двинулись по льду Невы на другую сторону. Куда, зачем? Что им там было нужно? Сезонное движение антилоп?
Вчера с нашей служанкой Агафьей побывал на митинге кухарок. Всем рекомендую. Отрезвляет мгновенно, потому что любой поймет: ничем принципиальным этот митинг от всех других не отличается. В конце приняли резолюцию: если хозяин уважительно попросит, так почему бы ему чаю не подать, даже если и в неурочное время? Подать. Главное – соблюдать уважение к свободе и не допускать контрреволюции.
У меня на Лунной Вилле тоже состоялся митинг. Даже два. Отдельно – больных и отдельно – служащих. Резолюции наклевывались аналогичные вышеприведенной, с незначительной поправкой на умственное здоровье контингента. Однако я выступил на обоих и повел себя как настоящий контрреволюционер. Любые несогласные с режимом, процедурами, заработком и т. д. могут покинуть заведение с вещами в течение часа, – заявил я. Никаких репрессий не последует, наоборот, будет мною встречено с пониманием, ибо сумасшедший дом теперь снаружи, а у нас на Вилле пока – тихая гавань. Те, кто все-таки останутся, будут неукоснительно соблюдать все мои требования. За нашу и вашу свободу – ура, товарищи душевнобольные!
Из больных еще до всяких митингов ушла Луиза Гвиечелли. На прощание сказала именно то, что я привел выше: сумасшедший дом – снаружи и, кажется, теперь надолго. Я должна быть там, это правильно и справедливо.
Из персонала разбежалась половина. Оставшимся я удвоил жалованье и обязанности. Пока справляемся. Трое (истопник, прачка и один из санитаров), намитинговавшись и опамятовавшись, уже просились назад. Не взял, конечно.
Как уступку революции, разрешил больным выбрать комитет и издавать газету. Название, по крайней мере, хорошее: «Вести из «желтого дома»».
Очень плохо со снабжением. Только два дня хлеб был без карточек. Справятся ли самоназначившиеся в конце концов революционные власти с этой проблемой, удастся ли им организовать регулярную подвозку продовольствия? Ведь железнодорожное сообщение вконец расстроено войной, плюс солдаты, которые едут с фронта десятками и сотнями тысяч. Хотелось бы обмануться, но по-моему, к Петрограду теперь подступает не контрреволюция, а голод…
Аркаша, что говорят в штабах и вообще на фронте: когда кончится эта война?!
* * *
– Мне, ей-богу, все равно. На том стою и стоять буду, доколе сил хватит. Все кругом рушится, а люди-то все также горло простужают и животом маются. Я, можно сказать, счастливчик, по нынешним-то временам. Я служу – вы это понять можете? И если хоть раз позволю себе усомниться, выбрать, рассудить: вот этот моего искусства достоин, а этот – слишком уж негодяй, так далее я уже чем угодно буду – только не врачом. Политиком, философом, революционером и носителем классового сознания, если пожелаете… Люди людей по-разному делят. Пролетарии и эксплуататоры, бедные и богатые, нашего племени и не нашего. За разделение, за ошибки кровью платят. Своей и чужой. Мне жить, если пожелаете, просто. Вот деление: больные и здоровые. Больные – моя вотчина, моя работа. Здоровые – мне до них, если честно сказать, и дела никакого нет. Поверите ли, если бы случилось вдруг встретить человека абсолютного здоровья (хотя, право, есть ли теперь такие? У кого вроде и органы все в порядке, так глядишь, с нервами беда бедой – тоже ведь болезнь), так мне с ним, должно быть, и поговорить не о чем стало бы… Смешно даже, как подумаешь, какой я в сущности ограниченный человек стал. А тоже ведь в молодости не дурак был у тетушки в имении, на веранде, под самовар и баранки об идеалах поспорить.
Где границу провести? Вот – разбойник-душегуб, человека убил, руки по локоть в крови. Вроде бы все с ним ясно. Не достоин. А вот банковский мошенник, липовые акции выпустил, после объявил банкротство, сам обогатился, а сотню доверчивых вдов разорил, так половина из них от горя – в чахотку и на кладбище. Это – как? Тоже не достоин? А вот, изволите ли видеть, – борец за народное счастье. Чтоб одних счастливыми сделать, готов мировой пожар раздуть и тысячи других погубить… А тоже человек, катар желудка через свои старания запросто подхватить может. С ним-то как же?
Кругленький лысенький доктор закончил делать перевязку, поправил старомодное пенсне и отправился в угол комнаты – мыть пухлые мягкие руки.
Жестяной, до стерильности выскобленный рукомойник позвякивал сдержанно и деловито. За низким окном видны были разросшийся малинник, забор и угол крыльца, на котором, как всегда, невзирая на время года, суток, войну или ее отсутствие – дожидались свой очереди к доктору смиренные уездные больные.
– Совершенно с вами согласен, Петр Ефимович, – Аркадий Январев кивнул забинтованной головой и расслабленно откинулся на стуле. – С каждым вашим словом. На этом именно стоит и стоять будет…
– Да вот вы-то сами на чем стоите? – я разобрать не могу, – любопытно блеснув остренькими глазками и намотав полотенце на толстое запястье, Петр Ефимович едва ли не присел, чтобы заглянуть в лицо сидящему унтер-офицеру. – И – знаю-знаю! – не надо только мне этих сказок про лесную бабку-знахарку и прилежного внука – оставьте их для неграмотных солдат и таких же малограмотных прапорщиков военного времени. Я спрашивал в полку о ваших назначениях и видел результаты лечения – вы никогда не молились пням и не варили зелья в котлах, вы учились у настоящих профессоров и работали в современных больницах…
– Простите, Петр Ефимович, но я ничего не стану вам объяснять, – на свежей повязке, как первый мазок художника на белом холсте, проступило алое пятнышко.
– Да ради Бога! – обиженно поморщился уездный доктор. – Понимаю прекрасно: за вами какая-то сложнейшая и противоречивая судьба, кто я такой, чтобы вам со мной откровенничать? Но попробуйте-ка, любезнейший Знахарь, вот в каком разрезе рассудить: отчего бы вам именно сейчас, в момент всеобщих разрушений и преобразований, с собою не определиться? Самое как будто бы время. Кто вы такой? Вас же эта раздвоенность теперь буквально на части разрывает.
– В каком же это смысле?
– В самом прямом, голубчик, в самом прямом естественно-научном, в том же, в котором наши нервы управляют нашей мимикой или кишечной перистальтикой. Эти вот ваши ни с того и с сего расходящиеся ожоговые рубцы на лице, – Петр Ефимович кивнул на увеличивающееся кровавое пятно на повязке. – Соединительнотканные разрастания. Если так дальше пойдет, вас же, вернувшегося с войны, мать родная не узнает…
– Моей матери давно нет в живых, а что прочие не узнают, так это, может, и к лучшему… Рожистое воспаление…
– Ну да, ну да, – усмехнулся врач. – Мели Емеля, твоя неделя. У меня тридцать лет практики, и я же уже третий раз накладываю вам мазь и вижу прекрасно, что никаких медицинских препятствий заживлению ваших ран просто нету. Какой-то нерешенный вами вопрос создает хроническое неослабевающее напряжение, а любое касающееся вас обострение ситуации вызывает… в общем, где тонко, там и рвется…
– Вы так полагаете? – Январев склонил набок забинтованную голову с одним торчащим ухом, сделавшись вдруг похожим на большого дворового пса.
– При вашем уме и врачебной интуиции могли бы и сами, голубчик, догадаться. Вот конкретно сейчас: никаких военных подвижек не было, но что-то у вас там в полку произошло? И вам лично до того есть дело?
Аркадий, не торопясь, подумал, потом засунул руку за пазуху и протянул врачу скомканную серую бумажку.
– Я неудачно выступил на митинге. Не сумел убедить солдатские массы.
Петр Ефимович снова надел пенсне и вглядываясь в расплывающиеся буквы, прочел слитные, почти без знаков препинания фразы:
«Мы объединенные всех политических фракций прапорщики и солдаты, на общем собрании своем с Солдатским Комитетом во главе третьего сего апреля выразили резолюцию протеста учению Ленина как проповедующему полную реорганизацию Совета рабочих и солдатских депутатов, во-вторых окончание войны во что бы то ни стало, хотя бы заключением сепаратного мира, в-третьих призыв к немедленной социализации, в-четвертых к ликвидации военного займа. Эта коренная ломка отразится на благополучном окончании настоящего революционного движения и станет служить лишь в пользу полной монархии, угрожает нашей молодой свободе новым порабощением германскому милитаризму и явится полной разрухой экономической жизни страны. Мы категорически протестуем таким несвоевременным призывам товарища Ленина и выражаем полное несочувствие вредным и опасным для нашего общего дела лозунгам. Да здравствует Революция! Да здравствует Интернационал! Да здравствует победа! Долой ленинизм!»
– Боже мой, еще и это! Боже мой… – ошеломленно покачал головой маленький доктор. – Клянусь, что ничего более не спрошу, но вот почтмейстер просил у вас непременно узнать: в петербургском журнальчике «Мысль» под псевдонимом «Знахарь» не ваши ли случайно статьи с описанием военного быта?
– Случайно – мои, – Январев встал, оправил гимнастерку, поклонился, щелкнув каблуками сапог. – Благодарю вас и прощайте. Честь имею.
Петр Ефимович, обескураженно проводив его глазами, взялся складывать и раскладывать полотенце – словно вдруг забыл, что делать с этим предметом и вообще – кто он и где находится… Через пару секунд, впрочем, опомнился, от души вздохнул и поспешил к дверям – звать следующего пациента.
* * *
Глава 2,
Которую читатель, знакомый с предыдущими тремя книгами о приключениях Люши Осоргиной, вполне может пропустить, так как в ней излагается краткое содержание этих приключений, а также приводится полный список действующих и действовавших ранее персонажей.
У каждой русской усадьбы – свой мир, своя неразгаданная тайна.
В Синих Ключах уже без малого два века рассказывали о легенду Синеглазке. Колдунья с ледяным сердцем, погубившая троих влюбленных в нее парней и замерзшая от стыда и горя над речным обрывом. От ее слез, говорят, и родились Ключи, жгуче-холодные даже в самую жаркую пору.
А еще Синие Ключи – это история их последней хозяйки. Любовь Осоргина, Люба, Люшка, Люша Розанова. Лесной зверек, безумный ребенок, отчаянная беспризорница, цыганка, помещица, светская дама, прославленная танцовщица… У этой женщины несколько имен и много обличий.
Одно из них – Синеглазка.
А началось все с того, что помещик Николай Павлович Осоргин последней отчаянной любовью влюбился в хоровую цыганку Лялю Розанову, женился на ней по цыганскому обряду и поселил у себя в усадьбе. Цыганка вскоре умерла, оставив Осоргину дочь – странного ребенка, совсем не умеющего разговаривать с людьми, но зато прекрасно общающегося со зверями и птицами. Современные медики поставили бы Любе диагноз «аутизм». А отец только голову ломал да нанимал одного учителя за другим, но разрушить стену, отделяющую девочку от людей, не удавалось.
Эта стена рухнула осенью 1902 года – когда в огне крестьянского бунта погиб Любин отец и сгорел ее дом. Ей самой чудом удалось бежать. Девочка оказалась в Москве, где нашла приют среди воров и нищих Хитровки.
А в разоренном имении поселился ее кузен – Александр Кантакузин. Осоргин был его опекуном и рассчитывал в будущем женить на Любе – чтобы и дочь была под защитой, и хозяйство не пропало. Имение и все земли он завещал в пожизненное пользование Алексу и Любе, а в собственность – их детям, если таковые родятся; если же нет, все надлежало продать, а на деньги от продажи построить в Калуге театр имени Ляли Розановой. Александр, вовсе не имеющий своих средств, с таким планом согласился. Любиного же согласия никто, понятно, не спрашивал.
Что бы она ответила, если б спросили? Рассказала бы, что именно он, Алекс, запер в горящей детской ее и старую няню Пелагею? Любу спас Степка, ее деревенский приятель – вытащил, разобрав потолок над детской. А няня сгорела.
Никто не знал об этом. Любу считали погибшей. Александр понемногу восстанавливал имение. Усадьбу отстроил, а вот знаменитые драгоценности Ляли Розановой – а было их немало, в том числе большой желтый алмаз Алексеев, – так и сгинули.
Кстати, из-за этих драгоценностей Осоргин в свое время поссорился с родней первой жены – потому что продал, чтобы купить алмаз, ее приданое, имение Торбеево. Сибирскому золотопромышленнику продал; вскоре тот женился на воспитаннице Осоргина Катиш, а еще через недолгое время остался соломенным вдовцом – молодая жена бросила его и скрылась невесть куда…
С Катиш Любе еще предстояло встретиться. А пока она, как умела, выживала на Хитровке. Задача не из легких – особенно когда началась революция 1905 года и Москва превратилась в кипящий котел. Тут-то и случилась первая встреча Люши с Аркадием Арабажиным.
Ему, как и ей, приходилось менять имена и обличья. Для доктора Арабажина врачебный долг всегда стоял на первом месте. А для большевика Январева – точно так же – долг партийный. В бою на Пресне погибли товарищи Январева – он считал, что по его вине, и потому искал смерти. Но гибель на баррикадах пришлось отложить – чтобы спасти бездомного парнишку, который при ближайшем рассмотрении оказался девочкой. Спасенная бесхитростно предложила себя в уплату за помощь… и сбежала от опешившего доктора, прихватив куклу – память о покойной сестре – и оставив взамен исписанную тетрадку.
Кукла нужна была Люше для близнецов-сирот Ати и Боти, которых она опекала вместе с подругой, трактирной судомойкой Марысей. Марыся, гордая девица польских кровей, мечтала о собственном трактире, где все будет устроено по высшему разряду. А пока отбивалась от хитровских ухажеров… Одного из них в конце концов убила, спасая подругу, Люша.
А тем временем доктор Арабажин взялся ее искать. Он прочитал забытую тетрадку – это оказался дневник, – и узнал историю Любы Осоргиной. Помогать ему вызвался приятель, эсер Лука Камарич. На Хитровке Любы уже не было: скрылась после убийства вора, который чуть не изнасиловал Марысю. Розыски привели Арабажина к московским декадентам – где он познакомился с Алексом Кантакузиным, его кузеном Максимилианом Лиховцевым, а заодно и со знаменитым писателем Арсением Троицким. Вот Люши, правда, там не обнаружилось. Доктор отыскал беглянку среди хоровых цыган, и теперь она звалась Люшей Розановой. Попала она к ним по протекции подруги матери Глэдис Макдауэлл. Бывшая звезда Бродвея выступала в ресторане «Стрельна», там встретила Люшу и сразу узнала в ней дочь Ляли.
Университетский наставник Арабажина профессор Рождественский познакомил его с удивительной русско-итальянской семьей, глава которой, архитектор Лев Петрович Осоргин, приходился Люшиному отцу дальним родственником. В этот шумный дружный дом, полный жизнерадостных и талантливых людей, и попала Люша – и за год превратилась из отчаянной хитровской бродяжки во вполне воспитанную барышню, которую уже можно было явить миру как воскресшую хозяйку имения Синие Ключи.
Это чудесное явление сломало налаженное настоящее и тщательно выстроенное будущее Алекса Кантакузина. Давно влюбленный в кузину, дочь известного адвоката Юлию фон Райхерт, он наконец-то добился ее взаимности и всерьез готовился к женитьбе. Нет, жениться ему таки пришлось – на Люше. Она так захотела. Она не собиралась терять Синие Ключи из-за нелепого завещания отца, да она и не могла их потерять, ведь Синие Ключи, их небо, лес, озеро, обрыв с родником, усадьба на холме – это и была она…
Свадьба состоялась, дочь Кантакузиных Капитолина родилась в срок, условие завещания было соблюдено. А жить вместе – к чему? Александр, историк по образованию, отправился в Константинополь изучать византийское прошлое, а Люба обосновалась в Синих Ключах. И с ней дочка, подросшие Атя и Ботя, старый хитровский нищий Корней, друзья детства – Степка и глухонемая Груня, и многочисленные чада и домочадцы, как двуногие, так и четвероногие, например – лошадь Голубка, на которой Люша ездила еще до того памятного пожара. Усадьбу отстроили в прежнем виде. Высокая башенка, которую Люша называла головой Синей Птицы, вновь вознеслась над ней, оглядывая дальние заливные луга, леса и широкие петли Сазанки и Оки. Словом, Люба Осоргина, Любовь Николаевна Кантакузина, уважаемая калужская помещица, могла быть вполне довольна жизнью.
А вот Люше Розановой было душно. Какое-то время она пыталась вести двойную жизнь, по-прежнему выступая в цыганском хоре. Но осторожный хоревод, опасаясь за своих подопечных, отказался поддерживать прихоть знатной барыни. И тут снова помогла Глэдис. Познакомила с экзотической танцовщицей Этери, которая взялась учить Люшу своему искусству. И в один прекрасный день Любовь Николаевна просто исчезла из усадьбы. Вместе с ней пропали двое подростков, Кашпарек и Оля – бродячие артисты, которых она приютила в Синих Ключах.
Максимилиан Лиховцев, философ и публицист, внимавший музыке Космоса, но понятия не имевший, что делать с самим собой и со своей любовью к Любе Осоргиной, бросился вслед за ней. По пути едва не замерз в снегу – и замерз бы, если б не Атя, которая уже и тогда относилась к нему как-то особенно…
А Синие Ключи остались на попечении сперва Степана и Груни, потом вернувшегося Александра. У каждого из них были свои проблемы. У Степана – мучительная любовь к итальянке Камилле Гвиечелли, племяннице Льва Петровича Осоргина. Камилла, прекрасная художница и музыкантша, угасавшая от чахотки, подружилась с Люшей и гостила в Синих Ключах. Там Степан ее и увидел. Они были вместе всего одну ночь… ночь, которая стала для Камиши единственным приключением в ее недолгой жизни.
Груня тоже любила, так же горячо и горько. Любила Степана, от которого не ждала ничего хорошего. И Александр… единственным сильным чувством в его душе была любовь к Юлии. А Юлия вышла замуж. За князя Сергея Бартенева, молодого красавца, одного из самых знатных и богатых женихов России. Один только изъян был у князя Сережи – женщинам в постели он решительно предпочитал мужчин. Разных – от камердинера до члена императорской фамилии. Ближе других был ему старинный друг Рудольф Леттер. А Юлия? Ну, с Юлией они все решили полюбовно. Князь ни в коем случае не собирался стеснять свободы жены. Тут, очень кстати, и появился Александр – по-прежнему влюбленный и почти свободный. Княгиня приехала к кузену в усадьбу, и они вновь принялись строить планы на будущее.
Искать жену Александр, понятно, и не собирался. Эта задача снова выпала на долю Арабажина. Он даже приехал в Синие Ключи, чтобы выяснить все на месте. А с ним – Надя Коковцева, гимназическая подруга Юлии… и соратница большевика Январева по партийной борьбе. В деревенской тиши, среди цветущей сирени, под щелканье соловьев и комариный писк, между ними завязался роман.
Впрочем, Арабажин занимался в Синих Ключах не только личной жизнью. Вместе с деревенской знахаркой Липой ему пришлось принимать роды у дочки лесника – горбатой Татьяны. Младенец родился необычный – с маленьким хвостиком! Впрочем, чему удивляться – ведь его отцом был безумец Филипп, сын Осоргина и няни Пелагеи. Разум Филиппа на всю жизнь остался детским. Он верил в сказки и своей невестой называл колдунью Синеглазку. Однажды он увидел красавицу Юлию и решил, что Синеглазка – это она. Филипп терпеливо ждал, когда суженая придет к нему – а лесник тем временем хитроумно убедил его жениться на Татьяне, ведь отец оставил внебрачному сыну неплохое состояние. Увы, старик перемудрил сам себя. Когда Татьяна окрестила в церкви своего хвостатого сына, деревенская толпа забила ее камнями. Ребенка едва успела спасти дочь священника Маша. И отнесла в Синие Ключи. Там уже хватало детей: Капочка, Атя, Ботя… и вот теперь – хвостатый Владимир, тоже не совсем нормальный – такая уж кровь досталась ему от осоргинской родни, – но зато прекрасно понимающий язык зверей и птиц.
Люша, кстати, пока жила в усадьбе, заботилась о Филиппе и даже возила его в Петербург, к блестящему психиатру, другу Арабажина Адаму Кауфману. Ему-то Филипп и рассказал, что в ночь крестьянского бунта и пожара мать вручила ему сундучок с драгоценностями и наказала их никому не показывать, а отдать только Синеглазке, если придет и спросит. Никто покамест не приходил, вот и лежал сундучок по сей день зарытый в амбаре. Кауфман, мечтавший о собственной клинике, едва не поддался искушению… Даже в Синие Ключи однажды приехал. Но все-таки одолел соблазн, и, может, в награду за стойкость деньги на клинику у него таки появились. Правда, случилось это позже и в связи с целой цепью событий.
Свою роль в этих событиях сыграл Лука Камарич – приятель Арабажина, эсер-террорист. В 1905 году, убегая от жандармов, он попал в дом богатого купца-сектанта. Жена купца Раиса, сектантская богородица, спрятала его и спасла… а потом они встретились, когда она уже овдовела… и ему снова пришлось укрываться в ее доме – после неудачного покушения в Петербурге на шефа жандармов Карлова. Исполнял акцию, надо сказать, не он лично, а его подопечная, юная террористка Екатерина, в миру – Луиза Гвиечелли. Пылкой итальянке, лишенной музыкальных талантов и пристрастий родни, было тесно в теплом семейном доме, хотелось жить взахлеб, на острие… ну, и угодила в каземат, а оттуда, благодаря хлопотам все тех же родных – не на каторгу, а в сумасшедший дом, под присмотр доктора Кауфмана. Камарича же укрыла Раиса – не только от полиции, но и от товарищей по партии, не без оснований подозревавших его в связях с охранкой.
Словом, Луке Камаричу было совсем не до того, чтобы искать пропавшую Люшу. Да она, впрочем, никуда и не пропала. Напротив – она стала известна всей Европе, о ней с восторгом писали газеты Варшавы и Парижа, Берлина и Вены. Ее танец называли непостижимым славянским колдовством, за возможность увидеть его выкладывали любые деньги. О том, кто она, эта удивительная танцовщица, откуда родом и как ее зовут, ходило множество легенд, но точно этого никто не знал. Вернее, знал один человек, которому она некоторое время разрешала следовать за собой и принимала его близость… а потом прогнала, потому что он, увы, по-прежнему не знал, что ему делать с самим собой, а тем более с ней – хоть и внимал музыке Космоса. А ей, Любе Осоргиной, было еще хуже, чем Люше Розановой в Синих Ключах.
Когда она приехала в Москву и согласилась выступить для гостей годовщины свадьбы князя Бартенева, ее дела были уже плохи. Не спасали ни наркотики, ни алкоголь. Максимилиан нашел Арабажина и попросил о помощи. Арабажин силой привел Люшу в чувство и отвез в Синие Ключи.
И снова из-за ее возвращения пошли прахом планы Александра Кантакузина! Юлия тотчас покинула его – ведь теперь он уже не был полновластным хозяином поместья и не мог увезти ее за границу, как обещал. А Люша, придя в себя, начала разбираться с последствиями его управления.
Привезла Атю и Ботю из закрытых школ, куда он их поместил (точнее, привезла Ботю, Атя явилась в усадьбу сама). Привезла в Синие Ключи Владимира, вернула Груню и маленького Агафона – ее сына от Степана. Прогнала Капочкиных гувернанток, от которых та не знала, куда деваться. Ну, и как-то так получилось, что и самому Александру возле нее не оказалось места.
Рядом с ней был Арабажин. Они оба понимали, что это ненадолго. Клятва Гиппократа и революция – достаточные причины, чтобы поставить крест на личной жизни. А если мало их – то вот и третья.
Война.
Пришел август четырнадцатого. Аркадий Арабажин, врач санитарного поезда, отправился на фронт. В октябре Люша получила известие о гибели доктора. Она уже носила его ребенка.
В эти дни возвратился Александр и снова стал жить в одном доме с женой. Усадьбе была нужна мужская рука, а Люше – плечо… они слишком давно уже были мужем и женой… да и в детской когда-то запер ее и няню вовсе не он. А кто? Об этом Люша, честно сказать, не так уж часто задумывалась.
Она писала ему письма. Рассказывала обо всем, происходящем в Синих Ключах. Например, а театре, который организовали дети во главе с Кашпареком. Тот со своей марионеткой, которая казалась частенько более живой, чем сам артист, дразнил жандармов дерзкими куплетами, кружил головы деревенским девушкам и мрачнел, глядя на кроткую, как ромашка полевая, Олю. Или – о том, как живут в Торбееве. Туда еще до войны вернулась Катиш. К тому времени Люша уже знала, что Катиш – это та самая Этери, что учила ее танцевать. История Катиш – не очень складная и не очень веселая. Она была приемной дочерью художника Ильи Сорокина – бывшего крепостного, всю жизнь любившего первую жену Николая Осоргина. Когда та, не имея своих детей, захотела сделать Катиш своей воспитанницей, Сорокин тут же отдал девочку, даже не спросив, а что об этом думает она. Впрочем, у Осоргиных Катиш не обижали – ровно до того дня, когда опекун, уже овдовевший, изнасиловал ее. За это он в конце концов и поплатился: ведь убил Осоргина в день бунта эсер Егор Головлев – убил, надеясь заслужить одобрение возлюбленной, за которую мстил. Надеялся эсер напрасно, месть Катиш была не нужна. И с Люшей ей оказалось нечего делить. Устав от богемной жизни, она вернулась в Торбеево, к мужу и приемному отцу, прежде служившему в Торбееве управляющим, а теперь просто обитавшему там, занимаясь живописью. Трем немолодым людям было хорошо и спокойно друг с другом – даже после того, как хозяина имения разбил паралич. Лечил его, кстати, как раз Арабажин.
И в Петербурге Арабажина вспоминали. Письмо от него получила Раиса – сектантская богородица. Доктор писал, что встретил Луку Камарича, тяжело раненного на фронте, что того везут в столичный госпиталь, куда она может к нему приехать. В письме не было, конечно, ни слова о последнем разговоре двух старых знакомых – когда Камарич признался Аркадию, что работал на охранку и что это он виноват в гибели товарищей тогда, на Пресне. Ни к чему это было знать Раисе, которую Камарич любил. Она и впрямь поехала в Петербург – тотчас же, – но своего голубчика в живых уже не застала. Зато познакомилась с Кауфманом… и своей щедрой жалостью чуть-чуть растопила его вечное одиночество, от которого не могли спасти ни работа, ни благопристойная еврейская жена, ни тоскливая любовь-морок к Люше Осоргиной. Вот от нее, Раисы, и получил Кауфман деньги на психиатрическую клинику, названную «Лунной виллой». Там, среди других больных, лечилась и Луиза Гвиечелли, ожидавшая революцию, показывая товарищам по несчастью фокусы и сочиняя страстные стихи, обращенные… к кому? Все к той же Люше!
Нет, конечно, не все, кто ушел на войну, погибли. Степан, например, попал в плен. И Максимилиан тоже. В австрийском лагере для военнопленных они повстречались, не зная, что связывают их не только Синие Ключи и Люша, но и семейство Гвиечелли. Ведь Степан по-прежнему любил Камиллу, которой уже не было на свете. Зато (он об этом еще не знал) была Любовь, Любочка-Аморе, ее и его дочь. Самая маленькая в многочисленной итальянской семье, боявшаяся рояля, но уже прекрасно знавшая, что делать со скрипкой. А у Макса перед отправкой на фронт случился бестолковый роман со старшей дочерью Льва Петровича, Анной Львовной – которую он когда-то боготворил, а теперь дал увлечь себя по инерции, отчего до сих пор ему было совестно перед ее мужем, который ну ничем своих рогов не заслужил. Впрочем, здесь, в лагере, ему было не до московских романов. Отказавшись работать на германскую разведку, он не ждал для себя ничего хорошего. И на побег особенно не надеялся… Но сбежать таки удалось. Благодаря Степану, конечно. Тот ведь был из тех, что из любой беды непременно выкрутятся… и тут же влипнут в новую, согласно классической российской традиции.
А вот сын профессора Рождественского – того самого, что учил в Университете Арабажина и Кауфмана и дружил с Люшиным отцом и Львом Петровичем, – полковник-артиллерист – на войне чувствовал себя поначалу как рыба в воде и не сомневался в скорой победе… Но после разгрома под Августовом и Мазурских болот энтузиазм его угас, придавленный тяжелым недоумением. Не зная, как развлечь приехавшего на побывку сына, профессор обратился за помощью к Люше. И та оказалась на высоте! Вернее, даже не столько Люша, сколько ее подруга Марыся, польская красавица, бывшая хитровская судомойка, а ныне – владелица роскошного ресторана с русской и французской кухней. Едва увидев бравого полковника, Марыся влюбилась насмерть. И тот, конечно, не устоял. А ведь был женат… и тоже, кстати, на полячке.
Да, война, конечно, не могла отменить никаких личных надобностей. Вот Юлии Бартеневой, например, необходим был ребенок. Вернее, не то, чтобы ей – наследник нужен был княжескому роду, о чем князь Сережа не желал задумываться. И Александр Кантакузин тоже – он умел только вздыхать и взирать на Юлию с обожанием… а потом вести в постель не ее, а горничную Настю. Словом, воспользовавшись протекцией Максимилиана Лиховцева, Юлия и Надя Коковцева, переодетые в мужские костюмы павловских времен, отправились в знаменитый петербургский подвальчик «Бродячая собака», где княгиня и совратила таки собственного мужа и его дружка Леттера. Вернее, строго говоря – именно последнего. Результатом лихой авантюры стало рождение уродливого младенца, больного гидроцефалией, практически нежизнеспособного. Младенец бы и не выжил, если б не старая нянька Тамара.
Стоит ли говорить, что и этот ребенок очутился спустя недолгое время в Синих Ключах? Люша посоветовала Александру пригласить Юлию с сыном – отдохнуть, подышать деревенским воздухом, подлечиться… Все-таки он по-прежнему ее любил, а с Люшей научился ладить.
В Люшиной жизни, надо сказать, тоже кое-что изменилось.
Она узнала, что Арабажин жив.
Вернее, почувствовала. И дочь священника Маша, когда-то спасшая от толпы хвостатого младенца Владимира, подтвердила: оттого не выходит у Люши молиться о докторе, что нельзя Бога просить за живого как за мертвого.
Он ведь и в самом деле выжил. Тяжело контуженный, не помня себя, несколько дней лечил раненных в развалинах церкви, а потом его самого выхаживали жители русинской деревушки. А потом жандармский офицер, проведя расследование и совместив две личности Арабажина-Январева, предложил… нет, не сотрудничать с режимом. А просто начать жизнь с чистого листа. Иначе – не выйдет. Найдут и арестуют.
Так в одночасье сгинули доктор Аркадий Арабажин и товарищ Январев и появился на свет вольноопределяющийся Аркадий Январев. По прозвищу Знахарь. Потому что, хоть в его новую биографию высшее медицинское образование и не вписывалось – но клятвы Гиппократа никто не отменял.
Статьи Знахаря о положении на фронте стали появляться в журнале, который издавал вернувшийся из плена Максимилиан Лиховцев. О том, что друг жив, узнал и Адам Кауфман. А вот к Люше Аркадий так и не приехал. Вернее, приехал… посмотрел со стороны на ее мирную, как ему показалось, семейную жизнь с Кантакузиным, да и исчез потихоньку. В самом деле, ну что ей от него может быть хорошего?
И неважно, что об этом думала сама Люша. Неважно, что у нее уже родилась дочь Варечка, с точно такими же зелеными, как у Арабажина, глазами. Впрочем, о Варечке Аркадий еще не знал. Некому было рассказать, а сам он и не догадывался.
Дни бежали друг за другом, как торопливые волны прибоя, завтрашний заслонял вчерашний. Война не собиралась заканчиваться. Погиб в воздушном бою геройский летчик Рудольф Леттер. Трактирщица Марыся вышла замуж за давно влюбленного в нее тихого письмоводителя и родила сына, похожего вовсе не на законного отца, а на одного артиллерийского полковника. А потом пришла весна, и в столицах случилась революция. Император отрекся от престола. Атя, в очередной раз сбежавшая из гимназии, бродила по Москве, жадно смотрела по сторонам и понимала, что начинается совсем-совсем новая жизнь.
А в Синие Ключи тайком приехала Луиза Гвиечелли. И сказала Люше то, что та давно уже и без нее знала: Аркадий Арабажин жив.
Список действующих ныне и действовавших ранее героев:
Синие Ключи и окрестности:
Осоргин, Николай Павлович, помещик, убит в 1902 году
Наталия Александровна Осоргина (Муранова), первая жена Николая Павловича, умерла
Лилия (Ляля) Розанова, вторая, невенчанная женая Николая Павловича, цыганская певица, умерла
Пелагея Никитина, нянька Люши, в прошлом любовница Николая Павловича, погибла при пожаре в 1902 году
Любовь Николаевна Осоргина (Люша Розанова), дочь Николая Павловича Осоргина и Ляли Розановой
Филипп Никитин, сын Пелагеи и Николая Павловича, психически болен
Мартын, лесник Осоргиных
Таня, дочь Мартына, убита торбеевскими крестьянами
Владимир, сын Тани и Филиппа
Илья Кондратьевич Сорокин, художник, в прошлом – управляющий имением Торбеево
Марьяна, его жена, умерла.
Катиш (Этери, Екатерина Алексеевна Сорокина), танцовщица, дочь Марьяны, приемная дочь Ильи Кондратьевича
Иван Карпович, сибирский золотопромышленник, муж Катиш и хозяин имения Торбеево
Лиховцева (Муранова) Софья Александровна, сестра Наталии Александровны, детская писательница
Лиховцев Антон Михайлович, ее муж, хозяин имения Пески
Лиховцев Максимилиан Антонович, историк, журналист
Кантакузин Александр Васильевич, историк, муж Любы и кузен Максимилиана
Капитолина, дочь Любы и Александра
Варвара, дочь Любы и Арабажина
Прислуга в Синих Ключах:
Настя, горничная
Феклуша, горничная
Фрол, конюх
Лукерья, кухарка
Акулина, огородница
Филимон, муж Акулины, садовник
Груня Федотова, подруга детства Люши
Степан Егоров, из деревни Черемошня, друг детства Люши
Светлана Озерова, сестра Степана
Иван Озеров, ее муж, механик
Агафон, сын Степана и Груни
Отец Даниил, священник в церкви св. Николы в деревне Торбеевка
Матушка Ирина, жена Даниила
Маша, их дочь
Их другие дети, 11 человек, матушка опять беременна
Липа, знахарка (Олимпиада Куняева, московская акушерка)
Мария Карловна, помещица, старая спиритка
Агроном Дерягин
Викентий Павлович, ветеринар
Флегонт Клепиков, священник, бывший торбеевский дьячок
Москва
Арабажин Аркадий Андреевич, врач, большевик
Марина, сестра Арабажина
Татьяна Ивановна Кантакузина, мать Александра, умерла.
Александр Георгиевич Муранов, отец Натальи, Софьи и Михаила
Елизавета Маврикиевна, его жена.
Яков Михайлович Арбузов, хоревод цыганского хора
Глэдис Макдауэлл, артистка оригинального жанра из ресторана «Стрельна»
Декаденты
Троицкий Арсений Валерьянович
Жанна Гусарова, его пассия
Адонис
Май (Никон Иванович), из купцов-старообрядцев
Апрель (Ангелина, его возлюбленная)
Овсов Клим Савельевич, купец 1 гильдии, умер
Овсова Раиса Прокопьевна, его жена
Камарич Лука Евгеньевич, геолог, эсер, агент охранки, умер
Рождественский, Юрий Данилович, врач, профессор Университета
Валентин Рождественский – его сын, военный
Муранов, Михаил Александрович, историк, профессор Университета
Кауфман, Адам Михайлович, психиатр
Рахиль, бабушка Адама
Соня Кауфман (Коган), жена Адама
Егор Головлев, эсер, друг Камарича
Таисия, руководитель московской группы эсеров
Иллеш, эсер, умер
Надежда Коковцева, социал-демократка, подруга Юлии
Осоргин Лев Петрович, архитектор
Мария Габриэловна Осоргина (Гвиечелли), его жена
Луиза, их дочь
Альберт, их старший сын
Анна Львовна Таккер, их старшая дочь
Майкл Таккер, ее муж, фабрикант
Роза, их дочь
Риччи, их сын
Камилла Гвиечелли, художница, племянница Марии Габриэловны, умерла
Люба (Аморе), дочь Камиллы и Степана
Марсель Гвиечелли, кузен Луизы
Катарина, сестра Марии Габриэловны
Камилла, тетка Марии Габриэловны
Юлия фон Райхерт (Бартенева)
Борис Антонович фон Райхерт, адвокат, ее отец
Лидия Федоровна фон Райхерт, ее мать
Бартенев Сережа, молодой князь, муж Юлии
Бартенева Ольга Андреевна, его мать
Рудольф Леттер, авиатор, сердечный друг Сережи, погиб
Герман, сын Юлии и Рудольфа
Спиря, бывший камердинер Сережи
Дмитрий, предположительно, великий князь
Анна Солдатова
Борис Солдатов – двойняшки, приемные дети Люши
Кашпарек – бродячий артист, сирота
Оля – сирота, акробатка
Глава 3
март 1917 года
Мартовское солнце, просвечивая сквозь синие, голубые и сиреневые витражные стекла, рассыпало веселые зайчики по полу столовой, по белой скатерти, вышитой жесткой мережкой, по узкому кружевному манжету платья хозяйки. И платье, будучи вообще-то черным, тоже казалось фиолетовым или темно-синим – да еще сирень, зацветавшая в оранжерее строго по указанию огородницы Акулины, и сейчас красовавшаяся в высоком стакане в виде двух веток с прозрачными, но яркими кистями, добавляла цветного волшебства.
– Прошку моего где-нибудь при кухне посели, да в кладовке какой выдели ему место для ящика с красками.
– Марыся, кто он вообще такой? Откуда ты его взяла? И зачем привезла в Синие Ключи? – Любовь Николаевна Кантакузина, миниатюрная грациозная женщина с любопытством взглянула на приехавшую из Москвы подругу из-под шапки высоко уложенных черных кудрей.
– Ты, Люшка, теперь на египтянку похожа, как их в синематографе показывают, – заметила Марыся Пшездецкая, отпивая рубиновое вино из высокого хрустального фужера и мечтательно закатывая глаза. – Ох! Словно Дева Пречистая по душе босыми пяточками прошлась…
– Марыська, ты, по-моему, окончательно пьяницей заделалась.
– Пошла в задницу, – Марыся беззлобно отмахнулась белой полной рукой. – Я нынче не в тяжести, и потому пью сколько захочу и в свое удовольствие.
– Вспомни и остерегись, подруга: у тебя оба родителя от водки сгинули…
– Сказала же: отвяжись от меня и не липни, как обсосыш леденца к подолу… А Прохор – художник, я его в Академии подобрала и на натуру привезла.
– На какую натуру?!
– Он у меня с осени картины за твоего старика Сорокина рисует, а я их спекулянтам и подрядчикам, страждущим великого искусства, продаю за большие деньги. Только теперь вот Прошка взбунтовался: должен же я хоть раз своими глазами увидеть, где все это!
– Фальшивые картины? С фальшивой подписью?
– Конечно, фальшивые. А что нынче настоящее? Еще до революции этой все опаскудело. Горечь во рту и глаза бы не смотрели, хотя лично мне и жаловаться не на что – мой фарт сплошняком идет. Фальшивый француз для меня пироги твоей кухарки печет, фальшивый художник фальшивые картины рисует. А знаешь, сколько я в трактире на Рождество заработала? Тридцать восемь тысяч рубликов без малых копеек…
– Трудно поверить, – покачала головой Любовь Николаевна. – Пир во время чумы?
– Не знаю, чего это, но на слух подходит отменно. На Святки первый раз за войну ряженые толпами по улицам ходили, и – Матка Боска! – ты бы только видела, какие же страховитые хари! Как будто всехние страшные сны ожили и бесами на площади погулять вышли. Говорят, под это дело и похулиганили, и даже пограбили немало. А жены спекулянтские у меня в трактире! Вот такущие бриллианты в ушах, а уши-то – немытые! Впрочем, деньги обесцениваются с каждым днем, поэтому я тоже капитал немедленно в дело вложила, чего и тебе, если у тебя вдруг средства свободные есть, настойчиво желаю.
– Ты играешь на бирже?
– Упаси меня Пречистая Дева! Зингеровские швейные машины я еще прежде, три года назад, когда немецкие компании громили, за бесценок скупила. А нынче – запасные части к ним, текстиль, готовое платье, особливо нитки, иголки, инструмент, посуда кухонная…
– Это же все по поставкам…
– За взятку нынче все можно обойти. Понимать надо, какие времена грядут и что в них нужнее всего станет – ежели я теперь о себе и сыне не позабочусь, так кто за нас? А чисто спекульнула я всего раза три-четыре, чтобы на вкус попробовать: лен, масло, да еще вагон поташа как-то из случайного трактирного разговора подвернулся…
– Ути-пусеньки, а кто это у нас такой сладенький? Да такой хорошенький? – старая женщина с редкими волосами и землистым цветом лица внесла в столовую упитанного улыбающегося младенца с зажатой в кулаке деревянной ложкой, который, увидев Марысю, сразу же радостно загугукал и потянул к ней ручки. – Кушанькать мы желаем, Мария Станиславовна, – объяснила нянька. – Ложкой стучим, все в рот норовим затянуть и прожевать. Вот кухарка и прислала узнать, чем же нашего такого холёсенького половчее накормить-то? Чем и прочих? Либо нашему лапусику Валентину Валентиновичу какое-то иное пропитание положено?
– Да хлеба ему с молоком дайте, Тамара, или пирожок какой, только смотрите, чтоб все кругом в начинке не вымазал, – велела Марыся. – Он у меня, даром что при трактире растет, в еде не привередливый, то есть жрет все, что не приколочено… – женщина отставила пустой фужер, приняла сына от служанки и три раза высоко подбросила его. Валентин задрыгал руками и ногами и залился радостным смехом.
– О-хо-хо-нюшки, а бабке Тамаре уж так сладенького не подкинуть, – посетовала нянька. – Стара… а ему-то в удовольствие, уж он-то вон как регочет, заюшка наш…
– Тамара, вы капли свои от сердца, по случаю неожиданного приезда Валентина Валентиновича, пить не забываете? – строго спросила Любовь Николаевна и добавила шепотом в сторону Марыси. – Как увидит младенца, дура старая, так сразу все соображение невесть куда пропадает…
– Помню, помню, благодарствуйте, Любовь Николаевна, – залепетала Тамара. Общительный младенец, наигравшись с матерью, снова возжаждал разнообразия и потянул ручки к хозяйке усадьбы.
– Обойдешься, – спокойно сказала Люша и мимоходом показала Валентину козу. – Я, знаешь ли, детей не люблю.
– Оно по всему видать, – нетрезво засмеялась Марыся. – Тамара, а вы можете Валю у себя на коленке покачать, он это тоже уважает.
Тамара снова забормотала свое: «гуси-гуси, где наши лапуси, а кто у нас сейчас пирожочек с капусткой-яичками кушанькать будет?» – забрала ребенка и унесла его кормить.
Солнце незаметно убралось из столовой, россыпь цветных зайчиков погасла, только сирень да темное вино в бокале старательно сохраняли праздник.
* * *
Часы шелестели на стене тихо и вкрадчиво, то ли отсчитывая время, то ли вспоминая что-то свое, давнее. Комната с большим французским окном была точь-в-точь такой, как в дни юности хозяйки. Только что окно накрепко закрыто и законопачено, чтобы не дуло, и из него теперь не выйдешь в сад; и тюлевые занавески померкли и не топорщились, а висели темноватой паутинкой, а диванные подушки, наоборот, выцвели, и валялись на них не английские любовные романы, а сочинения госпожи Блаватской и Рудольфа Штайнера.
– И надобно тебе знать, что торбеевские мужики уже и на прямое смертоубийство готовы, – утвердила пожилая помещица Мария Карловна, поправляя сползающий на ухо старый шиньон. – Дух Лермонтова мне намедни то же подтвердил – насилие рядом ходит. А мальчишку жаль, он занятный. Так что ты уж сделай чего-нито…
Любовь Николаевна задумалась. Отпила малиновый отвар из старинного блюдца с выщербленным краем, отщипнула крошечный кусочек жесткого хлеба.
Многочисленные амурные похождения ее приемыша Кашпарека, да еще и в красках изложенные пожилой спириткой, скорее забавляли, чем тревожили ее. Но ведь правда и то, что Кашпарек со своей марионеткой, если захочет, может довести до бешенства кого угодно…
– Мария Карловна, Кашпарек, безусловно, – сукин сын, с этим я спорить ни минуты не стану. Но вот чего не могу разобрать: вас торбеевский мир, что ли, уполномочил мне на него пожаловаться?
– Нет, – Мария Карловна отвела глаза и уставилась на книжную полку, где в ряд выстроились таблицы гороскопов, книги Папюса, Элифаса Леви, Блаватской, Каббала в дорогом переплете, Меркаба, томы Зохара и даже латинские трактаты Гаммера. – Меня, как я с тобой хоть изредка сообщаюсь, попросил о содействии Зензинов, сосед-помещик. Старый род, ты могла бы его знать, если бы вы с мужем побольше встречались с людьми соответствующего вам круга. Но еще когда был жив твой отец, ты, должно быть, помнишь его жену, и эту историю, когда…
– Неважно, – прервала Любовь Николаевна. – Так что же Зензинов нынче?..
– Нынче у него дочь двадцати четырех лет, девица… была… – вздохнула Мария Карловна. – Ни ума, ни внешности, ни приданого особого нет, а счастья как и всем охота. Летом твой Кашпарек со своей куклой представлял у них во дворе для прислуги, и она вышла поглядеть… А потом он приходил вечерами, залезал на иву, что у нее напротив окна, и потешки играл, стихи читал, песни пел… ну что там обычно в таких случаях делают, тебе по возрасту сподручнее помнить… в общем, на третью ночь пустила она его к себе в окно…
– Сукин сын! А она – дура набитая!
– Не без того… Не без того… – покачала головой помещица. – Но все же нехорошо это. Зензинов, как узнал, за ружье схватился, а эта дурища ревмя ревет: если ты Кашпаречку хоть какое зло причинишь, я сей же час в омуте утоплюсь. Кашпаречек – свет в окошке, лучший-распрелучший! Отец: что же мне теперь делать прикажешь? Спустить негодяю? А она: сватай меня за него! – За уличного акробата?! Никогда! – Не хочешь, чтоб я жива была?! – Перестала есть, спать, сидит у окна, голову рукою подперев…У Зензинова сначала чуть удар от позора не случился, а потом глядит, как его дочь единственная на глазах чахнет… Нашел твоего мальчишку в Калуге, в извозщицком трактире, дескать, надо поговорить. А тот ему: не о чем нам с вами разговаривать. Зензинов только воздух, как рыба, ртом хватает: да ты разве не хочешь на ней жениться? А Кашпарек ему: жениться?! Да я уже забыл, как ее звать-то. Я только дорогу люблю и на ней сызмальства женат, но ничего промеж нас с вашей дочкой без ее согласия не было, и маркизом-гусаром я не прикидывался, потому с меня и взятки гладки, а вот вы бы, папаша, чем кипятком ссать, порадовались лучше, что хоть какое удовольствие у вашей дочери в ее заплесневелой жизни случилось…
– Вот паршивец!
– Не то слово! Да ведь разве только Зензинова дочка! Это уж самый вопиющий случай. А почтмейстера Карташева жена, а из Алексеевки лавочница?..
– И жена?! – с притворным ужасом воскликнула Люша, картинно запуская пальцы обеих рук в тугую путаницу цыганских, синеватых кудрей.
– И жены, и девки, и вдовы, и дворянки, и мещанки, и крестьянки – полный комплект… И вот что интересно: даже когда все прошло и минуло, все за него горой, и своим родным мужьям и родителям готовы за него глаза выцарапать…
– Не пойму: чем же он их всех берет-то? – задумалась Люша. – Ведь ни рожи, ни кожи, ни подарков, ни верности какой или надежд…
– Ну это уж я тебе рассказать никак не могу, – хитренько прищурилась Мария Карловна. – Потому – не знаю. Но коли тебе так интересно знать, попробуй с внучкой моей кухарки поговорить. Может, она тебе что и расскажет…
* * *
Румяная налитая девка лет семнадцати тупила пустой взгляд, дергала себя за ухо и прикрывала передником лицо. Люше хотелось дать ей тумака. Вместо этого показала серебряный царский рубль.
– Дам, если расскажешь, чем тебя наш Кашпарек приворожил.
Девка отогнула угол передника, выглянула молочно-голубым глазом:
– Ваша правда, барыня, приворожил! Колдун он!
– Да как же колдует? Скажи мне, я тебя стыдить и с веником, как бабка, гоняться не стану. Мне понять надо.
– А если я взаправду расскажу, ему ничего не будет? Со двора не погоните?
– Нет, конечно, – рассмеялась Люша. – Как ты и вообразить могла? Ты, вот такая, мне чего-нито расскажешь, а я через то своего Кашпарека из дома выгоню?!
Девка опасливо поежилась, облизнула губы и снова прикрылась выгоревшей, с жирными пятнами полой.
– Извини, – сказала Любовь Николаевна. – Забылась. Нельзя мне на людях смеяться. От моего смеха не только тебя корежит. Почти всех, кого знаю.
Подождала молча, чуть вытянув руку с рублем в сторону девки. Так в детстве мясом приманивала одичавших псов, лисят, однажды на краю болота приманила волчонка-переярка. Странное дело, но Люша чувствовала, что девке хочется рассказать о пережитом. И вовсе не только в рубле тут дело…
– Кукла евонная. Он ее марионеткой кличет… Она в ентом деле такие штуки вытворяет, и говорит такое, что повторить грех, и пляшет, и ваще…
– То есть, ты хочешь сказать, – Люша удивленно подняла темные брови. – Что когда Кашпарек наедине с женщиной, его марионетка тоже живет, а не лежит мирно на полу или за пазухой?
– Какое лежит! – девка закраснелась морковкой и замотала повязанной платком головой. – Все – она, вернее, он – паскудник! Тут так выходит, что сам-то парень как будто и не причем. Бывало, что и вовсе в сторону глядит, и чуть не задремал. А вот Кашпарек евонный…
– Но послушай… я не понимаю… ну всякие там приговорки, припляски, еще чего-то… ну даже ласку какую-то диковинную могу себе представить… но ведь в какой-то момент для этого дела Кашпарека-марионетки мало будет… Как же так?.. Да у тебя вообще-то с ним чего было?! Или бабка зря веник об тебя измочалила? Ведь поглядел-полапал – оно как бы и не считается, особливо если с куклой…
– Все было! – девка выпрямилась, опустила передник и сложила руки на высокой груди. – И так оно было, что про таковское у нас в доме, да в деревне на посиделках никто сроду и словом не обмолвился…
– Да ты знаешь ли, о чем…
– Не смешите меня, барыня! Я деревенская, десять да восемь зим на свете прожила. Вы гляньте на меня и глазом прикиньте – сколько мужиков еще прежде того норовило меня в уголок прижать да полапать… Я им отпор давать умею! А тут другое. И не лапал он меня вовсе, если желаете знать…
– А как же? – Люша подалась вперед, ее почти прозрачные прежде глаза налились густой, клубящейся синевой, как будто в воду добавили чернил. – Как же оно было?
– Как в раю – вот как! – выпалила девка. – Будто я в райскую душеньку превратилась – и там ей и сад, и сладость, и благоухание, песни, и музыка играет, как у барина Зензинова в граммофоне… Или нет! Грех мне так говорить, души – они у Бога. А я… я сама стала куклой, подружкой марионетки евонной, и чего только мы с ней вместе не вытворяли, и еще кто-то там был, и на разные голоса, и все – для меня одной, а он, Кашпарек-то – со стороны смотрел и направлял нас всех, и нахваливал, и как будто изнутри чуял, чего мне угодно и приятственно…
– Ну и ни черта же себе, Кашпарек дает… – ошеломленно пробормотала Люша и добавила себе под нос. – Должно быть, какая-то разновидность гипноза. Он превращается в куклу… Но откуда же про женщин знает…
– Колдун он! – убежденно сказала девка. – И кукла его колдовская. Он мне сам говорил: она может и отдельно от него – жива-живехонька, главное, чтоб не долго…
– Ох, и ни черта же себе… – повторила Люша.
Героический казак Крючков, медведь с коробом и английская королева Александра, украшавшие стены кухни, уставились на нее со своих глянцевых картинок с одинаковым возмущением, решительно не желая одобрять всяческое колдовство и непотребство.
* * *
Оля, белокурая девушка с мелкими, но очень правильными чертами лица, сидела на лавке в кухне и вышивала по канве. Кухарка Лукерья гремела кастрюлями и ругалась:
– У нее в Первопрестольной, говорят, людям хлеба не достает, а она, здесь, вишь ли, – пирожные есть не желают. Подавай им пирожки, да непременно с капустой…
– Лукерья, замолчи, – входя, велела Любовь Николаевна. – Мария Станиславовна о твоих пирожках еще в Москве мечтала. Ее повар в трактире тоже их печет, но у него и близко, как у тебя не выходит. Потому подай Марысе пирожки и еще опару поставь…
– Стану я подавать, ноги топтать… А горничные с лакеями в усадьбе на что? Может, мне еще прикажете и самовар самой, вместо мальчишки раздуть?..
– Оля, пойдем со мной, я хочу с тобой поговорить.
– Любовь Николаевна, а тут нельзя ли? Зябко мне что-то с вечера, болезно, я к плите погреться пришла… А от Лукерьи у меня секретов нет…
– Я сказала: пошли!
– Да что же это вы, Любовь Николавна, вечно к девчонке цепляетесь! – громко заворчала Лукерья, постукивая шинковкой в большой деревянной миске с обваренными капустными листьями. – Уж она-то у нас всегда тише воды, ниже травы, и рукодельница, и услужить всем готова, и без придури всякой, не то, что другие ваши… А вам будто хорошо и не ладно…
– Такая уж я, ешьте с кашей, – огрызнулась Люша, выходя из кухни вместе с Олей.
– Оля, только не виляй и скажи мне честно: как ты относишься к Кашпареку? – глядя девушке прямо в лицо, спросила Люша. – Что думаешь о нем? Что к нему чувствуешь?
Олины глаза, обрамленные светлыми пушистыми ресницами, напоминающими метелки луговой травы, вмиг наполнились слезами.
– Я не знаю…
– Узнай сейчас. Спроси одним полушарием мозгов у другого, брось башмачок за ворота, погадай на зеркалах, книге или кофейной гуще. Но мне нужен ответ. Когда-то Кашпарек спас тебе жизнь, а потом вы вместе выступали, и он в самом буквальном смысле держал тебя и твою жизнь в своих руках каждый вечер. Это многого стоит. Уже несколько лет вы живете в Синих Ключах в соседних комнатах…
Оля заломила тонкие руки и зябко передернула плечами.
– Любовь Николаевна, я не знаю, зачем вам, но если вы об этом, то вот – я не люблю Кашпарека!
– Уже хорошо. Но чтобы было отлично, мне нужно знать не чего ты «не», а чего ты «да». Не любишь, ладно. Но как ты к нему относишься?
– Я его боюсь.
– Почему?
– Он темный какой-то, никогда не знаешь, что от него ждать…
– Вот странность. Ты, человек ему едва ли не самый близкий из всех, кто сейчас на свете живут, боишься и не понимаешь его, а по всей округе промеж девиц о нем совсем другая молва идет… Он пытался когда-то с тобой?..
– Никогда. Да я бы и не позволила…
– Ты, конечно, акробатка и намного сильнее, чем кажешься на первый взгляд, но Кашпарек все же сильнее тебя и если бы он захотел…
– Это невозможно. Кашпарек знает, что он мне не нравится, – розовые Олины губы вдруг сложились в почти циническую усмешку. – Для него есть другие, среди которых молва…
– Так. Для него есть другие. Пускай, тебе это как будто и вправду безразлично. Но что же для тебя? Кашпарек тебе не по нраву. Кто ж твой герой?
– Я об этом вовсе не думаю, Любовь Николаевна…
– Врешь! Не может нормальная девица в твоих годах о таком не думать! Какие у тебя вкусы? Кто тебе мил? Брюнеты? Блондины? Богатые? Офицеры?
– Ну хорошо, Любовь Николаевна, коли вам и вправду интересно, я скажу. Мне нравятся мужчины добрые, спокойные, про которых я могу своим умом понять. Чтоб голоса попусту не повышали и очами невесть из каких страстей не сверкали. Хорошо, чтоб солидные и в не очень молодых годах. Среди людей с уважением. А каков он из себя и каким делом занят – так это мне, можно сказать, не особенно и важно.
– Гм-м… – Любовь Николаевна задумалась. – Интересно у тебя получается… Только я вот чего, Оля, разобрать не могу: где ж ты себе таких мужчин нарисовала-то? В прачечную из твоего детства они точно не заходили, когда ты уличной акробаткой была или со мной по европейским притонам шаталась – тоже таких не припомню… В деревне? Из книг? Да ведь ты книг читать не любишь, да еще и признать надо, что про таких людей скучные непомерно книги бы вышли… Негде, получается, тебе их увидать…
– Да почему же негде? – удивилась Оля. – Да вот хотя бы Александр Васильевич, хозяин наш и ваш муж… Простите покорно, Любовь Николаевна, но вы, мне кажется, никогда его по достоинству не ценили…
– Оп-па! – Любовь Николаевна хлопнула в ладоши и подавила желание расхохотаться. – Алекс как твой идеал! Это мне даже и в голову не приходило. А ведь действительно… Приедет из Москвы, я ему непременно расскажу…
– Прошу вас, не надо! Пожалуйста! – Олино смятение и вся ее поза с умоляюще прижатыми к груди руками почему-то показались Любовь Николаевне фальшивыми. «Может, я и вправду к ней несправедлива? – подумала она вслед. – Любая бы при таком обороте застеснялась…»
– Ладно, не буду, – пообещала она, зная, что обманет.
И поспешила выйти из светлой, чисто прибранной, полной вышитых салфеток, занавесок и сухих букетов Олиной комнатки.
* * *
Подтаявшие, словно облизанные, снежные шапки на столбах ограды. Вьюжные наметы за калиткой. Любовь Николаевна прошла по аккуратно расчищенной дорожке, велела ждать двум увязавшимся за ней псам, поднялась по трем скрипучим ступеням, в темных сенях стащила ботики и, кулаком постучав, босиком вошла в дом старых, еще отцовских служащих – огородницы Акулины и садовника Филимона.
Запах нагретого дерева, зверобойного отвара, здоровой и аккуратной старости. Чисто выметенные половики, ходики на огромном комоде. На стенах – следы прошлого: фотография умершего ребенком сына и две акварели художницы Камиллы Гвиечелли, дальней Люшиной родственницы, тоже покойной: домик, утопающий в кустах сирени, и натюрморт – грубая глиняная ваза и свежие, со следами земли, овощи с Акулининого огорода.
Безыскусная радость пожилых людей приятна тем, кто почти не помнит своих родителей. Люша, с трудом выносящая прикосновения большинства людей (но не животных!), даже чуть помедлила в мягких и теплых Акулининых объятиях.
– Я к вам по делу, – наконец отстранившись, сказала она. – Не суетитесь. Топленого молока выпью, а более – ничего. Сядьте и слушайте меня.
Филимон принес из холодной кладовой кувшин с молоком, поставил перед Люшей на стол вмиг запотевшую кружку. Акулина послушно присела на лавку, скрестила толстые ноги в красных шерстяных чулках, спрятала руки под передник, склонила голову, готовясь с максимальным тщанием внимать хозяйке усадьбы, которую она прекрасно помнила злонравным и по общему тогдашнему мнению безумным ребенком.
– Акулина, весна идет. Я решила так: в этот год в оранжереях и на огородах никаких изысков не садим – рассаду выгоняй и на грядах упор на то, что может лежать и храниться или что можно как-то самим заготовить – засолить, замариновать, засушить, запарить. Картошка, морковь, репа, брюква, капуста, свекла, огурцы и все такое прочее… На это все силы. Что тебе самой по возрасту уже не в мочь – говори сразу, в помощники отряжу тебе австрийцев, там из семерых четверо крестьяне, землю понимают, и по твоей указке все потребное сделают. Завтра я с ними переговорю и – принимай команду под свое начало.
– Да как же я-то с ними объяснюсь? – всплеснула руками Акулина. – Они ж басурмане…
– Они уже все худо-бедно по-русски понимают, а Милош и Карл и говорят неплохо… Филимон, к тебе та же просьба: с весны думай о том, как получить урожай не столько побольше, сколько побыстрее, и все садовые удовольствия впрок заготовить – яблоки, груши, ягоды… Сахара нынче не достать. У твоего деревенского кума пасека-то еще стоит?
– Стоит, что ж с ней сделается?
– Переговори с ним заранее, скажи, что мы у него весь летний мед купим. Если он за деньги не согласится (это может быть), спроси сразу, что ему надо – инструмент, мануфактуру, еще чего? Договоришься, скажешь мне, я съезжу, задаток дам, чтоб не передумал. У Мартына в лесу тоже шесть ульев есть… хватит как-нибудь…
На полях будем сеять только ранние сорта, со скотиной тоже надо решать… Но это я с агрономом поговорю… В общем, я думаю, вам все ясно, спасибо, пошла я…
– Любовь Николаевна, а можно вас спросить: отчего вдруг вышло такое расположение? – независимо поинтересовался Филимон, недвусмысленно подначиваемый взглядами и подмигиванием жены.
– Акулина, Филимон, вы про революцию слыхали?
– Слыхали, конечно. Уж так нам с Акулиной царя-то-батюшку и царевича жалко… мы думаем: не виноваты они ни в чем, это все царица-немка, змея подколодная… В людской говорили, теперь, как революция, так войне конец, а мужикам землю давать будут, да нам-то это уже ни к чему…
– Перемены наверняка будут, а уж к добру или к худу – не знаю. На всякий случай надо к плохому готовиться…
Она помедлила на крыльце, глядя, как собаки носятся по двору – прыгают, наскакивают, пихают друг друга, от всей души радуясь снегу и полному отсутствию всяческих перемен.
* * *
– Егор, собери в бильярдной все ружья, пистолеты, револьверы, которые у нас в усадьбе есть. Под кроватью в моей спальне возьми мою франкотку, в бюро в кабинете, в правом ящике – револьвер. Все разбери, вычисти, проверь, есть ли пули и патроны – к чему и сколько. Составь опись. Сам ты не разберешься, наверное, я тебе Карла пришлю, он оружейник…Решим, чего не хватает. Потом думаю вас с ним в Москву отправить, вроде поторговать. Там сейчас много солдат, значит, много оружия, и значит, на Сухаревке через спекулянтов можно все недостающее по дешевке достать. А уж после, когда все будет готово, подумаем, где все это сподручнее хранить…
* * *
– Карп Селиванович, я с вами, как с главой Черемошинского мира, хочу поговорить. Скоро посевная начнется, нам в Синих Ключах надо определяться. Какое в людях расположение?
– Смута одна, а не расположение, вот что я вам, Любовь Николаевна, доподлинно скажу. Кормильцы в окопах, здешний люд в растерянности, агитаторы и там и там воду мутят. А куда солдатикам возвращаться? Вы вот в усадьбе газеты читаете: не знаете, что там насчет земли-то? Ведь в наших-то краях оно как: на всю семью из шести ртов – полторы десятины, да и та глина сплошная… А у помещиков-то – самый чернозем…
– Не знаю. Спасибо, Карп Селиванович, я все поняла, до свидания.
– Любовь Николаевна, да куда же вы, ведь только приступили к разговору…
* * *
– Марыська, я подумала и решила: часы, – Люша указала на часики у себя на запястье. – Наручные. Маленькие и дорогие. У крестьян и фабричных всегда ценились. А из всего остального – только продукты.
Марыся помедлила, соображая, потом кивнула:
– Да. В точку. Вот что значит – среди благородных терлась. Тебе купить?
– Да, с полсотни. Не больше. Я нынче же тебе денег дам. Царские в Москве еще в ходу?
– Они только и в ходу.
* * *
– Дерягин, я нынче поняла вот что: плевать на ваш севооборот, нам надо нанять людей в Песках (они самые нищие, а мир там силы не имеет) и засеять минимум площадей: пшеница, рожь, самую малость овса и гороха. Бо́льшую часть оставим под паром. На продажу не будем сеять почти ничего… – Любовь Николаевна смотрела на агронома исподлобья, и он ежился под ее взглядом.
– Как же так?!
– Не факт, что это-то сумеем собрать. Нынче все под вопросом.
– Но что скажет Александр Васильевич?
– Что захочет, то и скажет. Кто ему запретит?
* * *
Александр Васильевич Кантакузин, бодрый и свежий, упругой походкой вошел в гостиную, в которой Любовь Николаевна уже третий час сидела за роялем и одним пальцем тыкала в клавиатуру.
– Люба, я слышал о твоих странных распоряжениях…
– Настя донесла?
– Неважно. Так ты что, вообразила себя комендантом готовящейся к осаде крепости? Ожидается нападение врага? Явление Центральных держав в Калужской губернии? Конец света? Это тебя твоя подруга – трактирщица и по совместительству спекулянтка – сбивает с толку? И нанять людей в Песках – ты подумала о том, что Лиховцевы в этом случае останутся без работников, и значит, вообще не смогут посеяться и собрать урожай…
– Мне плевать на Лиховцевых.
– Замечательно! А я-то всегда думал, что ты хорошо относишься к Максу… А что за идиотская затея с созданием арсенала да еще и с поездкой в Москву! Что ты вообще понимаешь в оружии! Спросила бы меня…
– А что ты понимаешь в оружии? – прищурилась Люша. – В условиях, когда все может рухнуть, каждый должен клыками и когтями оборонять то, что ему дорого. Для меня это – Синие Ключи. А для тебя?
– Мне дорога Россия.
– Странно. В зависимости от того, какая именно Россия тебе дорога, ты, как мужчина, должен был бы оказаться на германском фронте. Или на московских баррикадах. Или в подполье. Вместо всего этого ты ошиваешься в пространстве между Акулиниными огородами и уездной говорильней…
– Я? В пространстве?.. – Александр прикусил губу от внезапной острой обиды. – Ты разве не знаешь, чем я занимаюсь? Мотаюсь из уезда в уезд! Меряю землю! С нивелиром научился обходиться лучше любого геодезиста! Да, составление кадастров – это не планирование партизанских вылазок с оружием времен Очакова, это скучно… Но она, вот эта самая земля – представь себе, и есть Россия! И как мы можем планировать дальнейшее, если не будем знать… – тут он заметил наконец, что его не очень слушают, и спросил, сбавив тон. – Люба! Да что происходит?!
– Считай, что мне было видение, – спокойно сказала Люша. – От девки Синеглазки. И вот.
Александр открыл рот и не сумел его закрыть – он ожидал, что жена будет злиться, доказывать, убеждать, требовать, может быть, орать на него… Видения от девки Синеглазки в его прогностический список категорически не входили.
* * *
Глава 4,
В которой Аркадий Январев соперничает в красноречии с Керенским, Александр Кантакузин спасает Россию вместе с Милюковым, а маленькая разбойница решает свои маленькие проблемы
Дневник Аркадия Январева.
Я – плохой оратор, и всегда был таковым. Причем (что странно) это касается только общественно-политических вопросов. Как врач или эпидемиолог почти гипнотически могу воздействовать на человека или значительную группу людей и полностью практически подчинить их своей воле. Проверено не раз. Что ж это значит с научно-психологической точки зрения? В первом случае я не уверен в своем праве вести за собой людей, а во втором – уверен совершенно? Или (что хуже) я не уверен в самом содержании того, о чем говорю?
Мое выступление на митинге – полный провал. Солдаты только ожесточились. Если бы я не был Знахарем, меня бы, должно, растерзали прямо на месте. Я не уверен в своих словах? В политической программе нашей партии? «Землю – крестьянам. Фабрики – рабочим. Мир – народам. Хлеб – голодным.» Что-то вызывает у меня сомнения? Как будто бы ничего. Ни снаружи, ни внутри. До последней буквы – согласен. Эту войну – ненавижу. Никаких целей, кроме империалистических, ни с одной из воюющих сторон разобрать не могу. В чем же подвох?
Но до чего же хорош Керенский! Странно зыбкая, как будто нервной рябью подергивающаяся фигура, френч, порыжевшие сапоги. Однако каков оратор! Каждое слово – ложь и истерика, а эмоциональный напор таков, что хочется плакать и рукоплескать. Как там было в том стишке, что мне прислал Адам? –
- «…И тогда у блаженного входа
- В предсмертном и радостном сне
- Я вспомню: Россия, Свобода
- Керенский на белом коне.»
Адам пишет, что когда Керенский ораторствует в Петрограде, женщины срывают с себя украшения и бросают ему под ноги вместе с букетами цветов. В письме, каюсь, – не поверил. Теперь – верю, потому что наши солдаты унесли его на руках…
Однако, солдат всегда – себе на уме. Полковой писарь, городской человек, из фабричных, вместе с полковым цензором занимающийся перлюстрацией солдатских писем, мне рассказывал, качая головой: все письма и туда и обратно – один сплошной монотонный вой. Если много прочесть, начинает голова кружиться от тысячи поклонов родным и однообразных жалоб. Страшно на фронте. Страшно тем более, что всем понятно: дольше воевать никому не возможно, скоро все кончится. А вдруг да не дождутся в деревне кормильца, погибнет он от случайной пули или осколка? Отсюда просьбы и даже шантаж в письмах: вот, дескать, кум Демидов прострелил себе ладонь, попал в лазарет, а потом дал мастеру сто рублей, теперь на фабрике работает. А сват Антонов подцепил в госпитале болезнь, с которой на фронт не берут…
Снарядов теперь в достатке, но по обмундированию и питанию дело швах. Сапоги носятся неделю. Вместо суконных гимнастерок – ватные телогрейки. Шинели сплошь из малюскина. Вместо крупы, вермишели и прочего – сплошь чечевица. Ее ведь без специальных ухищрений как съешь, так ею и покакаешь. У нас в полку даже чечевичный бунт был – украинцы-резервисты отказались чечевицу есть, котел перевернули, кашевару бока намяли. Тогда Знахарь помог офицерам всех утихомирить, придумал добавлять в котел с чечевицей соду (органическая химия!) – получается разваристая такая похлебка…
Тогда получилось, а что ж теперь?
Впрочем, повторюсь, солдат всегда себе на уме. Керенского слушают, на руках носят, однако три дня назад шестьсот одиннадцатый полк отказался идти на позиции.
А после в 6–й роте состоялось братание, о котором я как раз говорил в своей неудавшейся речи. Могу ли принять на свой счет? Если посмотреть правде в глаза – вряд ли, просто конвергентное движение материи, как у Адама в письме пример с антилопами.
Вышли из нашего окопа на бруствер три солдата, у одного на штыке – белая тряпка. С австрийской стороны – молчание. Наши осмелели от отсутствия стрельбы, и скоро весь бруствер заполнился людьми, без винтовок. Наконец от австрийцев тоже вышло несколько человек во главе с молодым офицером. Он крикнул по-русски, чтобы трое человек вышли на середину поля между окопами. Туда же пришел и он сам с двумя товарищами. Видно было, как наши и австрийцы пожимали друг другу руки, жестикулировали. Потом все ушли в австрийские окопы. Через четверть часа наши делегаты в сопровождении густой толпы безоружных австрийцев повалили в сторону наших позиций. Метров тридцать не доходя, уселись на землю. Вскоре весь третий батальон присоединился к братающимся. Все вместе, не понимая языка, о чем-то беседовали, австрийцы угощали наших ромом, меняли ножи и еще что-то на сало и черный хлеб. Офицеры донесли в штаб. Там, видимо, растерялись и приказали в братании участия не принимать, а более не предпринимать ничего, занять выжидательную позицию. Часа три продолжалось братание, разошлись по окопам, когда кухни привезли нашим и австрийцам обед. Семен Свиридов, из тульских рабочих, принимавший участие в братании, демонстрировал мне выменянную на хлеб бритву и рассказывал, что австрийский солдат показал ему карточку своей невесты – на взгляд Семена, очень ладной девицы. Жалел, что у него не было с собой карточки семьи – жены и двух ребятишек, он бы тоже австрийцу похвастался.
Что делить между собой этим людям – Свиридову и австрийскому солдату? За что убивать друг друга?
* * *
Ветер гулял по Петрограду жестяной и мусорный, пахнущий углем и мазутом, водорослями и свежим кумачом. Александр очень отчетливо чувствовал все эти запахи – каждый в отдельности – и с угрюмым раздражением ждал, когда заболит голова. То, что заболит – неизбежно, в последнее время на него именно так действовали резкие запахи и звуки. Но причиной раздражения был не только ветер… а что еще? Что не так? Куда делось радостное предвкушение, не покидавшее его всю дорогу из имения в Москву и из Москвы в Питер?
Скорее всего, дело было в том, что он, как многие москвичи, не любил Петербурга и всегда чувствовал себя здесь неуютно. Тем более – сейчас, гнилой прибалтийской весной, на улицах, заполненных хамоватыми оборванцами и чахоточными юнцами и юницами с бессмысленным блеском в глазах… Наверняка среди прохожих случались и другие, в том числе – единомышленники Алекса, исполненные исторического оптимизма, но он почему-то видел только этих.
И еще – мусор, груды, горы мусора… в подворотнях, под стенами, в остатках невского льда, черными комьями прибитых к берегам… В Москве ничего этого не было. Там царил праздник… да – диковатый, безудержный, опасный, но – праздник! А здесь…
Странно, что еще вчера, торопясь с вокзала на Дворцовую площадь, где обживал кабинет новый министр иностранных дел – он ничего этого не замечал… или замечал, но не реагировал.
Здесь занимались делом. Судя по тому, как говорили между собой люди в коридорах здания Главного штаба, каким налаженным, спокойным гулом наполнена была приемная – все шло именно так, как должно. Революция, которая снаружи, за стенами, металась необузданной стихией, здесь являла свой истинный лик нормального, хорошо спланированного порядка вещей. Алекс тут же проникся этой деловой атмосферой, и время ожидания приема пролетело быстро.
Развязывая на ходу папку, где сложены были протоколы партийных заседаний и предложения новому правительству – ценнейшие предложения с мест, за которые Милюков, конечно же, сразу ухватится! – Алекс поймал себя на том, что чувствует себя точно как десять лет назад, перед встречей с профессором Мурановым, с магистерской диссертацией в руках. А войдя в кабинет, сразу ощутил разницу.
Михаил Александрович Муранов историю изучал – давнюю и чужую, Павел Николаевич Милюков – творил, сейчас и свою. А вот внешне они оказались даже похожи, правда, дядя усов не носил, зато очки блестели одинаково, и профили у обоих были гордые, цезарские. И Алекс опять подумал, что направление выбрал верное и пришел именно туда, куда нужно.
– Вы ведь историк?
Вопрос прозвучал посреди вдумчивого шелеста страниц (Милюков читал привезенные бумаги, не тратя времени на дежурные рассуждения) и Александр успел только пожать плечами – министр продолжил:
– Вот и скажите мне честно, как историк историку: что, идея конституционной монархии совершенно невоплотима здесь, в России? Что такого сотворили русские владыки, что меня не желают даже слушать? Ну? Дайте свой взгляд извне. Вы же специалист по западноевропейскому Средневековью?
– Я византинист, – сказал Алекс.
И тут же с горечью подумал, что византинистом и вообще историком перестал быть очень, очень давно. Совсем некстати вспомнились красные ягоды барбариса у стены монастыря Феодора Студита, палящее солнце, ледяная вода из монастырского колодца, пахнущая известью, Элени… Зачем я не остался там, где мое место, – мелькнула, краем сознания, малодушная, тоскливая мысль.
Министр, впрочем, задал ему конкретный вопрос и, кажется, ждал ответа.
– Увы, наши монархи от европейских далеки, – сказал он, снова воодушевившись. – Одно только поведение отрекшейся четы способно отвратить от идеи монархии – любой монархии… Народ не простит им ни глупости, ни, тем более – измены!
Он с удовольствием повторил эти слова сидящего перед ним человека, которые так ему нравились. Но ответного воодушевления почему-то не увидел.
– Да-да, – кивнул министр, слегка поморщившись, будто ему мешал слишком туго завязанный галстук, – так теперь везде говорят. Вы совершенно правы. Летнее наступление, даже победоносное, ничего бы не изменило… Однако теперь нам придется наступать. Так что в Калужской губернии думают о войне?..
Вот тогда-то все и начало рушиться. В эту самую минуту, когда Алекс испытал стойкое ощущение, что сделал что-то непоправимо не то. А что он такого сделал? Всего лишь напомнил об изменническом поведении бывшей императрицы, которое и так ни для кого не тайна. Благодаря Павлу Николаевичу, да.
Есть вещи, о которых лучше не вспоминать. В сущности, ведь неважно, что там на самом деле было. Есть истина, и есть государственная необходимость. В конце концов, революция произошла – именно так, как требовалось, как и было запланировано.
На другой день после визита в Министерство иностранных дел Александр стоял на Шпалерной улице и смотрел на стаю птиц, кружащих над куполом Таврического дворца. Грачи это были, вороны или галки – не разглядеть, но смотрелось чрезвычайно символично. Еще более символично выглядел здоровенный мужик в солдатской шинели, который сидел у дворцовой ограды и, сняв сапог, вдумчиво разглядывал его на свет, рассчитывая, должно быть, увидеть что-то очень важное. Алекс поймал себя на том, что ждет результатов исследования, не сводя глаз с солдата. Солдат опустил сапог, посмотрел на Алекса и засмеялся. Щетинистое лицо пошло складками, как жеваная бумага. Алекс невольно поморщился, отступая.
– Че, сомлел? Сомлел! А нюхни!
Рука с сапогом метнулась к нему. Алекс отшатнулся.
Какие, к черту планы, растерянно подумал он, поспешно переходя улицу. Можно было, впрочем, не стараться – подобные персонажи нынче были кругом в этом городе, который принадлежал им – им, а вовсе не историку с цезарским профилем, поднаторевшему в европейской политике. Алексу вдруг остро захотелось прямо сейчас оказаться… нет, не в Константинополе. В Синих Ключах, дома, среди таких родных нелепостей.
* * *
– Бумажник, дядя, кинь на землю, и иди себе… гуляй дальше…
Два из трех фонарей в переулке не горели. Мутный свет оставшегося расплывшимся бельмом отражался в покосившейся вывеске парикмахера – огромные ножницы таращились голенастым, неожиданно хищным насекомым. Напротив, за оградкой и садиком, над погруженным во тьму особняком поднимался округлый силуэт церковного купола.
Прохожий в добротном штатском пальто, но с военной выправкой, оглядел щуплую мальчишескую фигурку и усмехнулся, брезгливо шевельнув усиками:
– Маленький мерзавец! Да я сейчас тебя…
– Попробуй, дядя.
Мальчишка издал горлом какой-то неопределенный звук и тотчас же рядом с ним появился и угрожающе зарычал крупный пес с острыми стоячими ушами.
– Убийца, – ласково отрекомендовал лохматого приятеля мальчишка. – Привык по человечинке работать. Кидается и сразу горло рвет. Не всегда и удержать возможно. Так что ты уж, дядя, поторопись…
Прохожий, надо отдать ему должное, не растерялся. Медленно отступая назад, нащупывая подошвами брусчатку, он размеренно и четко произносил слова:
– Я тебя, чертово отродье, сейчас в милицию сдам, и уж там-то тебе бока намнут как пить дать. И в кутузку посадят. А пса твоего следует пристрелить немедленно, и так оно, уж ты мне поверь, вскоре и случится. Нынче осмелели хамы, повылазила всякая сволочь, которая прежде и пикнуть не смела, что на двух ногах, что на четырех, но это недолго продлится…
– Милиция? – усмехнулся мальчишка. – Да где же она? Студенты да присяжные поверенные станут мне по твоей указке бока мять? (Весной 1917 года постановлениями Временного правительства были упразднены корпус жандармов и Департамент полиции, а полиция заменена «народной добровольной милицией» – прим. авт.). Как ты есть, по всему видать, бывшее ваше благородие, а я – за революцию всей своей босяцкой душой? Ау, милиция! Не видать что-то… А впрочем, ты, дядя, во всем прав, кроме одного: ходу тебе назад больше никакого нету.
В этот момент позади отступающего по переулку прохожего раздался негромкий, но страшный звук. Человек резко обернулся и, отпрянув, вздрогнул всем телом. Шагах в пяти от него, повернувшись боком, стоял на высоких напружиненных ногах второй пес и, подняв загривок, жарко клокотал горлом.
– Кошель на землю! – зло крикнул мальчишка. – И еще часы! За то, что отродьем обозвал!
Прохожий колебался.
– Давай, шевелись! Жизнь дороже! – прикрикнул воришка. – Надоело мне тут с тобой разговоры разговаривать. Кликну сейчас своим псам, они тебя вмиг на клочки порвут…
Собаки, чувствуя напряжение людей, дрожали от возбуждения, косили глазами, капали слюной. Мужчина видел, что полудикие звери вот-вот могут напасть на него без всякой команды мальчишки, просто для разрешения ситуации.
Медленно, цедя сквозь зубы бранные слова, он вынул из кармана кошелек, отстегнул часы. С силой бросил на мостовую, с явной надеждой – разбить.
– Ходи теперь, дядя, путь свободен, – сказал мальчишка, подозвал к себе второго пса и, сняв шапку, вытер ею шею и вспотевший лоб.
Прохожий с изумлением увидел упавшие на плечи тощеватые косы.
Так его ограбила девчонка!
– Черт бы тебя побрал! – от всей души воскликнул он.
– Истинно говоришь, дядя! – рассмеялась девочка, оглаживая собак. – Все мы не ангелы и всех нас черти поберут, рано или поздно… Но я уж постараюсь им попозжее в лапы попасться…
Шагнула в сторону – и пропала вместе со своими псами. Под апрельским ветром качнулся фонарь, ржавый свет пополз по булыжнику. Из глубины квартала, из подвалов и подворотен долетел до прохожего запах сырой весенней гнили и обрывок песни – очень возможно, самой что ни на есть революционной.
* * *
Единственное окошко полуподвальной каморки в трактире «Каторга» украшала застиранная кружевная занавеска, а стену – зеркало с бумажными цветами и картинка из журнала «Огонек». Словом – нумер-люкс для избранных клиентов.
– Лешка, ты меня должон вспомнить! Должон, я тебе говорю! – девочка из давешнего переулка присела на корточки и потрясла за плечо не то мертвецки пьяного, не то накокаиненного парня, полулежащего на грязной подушке. По его длинной ноге, свободно вытянутой вдоль кровати, деловито бежал крупный таракан. – Ишь, нашел себе шоссе! Кыш! – девочка смахнула насекомое и несильно похлопала ладошкой по сероватым щекам парня. Темные расширенные зрачки колыхнулись в голубоватом студенистом белке и наполовину выкатились из-под век. – Я – Атька, одна из Люшиных близнецов-приблудышей. Мы все здесь, на Хитровке, в доме Кулакова жили. Атя и Ботя – помнишь?
– А где Люшка теперь? – парень сел на кровати, опираясь на руки, и взглянул почти осмысленно. – Померла? И брат твой помер?
– Типун тебе на язык! Живы оба. Люшика нынче живет помещицей в Калужской губернии, замужем, зовется Любовь Николаевной Кантакузиной, а Ботька в гимназии учится, чтобы потом червяков в университете изучать.
– Важнецкое дело червяки, – утвердил Лешка и потряс лохматой головой. – Котелок трещит. Подай-ка мне вон тот ковшик, там ханжа (Ханжа – разведенный денатурат с различными добавками, вошедший в широкое употребление с началом Первой мировой войны и объявлением в России «сухого закона». Хитровка особенно уважала ханжу на клюквенном квасе – прим. авт.) должна быть… Нету? А в бутыли на полу? Тоже нету?! Выжрали все, сволочи, и разбежались! Убью гадов… О-о-о!
– Лешка, а погляди-ка, что у меня есть! – девочка подмигнула парню и показала ему из-за пазухи запаянную сургучом головку бутылки.
– О-о-о! Неужто настоящая, довоенная?! Ты, Алька или как тебя там, – моя спасительница! Давай сюда! – Лешка протянул к девочке трясущуюся руку.
Атя шустро отскочила к колченогому столу, залитому чем-то липким.
– Э-э-э, нет! – воскликнула она. – Сначала пообещай, что сделаешь, чего я тебя попрошу.
– Что тебе надо?
– Мне надо в Петроград ехать. И чтобы ты или твои ребята мне достали билет или так просто в поезд посадили. Деньги у меня есть, но билета мне не продают, а вагоны все солдатами забиты. Я уже три раза внутрь почти пролезала, и все три раза меня выкидывали… Последний раз руку едва не вывернули и зуб откололся…
– Понял, – сквозь зубы сказал Лешка, скрючившись и придерживая голову обеими руками. – Уедешь, обещаю. Давай водку!
– Спасибочки тебе, ага, сейчас… И еще, пока я в отъезде, я тебе собачек своих на подержание оставлю, а то мне с ними в столицу ехать несподручно. Они хорошие собачки, полезные, и пропитание себе сами добывать умеют… Трактирщик-то их не хотел пускать, и в «нумера» особенно, да они своей волей пришли… Вон, погляди, сидят…
Лешка Фомка, молодой, но уже довольно известный по Москве вор-домушник, осторожно скосил глаза и жалобно застонал – два крупных пса умильно смотрели на него, раззявив жаркие пасти и капая слюной на посыпанный опилками пол.
– А вот и наша водочка родная! – ласково пропела Атя, ловко сшибла головку и с улыбкой протянула вору уже открытую бутылку. Живительная влага потекла в глотку, и в этот миг Лешка окончательно поверил в то, что перед ним действительно Люшина воспитанница, выросшая из когда-то найденного на помойке младенца.
* * *
Поезд мчался в рассвет, оставляя за собой облако розового пара.
Атя сидела, свернувшись в клубочек, в углу верхней полки, и глядела любопытными бессонными глазами. Оставшееся место на ее полке занимала крупная женщина и жареный гусь, которого она везла в Петербург на свадьбу старшего сына – фабричного мастера. Гусь был зажарен отменно – все пассажиры, которые по своим делам пролезали мимо купе через наваленные корзины, мешки и баулы, замирали и подолгу крутили головой и шевелили ноздрями, насыщаясь чудесным праздничным ароматом. Сейчас женщина спала, плотно прижимая к себе завернутого в тряпку гуся, и ее кофта насквозь пропиталась жиром. «Зато не сопрут!» – объяснила она Ате перед тем, как заснуть. Нога женщины то и дело свешивалась вниз, и тяжелый разбитый ботинок повисал прямо перед физиономиями нижних пассажиров – немолодой пары мещанского вида, водрузивших опухшие лодыжки на два одинаковых мешка (ездили в деревню менять вещи на продукты), и молодого прапорщика. Прапорщик был из захудалых, последнего поскреба – в солдатской шинели, с нарисованными чернильным карандашом полосками на погонах. Крестьянин или фабричный, звание явно получил за храбрость. Вставая и закидывая ботинок вместе с теткиной ногой на полку, прапорщик чуть слышно шипел и отворачивался – Атя догадывалась, что крепкий гусиный дух раздражает его голодный желудок: все пассажиры поезда что-нибудь да ели в пути, а прапорщик только пил несладкий кипяток из мятой, но надраенной кирпичом жестяной кружки. На второй верхней полке ехала мать с двумя детьми. Старший мальчик время от времени заходился во сне нехорошим кашлем. На нижней полке напротив на трех свернутых бурках высоко и неподвижно сидели три одинаковых кавказца и из-под сросшихся на низких лбах бровей смотрели прямо перед собой незрячими орлиными глазами.
Встав на карачки и свесившись вниз, Атя подмигнула прапорщику и протянула ему кусок хлеба из взятых ею в дорогу припасов:
– Бери пока. Вот тетка еще глубже заснет, так мы с нее платье ножичком и срежем, – тихо сказала она.
– Зачем это?! – одними губами спросил молодой человек и покраснел.
– Возьмем кипятку на станции и супец сварганим, – усмехнулась Атя. – Жиру там достанет…
Поезд резко затормозил и Атя, не удержавшись, кубарем скатилась с полки. Прапорщик неожиданно ловко поймал ее. Очутившись на коленях у молодого человека, Атя пошевелилась и, смеясь, взглянула прямо ему в лицо:
– Уж извиняйте меня!
– Завсегда к вашим услугам, мамзель, – улыбаясь крапчатыми глазами, галантно сказал прапорщик.
– Это кстати. Я Петрограда вовсе не знаю, а мне там надо будет одно место отыскать. Вы поможете мне?
– Даже не сомневайся. Всем, чем смогу.
– Ой-ей-ей, ты осторожнее меня держи, а то я щекотки боюсь…
– Я стараюсь, мамзель, простите…
От молодой, теплой и смешливой возни на полке сделалось нестерпимо тесно, но мещанин не решился отослать Атю наверх и жестом запретил то же жене. Уж больно недвусмысленные люди на своих плечах сажали девчонку в вагон. Кто-то будет ее встречать?
Поезд снова дернулся, набирая ход, с полки с грохотом свалилась нога гуседержательницы и начала угрожающе покачиваться. Видя, что прапорщик занят и не собирается отвлекаться, мещанин, кряхтя, поднялся со своего мешка, с трудом запихал ногу назад и вытер пальцы клетчатым носовым платком. Удивительным образом платок тоже сделался жирным – гусь продолжал распространяться в вагонном пространстве. Его жена, отвернувшись, бездумно уставилась в окно, за которым сперва медленно поплыли, а потом веселым частоколом замелькали березки в нежно-зеленом пуху.
* * *
Глава 5,
В которой маленькая разбойница приезжает в революционный Петроград, занимается своими делами и попутно знакомится с культурной жизнью столицы
В редакции было, как всегда, шумно и неприютно, хлопали двери, сквозняк таскал по комнатам облака папиросного и махорочного дыма.
– Ну здравствуй, что ли, Сарайя.
Максимилиан Лиховцев оторопело взглянул на невысокую девочку, которая, усмехаясь, стояла перед ним, подняв узкие плечи и по-мальчишески сунув руки в карманы синего ватерпруфа. Из залоснившегося воротника торчала тонкая грязная шея. На голове – кокетливая голубая шапочка с красным революционным бантом, на руках высокие лайковые перчатки, бывшие когда-то белыми. Что за чучело? … При всем том лицо девочки и особенно круглые беличьи глаза казались знакомыми, напоминали о чем-то давнем и сладко-болезненном…
– Анна! – ахнул он наконец, признав в девочке воспитанницу Любовь Николаевны Кантакузиной. – Как ты сюда попала?! Что ты делаешь здесь, в Петербурге? С Любовь Николаевной все в поря…? Что с Любой?! Да говори же!!!
Услышав истерические нотки в голосе главного редактора сотрудники журнала «Мысль» мигом бросили свою работу и заклубились небольшим роем. У всех внезапно образовалось к Лиховцеву неотложное дело, и также внезапно появились в руках сопровождающие это дело бумаги, которые срочно требовалось передать в отделенный высокой аркой и отгороженный шкафом эркер, заменявший Максу кабинет.
Любопытство сотрудников было объяснимо вполне: то, что тридцатипятилетнему Максимилиану Лиховцеву – вождю московских символистов, поэту, писателю, журналисту, редактору эт цетера – исторически невозможно было приписать ни одного полноценного романа с женщиной или мужчиной… В определенных кругах это тянуло на скандал не меньший, чем революция или заключение сепаратного мира с Германией. Так, может быть, ему нравятся уличные малолетки?
– Люшика дома, в Синих Ключах, с Алексан Васильичем, – сказала Атя и вытерла перчаткой короткий подтекающий нос. – А нас с Ботькой в Первопрестольную отправили, в гимназии учиться. Ботька и по сей день учится, а я сбежала – не по душе мне енто дело пришлось.
– Но почему же ты не вернулась в Синие Ключи?
– А на воле погулять? – Атя пожала плечами. – Кто ж откажется? Зато я всю революцию, от начала до конца, вот как вас сейчас видала…
– Это важно, – соглашаясь, кивнул Макс. – Ты голодна?
– Конечно, я всегда есть хочу. Да и задарма… – простодушно ухмыльнулась Атя.
– Мира, принеси, пожалуйста, что у нас там осталось! – крикнул Лиховцев шкафу, не сомневаясь, что его услышат. – А после я должен буду идти… Ты ведь пойдешь со мной? – Максимилиану хотелось увести девочку подальше от любопытных глаз и ушей.
С тарелкой, на которой лежали три темные печенины и две картошки (одна из них – надкусанная, на ободке насыпано чуток соли), явился из-за шкафа спортивно-театральный обозреватель журнала, одетый в клетчатый пиджак и персиковые гамаши:
– Вот, извольте. И еще: я дико извиняюсь, но там в прихожей защитник отечества интересуется, долго ли еще мадемуазель, и следует ли ему…
– Ты приехала не одна? Тебя кто-то ждет? – быстро спросил Макс.
– Да с поезда попутчик, – равнодушно ответила Атя. – Скажите ему там: пусть идет, куда ему надо.
– Ах, ветреное девичье сердце! – покачал головой корреспондент. – Вы о нем позабыли, а у молодого человека такой вид, как будто он мысленно уже представил вас своей деревенской мамаше, и вы с ним сходили под венец, получили землю революционным декретом, родили полдюжины детей, купили вторую корову…
– Ну, сейчас вы ему скажете, и он меня быстренько похоронит на взгорке над деревней, – подхватила Атя. – Всплакнет над могилкой, усаженной ромашками и отправится спокойненько по своим делам – какой-то ему там крестьянский съезд нужен…
– Ваш попутчик – солдатский делегат крестьянского съезда?! Боже, какая удача! – журналист буквально подпрыгнул на месте и с криком. – Зяма, беги сюда, сейчас я сделаю тебе нечаянную радость! – скрылся из виду.
– Сарайя, скажите мне наперед всего: вы нынче счастливы?
Этого вопроса Лиховцев не ожидал. Дернул светлой бровью, взял с тарелки картошку, повертел ее в пальцах, откусил.
– Что считать счастьем…
– Не виляйте, как хвост собачий, – невнятно прикрикнула Атя, с хрустом разгрызая жесткое печенье. – Говорите как есть.
– Допустим, так: совершенно счастливым я себя назвать не могу, но мы живем в эпоху перемен и потому жизнь моя наполнена интересными для меня событиями. Ты понимаешь?
– Понимаю, – кивнула Атя. – А вы картошку есть больше не будете? Можно, я доем?.. Да мне плевать, что надкусанное, у вас же сифилиса небось нету…
– Но почему ты так спросила? Мы давно не виделись, я тебя в нынешнем обличье с трудом узнал…
– Если вы счастливы, так я зазря и ехала.
Максимилиан с трудом сглотнул внезапно скопившуюся во рту слюну, дернул шеей и сказал решительно:
– Поела? Тогда – пошли! Мне все равно сейчас надо уходить на заседание…
– В-с-с! – Атя разочарованно присвистнула и опустила плечи. – Так вы тоже на заседания ходите, как Алексан Васильич? Ну, тогда все пропало…
«Что пропало? Что?!» – Максу хотелось закричать и затрясти девчонку так, чтобы зубы застучали.
– А у вас чего заседание?
– Я член временного комитета «Союза деятелей искусств». И я, кажется, сказал тебе: идем, я уже опаздываю!
На улицах Атя с любопытством крутила головой. Мимо проехал огромный, плотно набитый людьми автомобиль с царскими гербами. На его крыльях и просторных подножках лежали вооруженные матросы. Красный флаг судорожно трепетал и бился о древко. Вокруг каменной тумбы у наглухо запертых ворот шел летучий митинг. Человек с клочком бороды и в пальто с оторванным хлястиком надсадно кричал о свободе и войне до победы. Его слушали угрюмо.
В переулке прозвучало несколько выстрелов. Атя, не отводя взгляда от уличной жизни, сунула свою холодную ладошку в руку Макса. Лиховцев успокаивающе пожал тонкие сухие пальцы и подумал, что не ходил ни с кем за руку со времен хороводов на детских рождественских утренниках. Всю дорогу он ждал, что девочка заговорит, но она молчала.
Пришли в Академию Художеств. Каменные коридоры лабиринтом, огромные холодные залы. К Максу обратились сразу пять человек по пяти разным неотложным вопросам. Атя отступила вбок и сделалась незаметной. После начала заседания он сам, почти наощупь, нашел позади себя ее руку, посадил девочку рядом с собой и иногда шепотом объяснял ей, кто есть кто.
– Необходима комиссия по охране памятников старины!
– Старый мир рухнул под собственной тяжестью, потому вношу встречное предложение: создать комиссию по планомерному разрушению памятников искусства и старины!
– Это Лев Бруни, художник…
– Под Гатчиной крестьяне разрушили уникальный архитектурный ансамбль, помещичья усадьба 18 века, нужно обеспечить…
– Помещики были богаты, от этого их усадьбы – произведения искусства. Помещики существуют давно, поэтому их искусство старо. Защищать памятники старины – значит защищать помещиков. Долой!
– Это Осип Брик, поэт.
– Только через мой труп Маяковский войдет в Академию, а если он все-таки войдет, я буду стрелять!
– В себя стрелять? – тихо, округлив глаза, уточнила Атя. – Чтобы этот Маяковский вошел через его труп? А можно его попросить, чтобы он заодно и Осипа Брика застрелил? А то он мне что-то не понравился…
– Жена Брика – любовница этого Маяковского, – зачем-то сказал Ате Максимилиан.
– Так ему и надо! – обрадовалась Атя.
– Революции разрушают памятники искусства. Надо запретить революции в больших городах, богатых памятниками, как например, Петербург. Пускай воюют где-нибудь за чертой и только победители входят в город.
– Это Федор Сологуб, писатель.
– Надо же, такой старый, а умный.
По правой стороне Спасской улицы длинный пятиэтажный дом, разделяемый по фасаду вертикалями эркеров, увенчанных балкончиками под жестяными зонтиками-навесами. Третий этаж. Влажная прохладная комната с высокими потолками, четыре закругленных шкафа, отделанных фанерой из карельской березы, восьмиугольный опустелый стол, кресла, накрытые чехлами.
– Эту квартиру мне до времени уступил приятель, поэт, он сейчас в Тифлисе, а мне отсюда до редакции ближе, трамваи плохо ходят… Есть хлеб, чай и, кажется, кусок пирога с морковью…
– Сарайя, а где вы здесь спите? – оглядываясь, спросила Атя.
– Вон там, на полу, у окна на матраце. Когда я утром открываю глаза, сразу вижу небо и слуховое окно дома напротив. Иногда оттуда выходит белая кошка. Она умывается и наблюдает за голубями…
– Она скоро опять в никуда сбежит, или еще что-нибудь такое сделает…
– Кто – кошка?
– Люшика. У нее глаза белые, как лошадь Белка, и по ночам она не спит уже давно.
– А что же Александр, ведь он ее муж…
– Александр Васильевич с княгиней сошелся, доктор Аркаша на войне погиб, а Степан, Агафонов отец, вроде и живой, да пропал неведомо куда. Так, кроме вас, Сарайя, никого не осталось, с кем бы она стала говорить и кого услыхать может…
Максимилиан надолго задумался. Атя не торопила его, встала к стене и как будто слилась с синими обоями.
– Анна, я тебе верю, но рассуди сама: как оно может быть? Вот я бросаю журнал, приезжаю в Синие Ключи, врываюсь незваным в семейный дом с детьми, хозяйством, матерью-отцом, слугами-няньками – и что же? Я ведь даже не врач…
– Вам решать, Сарайя. Я так вижу: Люшика ради всех держится сейчас из последних сил, но если она снова синеглазкиным чарам поддастся, так и нам не видать ее больше, и в Синих Ключах все разом кончится…
Максимилиан выдохнул сквозь зубы и отвернулся к окну – так, будто ждал последнего совета от белой кошки из дома напротив. Но кошка, увы, как раз именно сейчас и не вышла на крышу.
* * *
Глава 6,
В которой эсеры принимают резолюцию, крестьяне настроены решительно, а Любовь Николаевна Кантакузина едет в Петербург и весьма оригинальным образом оплачивает необходимую ей информацию.
– Социал-демократам мы протягиваем левую руку, потому что правая наша рука держит меч!
Весеннее солнце млело в окнах, заставленных геранью, ходики на стене скреблись тихо, почтительно – будто не решались вмешиваться своим стуком в ход революционного собрания. Хозяин, торбеевский почтовый служащий, точно так же робел и тихо сидел в уголке, внимая ораторам.
– А если отбросить пафос? Товарищ Головлев пришел к нам не выслушивать лозунги, а с рассказом о том, что происходило на третьем съезде нашей партии.
Высокий нескладный человек с необычного цвета волосами – палая осенняя листва, схваченная инеем седины – оперся руками на покрытый вишневой скатертью стол. Висячая лампа осветила его высокий лоб, покрытый мелкими капельками пота.
– Вы все знаете, что между вторым и третьим съездом партии социалистов-революционеров прошло десять лет. Еще три месяца назад наша партия существовала в скелетообразном состоянии, в виде сети немногих нелегальных групп. Сейчас ситуация изменилась разительно – вернулись из-за границы лидеры партии со своим окружением, прибыли ссыльные, проявили себя «бывшие эсеры», в годы реакции ушедшие из политики в частную жизнь. Кроме того, привлеченные здравостью и актуальностью нашей программы, к нам хлынули массы новообращенных. Ни одна партия не растет сейчас так бурно, как наша, что, разумеется, не может не радовать, но одновременно создает определенные проблемы. Фактически на съезде нам пришлось заново знакомиться друг с другом, уточнять позиции. В результате в партии выделилось активное левое крыло, немногочисленное правое, стоящее за продолжение союза с кадетами, и компактный центр, охватывающий основную массу партийцев.
Только после долгих дебатов удалось принять устраивающие все фракции резолюции о войне и мире и об отношении к Временному Правительству. Мир без аннексий и контрибуций…
– Касательно земли у нас все интересуются, – громко прервал говорящего опирающийся на палку бородатый мужчина в наброшенной на широкие плечи солдатской шинели. – Потому милостиво просим – наперед всего скажите, что порешили на съезде про землю?
– Главнейшая задача, решения которой будут добиваться наши делегаты в правительстве – это приостановка земельных сделок и формирование земельного фонда, за счет которого может быть увеличено трудовое землепользование и переход частновладельческой земли на учет земельных комитетов, призванных на местах участвовать в создании нового земельного режима.
– Мудрено, – покачал головой мужчина в шинели. – Но не совсем понятно. Помещики на своей земле, как сеяли, так и убирать будут? А крестьяне – на своих обрывках, да с кормильцами на фронте? Или все-таки к уборке какое-то движение о мире и земле будет?
– Всею душой надеюсь, что будет.
– А как же министры-капиталисты? – задорно спросил молодой курносый человек в студенческом мундире. – Им-то небось нож острый – помещичью землю мужикам отдать?
– Люди, вошедшие от нашей партии в правительство, сделают все от них зависящее для немедленного начала аграрной реформы и, я верю, достигнут успеха. Ибо по твердости духа они сродни древним римлянам…
– Это как?
– Возьмем Николая Семеновича Чхеидзе, – рыжие глаза Головлева вспыхнули огнем искреннего восхищения. – человека, наделенного редким и поистине бесценным даром: совестливостью ума. Во время переговоров нашей контактной комиссии с Временным правительством его вызвали к телефону и сообщили, что его младший любимый сын чистил оказавшееся заряженным ружье и застрелился. (действительный факт из биографии эсеровского лидера – прим. авт.) С древним стоицизмом товарищ Николай заключил в себе душевную бурю и остался на посту. Слишком огромны были в его глазах стоящие на повестке дня вопросы революции, чтобы он мог позволить себе позабыть о них и погрузиться в собственное горе. Большинство из тех, кто продолжал переговоры, даже не подозревали о случившемся, настолько ему удалось силой воли подавить в себе все личное – ради общего, ради революции…
Солдат-инвалид что-то непонятно пробормотал себе в бороду, но студент, вступивший в партию социалистов-революционеров всего месяц назад, слушал завороженно и явно мечтал о революционных подвигах. Будто заразившись его энтузиазмом, из часов на стене выскочила деревянная кукушка и бодро подала голос.
* * *
– Да ты не мямли, кум, ты толком скажи: можно самим помещичью землю брать или не можно? Есть такое революционное разрешение?
Мужики, собравшиеся у огорода под березой, притихли, ожидая ответа. Петух, что исследовал влажную после дождя весеннюю травку, тоже замер – на одной ноге, вскинув высокий гребень, в сомнении, продолжать ли начатое дело или убраться от греха.
– Так я сам не понял… – давешний мужик-солдат поскреб в бороде расплющенными пальцами, желтыми от махорки. – Решают там наверху…
– Доколе ж оно будет? Землица-то вот она… она же, как баба, ухода требует и рожать ждать не станет… – на грубом лице говорившего явственно отражалась ярая долгая страсть и даже похоть. – Землица помещичья вот, тучная, теплая, руки с мозолями ждет… вроде и близко, а не дается… Неужто и мы, как и деды наши, так и помрем, ее не коснувшись, борозды по ней, родимой, не проведя?.. А к тому все идет… Замнут дело, договорятся меж собой, как в девятьсот шестом году было, и опять все по-прежнему. А мужик только шею под ярмо, да спину под батоги, да грудь под пулю подставляй. Уж если ты – на фронте побывал, грамотный, председатель нашего крестьянского комитета – не понял, значит нет у них наверху никакого решения, и надо мужикам самим свое дело решать.
– Да как же решать?
– Да вот хоть как в соседнем уезде… слыхал, небось? Но сначала поразмяться надо, решалку мужикам отрастить. Есть тут у нас со сватом одна задумка…
Отчего-то окончательно растревожившись и созвав кур, петух поспешил таки увести их подальше. Двор опустел; низкие облака повисли над ним в безветренном небе, цепляясь за верхушку березы и набухая понемногу новым дождем.
* * *
Посвистывали птицы за окном, солнечные зайчики перепрыгивали с натертого паркета на стекла шкафов, где книги стояли в строгом порядке, заведенном, кажется, еще в позапрошлом веке дедом покойного Осоргина.
– Люба, ты помнишь моего дядюшку, профессора Михаила Александровича Муранова?
– Разумеется, помню. Он нам на свадьбу античные вазы подарил, в них так хорошо сухой камыш смотрится, да и… сколько там Валентину-маленькому исполнилось? – чуть меньше двух лет получается, как мы с твоим дядей и Валентином-большим в Марыськином трактире обедали. А что с ним случилось-то? Заболел? Умер?
– Нет, дядя, слава Богу, жив, но… Я навещал его, когда был в Москве и, представь, он форменным образом голодает! Похудел, осунулся, едва передвигает ноги. Я, конечно, расстроился, ведь он, в сущности, единственный мой живой старший родственник, с которым я поддерживаю отношения, к тому же именно он когда-то разбудил во мне интерес к истории… Я стал его расспрашивать, потом дал денег дворнику, провел небольшое расследование, и вышло, что прислуга, ссылаясь на дороговизну и на то, что продуктов в Москве не достать, дядю попросту обкрадывает и объедает. Мало того, что эта баба сама поперек себя шире, так она за дядин счет кормит свою больную сестру и своего любовника-дезертира…
– Ты ему сказал?
– Конечно. Посоветовал выгнать воровку к чертовой матери.
– А он что?
– Он сказал, что уже привык к ней. Она никогда не трогает его бумаги, аккуратно сметает пыль с коллекций, приносит хоть какую-то еду, и он не понимает, где сейчас можно найти другую прислугу.
– Пусть ходит обедать в Марысин трактир. Я напишу ей письмо, и он быстро поправится.
– Увы, он не сможет! Это противоположный конец города. Дядя сильно не молод, трамваи ходят из рук вон плохо, а извозчиков нынче не достать. И еще он говорит, что в период революций население всегда испытывает трудности и лишения. Наибольшее количество лишений закономерно приходится на долю той группы, которая прежде была привилегированной, бесконтрольно пользовалась всеми благами и тем самым создала предпосылки к социальному перевороту. Профессора-историки, не производящие прибавочного продукта, по всей видимости, относятся к этой революционно-уязвимой категории. Я просто на время потерял дар речи: эдакое исторически-философическое обоснование вороватости собственной кухарки…
– Что ж, по-своему он прав, – Люша кивнула головой. – Мне твой дядя всегда казался с виду довольно умным…
Александр саркастически поднял бровь. Что бы его жена, никогда в жизни не учившаяся не только в университете, но и в школе, понимала в науке!
– Да он один из самых видных российских ученых в области…
– … но все-таки дураком, – закончила женщина. – Закономерности социальных преобразований вовсе не требуют того, чтобы конкретный человек по их поводу совал голову в петлю или помирал от голода.
– Ты безусловно права, но переубедить дядю я не смог, – вздохнул Александр, сделал последнюю пометку в конторской книге, аккуратно вложил закладку и захлопнул ее. – Если тебе что-то понадобится, я до трех часов буду в конторе, а потом мы с Юлией пойдем на прогулку. Она хочет собирать цветы…
Мужчина уже перешагнул порог кабинета, когда его настиг удивленный возглас жены:
– И что же, Александр, – это все?!
– А в чем дело, Люба? – он оборотился к ней и одним взглядом охватил ее небольшую фигурку (где-то в глубине шевельнулась привычная неопределенная боль: не было, но могло бы быть). – Мы разве собирались обсудить что-то еще? Напомни мне и прости, если я забыл…
– Да этот твой дядя-профессор… Ты же сказал, что он тебе дорог и все такое…
– Ну да. Но что же я могу еще сделать? Поселиться с ним в Москве, стоять в очередях и варить ему кашу?
– Ты не можешь? Ладно. Тогда я сама захвачу его на обратном пути. Когда кончится социальный переворот, он сможет вернуться в свой университет.
– Ты хочешь пригласить Михаила Александровича в Синие Ключи?
– Ну разумеется. Не оставлять же светило российской науки дохнуть от голода! На этой территории достаточно моих сумасшедших родственников. Всего один твой, пожалуй, добавит в картину равновесия. Ты рад?
– Гм-м… Да, конечно. Я сам просто не подумал, и не хотел доставлять тебе хлопот…
– Помилуй, Александр, да ты сам-то себя слышишь? Какие хлопоты?! Милый, поросший исторической плесенью дядюшка, по сравнению с твоей княгиней-кузиной-любовницей… впрочем, ее Герман такая милашка…
– Люба… я… ты… Послушай, а тебе Герман действительно кажется милым? Я буквально содрогаюсь от отвращения каждый раз, когда его вижу. Удивительно, как этот урод вообще остался в живых…
– В каждом есть что-то красивое, – пожала плечами Люша. – У Германика волосы как топленые сливки. А глаза…
Александр напрягся. Юлия неоднократно говорила ему, что глаза сына напоминают ей пропавший во время пожара 1902 года алмаз «Алексеев», который еще прежде того юный Кантакузин показывал ей тайком от Любиного отца.
– … а глаза ярко-желтые и прозрачные, как хороший анализ мочи, – безмятежно закончила Люша.
«Здравствуй, дорогой Аркаша!» – выдохнув, издевательски процитировал про себя Александр, вспомнив о письмах, которые его жена уже несколько лет пишет погибшему на фронте врачу Арабажину.
– Тьфу ты!.. Люба, но что значит в твоих словах «на обратном пути»? Ты куда-то собралась?
– Да. Я еду в Петроград.
– Это невозможно. Ты знаешь, что сейчас делается на железных дорогах? И с кем останутся дети? И все эти хозяйственные пертурбации, которые ты самочинно затеяла? Ты хочешь теперь бросить их на меня? В Петрограде сейчас может быть опасно…
Он чувствовал, что начинает паниковать, и она видит это, и все понимает… хотел, но не мог остановить себя. Ведь вот сейчас она уедет и исчезнет во взбаламученной войной и революцией стране и мире… растворится, как утренний причудливый сон… так уже бывало… Но разве ее исчезновение не решит все их с Юлией проблемы? Они, наконец, смогут жить вместе в Синих Ключах так, как они когда-то об этом мечтали, без всякой идиотской двусмысленности. Он должен радоваться и желать ей доброго пути…
– Я в принципе не могу общаться с твоим Кашпареком, а твой хвостатый племянник меня ненавидит и строит пакости, где только возможно, если ты исчезнешь, я его просто прибью…
– Успокойся, Александр! – Люша подняла ладонь, останавливая поток его слов, которые он уже почти не контролировал. – Я не собираюсь никуда исчезать. Просто в Петрограде нашлась наша Атька. Лиховцеву удалось мне телефонировать, она у него. Теперь надо поехать и забрать ее оттуда.
– Анна нашлась у Макса? Что за дичь?! Она здорова? И почему – в Петрограде?!
– Ничего не знаю. Вернусь – расскажу.
– Но может же кто-нибудь…
– Ни с кем, кроме меня, Атя, скорее всего, не поедет. А поедет, так потеряется по дороге. Да это все и кстати. Я давно хотела увидеть море…
– Что?!
– Море. Я никогда его не видела. Только один раз, давно, и это не считается, потом что оно было подо льдом. Но я знаю, что мне это нужно и… Александр, не трать больше времени на уговоры, ладно? У меня в носу щекотно, когда ты такой…
– Когда я такой, тебе… – Александр положил загорелую руку на горло, туда, где горничная Настя утром повязала ему зеленый шейный платок. – … тебе хочется плакать?
– Нет – чихать! – рассмеялась Люша. – Когда в носу щекотно – люди чихают! Иди, собирай с Юлией цветы. И не забудьте сплести Герману веночек. Ему очень идет, и он любит ромашки и короставник. Жевать.
Александр наклонил голову, привычно соглашаясь выполнять ее распоряжение. За окном слегка потемнело – облако набежало на солнце, и солнечные зайчики пропали из кабинета, впрочем, совсем ненадолго.
* * *
– Я его чувствую.
Листва серела. Город, как водой, залит тусклым светом. Стены домов слабо светились перламутром.
– Оно где-то рядом.
– Пойдемте к яхт-клубу.
У причала сонно поскрипывали яхты. Маленькие зеленоватые волны лизали сваи. Она невыносимо долго стягивала перчатку с руки. Ему хотелось разгрызть ее зубами. А потом еще трепать, рыча и мотая головой, как собака. Казалось, что только так он сможет выразить сразу все обуревающие его чувства и получить сразу все удовольствия.
– Люба, вам нравится Петербург? Вы ведь первый раз видите белую ночь…
– Он совершенен и это почти угнетает. Перламутровое совершенство времени и пространства, как внутри раковины. Хочется гладить пальцем и трогать языком.
– Какое странно эротическое отношение…
– Конечно. Невозможный, почти сверхъестественный подарок для обычного человека – ходить белой ночью в сиреневом тумане и – любить.
– Но Москва?.. Я думал, она вам ближе и будит больше чувств…
– Вот странно было бы… Петербург – самец. Москва – самка. Я же к сапфической любви не склонна… А вы, Адам?
– Петербург невозможен, как алгебраическая задача, не имеющая решения, но все же существующая. Я хотел бы ненавидеть его, тогда, быть может, это избавило меня от многократных и мучительных попыток все же задачу разрешить… Где вы остановились?
– Нигде. Могла бы, наверное, напроситься к Альберту Осоргину, старшему сыну покойного Льва Петровича. Но я его не извещала о своем приезде. Вы что-то имеете предложить, Адам?
– Я знаю небольшую гостиницу здесь неподалеку, на Малом проспекте. Ее хозяин обязан мне и примет нас… то есть, я хотел сказать вас, Люба…
– Но почему же не «нас»? – она куталась в светящиеся сумерки, как в дорогой мех. – Мы давно не виделись, нам есть, о чем поговорить… Если только ваша жена не будет слишком волноваться…
– Я допоздна работаю в лаборатории и часто ночую в клинике, мои домашние привыкли и даже одобряют это. Сейчас ходить ночью по улицам может быть опасно…
– Опасно? – она тихо засмеялась своим странным и жутковатым смехом. – И почему мне кажется, что сейчас главная опасность для вас на этой улице – я сама?
Он зажмурился и сжал холодными пальцами ее локоть, разворачивая ее к себе. Она с готовностью поднялась на цыпочки и уже прямо в его темные и горячие губы попросила:
– Но ведь мы завтра съездим к настоящему морю?
* * *
Морковный отсвет зари на обоях, напротив окна. У кровати таз с водой, в котором плавают ее и его окурки. Кровать узкая, его нога на ее бедре, ее рука на его груди. Она – у стенки. Жарко, одеяло сбито. Рядом с ее белокожестью его семитская смуглость кажется почти негроидной. Медленно, как змеи, расплетаются.
– Надо же, я спала, – с удивлением сказала она. – Значит, все правильно… Я и не знала, что ты куришь.
– Я не курю. А ты?
– И я не курю.
– Я пропущу утренний обход на Лунной Вилле впервые со дня ее основания.
– Может быть, не надо?
– Я так хочу. Мне полезно не только лечить сумасшедших, но и самому побывать в их шкуре.
– Это правда, но я никому ее не желаю. У меня только что убежал сон. Съехал куда-то, как с горы на салазках. Кажется там было что-то хорошее…
– Сейчас есть очень интересные современные теории о важности снов, – сказал он.
– Современные? – переспросила она. – Да я с вас смеюсь, Адам. У нас нянюшка Пелагея по снам каждый год на урожай гадала – всегда сходилось. А к огороднице Акулине даже из Алексеевки приезжают сны рассказывать – она по ним может предсказать, когда девка замуж пойдет, кто муж будет и будут ли счастливы.
Он сел на кровати, склонился лицом и стал целовать ее колени. Она запрокинула руки за голову и лежала молча, чуть улыбаясь маленькой утренней улыбкой.
* * *
– Вода в заливе почти пресная. Нева приносит…
– Не говорите мне ничего, Адам. Я знаю доподлинно, что все по настоящему. Как в книжках моего детства. Стеньги, стафели, форты, свистать всех наверх. У меня губы соленые, как будто в крови. Я знала, что мне нужно тут побывать, потому что только у моря можно понять, в какой замкнутости перспективы живут обычные люди. Мой брат Филипп, ведь вы его помните? Он боится выйти из дома, из лесу. Но он сумасшедший, пускай… А другие, как будто бы нормальные… Я только одного знала прежде, кто не боялся шагнуть…
Груды сияющей пены, прокаленный солнцем песок, жесткая трава с режущими краями, розовые сосны, наполненное воздухом безлюдное пространство.
Она сняла туфли и чулки, вошла в прибой. Вода тут же намочила подол, заметалась, наступая и отступая, вокруг тонких лодыжек.
– Люба, не надо, вода холодная! Вы замерзнете, простудитесь! – закричал он, с веселым отчаянием осознавая, что ревнует ее к волне.
– Мы выпьем чаю в вокзале, и я согреюсь! – не оборачиваясь, крикнула она, поднимая вверх обе руки и ловя сложенными ковшиком ладонями ветер. – Вам ведь еще не надо домой прямо сейчас?
– Мне надо туда, где есть вы!
– Ну так и идите же ко мне! Тут замечательно! Если боитесь замочить одежду, снимайте штаны. Не бойтесь, я все равно не увижу ничего принципиально нового.
Оглядевшись по сторонам, он расстегнул пуговичку на воротнике и сел на песок, снимая ботинки. Голова слегка кружилась, и весь горизонт искрился радужными кругами. Уже второй день подряд Адама Кауфмана не покидало ощущение, что в воздухе, которым он дышит, присутствует веселящий газ. Он знал, что, в сущности, так оно и есть…
* * *
На высоком комоде – резные шкатулки, фарфоровый ангел, фотографии в рамках. Букет мелких синеньких цветочков на подоконнике. Сияющая чистота, как и положено в порядочном финском доме. Позднее утро. Звуки за окном уже почти дневные.
– Не благодари меня, мне это неприятно.
– Но почему?! Люба, ты, наверное, даже не подозреваешь, какое счастье мне подарила…
– Адам, я никогда никому ничего не дарю. Даже сама идея какого-то урочного подарка мне не очень понятна. Я просто беру или даю, в зависимости от желания и обстоятельств.
– Хорошо. Я согласен, – он улыбался и играл с ее пальцами, перебирая их. На пальцах не было колец и это казалось странным. Все знакомые ему женщины носили кольца – дешевые или дорогие, смотря по достатку. – Ты просто дала. Пусть так. Но будет ли мне позволено что-то дать тебе взамен?
Она поморщилась от жалости. Он опрометчиво открылся ей и теперь наивно и добродушно ждал каких-то воодушевляющих слов, или обещаний, или даже кокетства с ее стороны. Забыл, с кем имеет дело?
– Это очень просто, – она отобрала у него свою руку и села, обхватив колени и почти целиком накрывшись шалашиком рассыпанных кудрей. – Адам, я знаю, что твой друг, Аркадий Андреевич Арабажин, не погиб в 1914 году в сгоревшем вагоне санитарного поезда. Луиза Гвиечелли, сбежав из твоего сумасшедшего дома, заезжала ко мне и расплатилась этой информацией за то, что я снабдила ее деньгами и новыми документами. У тебя есть его адрес или какая-то другая информация. Ты сообщишь их мне.
Он долго молчал, глядя прямо перед собой. Она не помогала, но и не мешала ему.
– Все было неправдой, Любовь Николаевна? – наконец спросил он. – От начала и до конца? И море вы выдумали, чтобы…
– Все – правда, – тихо возразила она. – И море в первую очередь. И все остальное – тоже. Я хотела быть с вами.
– Я понимаю, – медленно и трудно сказал он после следующей порции вязкого молчания. – Я слышал об этом прежде и даже читал: удовлетворить половую потребность так же естественно, как, испытывая жажду, выпить стакан воды…
Она как будто хотела что-то сказать, но в конце концов, так ничего и не сказав, кивнула.
– А если я откажу вам? – он поднял тяжелый, темный взгляд оскорбленного мужчины. – Ведь это же в конце концов странно…
– Конечно! – она неожиданно приободрилась, как будто снова уловила ускользающие от нее правила игры. – Я рискую сейчас. Если неправильно рассчитала, могу все проиграть. Вы, Адам, теперь можете даже попробовать меня убить. Я это очень понимаю.
Ее внезапная бодрость и посветлевшее лицо отозвались в нем дополнительной болью. «У нее не мировоззрение, а мироубежденность, т. е. неколебимая уверенность в том, что мир, такой, как он есть сейчас, устроен единственно возможным и несомненно правильным образом,» – кажется, так много лет назад говорил о ней Арабажин.
– Если Аркаша решил не сообщать вам о себе, у него несомненно были для этого какие-то причины.
– Разумеется. И я хочу услышать о них. От него самого. Может быть, эти причины важные, а может быть, и яйца выеденного не стоят. Давайте адрес. Я знаю, что Аркадий Андреевич был на фронте и даже писал оттуда корреспонденции под псевдонимом Знахарь…
– Вы знаете и это? – удивился Кауфман. – Но почему же вы тогда не искали сведений у Лиховцева, главного редактора «Мысли»?! Ведь вы с ним вроде бы с детства близко знакомы…
– Искала сразу же и непременно. Но он, к сожалению, ничего не знает. Корреспонденции от Знахаря приходили к нему из разных мест и без обратного адреса.
Адам усилием воли подавил в себе нервную дрожь и мысленно попробовал сосчитать пульс. Получалось никак не меньше 120 ударов. Причем по ощущениям сердце стучало не в груди, а прямо в глотке, где-то в районе щитовидной железы.
– Как человека, видимо презирающего всякие условности, хочу спросить вас: Лиховцеву вы тоже предлагали себя в оплату за нужную вам информацию?
– Нет, – спокойно ответила Люша. – Потому что ему совсем не нужно мое тело. Он его имел когда-то много раз, и это для него почти помеха. Ему нужна моя душа, но…
Он до хруста сжал зубы, чтобы не попросить ее закончить фразу, и прижал к грудине кулак, утишая боль.
Она улыбнулась ему прохладной благодарной улыбкой.
– Я не получал писем уже больше месяца и не уверен, что до Аркаши дошли два моих последних послания. Но если он еще в армии…
За плотно закрытой дверью – шаги и разговоры хозяев. Уже совсем день… Больные на «Лунной вилле» наверняка закончили завтрак и приступили к лечебным процедурам. В некотором смысле каждый из нас заперт в своем сумасшедшем доме…
* * *
Глава 7,
В которой встречаются художники, а крестьяне громят усадьбу лесника Мартына
На берегу ручья на большом складном стуле чинно и неподвижно сидел старик.
Мелкая вода журчала, обмывая коряги и разноцветные камешки на дне. Иногда играющий в реке солнечный блик выхватывал спинку или радужный бок стоящей против течения форельки.
Ниже по течению, в небольшом, но глубоком омутке, крестьянские ребята, закатав штаны, пытались ловить синего сома, который там, по преданию, живет. Кто его поймает, тому вся жизнь будет – сплошная ярмарка и полный кошель денег.
Молодой человек в зеленой, измазанной красками кофте остановился чуть позади стула со стариком. На его плече висел деревянный ящик, за руку он держал некрасивого мальчика с прозрачными глазами. Мальчик вышел вперед, опустил к ноге сравнимую с ним по размерам папку с завязками и сказал:
– Дедушка Илья, вы меня помните еще? Мы до вас с Синих Ключей пришли.
Старик пошевелил иссохшими пальцами и взглянул на мальчика ласковыми глазами, похожими на вишни.
– Володя, сын бедной Тани. Конечно, я тебя помню, ведь я держал тебя на руках, когда умерла твоя мать. А кто это с тобой?
– Прохор Федорович Синельников, – отрекомендовался молодой человек. – Из разночинцев. Ныне – студент Академии художеств. Очарован премного здешними пейзажами. Осмеливаюсь писать их вслед вашему, Илья Кондратьевич, таланту… Почту за честь услышать мнение мэтра…
– Что ж, покажи, – равнодушно согласился старик и также равнодушно, не зажигая в глазах света чувства и даже разума, рассматривал небольшие холсты и картон, последовательно извлекаемые Прохором из развязанной папки.
– Мило, юноша, мило, – наконец заключил он и, вздохнув облегченно, снова вперил взор в изменчивую мозаику солнечных бликов на поверхности ручья.
– Тебе вроде не понравилось, дедушка Илья, – задумчиво протянул Владимир. – А вот тетя Марыся картины Прохора за твои выдает, их покупают, а деньги они с Прохором и Катиш промеж собой делят…
– Принять пейзажи уважаемого Прохора Федоровича за мои может только круглый дурак, ничего в искусстве не разумеющий, – не отводя взгляда от игры света в воде, промолвил Илья Кондратьевич.
– Дураки и покупают, – кивнул Владимир и засмеялся.
Прохор Синельников тоже улыбнулся – смущенно. Он еще прежде понял, что их городская афера с картинами старому художнику глубоко безразлична. Илья Кондратьевич нынче пребывал на другой стороне, там, где деньги и слава не имеют уже никакого значения.
Старик между тем с симпатией взглянул на смеющегося мальчика и вдруг заметил, что папка, из которой Синельников вынимал листы, не до конца опустела.
– А что же это у вас, любезный, там? – резко указал пальцем и даже чуть привстал, опершись рукой на подлокотник.
– Да пустяки, детская мазня… Володя, как я приехал, проявил интерес, и везде таскался за мной, это было условием хозяйки, чтоб его не гнать, ну, я и давал ему краски поиграть, или пастель немного…
– Извольте показать! – движения и взгляд старого художника вмиг утратили расслабленность.
Отвернув листки с неровными, словно обгрызенными краями от бегучего солнца, Илья Кондратьевич внимательно рассматривал странные картины, написанные в несколько красочных слоев.
– Володя, поди-ка сюда! Вот это – что?
– Метель над полями, когда буран идет. А выше – звезды.
– А вот это, в зеленых тонах?
– Нечисть лесная танцует под деревьями на летнем празднике.
Карандашный рисунок. Переплетающиеся линии. Такое впечатление, что рисовальщик пользовался всей коробкой и всеми цветами одновременно. Из путаницы штрихов выглядывает желтоглазое, печальное существо с огромной головой. Оно смотрит на яркую сказочную птицу, сидящую в окне на ветке.
– А это кто? Портрет домового?
– Это как раз мой любимый рисунок, – улыбнулся Прохор. – И здесь я вам могу доподлинно подтвердить – сходство с натурой отменное. Живет в усадьбе сын княгини Бартеневой. Сама-то она красавица, а ребенок – урод, один в один как у Владимира изображено…
– Володя, тебе надо учиться рисовать, – утвердил художник. – У тебя дар есть, от Бога. Я-то уже окончательно в тираж вышел, так что скажи своей тетке, пусть она тебе пока Прохора наймет. Только ненадолго, чтоб не испортил.
– Ага, скажу, – согласился Владимир. – Только Бог – далеко, и ему на меня как будто плевать. У меня ближе дар, от лесных. Кто их, кроме меня, нарисует? Мне карандаши нравятся. Они как трава или птички. И у них такие разноцветные носики…
– Хорошо. Может быть, карандаши – это и есть твоя планида.
К рыбакам вдоль ручья шли еще двое деревенских. В руках – ветки с еще зеленым крыжовником.
– В саду наломали, – вздохнул Илья Кондратьевич. – Варвары. Десять лет прошло и опять – как с цепи сорвались.
– Слышь, чего он сказал? – тараща глаза, кинул один из мальчишек другому. – Что мы – собаки и нам место – на цепи.
– Зачем вы обломали, он же незрелый еще? – спросил Прохор.
– Все равно все наше будет! – с вызовом ответил парнишка постарше, без переднего зуба.
– Ну пусть. Да зачем же ваше ломать, да еще животом потом маяться?
– Да пошел ты! – мальчишки пустились бегом, щербатый крикнул с полоборота. – Буржуй! Всех вас…
* * *
Кровь, стекая со лба, засохла в морщинах и прочертила на лице старика страшную черную сетку.
Шатаясь и хватаясь руками за стены, он вошел в кухню через заднюю, выходящую на огороды, дверь. Кухарка Лукерья, увидев Корнея, громко ахнула и прижала ладони ко рту.
– Дедушка Корней, что стряслось?! – испуганно вскрикнула ее помощница, дрожащими руками опуская сковороду с поджаркой из сала, лука и моркови мимо стола.
Сковорода с грохотом покатилась, жирная горячая масса расползлась по чистому полу. Лукерья не обратила на это никакого внимания, что для всех присутствовавших при инциденте (включая двух кошек и кухонную собачонку) явилось знаком полного и окончательного разрушения привычного порядка вещей.
* * *
Спустя час в конторе состоялось заседание, которое на современный революционный лад правильно было бы назвать оборонным усадебным советом. Присутствовали: помещик Александр Кантакузин, конторщик, агроном, ветеринар, старший конюх Фрол, камердинер Егор, садовник Филимон, кузнец Франц из пленных австрийцев и два лакея. В дверях, прислонившись к притолоке, с очень независимым видом стоял Кашпарек, ответивший отказом на оба предложения Кантакузина: войти в помещение или убираться к чертовой матери.
– Где старик-то? – спросил агроном Дерягин.
– Плох он, лежит у меня в дому, – ответил Филимон. – Без памяти почти. Акулина пока за ним ходит. Доктора позвали.
– Что ж там стряслось? Сумел он рассказать?
– Рассказал, – кивнул Александр. – Для того и шел сюда, последние силы тратил. Как я понял, дело было так. Он у знахарки Липы в лесу почасту гостевал – они давние, еще с города знакомцы. И вот к ней прибежала из Торбеевки баба и по доброте предупредила ее, чтоб ушла куда, потому что торбеевские мужики решили разгромить хозяйство лесника Мартына, а это от ее избушки – всего верста с небольшим, и как бы чего не вышло, потому что мужики, как распалятся…
– Да в чем же смысл?! – ветеринар снял синие очки и растерянно взглянул на собравшихся близорукими глазами. – Почему – Мартын?
– Мартын много лет и посейчас препятствует незаконным порубкам, охоте, у крестьян на него давно зуб есть. Дезертиры и агитаторы в деревне воду мутят – говорят: все вам по праву принадлежит, вот-вот закон выйдет, так чего же стесняться? А кто думает иначе, тот – буржуйский прихвостень. Плюс, как я понимаю, всякие почти эфирные материи – чертовщина с Владимиром и оборотная сторона чувства вины: ведь именно в Торбеевке убили когда-то Мартынову дочь. Да плюс слухи и наши местные легенды – на высоте социального помешательства и ожидания невиданных свобод мужикам отчего-то взбрендило: якобы у Мартына в усадьбе, у Филиппа Никитина хранятся пропавшие драгоценности матери Любовь Николаевны или сокровища девки Синеглазки, как они их называют. Так надобно теперь их у безумца отобрать и на всех разделить, как и помещичью землю. И вот, по совокупности всех этих материй и обстоятельств…
– Что ж, теперь понятно…
– Нам нужно определиться не с понятиями, а с действиями на случай, если разгромом лесниковой усадьбы дело не ограничится!
Ветеринар и агроном переглянулись, враз вспомнив и подумав об одном и том же: нынче Александр Кантакузин ведет себя намного уверенней, чем в 1902 году. Что ж – зрелый мужчина, хозяин усадьбы, так и должно быть…
– Но как же вышло, что колдунья все же погибла?
– Корней решил предупредить лесника об опасности, тем более, что знал: Владимир нынче гостит у деда. Старик любит детей, после отъезда Анны и Бориса много возится с Владимиром, Варей, Агафоном и даже Германом. Знахарка отправилась с ним.
Сначала думали уходить всем на болота, а потом Мартын почему-то заартачился – надо полагать, ему было жалко хозяйства, животных, дома, который мужики, не найдя ни людей, ни сокровищ непременно подожгли бы. У него были ружья, патроны, он велел всем уходить, а сам решил занять оборону и отстреливаться.
– Каждый по-своему сходит с ума, – пробормотал Дерягин.
– А я Мартына понимаю, – задумчиво сказал Фрол. – Что он, старый человек, без своего дома и леса? Уж лучше тогда сгинуть с честью и с ружьем в руках…
Кузнец Франц и один из лакеев кивнули, а Александр брезгливо поморщился, как будто при нем сказали пошлость или пролили что-то дурно пахнущее.
– Но Филипп Никитин отказался уходить без Мартына, – продолжал хозяин усадьбы. – И это оказалось неодолимым препятствием, так как увести безумца против его воли не представлялось возможным. Тогда знахарка самочинно выдвинула следующий план. Чтобы не привлекать внимания, все разделяются. Мартын уводит Филиппа. Корней – Владимира. А она остается встречать крестьян. Надо полагать, что колдунья надеялась: сработает ее многолетний авторитет в деревне и ей удастся отговорить торбеевцев от погрома.
– Если бы громить шли бабы, по ее, должно быть, и вышло, – заметил Егор.
– Допускаю, что ты прав, – согласился Александр. – Но это были мужики, усиленные дезертирами и незнакомыми со знахаркой агитаторами-бунтовщиками. К тому же дед Корней тоже остался со своей давней подругой, а после ухода лесника еще и вооружился Мартыновой берданкой… Старика действительно избили до полусмерти и бросили во дворе, а вот насчет убийства знахарки я не уверен. Даже по словам Корнея, ее просто отшвырнули с дороги. Она упала на ступеньки и то ли потеряла сознание, то ли просто умерла от удара… Потом они искали сокровища, потом все крушили, потом, конечно, подожгли дом и сараи… В уезд, в Торбеево и в волостное правление я уже послал сообщения, но сами понимаете, какие сейчас времена, и, стало быть, нам надо составить план действий на случай, если они не успеют ничего предпринять, а погромщики…
– Александр Васильевич, тут, на мой взгляд, какая-то нестыковка выходит, – потирая переносицу, заметил ветеринар. – Старик, как я понимаю, сколько-то лежал избитый без сознания, потом шел сюда, цепляясь всякой ногой за всякую корягу… Это же сколько времени прошло? И куда все подевались? Погромщики? Мартын? Владимир с Филиппом? Они же, как я понял со слов старика, направились не в болото, а прямиком в Синие Ключи? Почему нигде, ни о ком ничего не слышно?
– Старик Корней – бывший московский нищий и пьяница известный, – сказал Дерягин. – Не могло ли ему все это привидеться? Вроде кошмара? Упал где-то пьяным, разбился, ударился головой…
– Не похоже, – покачал головой Филимон. – Да и не пил он при Липе-то…
– Но что же тогда все это значит?
– Это значит, что мы еще чего-то не знаем, и оно – важное, – сказал от двери Кашпарек. – Пойду узнаю.
Вышел и плотно закрыл за собой дверь.
Все собравшиеся одновременно взглянули на хозяина усадьбы. Кантакузин раздраженно пожал плечами:
– С ним невозможно разговаривать. Все равно, что кричать в лесу и ждать осмысленного ответа из чащи. Люба… Любовь Николаевна могла бы, но… Черт побери, где ее носит! Когда она нужна, никогда ее нет… Но действительно – надо отправить кого-то на поиски. Ведь если ее сумасшедший братец и племянник пропадут из-за нашего неучастия…
– То после ее возвращения нам всем скопом придется в болоте хорониться… – усмехнувшись, закончил агроном Дерягин.
* * *
Кукушка куковала в недалекой чаще. Березы и темные ветви старого орешника сплетались над головой. Тропа заросла влажным мхом, под которым прятались корни и полусгнившие коряги.
Владимир двигался плавно и стремительно, в лесу от его обычной домашней медлительности и неуклюжести не осталось и следа. Филипп, вовсе непривычный к ходьбе, громко сопел и задыхался.
Под большой березой на сухом островке присели отдохнуть.
Филипп вытянул ноги и прикрыл глаза, Владимир просто замер на месте, как ящерица на камне. Мартын не мог сидеть, нервное напряжение в нем находило выход в суетливых, бесцельных на первый взгляд движениях:
– Пойду вперед погляжу, как там, да воды с ручья наберу…
Как только Мартын ушел, Филипп открыл глаза и состроил отчаянную гримасу:
– Володя! Пропало все!
– Да отчего же пропало? – удивился мальчик. – Липа их заколдует. А мы пока в Ключах переждем.
– Да они ведь и Ключи раз пожгли, я-то помню. Матушка моя тогда погибла. Ты ведь знаешь, что им нужно – сокровища Синеглазки, невесты моей. А как Липа не сумеет их заколдовать и они найдут и все заберут? Что я тогда Синеглазке скажу?
Владимир встал на четвереньки и снизу вверх заглянул Филиппу в лицо:
– Отец, а разве они, сокровища, взаправду есть? У лесных ведь человеческих сокровищ не бывает. Зачем Синеглазке? Тебе привиделось, должно быть…
– Ничего мне не привиделось! – сердито возразил Филипп. – Ты что думаешь, твой отец дурак какой-то, вроде тебя, который со всякой мелочью лесной водится?! Не-е-ет! Мне сама Синеглазка давным-давно доверилась, еще прежде, чем я с твоей матерью сошелся, а теперь я, получается, ее предал, сбежал… Эх… Надо было нам с Мартыном остаться, взять ружья и…
Филипп заплакал, бессильно потрясая мягкими кулаками и ударяя ими по стволу березы.
Владимир покрутил шеей, прислушался к чему-то, потом издал несколько резких птичьих криков и снова послушал.
– Отец, – сказал он. – Не плачь. Я знаю, чего мы с тобой сделаем. Только тебе придется во всем меня слушать, потому что ни нихони, ни бугагашеньки, ни прочие тебя знать не знают, и могут испугаться. А когда они без толку пугаются, таких бед наворотить сумеют…
– Хорошо, Володя, – Филипп кивнул, утер глаза и высморкался в рукав. – Я все сделаю, как ты скажешь, мне лишь бы Синеглазке угодить. Но что же Мартын?
– А дедушке Мартыну и знать не надо.
Кукушка замолчала. Наверху, между ветвями редкие облачка быстро неслись по небу, словно куда-то торопились. Внизу, в зелено-лиловом мареве, все замерло в ожидании. Низом принесло запах жирной гари. Потом на тропинке скакнула в изумрудном мху большая лягушка с золотыми глазами и горбатой спинкой. Некрасивый мальчик с прозрачным взглядом взял за руку своего слабоумного отца и сказал:
– Ну что ж, папа, пошли.
* * *
Глава 8,
В которой Владимир спасает сокровища Синеглазки, а дед Корней, умирая, рассказывает Оле и Кашпареку историю своей любви.
Марионетка, свесив ноги, сидела на локте идущего вниз по улице юноши и зазывала истошным, противным голосом:
– Новое представление Кашпарека! Приходите, не пожалеете! Приглашаются все свободные граждане свободной Черемошни! Новое представление! Торбеевские мужики против лесной колдуньи!
Босоногие дети бежали следом со свистом и улюлюканьем, собаки брехали, взрослые недоверчиво смотрели из-под ладоней. Старики шамкали сердито беззубыми ртами, не понимая происходящего.
Румяная девка в низко повязанном платке выбежала из калитки, заступила Кашпареку дорогу, положила горячие ладони на его худую, но жилистую грудь.
– Кашпаречек, родненький, уходи сейчас, не играй с огнем! Там ведь не только торбеевские, наши тоже были, теперь кто в злобе, кто в страхе…
– А если не играть с огнем, так согреться-то как? – усмехнулся Кашпарек. – Жить холодно станет… Да ты не голоси, Груша, говори толком, чего знаешь…
Избы, выстроившись вдоль улицы, таращили на них окна в узорных наличниках. Нигде так не умеют резать деревянные узоры, как в Калужской губернии – всем известно…
* * *
Бешенство плясало в сосудах кровяными тельцами, искрило в нервных волокнах. В груди спирало, пальцы сжимались. Так, должно быть, чувствовали себя троглодиты, пылающей веткой изгнавшие из пещеры древнего медведя.
Как и троглодиты, говорили междометиями, обрывками слов. О том, что будет дальше, никто не думал. На труп колдуньи, похожий на большую тряпичную куклу, и то ли мертвого, то ли лежащего в беспамятстве старика никто не смотрел. Если попадался на глаза, отводили взгляд. Кто-то предложил пойти к знахаркиной избушке и поискать там. Отклика не нашел. Многие тут же зашарили под рубахами и стали креститься.
Шли, нагрузившись добром, во внезапно сгустившемся зеленоватом тумане, как по дну пруда. Под ногами сновали лесные желтогорлые мыши. Их становилось все больше, казалось, некуда ступить. Где-то вдали, как будто бы уже за лесом, в полях, родился огромный звук и покатился, приближаясь незримо. С веток, шурша, при полном безветрии посыпались листья. Между деревьев медленно задвигались какие-то смутные зеленые фигуры, как будто одно за другим оживали деревья.
Кто первый, не выдержав, закричал от ужаса, впоследствии, как ни разбирались, не могли вспомнить. Тут же заорал кто-то еще, и все кинулись врассыпную, как те же мыши. Кто куда, не разбирая пути, падая, ползя, цепляясь руками за стволы, ветки, траву и корни. Гулкий звук катился и приближался, как огромное, выше деревьев колесо. Оно было ажурное, может быть, даже прозрачное, но жуткое донельзя – подомнет, раздавит, и не тело даже, а что-то иное, более существенное для живого человека…
Между стволами, неспешно взмахивая крыльями, пролетел большой филин. Сел на сук, охорошился и сказал, глядя прямо в лицо человеку круглыми оранжевыми глазами:
– Отдай, что не твое. Отдай, что взял, тогда живым будешь.
Человек заелозил в листвяной подстилке, грудью, руками, животом прикрывая добычу.
– Да что ты сам-то – пустяк, сдохнешь и не заметит никто, – задумчиво продолжал филин. – А вот семья твоя… Старшего сына на войне убить успеют, младший в пьяной поножовщине погибнет, дочка, что на сносях, скинет мертвенького и сама вслед за ним уйдет, а жена от горя ума лишится и заживо сгниет…





