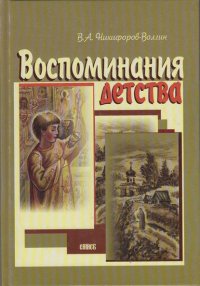Читать онлайн Ключи заветные от радости бесплатно
- Все книги автора: В. А. Никифоров-Волгин
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
интернет- портал «Православная книга России»
Предисловие
Василий Акимович Никифоров родился в 1901 году в деревне Марку ши Калязинского уезда Тверской губернии в простой русской семье. Он не смог получить хорошего образования: после обучения в церковно-приходской школе у семьи не было средств отдать талантливого ребенка в гимназию. Василию приходилось работать: в поле и в сапожной мастерской. К тому же годы его взросления были временем войны: сначала – Первой мировой, затем – Гражданской. Все это время семья Василия Никифорова живет в Нарве, недалеко от мест военных действий. На этом фоне бедствий и лишений особенно ярко выступает природный талант писателя, его неутомимая жажда к учению и несравненная любовь к Родине.
Можно сказать, что главной школой для Василия Никифорова стала Церковь. Благочестие, воспитанное матерью, затем учение в церковно-приходской школе, после того – служение псаломщиком – все это воспитало в молодом человеке ту духовную основу, на которой вырос его писательский талант и глубокое понимание классической русской литературы.
В 1917 году, не выезжая из Нарвы, Василий Никифоров стал эмигрантом – жителем независимой Эстонии. Однако духовная связь с Россией сохранялась: не случайно он подписывал свои статьи, рассказы и очерки псевдонимом В. Волгин – в честь великой русской реки, возле которой прошло его детство. В 1920 году Никифоров-Волгин участвовал в создании «Союза русской молодежи», который устраивал в Нарве литературные вечера и концерты. Годом позже он публикует свою первую статью «Исполните свой долг!» в таллинской газете «Последние известия» и вскоре начинает постоянно работать журналистом и редактором. Позднее он становится одним из учредителей русского спортивно-просветительного общества «Святогор», а затем – Русского студенческого христианского движения. Вспоминая 20-е годы и свое участие в РСХД в Прибалтике, архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) в старости писал, что тот незабываемый период был «религиозной весной русской эмиграции».
В РСХД Никифоров-Волгин познакомился с Михаилом Ридигером, жителем Таллина, участником богословско-пастырских курсов, которые открыл в 1930-е годы протоиерей Иоанн Богоявленский (будущий епископ Таллинский Исидор). Как свидетельствует архивная фотография, Василий Акимович был знаком и с сыном М.А. Ридигера, будущим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
К середине 1930-х годов В.А. Никифоров-Волгин – уже известный писатель. Журнал «Иллюстрированная Россия» награждает его первой премией за рассказ «Архиерей». В таллинском издательстве «Русская книга» публикуются два сборника рассказов Никифорова-Волгина – светлая книга «Земля именинница» в 1937 году и, годом позже, трагический «Дорожный посох».
Стиль произведений В.А. Никифорова-Волгина необычен – в простой, почти современный язык вплетаются «молнии слов светозарных» – возвышенные церковнославянские слова и множество полузабытых выражений из глубины народной, «деревенской» речи. Это виртуозное владение богатством русского языка не имеет ничего общего с эстетским самолюбованием; лексическое разнообразие этих рассказов сочетается с их доступностью для самого широкого читателя. Тематика творчества В.А. Никифорова-Волгина достаточно разнообразна, но о чем бы он ни писал – о детских шалостях, старинных обычаях или страшных бедствиях, каждая его строчка проникнута любовью к России – вроде бы такой близкой, но при этом бесконечно далекой и недоступной. России, которую мы потеряли.
Летом 1940 года в Эстонии была установлена советская власть. Вскоре В.А. Никифоров-Волгин был арестован НКВД и отправлен по этапу в Киров. 14 декабря 1941 года Василий Акимович Никифоров был расстрелян «за издание книг, брошюр и пьес клеветнического, антисоветского содержания». Точное место его захоронения на Петелинском кладбище, где покоятся жертвы красного террора, неизвестно.
* * *
Произведения В.А. Никифорова-Волгина в этом сборнике разделены на четыре части.
К первой из них – «Ключи заветные от радости» – относятся рассказы, в которых писатель с неподражаемой искренностью и простотой говорит о первом духовном и житейском опыте ребенка. Тексты расположены не в порядке их написания, а в порядке взросления и воцерковления их юного героя.
В разделе «Помогите мне выпустить песню на свободу» собраны рассказы для старших школьников и взрослых. Талант Никифорова-Волгина раскрывается здесь в разных жанрах: ироничного очерка, лирической думы о навсегда ушедшей старине, глубокого рассказа о святых и грешниках, которые живут среди нас.
«Горе родине твоей» – собрание рассказов о трагической судьбе России в годы кровавой революции, Гражданской войны, гонений на Церковь. Пронзающие душу истории о человеческих страданиях окрашены надеждой. Смирение и вера невинных жертв нередко приводит жестоких мучителей к искреннему покаянию.
Ту же самую тему продолжает и повесть В. А. Никифорова-Волгина «Дорожный посох», составляющая отдельную, заключительную часть этого издания.
Ключи заветные от радости
Васька и Гришка
На заднем дворе, поросшем крапивой и чертополохом и загроможденном керосиновыми и селедочными бочками купца Данилова, с Гришкой Гвоздевым лежим на крыше старого приземистого сарая и греемся на солнышке.
С большого двора, кругом застроенного старыми трухлявыми домами, к нам не умолкая доносится протяжный шум с разнообразными оттенками и отголосками.
Раздаются звонкие заливистые голоса ребят. Неистово визжит на кого-то еврейка Фрина. Истошным плачем заливается еврейчик Апке. Грохочут машины в типографии Мельникова. Дворник дядя Давыд кого-то разносит – «нет чего хуже»: «Окаянник!.. Смущанник!.. Раздуй тебя горой, идола эфиопского…» – черными птицами носятся его слова в знойном воздухе. Из подвала жестянщика Шмоткина бегут частые, торопящиеся звуки постукиваемой жести.
У Шмоткина мы недавно с Котькой Ежовым с окна кисель стянули. Съели мы его на заднем дворе, а тарелку из-под киселя обратно на окно поставили. Шмоткин меня почему-то не любит и называет «посадским». Из окон пивной несется пьяный нестройный гул, стоны расстроенного баяна, и где-то раздается пронзительный свисток городового.
И поверх всех этих звуков, так режущих ухо, окрашивая наш двор в какие-то пыльные тона, плыла из мастерской сапожника Карпина дружная песня мастеровых под дробный аккомпанемент молотков, постукивающих кожу.
Словно золотая искра, носится песня в воздухе и окрашивает наш шумный, дурно пахнущий двор в яркие золотые цвета…
Песня мастеровых напоминает мне просторные поля нашей покинутой деревеньки, думный бор с заповедными сказками, омутистую речку, старозаветный домик дедушки и златоверхую, одетую мхами и травами старую церквушку с звонами-наигрышами,
Я зажмуриваю глаза, и чудится мне в красноватой дымке: вот я у дедушки Филиппа в горнице. Сижу за длинным дубовым столом, в бордовой рубашке, подпоясанный афонским пояском, напомаженный деревянным маслом, и за обе щеки уминаю сдобные ржаные лепешки.
Рядом со мной сидит бабушка, смотрит на меня, такая ласковая и светлая, и приговаривает любовно:
– Кушай, Васенька, кушай. Никого не слушай… Наедайся, сынок, досыта…
В горнице чисто и нарядно. Перед образом Купины Неопалимой стоит на коленях дедушка с лестовкой в руке и воздевает к нему умиленные очи. Около дедушки игриво юлит кот, прозванный за свой ободранный вид Обдирышем. Кот ласково урчит, трется выпачканной в саже мордой о дедушкино брюхо. Дед уставно читает молитвы, хмурится на кота и старается отогнать его жилистой рукой. А кот не отстает от деда. Знай юлит между ног и мурлычет, трубой задрав хвост. Дед терпит, терпит, наконец, раззадоренный, хватает кота за шиворот и отбрасывает его к самому порогу.
– Уведи ты его, пса неприкаянного! – неистово кричит дедушка на бабушку, не подымаясь с колен. – Ишь пристал, нечистая сила!.. Богу помолиться не даст, верблюд астраханский. Так и юлит кошачья морда. Прорвы-то ему нет!..
Бабушка выбрасывает кота за дверь. А дедушка, по-прежнему спокойный и умилительный, уставно вычитывает молитвы по старому, воском закапанному Часовнику. Слова дедовой молитвы падают веско, степенно, рассудительно, словно пятаки опускаются в церковную кружку.
За окном ребятишки на пыльной дороге в бабки играют и давно уж кличут меня на улицу звонкими зазывными голосами…
– Пещера Лейхтвейс! Спишь, что ли? – толкает меня в бок Гришка Гвоздев, мой задушевный приятель, прозванный за свою худощавость «стямлым». А я его называю «Капитан Немо».
– Закурим, что ли? – важно, как большой, цедит Гришка, залезая в карман широких синих брюк и вынимая махорку в мешке из-под кофейника вместо кисета.
Неумело свертываем «кручонку» и с наслаждением затягиваемся забористым дымом.
– Капитан Немо! Поедем сёдни по окияну в Калифорнию на Аляску. И погода к тому благоприятствует. Право слово! – обращаюсь я к Гришке, кольцами выпуская дым кверху.
«Капитан Немо» спокойно меня выслушал, затянулся «в остадний разок» замусоленным окурком и важно процедил сквозь зубы:
– Пещера Лейхтвейс!.. Вы сичас в состоянии решительной невменяемости! – Гришка старается говорить в нос «по-барски» и «по-благородному» разводит пред своим корявым носом грязными пальцами.
– Сичас, Пещера Лейхтвейс, дует северовосточный муссон с проливными дождями. Нашим маленьким пирогам может грозить ураганная опасность… Это безумие с вашей стороны пускаться при таких обстоятельствах по стихии…
Гришка с авторитетной снисходительностью смотрит на меня свысока, прищурив и без того узенькие свои хитроватые глазки. Я с почтением смотрю на Гришку и невольно соглашаюсь с его доводами, несмотря на то что стоит сейчас хорошая июньская погода. Солнышко так и смеется в налившемся истомною синью небе, и не грозит, видимо, никакой северо-восточный муссон с проливными дождями.
Мне хочется возразить Гришке, чтобы не ударить в грязь пред его ученостью и показать, что и я что-нибудь в муссонах да в стихиях разных толк понимаю.
– Нашим пирога́м не может грозить стихейный муссон, этот… как ево, самой что ни на есть, – важно, с надутым видом произношу я.
– Не пирогам, а пирогам! – поправляет меня Гришка и не дает мне возможности высказать мои метеорологические соображения.
– Ну а все-таки, друг мой. Пещера Лейхтвейс, я принимаю ваше предложение. Едем. Если нагрянет в пути муссон с проливными дождями, мы можем укрыться на острове «Белолицых» в хижине дяди Тома.
* * *
Собрались шумной гомонливой толпой к реке, к самой пристани, где стоят на причале лодки. Тут и Котька Ежов, и Фольке Шмоткин, Филька Рюхин и мы с Гришкой.
Не знаю, для какой надобности я стащил из кладовой тятькин кожан, а из дома сапожный ножик с тятькиного верстака. В кармане у меня засунута гомзуля[1] пирога с капустой.
Гришка для пущей важности перекинул через плечо ремень и вооружился сломанной палкой из-под швабры. На голове у него соломенная шляпа с продырявленным верхом, и оттуда задорно глядит прядь Гришкиных волос.
Смеется яркий день, заласканный солнышком. Речка играет чистой серебристой зыбью. Стучит, шумит, взвизгивает на том берегу лесопильный завод. Тарахтит лебедка. На плотах тюкают топоры и раздаются песни. Деловито звенят якорные цепи на ватной пристани, и пронзительный свисток парохода колыхает знойный воздух.
Мы садимся в большую вместительную лодку. Все наше удовольствие – это покачиваться на ней и с помощью длинной, привязанной к пристани цепи аршина на три отплыть вправо или влево.
Гришка сильным ударом оттолкнул лодку от пристани в полной уверенности, что она, как всегда, привязана цепью к берегу, а лодка-то, на наше с Гришкой счастье, по какой-то причине была отвязана, и мы неслышно, без руля и весел скользнули вперед, следуя за извивами бойкой речонки, минуя берег, пристань, купальню…
– Лебята, сто это такое? Смотлите, лодка-то?.. Потонем есо без весел-то! – жалобно захныкал Котька и пытался сделать движение в воду.
– Эй, вы!.. Васька и Гришка… Рады, черти!.. Куды это вы? Глядите, отвязались! – набросились на нас и другие.
Лодка плывет бесшумно, тихо покачиваясь на маленьких ласковых волнах. Плывут мимо красивые очертания города в раме веселой зелени. Чудно изменившимися кажутся нам знакомые дома, старые стены крепости. На душе тревожная хрупкая радость.
На середину реки выплыли. Мимо нас проезжают на лодках, глядят на нас и смеются.
Мы уже освоились со своим положением. Смех, шутки так и рассыпаются по реке золотистыми блестками. Черпаем руками воду, брызгаемся и моем свои чумазые, по неделям не мытые рожицы.
Гришка из ремня изобразил род бинокля и, нахмуренный, сосредоточенный, обозревает окрестность; изредка вскидывается на нас и важно произносит, щуря от солнца свои плутоватые глазки.
– Сичас мыс Доброй Надежды будет!.. Остров «Белолицых» уже виден. Дядя Том сидит на берегу и жарит над костром рыбу. Северо-восточный муссон не грозит нашим пирогам!..
Котька лег на дно лодки и смотрит, очарованный, в синее небо наивными простоватыми глазками. Филька зачерпнул в фуражку воды и пьет с наслаждением большими глотками, обливая рубашку.
– Не хотите ли виски? – предлагает он нам с комическими ужимками.
Фольке снял Филькину фуражку и вылил ему за шиворот всю воду. Филька сердится и хватает Фольку за волосы.
А я сижу на корме в тятькином кожане, уписываю за обе щеки пирог с капустой и мечтательно смотрю в синюю даль, похожую на полосу моря.
И думается мне, чумазому мальчугану, что за этими синими лесами, полями и домами раскинулась другая страна – самая хорошая и светлая на свете – это моя деревня. И в этой стране-деревне очень хорошо и ласково. Там моя бабушка, и она печет очень «скусные аржаные» лепешки, и дедушка Филипп, самый мудрый на свете, который поет древние заунывные стихи и важно сказывает диковинные сказки…
– Ребята! Гляди… кит ползет! – возглашает Гришка.
– Поймать бы!.. На дворе девчонкам показать.
Мимо лодки плывет брюхом вверх дохлый налим. Со смехом вытащили.
– Лебята!.. Глядите… дядя Галасим за нами едет! – с ужасом произносит Котька, собираясь плакать.
И правда, к нашему ужасу, видим, как к нам приближается лодка с рослым перевозчиком Герасимом с чугунными волосатыми кулачищами и суровыми глазами под густыми сдвинутыми бровями.
Мы скованы страхом, растерянностью; и, будто не живы, стали ждать дядю Герасима. Котька заканючил ноющим плачем.
Лодка дяди Герасима спокойно подъехала к нам.
Столкнулись бортами.
– Давайте цепь… дьяволы! – рявкнул на нас, растерявшихся, дядя Герасим.
На буксире нас подвезли к пристани. Первым стал вылезать из лодки Гришка и пробовал было ласково заговорить с Герасимом:
– А что тебе, дяденька, не тяжело было везти нас?
Герасим вместо ответа как двинет Гришке по затылку, Гришка так и покатился по скользкой пристани и одной ногой угодил в реку и вымочил брюки.
Со страхом стал вылезать и я в тятькином кожане и с дохлым налимом в руке. Влетела и мне затрещина по загривку.
Идем по улице. Гришка хвастает: «Мне ничуть больно не было». Я бережно несу за пазухой налима, а сам реву горькими слезами. На меня прохожие смотрят и смеются. Видимо, хорош был в длинном кожане и с дохлым налимом под мышкой.
Пришли домой поздно вечером. Мне дюже влетело от тятьки за кожан и потерянный сапожный ножик.
У Гришки мокрые брюки высохли и вместо синего цвета приняли зеленый, и прозвали Гришку после этого «Тритоном».
Эх, милая глупая пора!..
Любовь – книга Божия
Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бобриков, во всем городе не найти. Был еще Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города в трухлявом бревенчатом доме – окнами на кладбище. Окраина славилась пьянством, драками, воровством и опустившимся, лишенным сана дьяконом Даниилом – саженного роста и огромного голоса детиной.
Про Филиппку и Агапку здесь говорили:
– Много видали озорных детушек, но таких ухарей еще не доводилось!
Было им лет по девяти. Отец одного был тряпичник, а другого – переплетных дел мастер. Филиппка – маленький, коротконогий, пузатый, губы пятачком и с петушком на большой вихрастой голове. Всегда надутый и что-то обдумывающий. Ходил он в диковинных штанах – одна штанина была синяя, а другая желтая и с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своем наряде Филиппка зашел как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал:
– Удивительно, Марья Димитриевна!
Агапка был тощим, в веснушках, зоркоглазым и вертким. Зиму и лето ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке-бескозырке. Выправка у него военная. Где-то раздобыл ржавые шпоры и приладил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил:
– Не называй меня больше Агапкой!
– А как же прикажете вас величать? – насмешливо спросила та.
Агапка звякнул шпорами и лихо ответил:
– Суворовым!
Озорства с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тетеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество.
Было озорство почище и злее, вызывавшее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Сидит Михайло в пивной. Звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет:
– Дядя Михайло! У твоей жены дядя Сеня сидит, и оба чай пьют!
Обожженный ревностью, Михайло срывается с места и прибегает домой.
– Изменщица! – рычит он, надвигаясь на жену с кулаками. – Где Сенька?
Та клянется и крестится – ничего не ведает. Ошалевший Михайло стучится к Сеньке – молодому сапожному подмастерью. Выходит Сенька. Вздымается ругань, а за нею драка. На двор собираются люди. В драку втирается городовой и составляет протокол. После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька ни при чем.
– Я не антиресуюсь вашей супругой, – говорит он, – немыслимое это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и карзубая…
От этих выражений кузнец опять наливается злобой:
– Моя жена огурец? Моя жена карзубая? Хочешь, я тебе блямбу дам? Ра-аз! У-у-х!
И опять начинается драка. Расстрига Даниил когда напивался, то настойчиво и зло искал черта, расспрашивая про него прохожих.
– Мне бы только найти, – гудел он, пробираясь вдоль заборов, – я бы в студень его превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти!
К Даниилу мягким шаром подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой:
– Дядюшка дьякон, ты кого ищешь?
– Черта, брат ситный, черта, который весь мир мутит! – в отчаянности вопиял дьякон. – Не видал ли ты его, ангельская душенька?
– Видал! Он невдалеча здесь… Пойдем со мною, дядюшка дьякон… Я покажу тебе!
Филиппка подводил Даниила к дому ростовщика Максима Зверева.
– Он тута… в подвальчике… – потаенным шепотом объяснял Филиппка.
Даниил выпрямлялся, засучивал рукава гологузой куртки и крестился, входя в темное логовище ростовщика:
– Ну, Господи, благослови! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!
Через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу.
Из подвального помещения вылетал похожий на моль низенький старичишка с перекошенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил.
– Держите Вельзевула! – грохотал он исступленной медью страшенного своего баса. – Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе Царство Небесное!
Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистком городового, и все становились веселыми и как бы пьяными.
За такие проделки не раз гулял по спинам Агапки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загривку.
Однажды случилось событие. На Филиппку и Агапку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой…
Пришла в образе девятилетней Нади, дочери старого актера Зорина, недавно поселившегося на окраине и на том же дворе, где проживали озорные ребята. Актер ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями, а Надя сидела дома. Всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой.
Проходил Агапка мимо, посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную и как бы золотистую от золотистых волос, падавших на тихие плечи, и неведомо от чего вспыхнул весь, застыдился вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агапки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащую в алтаре, не то на легкую птицу, летающую по синему поднебесью… Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал.
В этот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошел к ней и солидно сказал:
– Меня зовут Филипп Васильевич!
– Очень приятно, – тростинкой прозвенела девочка, – а меня Надежда Борисовна… У тебя очень красивый костюм, как в театре…
Филиппка обрадовался и подтянул пестрые штаны свои.
После этой встречи его душа стала сама не своя.
Он пришел домой и попросил у матери мыла – помыться и причесать его. Та диву далась:
– С каких это пор?
Филиппка в сердцах ответил:
– Вас не спрашивают!
Вымытым и причесанным вышел на двор. Встретил Агапку. Тот тоже был вымытым, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, и вместо опорок – высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели.
Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблоков, то семечек, а однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущенно и радостно приколола к груди Филиппки белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности.
Два дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал:
– Хочу с тобою поговорить!
– Об чем речь? – спросил Филиппка, поджимая губы.
Агапка вытащил из кармана серебряный гривенник.
– Видал?
– Вижу… десять копеек!
– Маленькая с виду монетка, – говорил Агапка, вертя гривенник перед глазами, – а сколько на нее вкусностей всяких накупить можно. К примеру, на копейку конфет «Дюшес» две штуки, за две копейки большой маковый пряник…
– Во-о, вкусный-то, – не выдержал Филиппка, зажмуривая глаза, – так во рте и тает. Лю-ю-блю!
– На три копейки халвы, на копейку стакан семечек, на две – каленых али китайских орешков, – продолжал Агапка, играя серебряком, как мячиком.
– Ну, и что же дальше? – жадно спросил Филиппка, начиная сердиться.
Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как «Гуак верный воин», про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник.
– Получай! Дарю тебе, как первому на свете другу! Но только прошу тебя… – здесь голос Агапки дрогнул. – не ухаживай за Надей… Христом Богом молю! Согласен?
Филиппка махнул рукой и резко, почти с отчаянностью в голосе, крикнул:
– Согласен!
На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.
Когда наелся он всяких сладостей, так что мутить стало, вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался.
На другой день ему стыдно было выйти на улицу, он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть, и перед смертью попросить прощения у Нади, и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы!»
Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл.
И вдруг в думы его о смерти вклинилась обрадованная мысль: «Отдать гривенник обратно! Но где взять?»
Филиппка вспомнил, что в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание.
«Драть будут… – подумал он, – но ничего, претерплю. Не привыкать!»
Филиппка вытащил из коробочки гривенник. Выбежал на улицу. Разыскал Агапку и сказал ему:
– Я раздумал! Получай свой гривенник обратно!
В школу
В окно брезжит мутное, иззябшее утро хмурого октября. Воет сиверко[2], нагоняя на душу тягучие, серые думы. Стучит неплотно притворенный ставень. Сеет дождь. За окном жмется от холода старая береза и мокрыми сучьями царапает по заплаканному окну.
Я лежу в постели, покрытый бараньей шубой, смотрю на мутное оконце и с горечью прислушиваюсь, как стонет и воет непогода.
В комнате у нас уютно. Мать топит большую русскую печь. Пламя так и полыхает, обдавая приятным теплом. Домовито пахнет дымом и тянет острой струйкой жареного картофеля. На столе шумит самовар и весело посматривают на тебя румяные баранки.
Отец при свете яркой лампы сидит у верстака, подбивает подметку на большом рыбацком сапоге и поет:
- Потеряла я колечко,
- Потеряла я любовь.
- Как по этому колечку
- Буду плакать день и ночь.
«Петьке и Кузьке хуже всего, – поглядывая в окно, размышляю я о своих приятелях, недавно поступивших в школу. – Сичас встанут, не успеют поесть, как следовать быть, по такой размокропогодице в школу пойдут… Никогда я в школу ходить не буду… Не на што. Ну ее к ляду. От учителей, говорят, житья никакого нет. Дома куды лучше. Никакой тебе заботушки… Сичас встану, поем и буду тятьке помогать сапоги подбивать… Хо-о-рошо!..»
Трещат сырые дрова, рассыпаясь искрами, как золотой мошкарой. Далеко вылетают из печи угольки – гости будут.
По стене, уставленной целым рядом колодок, как живые трепыхаются розоватые отблески.
За окном так же уныло и безрадостно сечет дождь. В сероватой мути рассвета чернеет двор с грязными лоснящимися крышами, а над ним висит серое, неприглядное небо.
Я думаю. О многом думаю. Мысли бегут вихрем в моем детском мозгу, сшибают одна другую, перескакивают с одного места на другое, то выплывают, округляются, то рассыпаются и тают, словно серебристые тонкие волны.
То я думаю о старой березе за окном: зябко ей, наверное, ишь как, сердешная, царапает она по окну сучьями – словно просит впустить ее погреться. Одеть бы на нее шубу…
То думаю о школе, куда поступили Петька с Кузькой.
И представляется мне школа с рассыпанным горохом по полу, а на нем стоят ученики на голых коленях, и сердитые учителя изо всей силы дерут их за волосья…
– Митроша! – вдруг неожиданно нарушает отец мирное течение моих детских мыслей.
Я удивленно насторожился и затаил дыхание: «Почему это он меня сегодня так ласково называет? Раньше все Митрошка, вахлак, эфиоп, а теперь поди ты… Ми-итроша!.. Чудно уж что-то! Митрошей зовет только тогда, когда именинник али в большой праздник…»
Мать положила ухват и грустно на меня посмотрела.
Екнуло сердце, томясь каким-то предчувствием.
– Седни я тебя, сынок, благословясь в школу поведу, – ласково, шутливым тоном говорит отец. – Пусть тебя там уму-разуму научат. Полно остреливать-то без дела. Поди соскучился по грамоте-то? Вон Кузька, тебе ровесник, а как учится – словно по лесенке идет… Какую хошь грамоту прочтет. Газеты читает! Во какой складный уродился!..
– И то правда, сынок, – произносит мать и почему-то смахивает слезу с глаз, – учеба нужна; без учебы ты словно темная ночь. Выучишься в школе читать. Псалтырь царя Давида почитаешь. На деревню письмо напишешь бабушке Степаниде. То-то обрадуется!.. Вишь, скажет, Митрофан-то какой дошлый стал… Грамоте выучился…
– В школу? – разеваю я от изумления и ужаса рот. – Батюшки, батюшки… Ба…тю… ба…
Жгут слезы. Кривится рот. Хочется залиться безудержным плачем…
Хотел что-то сказать, давился, и выходило какое-то невнятное бормотание. Сдержался, но не заплакал. Шмыгнул носом, заложил руки за голову и почти сразу стал мечтать, глядя в низкий закопченный потолок.
– Выучусь, значит, грамоте…. Напишу письмо бабушке Степаниде… Дорогая, мол, баушка… Я грамоте научился и это самое письмо пишу сам… То-то удивится! Вся деревня, поди, узнает!..
Я зажмуриваюсь от восхищения и уже успокоенный, позабыв про сердитых учителей, спрашиваю отца:
– Тять!.. А скоро в этой самой школе грамоте-то можно научиться?
– А как стараться будешь, голубь мой, – отвечает отец, затачивая голенище.
– Вот твой отец так в две недели грамоту превозмог… Если ты мозговитый – в отца, так в месяц выучишься… Наука-то, она вещь мудреная, сынок, это не сапоги подбивать… Да… Ты в науку-то вникай поприлежнее. Не срами нашу губернию. Когда объясняют что, ты уши-то шире растопырь, не развешивай… Старайся. Лоб искровяни, а своего добейся, учиться не будешь – на глаза не показывайся… Запорю!..
Решительную минуту я задумался и пил чай с баранками несколько пасмурный. Мать меня поглаживала по голове, угощала брусничным вареньем, но это меня не веселило.
– Ну, пей же, сынок, поскорее. Пей, голубчик… одеваться сичас надо в школу…
– Подождите! – отвечал я грубо, медленно потягивая чай. – Не обвариться же мне для вас… Успеете с козой на торг!.. Небось – обрадовались…
Одели на меня ситцевую рубашку с горошками, сапоги с голенищами, дали гривенник, благословили и повели меня в школу.
Митрошка
Митрошка, угловатый и молчаливый мальчик в длинных отцовских брюках, с вихрами всклокоченных волос на большой, похожей на жбан голове, был сыном пьяницы портного Клима Филатова.
Родился Митрошка кругленьким, румяным, с серыми умными глазами, с серьезным вдумчивым личиком. Когда бабка приняла его от матери, свила в пеленки, ошептала молитвами и положила в люльку, Митрошка, как большой и понятливый, серьезно огляделся вокруг, чмокнул губками и глубоко, по-мужицки вздохнул.
– Чевой это ты вздыхаешь, андельская душенька? – любовно спросила его слабая и больная мать.
– Настоящий дьякон соборный будет!.. Ишь грудастый да сурьезный какой… Весь в отца! – с умилением говорил Клим, с гордостью поглядывая на своего первенца. – И лоб отцовский, и глаза как у меня…
– Сравнил яичницу с колокольней! – недовольно заметила жена. – Сам ты, как еж… Стямлой, как палка с набалдашником, опухший весь от пьянства-то, – а он-то, цветочек, как херувим, как яблочко наливное!.. На радость ли родился мой болезный? – скорбно спрашивала мать Митрошку.
Митрошка сжал губы, глубоко вздохнул и деловито обвел своими большими раздумными глазами грязные стены своего жилища, закопченный потолок, большой портняжный стол и низенькое подслеповатое оконце с радужными от грязи стеклами, на которых красовались вырезанные из бумаги ножницы и брюки. «Живете-то вы неважно… Черно у вас и неуютно!» – казалось, говорили его большие удивленные глаза.
* * *
Одиноким, нелюдимым рос Митрошка в маленьком захолустном городке, на берегу омутистой речки Колотовки.
Заберется, бывало, он на старую над рекой иву, часами смотрит вдаль, думает о чем-то и тихо рассуждает сам с собой.
Раз подслушали его слова.
– Ты, ветер, не особенно злись! – укоризненно говорил он. – Поласковее дуй… А то как дунешь что есть мочи, наша фатера так и ходит, словно на ходульях…
Когда я большой вырасту, то всенепременно пойду искать золоты ключи в Волге-матушке… Злой чародей бросил их, чтобы люди больше страдали и мучились… А ключи те – от счастья и радости человеческой… Сказывала мне бабка: коли найти эти ключи, так людей от нищеты и болезней спасешь… А как найти их?.. Вот в этом и загвоздка!..
Поймает Митрошка жирного хозяйского кота Сеньку и говорит с ним как с человеком, понятливым и рассудительным.
– А мой тятька сёдни опять загулял! – жаловался Митрошка, поглаживая кота по спине. – Ушел ни свет ни заря… взял под мышку чужие брюки, пропьет, придет домой вдрызг пьяным и будет бредить, чертей отгонять… Боюсь страсть, когда пьяные бредят!..
Хорошая у вас жизнь, кошачья физия… Сытая. Картофеля и копченой селедки сколько хошь, столько и ешь!.. Куды захотел, туды и побег!..
Кот Сенька слушает Митрошку внимательно, щурится от солнышка и мурлычет, словно понимает.
– Ну какая это жисть! – жалостливо пенял Митрошка. – Сёдни стянул я с полки копченую салачину, а тятька поймал меня и по спине два раза огрел аршином. Эва, погляди, рубцы на спине какие!..
Митрошка поднимает свою рваную ситцевую рубашку и показывает коту худощавую спину в синих рубцах…
Кот урчал и ласково юлил около Митрошки.
– Чудной ты у нас, Митрошка! В кого это ты уродился таким? – спрашивал пьяный Клим, обняв его за шею. – Когда родился только, ты умнее горазд был!.. Вздыхал ты да ворковал, как отец дьякон… Удивил всех. Думали, что из тебя умный человек выйдет… А теперь девять лет тебе, и умственных способностей у тебя не ощущается… С котами по-человечески рассуждаешь… Разве коты могут понимать тебя?.. Сёдни опять учительша жалилась на тебя, что ты по рихметике плохо учишься… Все колы тебе ставят. Поговорить ты с людьми не умеешь… А если и скажешь слово, так на пятачок убытку и осрамишь всю губернию!..
– Не знаю, тять! Каков уродился, таков и есть! – отмалчивался Митрошка, опустив глаза в землю. – Я больно природу люблю, сёдни закат был прекрасный! – одушевлялся Митрошка, и бледные щеки его вспыхивали румянцем. – Краски на небе разные-преразные… солнышко красное было, как огонек в красной лампаде, и оно таяло так тихо-тихо и словно, тять, в какое-то розовое море опускалось… Тять, грустно мне бывает, когда солнышко погасает… я всегда протягиваю руки к солнышку, словно задержать его хочу… а оно гаснет тихо, тихо, как песня. Тять, можно остановить солнышко, чтобы оно всегда светило и не закатывалось?
– Нельзя! – шептал Клим, поникнув кудлатой головой и думая о чем-то неотвязном, безрадостном.
– Почему, тять, все хорошее и светлое так скоро кончается?..
Тять, уйти бы в луга, в цветы… маленькую избу построить на берегу реки, около леса… чтобы вдали церковь была маленькая, старинная, как у нас на селе, и по утрам и вечерам звонили бы в маленький колокол… я, тятька, звон страсть как люблю!.. Мне учительша про рихметику толкует, а у меня перед глазами луга цветистые, леса черные, как в сказке, а в ушах звон речки, шелест
травы и чья-то песня вроде той, что певают деды у монастырских ворот.
– Чудной ты, Митрошка…
– Тятька, что, душа у кота есть?
– Дурында ты большая, Митрошка! Кто же ему мог душу всунуть! Ведь кот-от бездушевный!
– И коты, значит, не могут понимать нашего разговору?
– Коты-то? – переспрашивает Клим, видимо, озадаченный вопросом, и, не удовлетворив Митрошку ответом, шепчет раздумчиво:
– Дурында ты, Митрошка, писаная. .
– Тятька, зачем меня на улице ребятишки побогаче голодранцем зовут?
– На то они и богатые, чтобы над бедными издевки творить!.
– А почему ты не разбогател?
– Потому что ума у меня много! Умные люди завсегда не жравши сидят. .
Лежит Митрошка на берегу речки Болотовки, слушает, как поет она, и думает: как бы найти золотые ключи в Волге-матушке и раскрыть райские двери…
И не будет тогда бедности и слез, и ребятишки побогаче дразнить тебя не будут, и не будут бить аршином за украденную салаку, и солнышко золотое, доброе будет светить всегда…
Как бы найти ключи заветные от радости и счастья человеческого?
* * *
Митрошке пятнадцать лет. Такой же задумчивый и угловатый, в длинных отцовских брюках и с вихрами волос. Книжки стал доставать читать, с котами перестал дружбу водить и в укромном уголку стал что-то писать.
Придет Клим пьяным, лежит на полу и бредит…
В окно дождь сочит осенний. Ветер рвет ставень и завывает в трубе. Мать сидит у окна и шьет при свете маленькой лампы.
Митрошка лежит на портняжном столе и пишет огрызком карандаша на серой лавочной бумаге.
– Чевой ты, сынок, там пишешь?
– Так, ничего! – отвечает Митрошка.
Раз Митрошку услали в лавку за селедками. А Клим вынул из его сундучка «писанья» и стал читать по складам:
– «Жить надо, как следовать быть… Любовь должна как солнце светить на земле, и каждый из человеков из всех сил должен стараться найти золотые ключи человеческого счастья. У нас нет жизни – а есть слезы…
…Хорошо быть с природой. Она имеет очень понятливую душу. Глядишь на нее, и на душе у тебя радостно и покойно… И хочется мне с тятькой и мамкой уйти очень далеко…»
– Ишь ты, какой занятный! – самодовольно бормочет Клим, – Агафья, послушай, что наш Митрошка-то пишет:
«Видел я сон. Как будто бы я шел по очень большому полю и на мне была одежда, как у архангела, что на картине, и одежда эта белая – снега белее, и в руке у меня восковая свеча, и горит свеча очень светло и всю дорогу освещает, а дорога была гладкая. На душе у меня была такая радость, как в тот день, когда тятька не пьянствует и мы пьем чаи с баранками…
И вот подул ветер, сильный-пресильный… и потушил мой огонек.
И темно сделалось вокруг. И на душе у меня было очень страшно.
Я проснулся, была ночь, тятька лежал на полу пьяный и бредил…»
– Чудной Мит ронжа! – растроганно шептал Клим, всплакнув над его писаньем.
Древний свет
Дом Федота Абрамовича Дымова построен при Николае I. Сложен он из просмоленных кряжистых бревен, ставших от времени сизыми, с за-зеленью. Три маленьких окна со ставнями выходят на людную Торговую улицу, застроенную новыми каменными домами. На прожженных солнцем ставнях – вырезанные сердечки. Крыльцо опирается на два столбика, когда-то крашенных в синий старообрядческий цвет. Над входом прибита медная икона. Ступени крыльца скрипят.
Если открыть тяжелую дубовую дверь в сени, то на притолоке можно увидеть следы давнего русского обычая – выжженный огнем четверговой свечи крест, избавляющий дом от вхождения духа нечиста. Из-под крыши вылетают ласточки. Над домом шумят высокие разлапистые клены. Здесь часто пахнет хвойным деревенским дымом – в сквозной полумгле сеней разжигается самовар сосновыми шишками. На дворе крапива, задичавший малинник, бревенчатый сруб колодца, сарай, крытый драньем. У сарая два пыльных колеса и опрокинутые сани.
Захолустное строение чуть ли не в центре города вызывает насмешки и озабочивает городскую управу: дом не на месте и не соответствует теперешнему стилю.
Сын Федота Абрамовича, Артемий, бойкий, идущий в гору торговец, ждет не дождется смерти старика – дом сразу же он снесет и на его месте построит доходное каменное здание. Артемий не раз предлагал отцу снести столетнюю постройку, но тот хмурился и отрывисто возражал:
– Никаких! Дождись моей смерти, а там как знаешь!
Сын пробовал было намекнуть, что городская управа в интересах строительства города намеревается так и так распорядиться о сносе дряхлых домов, но получал еще более упрямый отпор:
– Не имеют законного права! Моя собственность!
В один из летних вечеров я пошел навестить Федота Абрамовича. Тесные сени пахнут сухими вениками, можжевельником и дымом. По утлым половицам я добрался до двери, обитой войлоком. Нащупал проволоку, протянутую к колокольцу, и позвонил. Колоколец старый, на валдайских заводах отлитый. Звон его замечательный. В бытность Федота Абрамовича ямщиком он был украшением тройки. Когда слушаешь его, то невольно вспоминаешь старинные русские дороги, по которым рассыпалась побежчивая гремь, русских людей, сидевших в кибитке, то хмельных, то влюбленных, то исступленных, тоскою и буйным весельем одержимых… Пушкин с Гоголем вспомнится… Версты полосаты, дорожные подзимки, горький дым деревень, поволье ветреных полей, морозная ткань на окнах постоялого двора. Многое передумаешь, пока туговатый на ухо Федот Абрамович не шелохнется, не зашаркает по липовому полу в своих мягких домовиках и не окликнет:
– Кого Бог привел?
Он распахнул дверь, вгляделся и с непередаваемым, отживающим теперь русским радушием раскинул ржаные крестьянские руки.
– Ба! Пачечайный гость! Милости просим, нерасстанный друг мой!
Не успел слова сказать ему, Федот Абрамович уже побежал в сени, вытряхает самовар, льет воду, трещит лучинками и, по старой своей привычке, напевает старинным деревенским ладом:
- Цвели в поле цветики да поблекли.
- Любил парень девушку да спокинул,
- Покинул, душа моя, не надолго,
- На едино времячко, на часочек.
В который-то раз я рассматриваю горенку Федота Абрамовича, и всегда она кажется желанной! Таких горенок скоро не будет. Все в ней от прошлого. В переднем углу редкая драгоценность русской старинной иконописи – преподобный Сергий Строитель. На иконе ветхое, чуть ли не в терему вытканное полотенце. Лампада из толстого багряного стекла в медном висячем кадильце. Пучок поблекших верб. На особой под иконой полочке скляница с богоявленской водой, огарки свечей от Страстной недели, засохшая просфора, завернутый в бумагу святой пасхальный хлеб – артос, кожаный синодик с именами усопших – первыми записаны император Александр Второй – Освободитель, иеросхимонах Амвросий, блаженная Ксения. Длинный перечень имен завершается словами: «И всех сродников от века преставшихся помяни, Господи». Рядом с иконами редкие, на русских ярмарках купленные литографии: «Святая Гора Афон», «Возрасты человека», «Страшный Суд», «Сожжение протопопа Аввакума».
На резной дубовой полке книги в старых кожаных переплетах – «Добротолюбие», «Патерик», «Часослов», «Житие преподобного Александра Свирского». Если взять одну из них и вдохнуть листы ее, то запахнет сушеными яблоками. Вдоль стен длинные дубовые скамьи, нескладные, но прочно сбитые табуреты с выжженными ржаными снопами на сиденье. В углу на дубовых колесиках тяжелый сундук, окованный железом, и в недрах его что ни вещь, то столетие…
Старый дом вздрагивает от проезжающих мимо автобусов и грузовиков. Слушаю пугливую его дрожь и думаю: «Все это прошлое, освященное любовью и молитвенным шепотом, перейдет к новому человеку, торгашу Артемию. Ничего он не сбережет. Что поценнее, как, например, икона Сергия Строителя, продаст, а остальное пожжет или на чердак выбросит».
– Не соответствует веку! – скажет он любимую свою фразу и тоненько захихикает.
В раскрытые окна входит вечер. Клены рассыпают прохладу. На их листьях качается завечеревшее солнце.
Шумит самовар, на нем отчеканено: «Фабрика в Туле братьев Стрельниковых». Федот Абрамович ставит большие синие чашки с золотой надписью по-славянски: «Приемлю и ничесоже противнаго глаголю». По ободку деревянной тарелки, где лежит хлеб, вьется резная русская пословица: «Хлеб-соль ешь, а правду режь». На деревянной чашке с медом ложка монастырской работы, а на донце ее мелко-мелко выжжена Троице-Сергиев-ская Лавра.
Федот Абрамович разливает чай. На левом плече у него полотенце. Сам весь улыбается – рад почаевничать с пачечайньш гостем.
– Вот и хорошо, что Господь надоумил тебя навестить старого! Кроме святого угодника, – кивает он на икону, – никого у меня! Один, как часовня в поле!
– Артемий Федотыч, поди, заходит! – добавил я.
Старик мотнул головою:
– И-и! Третий месяц глаз не кажет! Некогда. За наживой гонится, неуемная душа! Эх, деньги, деньги, семена дьявола… Пристает тут ко мне Артемка смолою едучей: сноси-де дом! Новый построим. В пять этажей. Под кино да торговые ряды сдавать его будем. Дело-то, поди, и выгодное, но поверь, дружище, не могу со своим домом расстаться. Как подумаю об этом, так и затрясусь и ослабну весь. Мы, старики, не умеем иначе жить, чтоб не срастись душою и телом с привычным, дыханием обогретым местом… Пусть подождет Артемий. Жить мне осталось немного – во рту уж земляная горечь, матушка земля к себе зовет!
Стараясь быть спокойным, он спросил меня словно невзначай:
– А правда, бают люди, что закон такой выходит, старые дома ломать?
– Поговаривают, но…
Он не дал мне досказать.
– Ну что ж. Против рожна не попрешь! Да, строится жизнь, шибко строится, а лет тридцать тому назад на нашей улице рожь росла и жницы песни пели… Города нашего не узнать. Там, где теперь лесопильный завод, кладбище было старинное. Дубы росли. На синей горе стояла церковь ев. Федора Стратилата, а теперь ресторан. Вокруг города большие леса шумели, а теперь их повырубили. Скоро и мы, старики, перестанем отсвечивать. «Имя наше забудется, – как говорит премудрый Соломон, – никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как облако, и рассеется, как туман».
– Трудно, поди, благословить вам нашу теперешнюю жизнь? – спросил я Федота Абрамовича,
– Как тебе ответить, родной мой? Мог бы и благословить ее, если человек души своей не утратил. С новым человеком я разговаривать не могу. Не живой он. Теплом от него не пахнет. Не люди, а заводные машины какие-то пошли. Ни одного лица мало-мальски светлого не встретишь… Наша стариковская жизнь, не спорю, была со всячинкой: серой, дикой и неустроенной, но зато от многих сияние шло, Христос по земле любил ходить…
Заря за окнами затуманилась тучами. Пахло дождем. В горнице потемнело. На улице трещало радио, У промчавшегося автомобиля лопнула шина. Черным дымом дымила фабрика, окутывая синие купола собора. Со спортивного плаца доносился вой футболистов. В городском саду оркестр играет модный шлягер «Твои ноги, как змеи».
– Эк их, шумят! – мягко воркотнул Федот Абрамович, кивнув на улицу. – Под вечер-то хоть отдохнули бы. Мучает себя человек шумом. Поди ведь, у всякого востосковала душа по земле Божьей, по тихой поступи… Нужен человеку покой, ой как нужен! По малообразованию своему трудно мне изъяснить теперешнее положение мира, но чувствую: нескладная и тяжелая у человека жизнь!
Но уходя от Федота Абрамовича, я оглянулся на его дом. Из всех домов на этой улице только в нем одном всегда теплилась лампада. Древний свет ее в эту ночь казался последней светящейся точкой старости, уходящей в синие предвечные дали.
Серебряная метель
До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной «Христос раждается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.
В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:
– Если принесешь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!
«Ничего, – подумал я, – посмотрим… Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на пятерку исправлю… За арихметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, – ее тоже на пятерку исправлю…»
Когда все это я сообразил, то сказал родителям:
– Баллы у меня будут как первый сорт!
С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:
– Ты слышишь, как пахнет Рождеством?
– Пока нет, но скоро услышу!
– Когда же?
– А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнет, тогда и услышу!
Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.
– Ты чего губы надул? – спросил Гришка.
Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:
– Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?
– А чем же?
На это я ничего не смог ответить, покраснел и еще пуще рассердился.
Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские.
За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.
Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арихметику поставили тройку, а за поведение – пять с минусом.
Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелют половики, затеплят лампады перед иконами и впустят его…
Наступил сочельник; он был метельным и белым, белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: «Необыкновенный снег… как бы святой! Ветер, шумящий в березах, – тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те… По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и, как чудной, чему-то улыбался.
Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово – «Рождество».
Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.
Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого – одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку… Сел с ней рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче «Дева днесь Пресущественнаго раждает» и вместо «волсви. со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют». Отец, прослушав мое пение, сказал: