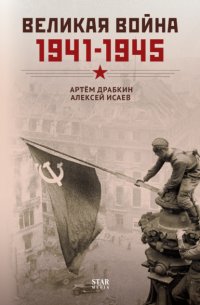Читать онлайн На войне как на войне. «Я помню» бесплатно
- Все книги автора: Артем Драбкин
© Драбкин А., 2015
© ООО «Издательство «Яуза», 2015
© ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
Корякин Юрий Иванович
Меня призвали в октябре 1941-го из 10-го класса в дни всеобщего московского разорения, грабежа и паники. Призвали, несмотря на то что мне только исполнилось семнадцать. Видимо, чтобы не оставлять немцам потенциального солдата. Примерно неделю я шел пешком в составе команды, сформированной в военкомате, до Ильино-Зорино, что в Горьковской области. Там находились огромные формировочные лагеря. Нас поселили в полуземлянке на 300–400 человек. Меня направили на курсы младших командиров. Ходили рыть какие-то окопы. Из нас готовили командиров отделений, а это была верная смерть. В этот лагерь регулярно приезжали представители других родов войск, которые отбирали и увозили подходящих по образованию людей. Мои неоконченные 10 классов считались, по тем временам, очень высоким образованием, так что я был востребован. Сначала меня привезли в гвардейскую минометную часть. Там меня забраковали и отправили назад, потому что я сказал, что отец у меня арестован. Потом я поехал еще в одну часть. Я опять сказал об аресте отца, я был честным человеком, а надо было врать, что я и сделал в третий раз, когда приехали набирать людей в связисты. Я решил: «Что говорить? Скажу, что отец в эвакуации. Кто будет разбираться?» Так и произошло. В феврале 1942-го я, наконец, попал на фронт, окончив, правда, перед этим Горьковскую школу радистов. Мне опять повезло: я попал связистом в Заполярье на Кандалакшское направление в 77-ю Отдельную стрелковую морскую бригаду. Соответственно, наша часть состояла из матросов. Отличались они тем, что на одно нормальное русское слово у них приходилось пять матерных. Я и сам мог, но чтобы такая обильная, бытовая, естественная матерщина слетала с языка – для меня это было удивительно. Кроме этого, они всегда расстегивали ворот, чтобы была видна тельняшка, ну и наколки – не блатные, а патриотические: профиль Сталина или бескозырка. Против нас стояли не финны, а немцы, дивизия SS «Nord», здоровые, крепкие, хорошо обмундированные парни. Летом 1941 г. они прошли от границы примерно 150 километров, но в 70 км от Кандалакши были остановлены, и с осени 1941 г. до лета никаких активных боевых действий на нашем участке фронта не велось. Линия фронта была стабильна почти два с половиной года, мы даже окопы отрыли, хотя долбить мерзлоту можно было только кайлом или ломом. Фланги же были свободны – озера, болота. Ты видел кино «А зори здесь тихие»? Хорошая картина. Ну вот, там такая же местность. Безлюдье. Учитывая оголенность флангов и нашу любовь воевать зимой, как только становились болота и озера, начинались различные поисково-диверсионные операции за линией фронта. Собиралось 2–3 взвода, то есть 60–90 человек, я с радиостанцией, и мы ходили по немецким тылам. Ходили на лыжах, иногда с нами были олени, которых использовали для перевозки боеприпасов и раненых, собак никогда не брали – они лают, заразы. Причем мы ходили довольно далеко, к самому Рованниеми (примерно 200–250 км. – Прим. Артема Драбкина), и в такие дни, когда никакой немец воевать не будет. Ну, например, Новый год в 43-м и 44-м я встречал за линией фронта. Выходили числа 20 декабря, чтобы к Рождеству быть глубоко в тылу. Какой немец будет в Рождество воевать? А русские будут. Вот оно – русское коварство! Нападали на немецкие гарнизоны или опорные пункты, минировали дороги. Всегда соизмеряли свои силы, поэтому часто бывали срывы, разведданные редко бывали достоверными: оказывалось, что опорный пункт совсем не такой простенький, как докладывала разведка, или гарнизон не пятьдесят, а двести человек. Это были очень трудные походы: и холодно, и боязно, и тяжело. Попробуй почти три недели прожить на морозе 20–30 градусов! То-то! Хотя мы были довольно хорошо одеты: валенки, стеганые штаны, маскхалат, тулуп, а под ним еще и телогрейка, гимнастерка, теплое байковое белье, потом обыкновенное полотняное. Водку давали и кормили – 100 граммов хлеба в сутки на человека. Тушенка была американская. Вкусная зараза! Большая банка – в ней свиной жир, который можно было намазывать на хлеб, а в середине – кусок мяса с кулак. В общем, голодными не были… сало, сухари. Даже коптилки были, так называемые жми-дави. Это такая баночка, типа консервной, в которой находился разведенный в спирту стеарин. Если зажечь эту смесь, она горит бесцветным пламенем. Можно было подогреть еду или вскипятить воду. Но чего спирт жечь-то – его пить надо! Поэтому вываливали в тряпочку и отжимали – граммов 50 спирта получалось, а поскольку баночек давали несколько, то выпить можно было вполне прилично, хотя и противно, конечно, а оставшийся воск тоже горит. Из оружия в эти рейды мы брали автоматы и гранаты, иногда один или два «дягтерева». В 1942 году у нас еще винтовки были – это, конечно, бандура неудобная, а потом нам «ППШ» дали. Никаких забросок или помощи с Большой земли не было. В основном все тащили на себе: автомат, вещмешок, радиостанцию. Радиостанция у нас была американская V-100, с приемо-передающей частью, как телевизор среднего размера. На прием она работала от батареи BAS-80, которая давала 80 V, а для передачи ей требовалась дополнительная энергия, поэтому к ней прилагался так называемый «солдат-мотор»: складной треножник с педалями, которые надо было крутить руками. Она была более мощная, чем наши, а поскольку мы уходили далеко, то брали ее. В эфир мы редко выходили: боялись, что запеленгуют. Вообще, судьба радиста была довольно странной: все время ты сам по себе. Начальство радистов гнало к чертовой матери из страха быть запеленгованными и накрытыми вражеской артиллерией, и в то же время без нас нельзя было обойтись, поэтому все время мы где-то в стороне находились, в какой-нибудь землянке, в яме, в воронке; залезешь и там сидишь, чтобы быть все время на связи, но в эфир высовываешься только в крайнем случае. Сообщения нам приносили уже в виде колонок пятизначных цифр, так что их содержания я, конечно, не знал.
Зима 1943/44 года мне больше всего запомнилась. Это была наша самая кровопролитная операция. Нас было человек 80–90, а потеряли мы 30–40, то есть на каждого приходился один раненый или убитый. Тогда же произошел трагический случай. В нашей части служили два родных брата, и во время боя за блиндаж туда прорвался один из братьев, а второй, не заметив этого (ночью ж это было), кинул туда гранату и убил его. Он потом так горевал, так горевал… хотел застрелиться. Как раз был приказ Сталина – убитых, а тем более раненых, не оставлять, тащить обратно. Тащили на волокушах – фанерной лодочке с веревкой. Я тащил раненого матроса. В общем, не тяжело, но это же не один десяток километров, да к тому же у меня рация, автомат, ну, вещмешок я клал ему в ноги… да и не шоссе – сто раз я его на всяких горках перекувыркивал и опять клал. Этот матрос, я так и не знаю, как его звали, был ранен в грудь, и хотя я его перевязал, но кровь все равно текла. Что я мог сделать? Медсестру мы не брали. Время от времени, приходя в сознание, он просил: «Браток, пристрели, пристрели, браток…» Я его, правда, дотащил, но он тут же умер. В довершение всего при подходе к линии фронта надо было связаться со штабом. Командир, майор Карасев, суровый мужик, приказал развернуть радиостанцию, и мой напарник батарею 80 V засандалил на накал, где 2,5 V! Разумеется, лампы сгорели, так что на передачу она работала, но принимать мы уже не могли. Командир кричит: «Застрелю, сволочи!» Он нас, конечно, не застрелил, но наград мы не получили. А в другой раз, по возвращении, мы остановили хлебовозку, голодные были. Потом на всех завели уголовное дело, хотя его и удалось замять, мы опять остались без наград. Вообще, мне не везло с наградами. В 45-м спас своего командира взвода, который тонул на переправе, а за спасение командира полагалось награждение – снова не дали. У меня, конечно, есть орден Красной Звезды, медаль «За отвагу» но наград немного… Правда, солдату много и не положено было.
Приводили пленных. Много старались не брать: с ними хлопот не оберешься. Желательно, конечно, офицеров, от солдата как от языка толку мало. Пленные шли с нами на лыжах и даже тащили раненых. Лыжи у немцев были более удобные. У нас – валенки и мягкие ременные крепления, а у них были «персы», то есть теплые ботики с загнутым носом, который вдевался под скобу на лыжах. Когда мы приходили, к нам присылали аэросани или собачьи упряжки, которые увозили пленных на допросы, а раненых – в госпиталь. Усталость была безмерная, чудовищная усталость, чудовищная… Но нам везло: не мы одни ходили. Я слышал, что попадали и в засады, и к финнам, а финны были злобные. Так что от судьбы я получил такой подарок, который никто никогда мне не делал и уже больше не сделает, – ЖИВ. А мог умереть, и не раз.
Летом все замирало: ни мы, ни немцы не воевали. Наша радиостанция была на самой вершине сопки, где-то метрах в трехстах от передовой, замаскированная среди нескольких растущих там деревьев. Ну, а месяц июль, жарко, мы разделись и загорали. Вдруг, откуда ни возьмись, Fokker-Wolf! Как пальнул очередью по нам, круг сделал и еще, начал гоняться за нами. Он летел низко, метров 10–15, видно было, как летчик ржет, а мы, без оружия, совсем голые, мечемся по зеленой лужайке. Не попал, но было очень страшно. Но вообще-то скучно было. Многие просились на другие участки фронта, но обычно это ничем не заканчивалось: «Сиди. Тут тоже война. Родина требует быть там, где тебе сказали». Доставали постоянные пожары, так как обе стороны кидали зажигательные бомбы, чтобы спалить леса. Поскольку войны не было, то солдат заставляли что-нибудь делать. В частности, собирали для госпиталей ягоды: морошку, клюкву, чернику, смородину. Норма – котелок в сутки сдать на кухню. Ну, и обустраивались: лесопилку сделали, землянки отрыли, клуб на двести человек построили. Там выступали артисты и показывали кино. Какие-то соревнования спортивные устраивали. Иногда приезжал магазин, где на те гроши, которые нам платили, можно было купить зубной порошок, одеколон, конверты для писем. Были и романы с девчонками-связистками, цензоршами из полевой почты. Туда набирали наиболее симпатичных и грамотных.
Корякин Ю.Д. у рации
В 1944 году, когда стало готовиться наступление, начали прибывать новые, прежде всего артиллерийские, части, необходимые для взламывания построенной за прошедшие два с половиной года обороны противника. Тогда я впервые увидел «катюши», но больше удивляли «андрюши» своими снарядами, по форме напоминающими головастика, которые были упакованы в деревянные коробки, так что их можно было катить. А тогда вышел приказ, что все, что движется за линией фронта, должно быть уничтожено, вплоть до собак. Дело происходило летом, заметили разведчики, что в озере купаются и загорают голые девки, видимо, бордель к эсэсовцам приехал (откуда еще в этой глуши девкам взяться?), ну, и накрыли их залпом «катюш». Сейчас я думаю, что это варварство, а тогда это было в порядке вещей – похохотали и всё. Мы все были так настроены. Везде висели плакаты, изображавшие человека, который смотрит прямо в тебя и говорит: «Ты убил немца?» Или сидит такой славянский тип и держит на ладоне три гильзы, а внизу стишок: «Ну как же не гордиться: три пули и три фрица!» Такая была атмосфера, но ведь у нас не было солдата, который не пострадал бы от войны, не имел родственников, погибших или в оккупации.
Летом 1944-го началось наступление, и мы дошли почти до Рованниеми. Мы были не в первой цепочке, а тащились с рациями за пехотой метрах в 200–300. То есть если и погибнешь, то только дуриком – в тебя же не целились. Как раз в это время мы, радисты, были очень нужны, поскольку при отсутствии проводной связи все взаимодействие войск шло через рацию. Кроме того, я получил повышение по службе, стал старшиной и начальником радиостанции, у меня в подчинении было два человека.
В декабре 1944-го весь наш полк перебросили в Вологду на отдых, перевооружение и пополнение. Мы получили новые радиостанции. Я за водку сменял свой «ППШ» на «ППД» с откидывающимся ложем; вело его, правда, в сторону, но зато он легкий и с рожковым магазином. Нам полагалось 75 граммов спирта в день на человека, но поскольку мы были на радиостанции в стороне, то нам его давали сразу на 10 дней – 750 граммов, прилично можно было надраться. На основе этого была торговля: я старшине дал флягу со спиртом, а он мне заменил автомат. Вот такой бартер. Сапожки получить или шинель канадского голубого сукна (очень ценилась, поскольку, в отличие от наших, была чистошерстяной)… Много в армии существует соблазнов, а за них так или иначе нужно платить.
А потом началась вторая часть моей войны. В январе нас перебросили на западное направление. В эшелоне по дороге в Польшу нас инструктировали, как себя вести с местным населением. Говорили, что поляки дружественный славянский народ, воевавший против фашистов. Просили, чтобы высоко держали честь Красной Армии. Обещали наказывать в случае нарушения дисциплины. Правда, со мной произошел такой случай. Сижу я у себя в кунге, вожусь с радиостанцией. Вдруг стук в дверь. Я открываю, на пороге стоит старый поляк и что-то быстро говорит по-польски, хватает меня за рукав и тянет за собой. Я только понял, что что-то случилось с его дочерью. Приходим к нему в дом, что был поблизости, и я вижу, как какой-то танкист пытается изнасиловать девушку, видимо, дочь этого поляка. Я его оттащил, а он пьян в дым. Капитан, с орденами через всю грудь. Слава богу, он пришел в себя. Говорит: «Старшина, пойдем к тебе выпьем». Пошли. Он достает флягу. Налили. Я выпил и у меня глаза на лоб – бензин! Я ему: «Ты чего налил?!» Он: «Да ты пей – это спирт. Понимаешь, ехали мимо спиртзавода, а спирт налить не во что. У нас один бак почти пустой был, так – чуть-чуть солярки на донышке, ну вот туда и налили».
Перед переходом границы с Германией в районе Бромберга (Bydgoszcz) политрук роты пришел на собрание и сообщил следующее: «Мы вступаем на территорию Германии. Мы знаем, что немцы принесли неисчислимые беды на нашу землю, поэтому мы вступаем на их территорию, чтобы наказать немцев. Я вас прошу не вступать в контакты с местным населением, чтобы у вас не было неприятностей, и не ходить по одному. Ну, а что касается женского вопроса, то вы можете обращаться с немками достаточно свободно, но чтобы это не выглядело организованно. Пошли 1–2 человека, сделали что надо (он так и сказал: «что надо»), вернулись, и всё. Всякое беспричинное нанесение ущерба немцам и немкам недопустимы и будут наказываться». По этому разговору мы чувствовали, что он и сам не знает точно, каких норм поведения следует придерживаться. Конечно, мы все находились под влиянием пропаганды, не различавшей в то время немцев и гитлеровцев. Отношение к немкам (мужчин немцев мы почти не видели) было свободное, даже, скорее, мстительное. Я знаю массу случаев, когда немок насиловали, но не убивали. В нашем полку старшина хозроты завел чуть ли не целый гарем. Он имел продовольственные возможности. Вот у него и жили немки, которыми он пользовался, ну и других угощал. Пару раз, заходя в дома, я видел убитых стариков. Один раз, зайдя в дом, на кровати мы увидели, что под одеялом кто-то лежит. Откинув одеяло я увидел немку со штыком в груди. Что произошло? Я не знаю. Мы ушли и не интересовались. Но картина кардинально изменилась после Победы, когда 12–14 мая на развороте газеты «Правда» была опубликована статья академика Александрова «Илья Эренбург упрощает». Вот там было провозглашено, что есть немцы, а есть гитлеровцы. Это было время перемен, когда началось мирное строительство. Тогда начали закручивать гайки, наказывать практически за любой проступок. Уже на острове Борнхольм один сержант снял с датчанина часы – просто отнял, и срезал кожу со спортивных снарядов в школе на сапоги. Так вот его приговорили к расстрелу, но Рокоссовский приговор не утвердил.
Был еще и такой случай, когда солдат или сержант поцеловал или обнял датчанку, а это видел какой-то датчанин, который позвонил в комендатуру, и этого солдата тут же арестовали и хотели отдать под трибунал якобы за изнасилование. Но когда эта девчонка узнала, что парня хотят отдать под суд, то она сама прибежала в комендатуру и сказала, что парень совершенно не намеревался ее насиловать. Правда, когда в 1995-м году нас датское правительство пригласило на Борнхольм на празднование 50-летия Победы, нам сказали, что после ухода наших войск в 1946 году там было около сотни внебрачных детей. По-видимому, это относилось к нашим офицерам, в отличие от солдат жившим свободно на частных квартирах. Мы высадились в Восточной Польше, в городе Острув-Мазовецкий и попали в состав 1-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского. Но как только мы приехали, фронт разделился: Рокоссовский был назначен командиром 2-го Белорусского, а командовать 1-м Белорусским стал Жуков. Нас перевели в подчинение 2-го Белорусского фронта. Догнали фронт уже в Померании. «…Разница между Карелией и Польшей была огромная. Безлюдье, валуны, леса и болота сменились дымящимися развалинами, воронками от бомб, городами с горящими улицами, там и сям лежащими трупами, красивыми, добротными домами, черепичными крышами ухоженных усадеб и кирх и невиданными для нас отличными автобанами… Ко всему прочему, мы из морозной, заснеженной Вологды внезапно попали в раннюю весну, яркое солнце. На этом фоне наши полушубки, шапки-ушанки и валенки выглядели нелепо, пугали местных немцев, вызывая смех и издевки солдат из других частей…
Померания – это житница, самая сельскохозяйственная часть Германии, там было много картошки, а еще больше спирта… Бежит посыльный, машет мне рукой, кричит: «Старшина, к командиру роты!» Бегу. Ротный, застегивая планшет, прерывает мой доклад: «Видишь знак? От него дорога к группе домов, узрел? Развернешь свою рацию там и быстро вертайся. Штаб, – кивнул в сторону дома, – разместится тут. Усек?» Через несколько минут с напарником Димкой уже подходим к дорожному знаку с надписью «Аикфир».
Подходим к крайнему дому деревни. Оглядываемся. В деревне, кажется, ни души. Дом добротный, двухэтажный, с мансардой. Рядом растет большое дерево, до которого можно дотянуться, стоя на крыше. Если влезть выше на дерево, закрепить там антенну и спустить ее в мансардную комнату, будет в самый раз, надежная связь.
Но надо в дом. Три года фронта научили быть осторожным. С автоматом наготове, след в след (благо валенки мокрые) поднимаемся на крыльцо, привязываем веревку к ручке, отойдя назад, укрывшись за дерево, дергаем. Дверь с шумом распахивается. Уже смелее заглядываем внутрь: небольшая прихожая, пусто, слева дверь. Снова дергаем ручку. И уже, топоча намокшими валенками с прилипшим к подошве песком и землей, появляемся на пороге во всей своей заполярной красе с автоматами наперевес. До конца жизни не забыть мне дикий, пронзительный вскрик невысокой девчушки лет 15–16, метнувшейся со вскинутыми руками навстречу из-за стола, стоявшего посредине большой, богато обставленной комнаты.
Мгновение, и она колотит меня кулаками в грудь по меховым отворотам засаленного полушубка, повторяя: «Их бин кранк! Их бин сифились!» Схватив девчонку за руку и отстраняя ее, оборачиваюсь к Димке: «Чёй-то она, а? Понял?» Димка осклабился: «А то нет». Да я и сам все понял, скорее сдуру спрашивал. Держа рыдающую взахлеб девочку за руку, размышляю: «На дьявола она мне со своими соплями, нам же наверх надо, в мансарду? Отпустишь – черт знает, что натворит». Говорить с ней – ни я, ни Димка по-немецки ни бум-бум. Врезать ей, чтобы не путалась под ногами, рука не поднимается: девчонка же, дура. В растерянности оглядываюсь, ища лестницу. Ее не видать. Димка опережает: «Дверь!» Она у меня за спиной, рядом с той, через которую мы заявились. Делаю шаг к ней; девчонка вырывается, опережая меня, прижимается спиной к двери и снова в отчаянии кричит: «Нихт, нихт». И опять за свое: «Их бин…» Это уже мне кажется подозрительным. Отшвыриваю девчонку, кричу Димке: «Держи ее!» – и с автоматом на изготовку ударом ноги распахиваю дверь, заметив, что она открывается внутрь. Из полумрака чулана с маленьким оконцем раздаются стенания, причитания и детский плач. Заглядываю. Мать честная! На скамейке и на полу сидят несколько человек. Приглядываюсь: старик, три женщины и четверо детей. Все голосят, и у всех на коленях и рядом полные корзины и баулы со скарбом. Вроде как в дорогу собрались. Ну, а если бы я запулил туда очередь? Ну дела!
Буквально обалдев, оборачиваюсь к напарнику, державшему девчонку. В этот момент слышим шум подъезжающей машины. Оба вскрикиваем: «Немцы, ложись!» Я валюсь у порога, Димка, повалив девчонку и зажав ей рот, смотрит в сторону окна, откуда шум. Семья в чулане замолкает. Мотор выключили, послышались голоса, чьи – не разобрать. Наступает тишина, лежим. Словно на Судном дне, вдруг брякнул один удар напольных старинных часов. Шарю рукой у пояса, достаю гранаты. Девчушка при виде их опять в голос заныла. Димка, матерясь, прижимает ее голову носом к ковру. Затем ползет к окну, не выпуская ее руку. Она хлюпает носом, ползет рядом. С угла окна «кавалер» осторожно заглядывает на улицу и неуверенно мямлит: «Навроде наши». Я ему: «Навроде! А вдруг нет?» – «Не, – отвечает, продолжая смотреть, – точно, славяне», – и встает. Она тоже. Голоса приблизились, слышна команда: «Становись, примкнуть штыки». Уф, отлегло…
Димка поворачивает девчушку лицом к чулану, дает ей коленкой под зад, добавляя: «Вали, тютя, к своим, тоже нашлась». Та – бегом: натерпелась. Выходим на крыльцо. Нас мгновенно замечают несколько солдат. И нам: «Вы кто? Руки вверх!» Тут уж мы, забросив автоматы за плечо, разрядились от души, по-русски, за все сразу. В том числе за их пижонские, вышедшие из военной моды дурацкие винтовки с приткнутыми штыками, за новехонькое обмундирование солдат явно из войск НКВД: фуражки с околышами, длинные, канадского серо-голубого сукна шинели (очень ценились на фронте) с гладкими щегольскими чистенькими погонами, новехонькими сапогами, а не обмотками, как у пехотуры. Из-за грузовика выскакивает капитан: «Отставить! Кто такие?» Объясняем. Подходит к нам, закуривает «Беломор», протягивает пачку. Это подкупает, видать, из фронтовиков, говорит по-свойски: «Вот что, ребята, сейчас подойдут еще машины, будем выселять деревню. Начнем с того конца. В вашем распоряжении пара часов, если что надо». Чуть ухмыльнулся. «Но не советую тут оставаться долго, насмотритесь. Про Ялтинскую конференцию слыхали? То-то. Полякам отдают этот край». Кивнув на дома, вздохнул: «А жили богато, нам бы в рязанскую». Словно опомнившись, вдруг строго отрубает: «Чешите лучше отсюда и доложите своим». Дружно киваем: «Есть доложить», – и ходу…
У Кошарина мы вышли к морю, затем повернули на восток, дошли почти до Гдыни, а потом повернули обратно и дошли до Сванемюнде. Я уже работал на полковой радиостанции, размещавшейся на «Studebaker US6x4», «сударе», как его называли. Радиостанция была американская, SCR с двигателем, размещенным на прицепе, и кунгом. Машина, кстати, поставлялась вместе с шоферским инструментом и кожаным пальто для водителя. Если видели, на фронте все наше начальство щеголяет в кожаных пальто, так это изъятые из комплекта, прилагаемого к американским «Studebaker». Вдруг вечером 9-го мая нас вызвали в Кольберг (Колобжег) и приказали грузиться на баржу. Говорили, какой-то десант. Баржа была метров шесть шириной, мы привязали наш «Studebaker» на палубе, а в открытый трюм краном погрузили лошадей и пушки. Как только стемнело, мы куда-то поплыли. Не, ну ты представь – пехота по морю! Блевали страшно! А тут еще один из тросов, что держал нашу машину, лопнул. Ну, думаем, если сейчас наш «Studebaker» упадет, нам всем трибунал. Среди нас был один моряк, радист Аркашка Кучерявый, ленинградец. Он полез по узенькому бортику между морем и трюмом, нашел цепь, и мы обмотали ею машину. Утром увидели берег, и тут нам сказали: «Дания. Борнхольм». Когда подплывали к порту, часов в шесть утра, слышали стрельбу, но пока катер нас подтаскивал, стрельба прекратилась, и мы уже выгрузились совершенно спокойно. Потом оказалось, что на острове было восемнадцать тысяч немцев, но они, немного посопротивлявшись, быстро одумались и сдались. Мостки подобрали, выехали, и я увидел мирную обстановку. Прямо в порту, вижу, написано «Кафе», мы с приятелем туда вломились, а там сидят датчане и едят мороженое. Мы тоже решили купить, достали деньги (нам давали немецкие марки), а продавец от нас как черт от ладана что-то: «Nicht, nicht», – не подходит, значит. Ушли мы несолоно хлебавши. В тот же день мы узнали, что война закончилась. Я включил приемник, поймал Москву, а там уже передают поздравления с Победой. В этом смысле радистам хорошо: можно послушать музыку или новости; хотя полагалось все время находиться на одной волне, чтобы быть готовым к вызовам. Меня даже на партсобрание вызывали, потому что я музыку на дежурстве слушал. Дежурили только по двое, этого требовал СМЕРШ: вдруг ты вступишь в контакт с противником? А так – контроль. В то время приходилось постоянно опасаться доносов.
Война закончилась, но мы еще 2 месяца провели на этом курорте. Там, правда, был сухой закон, но мы меняли на одеколон бензин, провода, лампы, батарейки. У меня 14 июня день рождения. Ребята говорят: «С тебя причитается. Организуй нам что-нибудь вкусное, надоела эта котловая еда». Что придумать? Живем-то на море. Ну, рыбы можно наловить, но сетей нет, значит, наглушить. У нас были батарейки для фонариков. Они ценные были, потому что все, и солдаты, и офицеры, ходили с фонариками, а по штату они были только у нас. На несколько батареек я выменял кучу противопехотных мин и одну противотанковую, потом с напарником пошли к морю, там за бухту армейского провода выменяли у датчанина лодку. Положили туда мины, взрыватели, бикфордов шнур и в полукилометре от берега стали рыбу «ловить» – шнур приладишь, зажжешь, и все. А рыбы было: полчаса – и у нас пол-лодки! Приплываем. Нас встречает патруль с автоматами наперевес: «Вылезай!» И рядом с ними датчанин. Он нас продал! «Шагом марш!» Старшина ведет нас в комендатуру, материт: «Ишь, – говорит, – взяли моду рыбу глушить! Сети…, рвете! Рыбаки командованию жалуются! Придем в комендатуру, мы вам покажем!» Я не думаю, чтобы нас отдали под суд, но выговор получить или на гауптвахту посадить могли. Уже стали наводить порядок – везде наклеили объявления и проводили собрания о том, как вести себя с местным населением.
Я к старшине, говорю:
– Всего делов-то, подумаешь, рыбу глушили, все же день рождения! Давай махнем не глядя: ты нам – свободу, а я тебе финку дам.
У меня была красивая финка с наборной ручкой. Он говорит:
– А датчанин не заложит?
– А зачем? У него наша рыба осталась.
– Ладно, – говорит, – давай финку и вали отсюда.
Ну, пришли в расчет, рассказали, ребята говорят: «Хрен с ней со жратвой рыбной, но давай выпивку доставай». На следующий день, сменившись с дежурства, я взял бинокль и пошел в аптеку, чтобы попробовать обменять его на одеколон. В Ревено нашел аптеку. Вхожу, держу в одной руке бинокль, а другой рукой делаю такой жест: нюхаю ладонь и провожу ею по волосам, и так несколько раз, имея в виду, что мне нужен одеколон для волос. Аптекарь говорит: «Ja, ja», – кивает, вроде понял. Я ему бинокль, 12-кратный, цейссовский, трофейный! Во! Красотища! А он приносит мне бутыль. Я посмотрел, понюхал – пахнет. Ну, думаю, одеколон. А стекло темное, ничего не видно, пробка притертая. Притаранил. Налили по полной, дернули за меня и у всех глаза на лоб – бриалин для волос! Этот Аркашка Кучерявый, который нас с машиной тогда спас, говорит: «Ты, что ж, балда, принес? Это ж бриалин, он же на касторке делается. Мы ж с него дристать будем дальше, чем видеть!».
Ну я автомат и остатки бутыли с собой и обратно в аптеку. Пытаюсь качать права, а он: «Nicht, nicht». Я завелся, хватаюсь за автомат. Он выходит из-за прилавка, здоровый, больше меня, берет меня за руку и тащит к стене. А на стене – двуязычная листовка с фотографией нашего коменданта острова, генерал-майора Короткова. Я читаю обращение к гражданам острова Борнхольм о том, что пришли наши войска, освободили вас от немцев, и наша задача – обеспечить вам спокойную жизнь. О всех случаях недисциплинированности со стороны военнослужащих Советской армии немедленно докладывать в комендатуру и так далее. Датчанин и ткнул меня мордой в этот приказ. Короче, я как побитый пес побрел с этой бутылью домой. Обернулся – никого нет. Как шарахну ее об стену, опять незадача – брызги на меня. В общем, кругом в дураках остался, но запомнилось.
В августе поехали на войну с Японией, но не доехали. Вот так и закончилась для меня война. Я еще два года прослужил и в МИФИ. Никто моим отцом так и не интересовался, я и в партию вступил. Разве меня, сына врага народа, за линию фронта пускали бы?
Гольбрайх Ефим Абелевич
Я родился в 1921 году, в городе Витебске. Мой отец до революции был членом боевой организации партии эсеров-революционеров. После 1917 года он отошел от какой-либо политической деятельности, трудился простым служащим. Осенью 1937 года отца арестовали, и уже через неделю, после второго допроса, он был приговорен Особым Совещанием к расстрелу. Приговор привели в исполнение в январе 1938 года. Об этом я узнал совсем недавно. А тогда получили уведомление со стандартной фразой на бланке: «Осужден на 10 лет, без права переписки». Так, в один час, из комсомольца-патриота я превратился в изгоя, с клеймом сын «врага народа». Из тридцати моих одноклассников у восьми был арестован один из родителей, а у Вани Сухова посадили и мать, и отца. Нашу семью не выслали, и меня даже не исключили из школы. Окончил десятилетку и работал инструктором детской технической станции. Пришел срок призыва в армию, но меня не призвали, лишь зачислили в запас второй категории. Это означало, что даже в военное время мне нельзя давать в руки оружие. По своей наивности подал документы на поступление в Высшее военно-морское училище. Помню только, как военком грустно покачал головой, не говоря ни слова, принимая мое заявление. К началу войны мои друзья служили в кадровой армии, а я работал и учился на первом курсе физмата Витебского пединститута. Когда объявили о начале войны, явился в военкомат. Сказали: «Жди повестки, о тебе не забыли». Из студентов института сформировали истребительный батальон, вооружили старыми бельгийскими винтовками без штыков и послали на патрулирование улиц. Уже через неделю приказали сдать оружие, и наш батальон расформировали. 3 июля 1941 года услышали обращение Сталина к советскому народу и впервые поняли всю серьезность нашего положения, почувствовали, что война будет долгой и тяжелой. Через город шли беженцы. 8 июля привел на вокзал мать с маленькой сестренкой и брата. На перроне стоял пассажирский поезд, оцепленный вооруженными красноармейцами, а в привокзальном сквере ожидали посадки на поезд семьи командиров Красной Армии. Все эти семьи посадили в вагоны, никого другого к поезду не подпустили. Появился немолодой, незнакомый майор, взял наши вещи и сказал: «Идите за мной». Провел мимо охраны, открыл дверь тамбура и буквально затолкал моих родных внутрь. Он сказал: «Никуда не выходите из поезда». Я не знаю имени этого благородного человека, но ему моя семья обязана жизнью, он спас моих родных от неминуемой смерти. Мать до конца своей жизни молила Бога за этого человека. Вернулся с вокзала, пошел платить за квартиру и электричество, сдал книги в библиотеку. Собрал дома какие – то пожитки и вновь пришел в военкомат. А там никого, все работники уже сбежали. Висит на стене сиротливо картина «Ворошилов и Горький в тире ЦДКА», ветер гоняет ворохи бумаг… Пошел в штаб 27-й Омской Краснознаменной дивизии, стоявшей в Витебске. Пусто… А на следующий день немцы несколько раз бомбили город. Я впервые увидел убитых женщин и детей, лежавших на городской мостовой… По всему городу полыхало зарево пожаров, а на другом берегу Двины через виадук входили немецкие танки. Гремели взрывы, подорвали мост и электростанцию. На центральных улицах зияли разбитые витрины продовольственных магазинов. Вдруг услышал цокот копыт. На городскую площадь въезжал крестьянский обоз. Мародеры… В своем большинстве женщины. На лицах смесь смущения и азарта…
Никакой обороны города не было. Только на одном из выходов из города я увидел пулемет «максим» и старшего лейтенанта Сухоцкого, преподавателя военного дела в нашем институте. Он кричал: «Ничего! Встретим!» Рядом с ним стоял молоденький красноармеец и смотрел на лейтенанта умоляющими глазами. С пулеметом против танков… До войны в Витебске проживало почти сто восемьдесят тысяч человек, а когда наши войска в 1944 году освободили город, в нем оставалось всего несколько сотен людей.
– Отступление на восток. Что запомнилось из тех событий?
– Самое страшное, что навстречу фронту шли сотни мужчин в гражданской одежде. Нет, они не искали военкоматы… Это уже переодетые красноармейцы-дезертиры возвращались по домам. Никто из них этого не скрывал.
Я шел на восток всю дорогу с двумя гродненскими комсомольцами, но они не выдержали. Пошли к себе домой… Нам на головы с самолетов немцы кидали листовки. Мол, «Москва взята, Красная Армия разбита. Бей жидов-комиссаров»… Многие начали верить написанному в листовках. Встретил еврейскую семью, возвращавшуюся в Витебск. Мать, отец и трое детей. Старший сын – паренек, лет семнадцати. Уговорил его родителей отпустить сына со мной. Встретил его после войны. Он воевал, был несколько раз ранен, грудь в орденах. Спросил о семье… Все его родные расстреляны в гетто…
Еды у нас не было. Питались земляникой, да еще иногда в деревнях добрые люди давали хлеба. Мои ботинки разбились, и я шел босиком. Сердобольный дед в одной из деревень дал мне лапти. Вышли к своим в районе города Ярцево, там не было сплошной линии фронта. На станции выгружалась хорошо экипированная и вооруженная дивизия, прибывшая с Дальнего Востока. Это производило внушительное впечатление. Стал просить о зачислении меня в эту дивизию. Привели к начальнику особого отдела. Пожилой особист сказал: «Иди, сынок, ты еще успеешь». Так, в лаптях, дошел до Москвы, к родственникам матери. Пришел в военкомат. Все командиры вокруг меня сгрудились, просят рассказать об увиденном. Показал на карте, как шел, рассказываю, что творится на дорогах. Сразу же нашлась «добрая душа» и позвонила «куда надо». Через полчаса в комнату вошли два сотрудника НКВД. Посадили меня в «эмку» и привезли в свой райотдел. Там я снова пересказал всю свою «одиссею». Эти чекисты оказались порядочными людьми. Меня отпустили, на прощание сказали – никому ничего не говорить. Пришел в МГПИ к директору института Котлярову. Он зачислил меня на второй курс и дал место в общежитии института на Трубной площади. Вскоре нас переселили в другое здание, на Усачевке, а в нашем общежитии стали формироваться партизанские отряды для заброски в немецкий тыл. В эти отряды отбирали только тех, у кого не было родственников на оккупированных немцами территориях. Так что диверсантом-партизаном я не стал. В военкомате сказали: «Жди, когда надо, вызовем». А вызвали меня только весной 1942 года.
– Как выглядела Москва в середине октября 1941 года? Я имею в виду так называемую «московскую панику 16-го октября», день, который один из фронтовиков, участник обороны Москвы, охарактеризовал так: «…день доблести и позора, день величия человеческой души и глубочайшей низости…».
– В ночь с 14-го на 15-е октября фронт под Москвой был прорван. Да еще Левитан, выступая со сводкой по радио, всего лишь один раз оговорился, сказал: «Говорит Куйбышев», вместо обычной фразы: «Говорит Москва». Начальство на многих предприятиях погрузило семьи в грузовики и оставило столицу. Вот тут и началось… Горожане стали грабить магазины. Идешь по улице, а навстречу красные самодовольные пьяные рожи, увешанные кругами колбасы и с рулонами мануфактуры под мышкой! Но больше всего меня поразило следующее – очереди в женские парикмахерские… Немцев, видимо, ждали… С улиц исчезли люди в шляпах, обнаглевшая чернь интеллигентов не жаловала… Полное безвластие. Происходило ранее немыслимое, даже открылось несколько «частных кафе»… На улицах можно было услышать, что Сталин вместе с правительством уже сбежали из Москвы, но я этому не верил. Но вот несколько лет тому назад вышли воспоминания Маленкова, в записи его сына, так там приводятся слова Маленкова, цитирую дословно: «В эти дни из всех членов Политбюро в Москве оставался я один. Да, один. Все остальные уехали в Куйбышев. Сталина в Москве не было 10 дней…» Вся территория в радиусе несколько километров вокруг Казанского и Курского вокзалов была забита людьми, машинами… паника, многие стремились уехать из города любой ценой. По шоссе Энтузиастов, единственной дороге на Муром и Владимир, молча проходили десятки тысяч людей. 17 октября власти спохватились и постепенно навели порядок в Москве. На улицах появились усиленные патрули. В городе формировали добровольческие коммунистические дивизии. Навстречу своей горькой и трагической судьбе под красными знаменами шли отряды гражданских людей, вооруженных старыми винтовками и охотничьими ружьями. Шли пожилые люди, семнадцатилетние юнцы и даже мужчины интеллигентного вида в очках (до войны «очкариков» в армию не призывали). Ополчение вставало за Москву.
Гольбрайх Е.А.
– Как начинался ваш армейский путь?
– Меня призвали 2 мая 1942 года. Как только я переступил порог комнаты, где заседала призывная комиссия, военком, увидев еврейского парня, сразу начал спрашивать: «Студент? Факультет? В танки или в артиллерию?» В народе «бытовало мнение», что все евреи с десятилетним или с высшим образованием… Не дожидаясь ответов, председатель комиссии вынес «вердикт»: «Пойдешь в танкисты!» От военкоматов требовали направлять в эти части только образованных людей. Отправили меня в Казань, в 24-й учебный запасной танковый полк. Готовили меня на стрелка-радиста. Занимались мы подготовкой на танках «Валентайн». Все танки были выкрашены в грязно-желтый цвет, предназначались для боевых действий в пустыне. До сих пор вспоминаю танковый пулемет конструкции Брена. Этот пулемет весил килограммов двадцать, и по тревоге я был обязан хватать с собой эту «дубину» и бежать с ней дальше, имитируя атаку в пешем строю. За неделю до отправки на фронт подошел ко мне комиссар полка: «Решили выбрать тебя комсоргом, через два часа митинг. Готовься выступить с обращением к бойцам». Честно говорю ему: «Мой отец осужден как «враг народа»…» Лицо комиссара побелело, он молча развернулся и ушел. В тот же день меня вызвали в строевую часть и дали направление в запасной стрелковый полк, дислоцировавшийся в поселке Суслонгер Марийской АССР. Многие вспоминали это место с тоской. Десятки длинных землянок, каждая на целую роту, двухэтажные нары, вместо постелей настилали лапник. Кругом дремучий лес. Обилие злых кусачих комаров. Народ в полку, почти поголовно полуграмотный, призван из лесной и таежной глубинки. Вся боевая подготовка заключалась в маршировке на плацу с деревянными палками в руках!!! Винтовок не было! В день давали 600 граммов клейкой массы под названием «хлеб». Баланду в обед нальют, было видно дно эмалированной миски, так что, не пользуясь ложками, пили баланду через край. Подошел ко мне командир батальона, пожилой человек, из «запасников». Предложил остаться в батальоне штатным писарем до конца войны. Я отказался и уже на девятый день пребывания в Суслонгере ушел с маршевой ротой на фронт.
– На какой фронт вы попали? Где приняли боевое крещение?
– Попал я под Сталинград, в донские степи. Наш 594-й стрелковый полк 207-й стрелковой дивизии занимал оборону северо-западнее Сталинграда. Бои были настолько кровопролитными, что после недели пребывания на передовой я не верил, что еще жив и даже не ранен! Сделал «головокружительную карьеру», уже на третий день командовал отделением, в котором осталось четыре бойца вместе со мной. Остальные выбыли из строя уже в первых боях. А еще через пару недель стал сержантом. Иногда было так тяжело, что смерть казалась избавлением. И это не пустые слова… Бомбили нас почти круглосуточно. Люди сходили с ума, не выдерживая дикого напряжения. Бомбежка по площадям… За войну пришлось десятки раз бывать под бомбежкой. На так называемом «Миусском фронте», на Самбекских высотах, Матвеевом кургане, Саур-Могиле, в Дмитровке, по ожесточению и упорству боев названной «малым Сталинградом»… Хуже нет кассетного бомбометания. Двухметровый цилиндр раскрывается, и десятки мелких бомб идут косяком на цель. Неба не видно. Если нет надежного укрытия или в поле попался – пиши пропало. Бомба, что над тобой отделилась от самолета, – эту пронесет. А вот та, что с недолетом – твоя… Истошный вой летящих бомб… Визг становится нестерпимым. Лежишь и думаешь – если убьет, только бы сразу, чтоб без мучений… Расскажу просто об одном боевом дне лета 1942 года. Занимали оборону возле разъезда № 564. На путях стоял эшелон сгоревших и разбитых танков Т-34. Никто не знал, какая трагедия здесь разыгралась и как погиб этот эшелон. Утром пошли в атаку при поддержке танков и – просто фантастика для 1942 года, – при поддержке огня «катюш». Отбросили немцев на километр, дело дошло до штыковой атаки. Мне осколок поцарапал губу, а я в горячке боя долго не мог понять– почему капает кровь… Наш танк намотал на гусеницы провод. Послали двух связистов, никто не вернулся. Командир полка подполковник Худолей посмотрел на меня: «Комсомол, личным примером!» Мою фамилию многие не могли выговорить, прозвали меня «Комсомол», поскольку к тому времени я уже был комсоргом роты. Пополз к подбитому танку, оба связиста убитые лежат. Работа немецкого снайпера. Чуть приподнялся – выстрел! Пуля снайпера попала в тело уже застреленного связиста. Лежу за убитыми, двинуться не могу, снайпер сразу убьет… Зажал концы проводов зубами. Есть связь! Мимо ползет комиссар полка Дынин. Это был уже пожилой человек, который, будучи комиссаром медсанбата, сам напросился в стрелковый полк. Сердце патриота и совесть не позволили ему находиться в тылу. В атаку ходил наравне со всеми. Увидел меня, рукой мне махнул, и в то же мгновение его снайпер сразил. Тут началась заварушка, обрывки провода скрепил и под «шумок» вскочил и добежал целым до наших окопов. Пришел на НП батальона, а комбат ухмыляется: «Прибыл к месту службы». По телефону уже передали приказ: «Сержант Гольбрайх назначается комиссаром батальона». Дали мне в руки котелок, а в нем – макароны с тушенкой. Начался артиллерийско-минометный обстрел, я телом котелок закрыл, чтобы комья земли в еду не попали. Рядом окоп артиллерийских наблюдателей. Пару секунд я замешкался, а потом пополз, а в этот в окоп наблюдателей – прямое попадание… До ночи продержались. Когда стемнело, пришла кухня: каша и чай. Каждому наливали по половине котелка чая. Хочешь пей, хочешь руки от чужой крови отмывай… Стоит наш подбитый танк, внутри что-то горит и взрывается. Солдат, судя по внешности из Средней Азии, подходит к танку с котелком каши, подвешенным на штыке. С чисто восточной невозмутимостью он ставит котелок разогреть на догорающий танк… Жизнь продолжается…
– Вы много раз поднимали солдат в атаку личным примером. Что испытывает человек в эти мгновения?
– Поднять бойцов в атаку… Надо вскочить первым, когда единственное и естественное желание – поглубже зарыться, спрятаться в землю, грызть бы ее и рыть ногтями, только бы слиться с ней, раствориться, стать незаметным, невидимым.
Вскочить, когда смерть жадно отыскивает именно тебя, чтобы обязательно убить, и хорошо если сразу. Подняться в полный рост под огнем, когда твои товарищи еще лежат, прижавшись к теплой земле, и будут лежать на земле еще целую вечность – несколько секунд… Иной раз посмотришь на небо и думаешь: в последний раз вижу… Нелегко подняться первым… Но НАДО! Есть присяга, о которой в эти минуты никто не вспоминает, есть приказ, есть долг!
– Ваша дивизия почти полностью погибла в боях в августе – октябре 1942 года. Читал воспоминания бывшего переводчика, а затем начальника разведки вашего полка Ивана Кружко. Он пишет, что в вашем батальоне оставалось 11 «активных штыков». Неужели потери были так велики?
– Дело дошло до того, что полком командовал старший лейтенант, а дивизией – подполковник. Потери были страшными… Присылали пополнение, в основном из Средней Азии. В ту пору была популярной одна фраза. Командир роты просит: «Меняю десять узбеков на одного русского солдата». Половина бойцов с трудом понимала русский язык… 19 ноября 1942 года я форсировал Дон в районе хутора Мало-Клетский, участвуя в наступлении, положившем начало окружению армии Паулюса в Сталинграде. Очень тяжелые бои были в декабре, когда танки Манштейна, идя на выручку к окруженным, прорвали оборону нашей дивизии на внешнем обводе кольца окружения. Задавили нас танками, отходим по огромному снежному полю, добежали до края поля, а там наши пушки стоят. Мы кинулись на них: «Мать-перемать! Почему не стреляете?!» А у них по три снаряда на орудие и приказ: стрелять только прямой наводкой! Немцы нас обошли, и к ночи я остался с группой из десяти бойцов. К тому времени у меня уже был один «кубарь» в петлицах. Бойцы говорят: «Командуй, младший лейтенант, выводи нас к своим». У меня пистолет, а у остальных только винтовки и ни одной гранаты. Рядом дорога, и по ней интенсивное движение немецкой техники. А по полю, где мы лежим, немцы бродят. Понимаем, что это конец – или смерть, или плен. Обменялись адресами. Русские ребята к плену проще относились, мол, ну, что делать, на то и война, всякое может случиться. Но мне, еврею, в плен попадать нельзя! Стреляться не хочется… Жить хочется… Говорю солдатам: «Ребята, если в плен нас возьмут, не выдавайте, что я еврей». В ответ – молчание… Лежим в снегу, притворились мертвыми, мимо прошли два немецких связиста, ничего подозрительного не заметили. Мороз, градусов за двадцать, мы в шинелях и ватниках, оставаться дальше на снегу нельзя, замерзнем. Смотрю, идет в нашем направлении здоровенный немец, по карманам у убитых шарит. Немец приблизился к одному из нас, думая, что кругом лежат только убитые, поднял «у трупа» ухо шапки-ушанки и увидел живые глаза, и в эту секунду у моего товарища нервы сдали, он в упор в него выстрелил. Сразу с дороги начали бить в нашу сторону. Побежали мы так, что олимпийским рекордсменам не снилось, откуда только силы взялись? Вбегаем в какое-то село, навстречу мне человек в белом маскхалате. Кинулся к нему, хватаю левой рукой за карабин, а правой за грудки: «Ты кто?!!», а он перепугался и молчит. Хватаю за шапку, и мне в ладонь впиваются острые уголки – звездочка. Еле руки разжал. Бойцы меня оттащили от него. Вот так к своим пробились…
– В 1943 году вы командовали ротой в 999-м стрелковом полку. Кровавые бои на Миус-фронте, освобождение Донбасса… Но вы не оканчивали пехотного училища, офицерских курсов или полковой школы. Трудно командовать стрелковой ротой без специальной подготовки?
– Я не думаю, что был идеальным ротным командиром. Но после года на передовой приказ принять роту я воспринял без особого страха. Тем более что в роте из-за постоянных потерь никогда не было больше сорока человек. Да и жизнь ротного на фронте очень короткая. Мне еще сильно повезло, что ротой командовал несколько месяцев, пока не выбыл из строя. Полковой «рекорд». А потом – контузия, лежал в госпитале в городе Шахты, подхватил вдобавок тиф. Долгая история… Вернулся на фронт и попал уже в 844-й СП 267-й СД.
– Что вам запомнилось на Миус-фронте?
– Бои там были тяжелейшие, но хотел бы рассказать о другом. На «Миусском фронте» я командовал 3-й стрелковой ротой. Первый и, может, единственный раз за всю войну природа сделала исключение, и в этом месте реки левый берег был выше и нависал над пологим, правым «немецким» берегом. Наши пулеметчики постоянно держали немцев на прицеле. В отместку противник нас щедро бомбил, а также густо засыпал минами и снарядами. Потери для обороны были довольно значительными, и мы постоянно просили о пополнении. Командир полка ругался: «Строевку подаете на полную роту, а воевать некому!» Но обещал прислать несколько человек. Строевка – это ежедневная строевая записка о наличии и убыли личного состава и лошадей. Строевка всегда подается вчерашняя – общеизвестная хитрость, – чтобы получить на несколько порций больше водки и сахара. Под вечер, когда стало смеркаться и из траншеи по горизонту стало хорошо видно, появилась редкая, человек восемь, цепочка солдат. По тому, как идут, можно было издалека понять – пожилые. А куда их девать? Обоз и без них забит беззубыми стариками. Было этим «старикам», впрочем, не более пятидесяти лет, но на фронте зубов не вставляли, вырвут в медсанбате – и слава богу. Вот и размачивают сухари в котелке. А тут издалека заметно, как один солдат сильно припадает на ногу. Подошли. Спрашиваю: «Ты что? Ранен, что ли? Недолечили?» Отвечает: «Нет, у меня с детства одна нога на семь сантиметров короче». Я опешил и говорю: «Да как же тебя в армию взяли?» «Да так вот и взяли. С самой Сибири следую. Куда ни приду: да как же тебя взяли? И отправляют дальше. Там, мол, разберутся. Вот и пришел».
А куда дальше? Дальше некуда… Передовая…
– Бои на Сивашском плацдарме. О чем бы хотелось вам рассказать?
– Сивашский плацдарм, или, как мы говорили: «На Сивашах». Плацдарм между Айгульским озером и собственно Сивашем. Просидели несколько месяцев под постоянными обстрелами и бомбежкой. Переправа на плацдарм была длиной примерно три километра, простреливалась на всем протяжении. Снабжение и эвакуация раненых осуществлялись только ночью, тоже под огнем противника. Сидишь в блиндаже, вдруг снаряд влетает, а взрыва нет. Болванка… Воюем дальше… 7 апреля 1944 года получили приказ провести разведку боем. Пошли в роту с комсоргом полка Сашей Кисличко. Попали под артобстрел, меня землей засыпало. Земля спрессовалась, не отпускает. Кисличко только по шапке на земле меня нашел, начал откапывать. До плеч откопал, я еще живой был. Тут по нам новая порция снарядов. А у меня из земли только голова торчит, комья земли на нее падают, снова меня засыпает… Старшина мимо проходит, матом белый свет кроет, я кричу ему: «Помоги!», а он оглох от контузии, ничего не слышит, на голову мне наступил и дальше побрел. На мое счастье, в роту шел парторг полка капитан Нечитайло с сержантом Сидоренко. Увидели меня, откопали. Смотрим по сторонам, где Кисличко. А его тоже землей засыпало. Пока откопали, он уже был мертв… Пошли в атаку на высоту. Я шел в первой цепи, рядом со своим близким другом, командиром роты Васей Тещиным, по прозвищу «Чапай». Возле меня шел молоденький лейтенантик, и ему тут же мина попадает в грудь… Так получилось, что вместо разведки боем мы взяли эту высоту. И даже два расчета «сорокапяток» умудрились закатить наверх свои пушечки, с десятком снарядов на ствол. На высоте два офицера, Тещин и я, и семнадцать бойцов со всего батальона, не считая артиллеристов. Немцы пустили на нас четыре танка, да человек двести пехоты. Одну из двух наших пушек – сразу вдребезги танковым снарядом… Начал стрелять из трофейного крупнокалиберного пулемета, а у него отдача непривычная меня назад отбрасывает. Немцы долину перед отбитой у них высоткой огнем своих орудий накрывают, к нам на помощь никто не может пробиться. До темноты продержались, а к ночи наши к нам прорвались. Выжило нас на высоте совсем немного. Никого за этот бой не наградили…
– В воспоминаниях генерала Кошевого написано, что именно ваша штурмовая группа водрузила знамя над Сапун-горой. Почему вы не изображены на диораме «Взятие Сапун-горы»? Чем отмечено ваше участие в штурме и освобождении Севастополя?
– Первый вопрос не ко мне, а к художнику Мальцеву. За севастопольские бои получил орден Красной Звезды. Кстати, мало кто об этом пишет, но первая и очень неудачная попытка взять Севастополь штурмом была предпринята 27 апреля 1944 года. Перед штурмом Сапун-горы в полку создали ударный батальон. В первом ярусе немецкой обороны против нас находились части из изменников – крымских татар. Помню, как наш лейтенант Муратов, командир второй роты, услышав татарские ругательства из немецких окопов, вскочил под пулеметным огнем в полный рост. Русским языком он владел неважно. Только успел крикнуть: «Впирод! Ебона мат!», и был сражен наповал. Знамя было в руках у парторга роты Смеловича, а когда его убило, знамя передали Яцуненко… Очень тяжелый бой был… Мы ведь даже до подножия горы дошли только благодаря «пехоте неба» – штурмовикам Ил-2. Взяли Сапун-гору, я скатился вниз по склону с докладом к командиру батальона Иващуку. А возле него корреспонденты с блокнотами. Радостно докладываю: «Знамя установили!» И сдуру добавил: «Только в километре от нас еще одно знамя стоит!» Вокруг – полный конфуз. У Иващука сразу лицо «кислым» стало, он только одну фразу обронил: «Первый раз вижу еврея такого дурака». Иващук до самой своей гибели не мог простить мне «неправильного доклада», считая, что по этой причине он не получил звание Героя. С вопросом, кто первый установил знамя на вершине Сапун-горы, разбирались долго, и Яцуненко получил звание Героя Советского Союза только в 1954 году.
– Вы были заместителем командира отдельной армейской штрафной роты 51-й армии в 1944–1945 годах. Расскажите о штрафных частях. Как вы попали служить в штрафную роту? Какова была структурная организация вашего подразделения?
– В штрафную роту я попросился сам. Солдат, как, впрочем, и офицер, на войне своей судьбы не выбирает, куда пошлют, туда и пойдешь. Но при назначении на должность в штрафную роту формально требовалось согласие. Штрафные роты были созданы по приказу Сталина № 00227 от 28 июля 1942 года, известному как приказ «Ни шагу назад», после сдачи Ростова и Новочеркасска. В каждой общевойсковой армии было три штрафных роты. Воздушные и танковые армии своих штрафных подразделений не имели и направляли своих штрафников в общевойсковые. На передовой находилось одномоментно две штрафных роты. В них из соседних полков ежедневно прибывало пополнение: один-два человека. Любой командир полка имел право отправить своим приказом в штрафную роту солдата или сержанта, но не офицера. Сопровождающий приносил выписку из приказа, получал «роспись в получении» – вот и все формальности. За что отправляли в штрафную роту? Невыполнение приказа, проявление трусости в бою, оскорбление старшего начальника, драка, воровство, мародерство, самоволка, а может, просто ППЖ комполка не понравился… Штат роты: восемь офицеров, четыре сержанта и двенадцать лошадей, находится при армейском запасном полку и в ожидании пополнения потихоньку пропивает трофеи… Из тыла прибывает эшелон уголовников, человек четыреста и больше, и рота сразу становится батальоном, продолжая именоваться ротой. Сопровождают уголовников конвойные войска, сдают их нам по акту. Мы охрану не выставляем. Это производит дурное впечатление, тогда как проявленное доверие вызывает к нам некоторое расположение. Определенный риск есть. Но мы на это идем. Что за народ прибывал из тыла? Тут и бандиты, и уголовники-рецидивисты, и укрывающиеся от призыва, и дезертиры, и просто воры. Случалось, что из тыла прибывали и несправедливо пострадавшие. Опоздание на работу свыше двадцати минут считалось прогулом, за повторный прогул судили и срок могли заменить штрафной ротой. С одним из эшелонов прибыл подросток, почти мальчик, таким по крайней мере казался. В пути уголовники отбирали у него пайку, он настолько ослабел, что не мог самостоятельно выйти из вагона. Отправили его на кухню.
Срок заключения заменялся примерно в следующей пропорции: до 3–4 лет тюрьмы – месяц штрафной роты, до 7 лет – два месяца, до десяти – выше этого срока не существовало – три месяца. В штрафные роты направлялись и офицеры, разжалованные по приговору военного трибунала. Если этап большой и своих офицеров не хватало, именно из них назначались недостающие командиры взводов. И это были не худшие командиры. Желание реабилитироваться было у них велико, а погибнуть… Погибнуть и в обычной роте дело нехитрое. После войны статистики подсчитали: средняя продолжительность жизни командира стрелкового взвода в наступлении – не больше недели.
Штраф снимался по первому ранению. Или, гораздо реже, по отбытии срока. Бывало, вслед раненому на имя военного прокурора посылалось ходатайство о снятии судимости. Это касалось, главным образом, разжалованных офицеров, но за проявленное мужество и героизм иногда писали и на уголовников.
Очень редко, и, как правило, если после ранения штрафник не покидал поле боя или совершал подвиг, штрафника представляли к награде. О результатах своих ходатайств мы не знали, обратной связи не было. В фильме «Гу-Га» есть эпизод, где старшина бьет, то есть «учит», штрафника, да еще по указанию командира роты. Совершенно невероятно, что такое могло произойти в действительности. Каждый офицер и сержант знают, что в бою они могут оказаться впереди обиженного… Штрафники – не агнцы божии. И в руках у них не деревянные винтовки. Другое дело, что командир роты имел право добавить срок пребывания в роте, а за совершение тяжкого преступления – расстрелять. И такой случай в нашей роте был. Поймали дезертира сами штрафники, расстреляли перед строем и закопали поперек дороги, чтобы сама память о нем стерлась. Сейчас говорить об этом нелегко, но тогда было другое время… Владимир Карпов, известный писатель, Герой Советского Союза, сам хлебнувший штрафной роты, пишет, что офицеры штрафных рот со своими штрафниками в атаку не ходили. И да, и нет. Если есть опытные командиры из штрафников, можно и не ходить. А если нет или «кончились» – надо идти самим. Большей частью именно так и бывало. Вот один из многих тому примеров. Два заместителя командира роты, старший лейтенант Василий Демьяненко и я, повели роту в атаку. Когда задача была уже почти выполнена, меня ранило осколком в грудь. До сих пор помню свою первую мысль в этот момент. «Не упал! Значит, легко!» Ни мы, ни немцы не ходили в атаку толпами, как в кино. Потери были бы слишком велики. Движется довольно редкая цепь, где бегом, а где и ползком. В атаке стараешься удержать боковым зрением товарища. Демьяненко был шагах в тридцати от меня, увидел, что меня шатнуло и я прыгнул в воронку. Подбежал: «Куда?» Молча показываю на дырку в полушубке. – «Скидай!» Весь диалог – два слова. Он же меня перевязал. Осколок пришелся по карману гимнастерки, в котором лежала пачка писем и фотографий из тыла (учитывая наш возраст – не только от мамы). Это и спасло, иначе осколок прошел бы навылет. В медсанбате ухватили этот осколок за выглядывающий из-под ребра кончик и выдернули. И я вернулся в роту. Как же я все-таки попал в штрафную роту? При очередной переформировке я оказался в офицерском резерве 51-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Герой Советского Союза Яков Григорьевич Крейзер. В армейском тылу я был впервые. Поразило огромное количество офицеров всех рангов, сновавших мимо с папками и без. Неужели для них всех есть здесь работа?
Чем ближе к передовой, тем меньше народа. Сначала тыловые, хозяйственные и специальные подразделения, медсанбаты, артиллерия покрупнее, а потом помельче, ближе к передовой минометчики, подойдешь к переднему краю – охватывает сиротливое чувство, куда все подевались? На войне, как и в жизни, каждый знает, чего он не должен делать… В офицерской столовой еду разносили в тарелках! Я был потрясен. По поселку парами прогуливались молодые женщины и девушки в госпитальных халатах. Не сразу сообразил, что меня в них озадачило – ни бинтов, ни костылей, ни рук на «каретке». Спросил у проходящего офицера: «Кто это?» В ответ услышал: «Ты что, дурной?! Это венерический госпиталь». Мужчин не лечили. Только, если попал по ранению в госпиталь – попутно… Скучно. Ни я никого не знаю, ни меня никто. К концу недели услышал, что погиб заместитель командира армейской штрафной роты. И я пошел в управление кадров. Не спешите записывать меня в герои. Я не храбрец. Скорей наоборот. Но я уже воевал в пехоте и знал, что большой разницы между обычными стрелковыми ротами и штрафными нет. Да, штрафные роты назначаются в разведку боем, на прорыв обороны противника или встают на пути его наступления. А обычные стрелковые батальоны не назначаются? Именно в рядовом стрелковом батальоне обычного стрелкового полка, назначенном в разведку боем, я должен был погибнуть. И когда объятое черным отчаянием сознание угасало, меня спас мой товарищ Саша Кисличко, погибший в следующую минуту. И все эти годы я мучительно думаю: если бы он не полез меня спасать, остался бы Саша жить? Так что рисковал я немногим. Сыну «врага народа», кроме стрелкового батальона, ничего не светило. Зато преимуществ много. Первое. Штрафные роты, как правило, в обороне не стоят. Пехотные солдаты поймут меня и без подробностей. Полное наше наименование: Отдельная армейская штрафная рота – ОАШР. Последние две буквы послужили основанием к тому, что позывные штрафных рот на всех фронтах были одни и те же: «Шу-Ра». Но особое значение имели первые две буквы. Для обычной роты, кроме своих командиров, в батальоне было два заместителя, парторг и комсорг, да в полку три зама и те же политработники, еще и в дивизии – штабные и политотдел. И если все они, поодиночке или скопом, в затишье, между боями, когда хочется написать письмо или просто отдохнуть, будут являться по твою душу занудствовать по поводу чистых подворотничков, боевого листка, партийного и комсомольского собрания, то в штрафную роту не придет никто. Мы – не их. У них своих забот хватает, и никто, тем более на фронте, не станет делать больше того, что положено. А партийной или комсомольской организации у нас попросту нет. Штатные офицеры стоят на партучете в запасном полку и там изредка платят взносы. Командир штрафной роты по своим правам приравнивается к командиру полка и подчиняется в оперативном отношении тому командиру дивизии, которому будет придан для конкретной операции. Это входит в понятие – Отдельная. А армии не до нас. У них дела поважнее. Был, правда, случай, когда приехал майор из Политуправления и говорит: «Вы корми́те ваших штрафников похуже. Командиры жалуются: пригрозишь солдату штрафной ротой, а он тебе: «Ну и отправляйте! Там кормят хорошо». И это так. Обычная рота получает довольствие в батальоне, батальон – в полку, полк – с дивизионных складов, а дивизия – с армейских. Еще Карамзин заметил: «Если захотеть одним словом выразить, что делается на Руси, следует сказать: воруют». Не нужно думать, что за двести с лишним лет что-нибудь изменилось. Во всех инстанциях сколько-нибудь, да украдут. Полностью до солдата ничего не доходит. А у нас, как это ни странно, воровать некому. И здесь вступает в силу слово «армейская». Наш старшина получает довольствие непосредственно с армейских складов. Правда, и ему «смотрят в руки». Но мы не бедные, что-нибудь из трофеев и привезем. Продукты старшина получает полностью и хорошего качества, водку неразбавленную. Офицерам привезет полушубки длинные и не суконные бриджи, а шикарные галифе синей шерсти. И обмундирование для штрафников получит не последнего срока, а вполне приличное. Кроме того, у нас есть неучтенные кони, вместо двенадцати лошадей – небольшой табун. При необходимости забиваем коня помоложе, и что там твоя телятина! Кому-то и огород вспашем. Обеспечивали нас честно. Были и другие преимущества: полуторный оклад, ускоренная, даже против фронтовой, выслуга лет. Впрочем, я этого почти не ощутил. Курировал нас армейский отдел СМЕРШ. Но я не помню, чтобы они мешались под ногами или вообще нас навещали. У них в Прибалтике своих дел было невпроворот. Одним словом, «живи – не хочу». В штрафной роте хорошо. Хорошо-то хорошо, да не очень. Ближе к концу войны, когда никто уже не хотел умирать, дезертировали сразу три человека. Мы с командиром роты предстали «пред светлые очи» члена военного совета армии, который в популярной форме, не употребляя «фольклорных выражений», чтобы было привычней и понятней, разъяснил, что мы, по его мнению, из себя представляем, достал из какой-то папки наградные листы на орден Александра Невского на командира и на орден Отечественной войны на меня, изящным движением разорвал их и бросил под стол, одновременно сообщив, что присвоение нам очередных воинских званий задержано. И уже в спину бросил: «Найти! И расстрелять!» Не нашли. И очень жалели. Что не нашли. И не расстреляли. Тогда. Теперь не жалею. Случались и многие другие эксцессы, за которые совсем не гладили по головке… В литературе утвердилось понятие «штрафные батальоны». Батальон – это звучит гордо. В самом слове есть что-то торжественно-печальное, какой-то внутренний ритм и романтика… А в бой идут штрафные роты! Были и штрафные батальоны. Это совсем другое. Штрафные батальоны создавались при фронтах, в конце войны их было в армии около семидесяти, практически по одному штрафному батальону на каждую общевойсковую армию. В них рядовыми бойцами воевали не разжалованные трибуналом офицеры, в чине до полковника. У каждого своя причина попадания в штрафбат. Оставление позиций без приказа, превышение власти, хищение и даже дуэль(!). Состав штурмовых батальонов – была и такая разновидность – вышедшие из окружения или бежавшие из плена командиры Красной Армии, прошедшие «чистилище» проверочных лагерей НКВД, где должны были доказать, что не бросили оружия и не перешли на сторону врага добровольно. Для них сроки не варьировались. Срок был один для всех: шесть месяцев! Численность переменного состава штрафных подразделений на практике строго не регламентировалась. Батальон мог иметь до тысячи бойцов, «активных штыков», как в обычном полку. Но могло быть и всего сто человек.
В управлении кадров на меня посмотрели с некоторым удивлением: «У нас там любители работают…» – «И я буду любитель, не в тыл прошусь». Получил предписание и задумался. Надо бы с чем-то в роту прийти. Выбор тут небольшой. Постучался в крестьянский дом, краснея, протянул солдатское белье. Хозяйка вынесла бутылку самогона, заткнутую бумажной пробкой. Вещмешка я не носил, бутыль в полевую сумку не влезает, запихнул в карман шинели, на подозрительно торчащее горлышко напялил руковицу. На попутных машинах быстро добрался до передовой. Минометчики, стоявшие на опушке леса, показали на одинокое дерево в поле – КП командира роты и сказали: «Ты до вечера туда не ходи. Это место снайпер держит на прицеле». Помаялся я, помаялся, до вечера еще далеко. Дай, думаю, рискну – и дернул, что было сил. Тихо… Снайпер, видно, задремал. В углу землянки сидел старший лейтенант, представился: «Демьяненко Василий, зампострой». И подозрительно покосившись на мой карман, спросил: «Шо это в тэбэ рукавиця насупроти настромлена?» Достаю. Демьяненко сразу расцвел: «О! Це дило! И командиру оставымо». Так я попал в штрафную роту.
– Насколько сильной была мотивация штрафников «искупить кровью» свою вину?
– Не следует думать, что все штрафники рвались в бой. Вот вам пример. Атака захлебывается. Оставшиеся в живых залегают среди убитых и раненых. Но нас было больше! Где остальные? Вдвоем с командиром роты, капитаном Щучкиным, возвращаемся к исходному рубежу. Так и есть! В траншее притаилась в надежде пересидеть бой группа штрафников. И это когда каждый солдат на счету! С противоположных концов траншеи, держа в каждой руке по пистолету, в левой – привычный «ТТ», в правой – трофейный «парабеллум», он тяжелее, чуть не разрываясь над траншеей – одна нога на одном бруствере, другая – на противоположном, двигаемся навстречу друг другу и, сопровождая свои действия соответствующим текстом, стреляем над головами этих паразитов, не целясь и не заботясь о целости их черепов. Проворно вылезают и бегут в цепь. Сейчас, когда вспоминаю этот эпизод, думаю: «Господи! Неужели это был я?!»
В штрафных и штурмовых батальонах подобного не может быть. Здесь все поставлено на карту. Эти офицеры не лишены званий и в большинстве случаев не имеют судимости. По ранению или отбытию срока они имеют право на прежние должности (право-то они имели, но, как правило, возвращались в части с понижением). В одном из таких батальонов, своей блестящей атакой положившем начало Ясско-Кишиневской операции, воевал мой товарищ Лазарь Белкин. В день атаки выдали им по 200(!) граммов водки, привезенной на передовую прямо в бочках, дали по полпачки махорки и зачитали приказ: «В пять часов утра, после залпа «катюш», батальон идет в атаку». В пять часов все приготовились. Тишина. В шесть часов – тишина. В семь утра сообщили: наступление отменяется. Разочарованные солдаты разбрелись по траншее. Через три часа новый приказ: «Наступление ровно в десять! И никаких «катюш»! В десять часов батальон в полной тишине поднялся в атаку. Без криков «Ура!». Но это был не простой батальон, а батальон штрафников. Захватили три ряда траншей. Немецкие шестиствольные минометы развернули в сторону противника и дали залп. Навстречу Лазарю бежал к пулемету немецкий офицер. Лег за пулемет… В упор! И вот счастье – осечка! Ленту перекосило или еще что. Офицер кинулся бежать. Поздно. Граната Лазаря уже летела… У противника создалось впечатление, что здесь наносится основной удар. Немцы стали поспешно подбрасывать технику и подкрепления. До позднего вечера батальон отбивал атаки, и к ночи остатки батальона вынуждены были вернуться на исходные позиции. Из почти тысячи человек в живых, на ногах, осталось сто тридцать. Большинство участников атаки были ранены, примерно треть – погибла.
– В фильме «Гу-Га», например, заградотряд вызывает «симпатии» не больше, чем вызвал бы отряд немецких карателей. Ваше мнение о заградотрядах?
– В этом кинофильме со странным названием есть много досадных погрешностей. Вранье в малом вызывает недоверие и ко всему остальному. Я уже говорил, в атаку толпами не бегут, но таковы, по-видимому, законы жанра, «массовость» – наш «конек». У командира роты погоны полевые, а пуговицы на шинели золотые и звездочка на фуражке красная, и это – на фронте! И звездочка и пуговицы были зелеными. Но особую досаду вызывает заградотряд. Заградотряды никогда не сопровождали штрафные роты на фронт и не стояли у них за спиной. Заградотряды располагаются не на линии фронта, а вблизи контрольно-пропускных пунктов, на дорогах, на путях возможного отхода войск. Хотя скорее побегут обычные подразделения, чем штрафные. Заградотряды – не элитные части, куда отбираются бойцы-молодцы. Это обычная воинская часть с несколько необычными задачами. А в этом фильме?! Всегда заградотрядовцев больше, чем штрафников, так и напрашивается желание поменять их местами. Почему-то все одеты в новенькие! – откуда такая роскошь?! – шинели с красными вшивными погонами! Вшивные погоны полагались только генералам, все остальные, от рядового бойца до полковника, носили пристёжные. И красные! На фронте?! Заградотряд в касках! Это ж додуматься надо. Каски и в боевых подразделениях не очень-то жаловали.
– Вы сказали, что у вас нет ни малейшего желания подробно разбирать сериал «Штрафбат». И тем не менее, хоть несколько замечаний по сериалу.
– У этого сериала есть только одно достоинство – прекрасная игра актеров. Все остальное – полный бред, простите за резкое выражение. Остановимся на главном.
Никогда офицеры, сохранившие по приговору трибунала свои воинские звания, не направлялись в штрафные роты – только в офицерские штрафные батальоны.
Никогда уголовники не направлялись для отбытия наказания в офицерские штрафбаты – только в штрафные роты, как и рядовые, и сержанты… Никогда политические заключенные не направлялись в штрафные части, хотя многие из них, истинные патриоты, рвались на фронт защищать Родину. Их уделом оставался лесоповал…
Никогда штрафные роты не располагались в населенных пунктах. И вне боевой обстановки они оставались в поле, в траншеях и землянках. Контакт этого непростого контингента с гражданским населением чреват непредсказуемыми последствиями.
Никогда, даже после незначительного ранения и независимо от времени нахождения в штрафном подразделении, никто не направлялся в штрафники повторно.
Никогда никто из штрафников не обращался к начальству со словом «гражданин», только «товарищ». И солдатам не тыкали «штрафник», все были «товарищи», на штрафные части распространялся устав Красной Армии.
Никогда командирами штрафных подразделений не назначались штрафники! Это уже не блеф, а безответственное вранье. Командир штрафного батальона, как правило, подполковник, и командиры его пяти рот – трех стрелковых, пулеметной и минометной – кадровые офицеры, а не штрафники. Из офицеров-штрафников назначаются только командиры взводов. Благословение штрафников перед боем – чушь собачья, издевательство над правдой и недостойное заигрывание перед Церковью. В Красной Армии этого не было и быть не могло. Я понимаю, что художник или режиссер имеют право на творческую фантазию, но снять сериал о войне, в котором исторической правды нет ни на грош!..
– Имел ли командир штрафной роты право отбирать себе солдат в подразделение?
– Командиры штрафных рот не комплектуют своих подразделений, кого тебе пришлют, с теми и будешь воевать. Еще одна важная деталь. Не было принято расспрашивать штрафников, за что они осуждены.
– Существует довольно распространенное заблуждение, что все штрафники были пламенными патриотами. Были ли случаи перехода солдат из штрафных частей на сторону врага?
– В нашей роте таких случаев не было зафиксировано. Куда переходить? К немцам в Курляндский котел? Социальная почва для переходов была, многих обидела советская власть. Бывшие раскулаченные, сыновья репрессированных считались потенциальными кандидатами на переход. Перебежчиков в конце войны было очень мало, но если быть предельно честным, то скажу, что такое позорное явление, как дезертирство, было довольно распространенным… Мало кто знает, но с 1942 года действовала секретная директива «…родственников и земляков, во избежание сговора и перехода на сторону врага – в одно подразделение не направлять». Только с середины 1944 года этот приказ строго не выполнялся. Я многократно был свидетелем приема пополнения в обычном стрелковом полку. Командир полка сам лично «выдергивал» людей не по списку, а указывая пальцем. Рядом стояли командиры рот и составляли поименные списки. Если боец выживал после первых боев и хорошо себя в них зарекомендовал, он мог, в дальнейшем, попросить командиров о переводе в роту к земляку или родственнику, но это бывало редко, каждый уже привыкал к новым товарищам, да и заботы у людей уже были другие.
– Женщины были в штрафных ротах?
– Женщин в штрафные роты не направляли. Для отбытия наказания они направлялись в тыл, в тюрьму. Впрочем, и это случалось крайне редко.
Не было в штрафных ротах и медработников. При получении задания присылали из медсанбата или соседнего полка медсестру. В одном из боев медсестра была ранена. Услышав женский крик на левом фланге, я поспешил туда. Ранена она была в руку, по-видимому, не тяжело, ее уже перевязывали. Но шок, кровь, боль… Потом – это же еще передовая, бой еще идет, чего доброго, могут добавить. Сквозь слезы она произносила монолог, который может быть приведен лишь частично: «Как «любить» (она употребила другой глагол), так всем полком ходите! А как перевязать, так некому! Вылечусь, никому не дам!» Сдержала ли она свою угрозу – осталось неизвестным.
– Использовалось ли штрафниками трофейное вооружение и обмундирование?
– Оружие трофейное использовалось повсеместно и было очень популярным. Старшине сдаем оружие выбывших из строя, а он спрашивает: «Чем вы там воюете? По ведомости все оружие роты давно сдали!» А без трофейного пистолета в конце войны трудно представить любого пехотного командира. Это было повальное увлечение.
А вот с обмундированием – перебор. Никто не будет по передовой бегать в немецком кителе, особенно в бою. Сапоги у многих были немецкие, не век же в обмотках ходить.
– Простите, что вновь напомню сериал «Штрафбат». Но эпизод с походом штрафников в разведку… Насколько он реален?
– Повторяю, что это – полный бред. Представьте, ушла в разведку группа штрафников и не вернулась. Пропала без вести или перебита на «нейтралке», и никто не знает, кто погиб, а кто в плен попал. Что скажет на допросе в свое оправдание командир роты, когда особисты пришьют ему «оказание помощи в умышленном переходе на сторону врага»? Где мы такого «камикадзе» найдем?..
Но больше всего бесит, что в этом сериале штрафники немцев в плен берут чуть ли не каждый божий день. Мы что, с дебилами воевали? На фронте пока одного «языка» добудут, немало разведгрупп в землю костьми ляжет. А тут?! Словно на танцы идут во Дворец культуры, а не за линию фронта. В офицерских штрафных батальонах в разведку ходили нередко, но там командиры доверяли штрафникам. А с нашей публикой – разговор особый…
– Боялись ли вы выстрела в спину в бою? Сводили ли таким образом штрафники счеты с командирами? Насколько это явление было распространено в штрафных частях?
– Такое случалось нечасто. Во избежание подобных эксцессов к штрафникам и старались относиться как к обычным солдатам, с уважением говорили с каждым, но никто с ними не заигрывал и самогонку не «жрал». Им, штрафникам, терять нечего, там принцип «умри ты сегодня, я завтра». Но были случаи… Да и в обычных стрелковых подразделениях такое иногда происходило на передовой. Я знаю достоверный случай, когда свои же солдаты «шлепнули» в бою комбата. Командир батальона был грубая тварь, унижавшая солдат и офицеров, гробившая людей зазря. Чтобы охарактеризовать эту гниду, приведу один пример. У него в батальоне боец Гринберг подорвал гранатой себя и двенадцать немцев в захваченном им блиндаже. Ротный «заикнулся», мол, к Герою или к ордену посмертно надо представить. В ответ от комбата услышал: «Одним жидом меньше стало!»…Его свои бойцы застрелили, весь батальон знал, и никто не выдал.
Не всегда солдат был безмолвной «серой скотиной», посланной на убой. Но мы, в штрафной роте, всегда старались завоевать доверие солдат и делили с ними вместе все лишения.
– В штрафных частях в плен немцев брали или?..
– К концу войны ожесточение достигло крайних пределов, причем с обеих сторон. В горячке боя, даже если немец поднял руки, могли застрелить, но, если немец после боя выполз из траншеи с поднятыми руками, тут у него шансы выжить были довольно высоки. А если с ним сдалось еще человек двадцать «камрадов» – никто их, как правило, не тронет. Но… снова пример. Рота продолжает бой. Нас остается человек двадцать, и надо воевать дальше. Взяли восемь немцев в плен. Где взять лишних бойцов для конвоирования? Это пленных румын сотнями отправляли в тыл, без конвоя. А немцев…
Ротный отдает приказ: «В расход»… Все молчат… Через минуту идем дальше в атаку… И так бывало… «Власовцев» всегда убивали на месте.
То, что фашисты творили на нашей земле, – простить нельзя! Сколько раз видели тела растерзанных наших ребят, попавших к немцам в плен…
Когда немцы выбили нас из Шяуляя, то захватили наш госпиталь, расположившийся в двухэтажном здании. Нашу роту бросили на выручку пехоте. Но мы не могли пробиться! Танки перекрыли подступы и расстреливали нас в упор. Отошли на высотку и видели в бинокли, как фашисты выбрасывают наших раненых из окон… О каких пленных после этого может идти речь?! Штрафники в плен брали относительно редко… Это факт. У многих семьи погибли, дома разрушены. Люди мстили… А какой реакции следовало ожидать? У нас были солдаты, прошедшие немецкий плен. После всех ужасов, которые они испытали, все слова замполитов о гуманности были для них пустой звук.
Еще страшный эпизод. В 1943 году летом наш стрелковый батальон пошел в атаку. Брали село в лоб, шли на пулеметы. После боя в живых осталось совсем немного счастливчиков. На земле сидел и истекал кровью командир роты. Осколком ему оторвало нижнюю челюсть. Подвели человек пять пленных немцев. Боец спрашивает: «Куда их?» Ротный достал из полевой сумки блокнот, вырвал листок и кровью (!) на нем написал: «Убить»…Но был случай, там же, под Шяуляем, который до сих пор не дает мне покоя.
Нашу оборону перешел человек, без оружия, в поношенной гражданской одежде. Никаких документов при нем не было. Быть может, бежал из лагеря и пробирался домой. На свою беду он ни слова не понимал ни по-русски, ни по-немецки. Позвали литовца – то же самое. А он говорил и говорил, пытаясь хоть что-то объяснить. Скорей всего это был латыш или эстонец, но никто не знал ни латышского, ни эстонского языка. Проще всего было отправить его в вышестоящий штаб. Но с ним надо было послать конвойного. Расстрелять – проще. Как говорил «великий вождь»: «нет человека – нет проблемы». Я пытался предотвратить расправу. Начальство посмотрело на меня с недоумением. Еще и обругали… Неоднократно, когда я пробовал остановить расстрел пленного, мне мои же товарищи говорили: «Ты почему их жалеешь?! Они твою нацию поголовно истребили!..»
Особенно грешили расстрелами не окопники, а штабные, тыловики. Тех же румын надо было по дороге в плен от «героев второго эшелона» охранять… Немцы всегда знали, кто стоит на передовой перед ними. Если знали, что перед ними штрафники, то дрались с нами более стойко и ожесточенно. Но в принципе немцам было глубоко плевать, кто на них идет в атаку. Психологически, наверное, немцам было тяжело воевать против штрафных офицерских батальонов, слишком велико желание штрафбатовцев искупить свои «грехи». А воевали немцы толково, умело и храбро.
– Как освобождались штрафники, не получившие ранения в боях? Заседал трибунал для принятия решения об освобождении от наказания или их дела рассматривал кто-то другой?
– Командир роты имел право отменить наказание за героизм даже тем бойцам, у которых не истек срок пребывания в роте, указанный в приговоре. А на деле происходило так… После нескольких операций у нас осталось около двух десятков бойцов. Не ранены. Но в боях участвовали, и мы с полным основанием передаем их в соседний стрелковый полк. В штаб идет только список «искупивших и проявивших» за подписью командира. Солдаты сдают оружие старшине. Они получают оружие в своих новых подразделениях. Никаких заседаний трибуналов или консультаций с особистами. До последнего солдата мы не воевали… Далее, кто из постоянного состава роты оставался живой, возвращался в армейский запасной полк в ожидании очередного эшелона с «уголовным пополнением». Привозят «каторжан», подписываем акт «о приемке», личный состав строится и следует в расположение роты. Штрафники получали оружие уже непосредственно у нас. Получали обмундирование, распределялись по взводам. Все достаточно прозаично. Никто не ездил в тыл набирать штрафников.
– Отличался ли национальный состав штрафных рот от обычных стрелковых?
– Нацменов было меньше, чем в стрелковых подразделениях. В основном у нас были славяне. Евреев среди солдат нашей штрафной роты практически не было. За восемь месяцев моего пребывания в роте – на войне это очень большой срок – попался только один еврей, и меня немедленно позвали на него посмотреть. Это был портной из Прибалтики, и он не выглядел удрученным или несчастным. У евреев высоко развито чувство долга, если и попадали в штрафную, то только случайно или за какую-нибудь мелочь. Ну и командир-антисемит мог «упечь» в штрафную. И такое бывало… Хотя Семен Ария в своих воспоминаниях упоминает нескольких евреев, своих товарищей по штрафной роте. Среди офицеров моей роты было трое украинцев и четверо русских.
Зато соседней штрафной ротой командовал еврей Левка Корсунский, с манерами одессита. Явившись в тихую минуту к нам в гости на шикарном трофейном фаэтоне, запряженном парой красавцев коней, он снял с левой руки шикарные швейцарские часы и бросил налево, снял с правой и бросил направо. Это был жест! Современному человеку трудно объяснить. Часы были предметом постоянного вожделения и нередко служили наградой. Не знавшие ни слова по-немецки наши солдаты быстро научились произносить «вифиль из ди ур». Ничего не подозревающий немецкий обыватель охотно доставал карманные часы, и они немедленно перекочевывали в карман к воину-победителю.
После войны долго разыскивал Корсунского и Тещина, но безуспешно. Как сложилась их судьба? Живы ли?
– Доводилось ли вам после войны встречаться с кем-нибудь из бывших штрафников вашей роты?
– После Победы я некоторое время служил в Вентспилсе. Однажды утром навстречу попалась группа моряков. Надо сказать, что отношения с моряками были не простыми и не всегда мирными. Один из моряков неожиданно кинулся ко мне и стал душить. Ввиду численного превосходства сопротивляться было бесполезно, оставалось лишь покорно ждать своей участи. Четверо других моряков стояли в стороне и почему-то улыбались. Прежде чем я понял, что моей «драгоценной жизни» ничего не угрожает, мои новые, только накануне тщательно прилаженные погоны, оказались безнадежно смяты. Это был наш бывший штрафник, командир морского «охотника», отбывший штраф по ранению или по сроку, уже не вспомнить, на корабль его вернули, но в офицерском звании еще не восстановили, и он был в мичманских погонах. О свободе передвижения говорить уже не приходилось. Я был «взят под белы руки», и наша живописная группа – я в зеленом, остальные в черном – поволокла меня на пирс. Корабли стояли на другой стороне Венты. Один из моряков встал на скамейку и стал размахивать руками. Я понял – флажковая сигнальная азбука. С корабля заметили, что-то «написали» в ответ, быстро спустили шлюпку, и вскоре мы все очутились в тесном кубрике. Стол был уже накрыт. Дальнейшее вспоминается смутно…
– Были ли в вашей штрафной роте случаи насилия или грабежей мирного населения?
– Наша рота заканчивала войну в Прибалтике, и тогда эта земля была советской территорией, а литовцы и латыши были советскими гражданами. По этой причине наша рота вела себя относительно пристойно. По закону военного времени за бандитизм предусматривался расстрел на месте. Жить хотели все. Но был один позорный инцидент, запятнавший нашу роту. В самом конце войны наш штрафник, грузин по фамилии Миладзе, изнасиловал нескольких женщин в ближайших к месту дислокации роты хуторах. Поймали его уже после 9-го мая и вместо вполне заслуженной «высшей меры» он получил восемь лет тюрьмы.
– Допустим, штрафник искупил вину кровью и вернулся в обычную войсковую часть. Влиял ли факт его пребывания в штрафных подразделениях на дальнейшую карьеру или награждения?
– Офицеров возвращали обычно с понижением в должности. Немало бывших офицеров-штрафников в конце войны командовали батальонами и полками. Я таких двоих знал лично. В наградах за последующие боевые достижения, как правило, ограничивали. В штабных канцеляриях перестраховщиков хватало всегда. Я слышал только о трех бывших штрафниках, получивших впоследствии звание Героя Советского Союза. Это Карпов и командир саперного батальона из нашей 51-й армии Иосиф Серпер. Оба получили звание Героя, если я не ошибаюсь, только после третьего представления к звезде Героя. Третий Герой, комполка из 16-й СД подполковник Лысенко, тоже был в свое время в штрафниках. Был еще, кажется, сержант-артиллерист, Герой Союза, успевший в свое время повоевать в штрафной роте. Возможно, таких людей было немало. Я не обладаю полной информацией по этому вопросу. Одно знаю точно, что в официальных источниках эта тема никогда не затрагивалась.
Да и офицеров постоянного состава штрафных подразделений наградами баловали не особо щедро. Пишут, что только один командир штрафной роты, азербайджанец Зия Буниятов, стал Героем СССР. Но было еще несколько человек. В наградных листах на них писали «командир ударного батальона» (или роты), избегая слово – «штрафной». Если в пехоте комбата, прорвавшего укрепленную оборону противника, могли сразу представить к высокой награде, вплоть до высшего звания, то на нас смотрели как на «специалистов по прорывам». Мол, «…это ваша повседневная работа и фронтовая доля. Чего вы еще хотите?»…
– С «власовцами» приходилось сталкиваться? Как к ним относились солдаты?
– Мы их люто ненавидели. Вот сейчас пишут, что почти миллион бывших советских граждан служили в германской армии. Пусть в основном во вспомогательных частях. Но эти люди предали Родину! Пытаются выставить бывших коллаборационистов борцами за «Свободную Россию»… Для нас, фронтовиков, они были и есть – предатели и изменники! Даже тех, кто пошел на службу к немцам, чтобы не умереть с голоду в концлагерях, не могу оправдать. Миллионы предпочли смерть, но остались верными своему долгу. Очень трудно установить критерий, по которому можно судить человека, когда его собственная, один-разъединственный раз дарованная жизнь висит на волоске, да еще таком тонком, таком неверном, и может оборваться в каждое следующее мгновение, как только что на его глазах оборвалась жизнь товарищей…
«Власовцами» называли всех бывших советских граждан, служивших в немецкой армии. Приходилось и с ними сталкиваться. Разные были встречи…
Один раз взяли в плен бывшего майора РККА в немецкой форме. Начали его допрашивать, он молчит. А потом вдруг крикнул: «Стреляйте, суки! Ничего вам не скажу! Ненавижу вас!» Из бывших раскулаченных крестьян оказался, советскую власть ненавидел всей душой. До трибунала он не дожил…
Другой случай покажется неправдоподобным… Мы стояли против немецкой линии обороны всего в семидесяти метрах. Нейтральной полосы фактически не было. В немецких окопах сидел батальон «власовцев». Они кричали нам из траншей свои фамилии и места проживания родных, просили написать их домашним, что они еще живы. Рядом со мной стоял лейтенант, командир взвода. Я заметил, как его лицо передернуло судорогой, он резко развернулся и ушел по ходу сообщения в блиндаж. Уже в конце войны он рассказал мне, что тогда услышал голос своего отчима, воспитывавшего его с пяти лет. А родного отца, лейтенанта, расстреляли в ЧК еще в 1921 году. Отец был священником… Что здесь добавить?.. Когда через два дня, утром, мы пошли в атаку, в окопах сидели уже немцы, «власовцев» сменили предыдущей ночью. Некоторые из нас, наверное, были в душе этому рады. Мой товарищ, Женя Зеликман, при штурме Кёнигсберга был командиром роты в 594-м стрелковом полку, в котором мне пришлось хлебнуть лиха летом и осенью 1942 года. Мир тесен, как говорится. Он рассказал, что когда немцев прижали к морю на косе Фриш-Гаф, они ожесточенно сопротивлялись, но вскоре поняли, что это бессмысленно, и стали «пачками» сдаваться в плен. Вечером старшие офицеры стали сортировать пленных. Отделили большую группу русских, украинцев, белорусов, нацменов из Туркестанского легиона, и началось настоящее побоище. Тех, кто воевал против нас в гитлеровской армии, ненавидели больше, чем немцев. Пощады они не просили. Да вряд ли их тогда кто-нибудь бы пощадил…
– В последние годы столько написано псевдоисторической правды. И уже десантный отряд Цезаря Куникова состоял из штрафников. Отряд Ольшанского, высаженный десантом в Николаеве, тоже объявлен штрафным. А Саша Матросов стал и штрафником, и татарином. И Зееловские высоты брали штурмовые батальоны, да и вообще, иной раз такое напишут, что хоть стой, хоть падай, мол, войну выиграли вчерашние заключенные, гонимые безоружными на немецкие пулеметы. И Рокоссовский стал в иных публикациях – «главный штрафник страны». Кто сейчас расскажет, что было на самом деле?
– Отряды Куникова и Ольшанского состояли из моряков-добровольцев, знавших, что идут почти на верную смерть. Кстати, три человека из куниковского батальона за последние годы переехали сюда на постоянное место жительства. Адрес одного из них, Андрея Хирикилиса, я попробую вам достать… По поводу штурма Берлина. Штрафные части принимали в нем участие. Это факт. Бытует мнение, что штрафные части сыграли решающую роль в войне и они чуть ли не главные творцы Победы. Это заблуждение.
Да, штрафники воевали отчаянно. Но обстановка была такой, что и обычным частям было не легче. Армия может занимать по фронту, в зависимости от обстановки, от нескольких километров до нескольких десятков километров. В последнем случае командование не станет перебрасывать на нужный участок штрафную роту. Передвижение этого не совсем обычного подразделения вдоль линии фронта, в ближнем тылу, чревато неприятностями. В штрафные роты не набирались «лучшие из лучших». Совсем даже наоборот… И в разведку боем будет назначен обычный стрелковый батальон, свежий, либо с соседнего участка, и очень редко тот, который занимает здесь оборону. Чистая психология – солдат приживается к своей траншее, к своему окопу и ему труднее покинуть обжитое место и подняться в атаку. Это учитывается.
Штрафные роты и батальоны сыграли свою важную роль на войне. Но утверждения, что у Рокоссовского воевали одни штрафники, – глупость. Да и составляли штрафники не более одного процента от численности Действующей армии.
– По поводу особистов что-нибудь скажете? И о приказе № 227?
– Не надо «демонизировать» служивших в особых отделах. Последнее время в любом кинофильме о войне, кроме «Августа сорок четвертого», особистов показывают этакими садистами, бродящими с наганом в тылу и ищущими солдатский затылок. Надо просто уяснить, что часть армейских чекистов и контрразведчиков боролась со своим народом и является преступной, но большинство выполняли свой долг в соответствии с установками того непростого времени. Вам сейчас этого не понять… На фронте летом 1942 года остатки полка отвели в тыл. Выстроили «покоем». Особист вывел незнакомого мне солдата на середину, под охраной двух бойцов. Зачитал приговор. Солдат был самострелом. Помню только одну фразу из речи особиста: «Лучше погибнуть от немецкой пули, чем от своей!» Расстреляли этого солдата… В начале войны долго не церемонились. Расскажу еще трагический случай, произошедший у меня на глазах. О приказе Сталина № 227 вы знаете. Бессмысленно спорить сейчас – хороший или плохой был приказ. В тот момент – необходимый. Положение было критическим, а вера в победу – на пределе. Командиром минометной роты в нашем полку был 22-летний Александр Ободов. Он был кадровым офицером и до войны успел окончить военное училище. Дело знал хорошо, солдат жалел, и они его любили. Да и командир был смелый. Я дружил с ним… Саша вел роту к фронту, стараясь не растерять людей и матчасть. В роте было много солдат старших возрастов, идти в жару с тяжелыми 82-мм минометами было трудно, приходилось часто отдыхать. Рота отстала от полка на сутки. Но война не жалеет и не прощает… В тот день мы несколько раз атаковали немцев и не продвинулись ни на шаг. Я сидел на телефоне, когда позвонил командир дивизии. Передал трубку командиру полка. «Почему не продвигаетесь?» – спросил командир дивизии. Комполка стал что-то объяснять. «А вы кого-нибудь расстреляли?»…Командир полка сразу все понял и, после некоторой паузы, произнес: «Нет». – «Так расстреляйте!» – сказал комдив. Это не профсоюзное собрание. Это война. И только что прогремел 227-й приказ. Вечером, когда стемнело, командиры батальонов и рот и политруки были вызваны на НП командира полка. Веером сползлись вокруг. Заместитель командира стал делать перекличку. После одной из фамилий неостывший еще голос взволнованно ответил: «Убит на подходе к НП! Вот документы!» – из окопа протянулась рука и кто-то молча принял пачку документов. Совещание продолжалось. Я только что вернулся с переднего края, старшина сунул мне в руки котелок с каким-то холодным варевом, и я доедал его сидя на земле. С НП доносились возбужденные голоса. После контузии я слышал плохо, слова разбирал с трудом. Из окопа НП, пятясь, стал подниматься по ступенькам Саша Ободов. Следом, наступая на него и распаляя себя гневом, показались с пистолетами в руках комиссар полка, старший батальонный комиссар Федоренко и капитан-особоотделец, фамилия которого в моей памяти не сохранилась. (Это было еще до введения единоначалия в армии, тогда комиссар и командир полка имели равные права, подпись была у командира, а печать у комиссара.) «Товарищ комиссар! – в отчаянии, еще не веря в происходящее, повторял Саша. – Товарищ комиссар! Я всегда был хорошим человеком!» Раздались хлопки выстрелов. Заслоняясь руками, Саша отмахивался от пуль как от мух. «Товарищ комиссар! Това…» После третьего выстрела Саша умолк на полуслове и рухнул на землю. Ту самую, которую так хотел защитить… Он ВСЕГДА был хорошим человеком. Было ему всего двадцать два года.
Немцы непрерывно освещали передний край ракетами и низко расстилали над нашими головами разноцветный веер трассирующих пуль. Время от времени глухо ухали мины. Ничего не изменилось… Война продолжалась… Кто-то крикнул: «На партсобрание!» Сползлись вокруг парторга. Долго, не глядя друг на друга, молчали. Не сразу заговорил и парторг. Буквально выкрикнул: «Товарищи коммунисты! Вы видели, что сейчас произошло! Лучше погибнуть в бою!» Так и записали в решении: «Биться до последней капли крови. Умереть в бою…» Особистами и военными трибуналами расстреляно 150 тысяч человек… Никогда не узнаем, сколько из них – невинные жертвы… А сколько расстреляли без суда и следствия! Как определить ту меру жестокости, которая была необходима, чтобы победить?.. Необходима ли?.. Всегда ли?..
– Вообще, нужно ли сейчас рассказывать всю горькую и тяжелую правду о войне?
– Не знаю… Война вещь страшная… Сколько людей уже ушло из жизни, так и не рассказав людям, что им пришлось испытать, не рассказав свою правду войны. А сколько еще живы, но молчат, думая, что никому это уже не нужно. Вот вам пара примеров, и вы сами подумайте, нужна ли людям такая правда о войне…
Мой товарищ Алексей Дуднев, командир пулеметной роты, раненный в голову (пуля попала под левый глаз и вышла в затылок), выползал из окружения. Полз по полю боя, вокруг свои и чужие убитые. На горизонте показалась редкая цепочка людей. Они шли к передовой, время от времени наклонялись. Санитары, подумал он и пополз им навстречу. До слуха донесся пистолетный выстрел. Не обратил внимания. Раздалось еще два сухих хлопка. Насторожился, присмотрелся. Люди были в нашей форме, из «азербайджанской» дивизии. Мародеры! Пристреливают раненых и обирают убитых. Остаться в живых после смертельного ранения и погибнуть от рук своих! Но какие это «свои»?!. Они хуже фашистов. Пристрелят! – горько думал он, но продолжал ползти. Встретились. С трудом повернув голову, он попросил: «Ребята! Пропустите!» И они его пропустили! То ли сжалились над его молодостью, то ли автомат, – которым он все равно не мог воспользоваться, – произвел впечатление, но пропустили! Еще не веря в свое второе спасение, пополз дальше и к утру приполз в медсанбат… Медсанбат был другой дивизии и его не приняли. Фронтовики знают, что в наступлении медсанбаты, как правило, принимали раненых только своей дивизии и очень неохотно из других соединений. Там такой поток раненых идет, что обрабатывать их не успевали. Это было ужасно обидно и казалось кощунством, сейчас можно возмущаться сколько угодно. Но так бывало нередко… Дали Алексею кусок хлеба. Есть он не мог. Отщипывал маленькие кусочки, проталкивал сквозь зубы и сосал. И полз дальше. Отдыхал и снова полз. Так дополз до госпиталя, там приняли и перевязали. На пятые сутки после ранения. И это не выдумка.
Солдат нашего батальона (не буду называть его фамилию, он прошел войну и, возможно, еще жив), парень 19 лет. Так случилось, что батальон освобождал его родное село, которое было взято без боя. Дом его находился на другой окраине. Пока до дома дошел, соседи рассказали, что мать при немцах открыла публичный дом, и его невесту тоже вовлекла в эту грязь. Солдат весь затрясся. Зашел в дом и застрелил мать! Хотел и девушку свою застрелить, но не успел, комбат не позволил убить…
– Часть своего фронтового пути вы прошли в качестве политработника ротного и батальонного звена. Сейчас только «ленивый не кинет камень в комиссаров». Что для вас означало быть коммунистом и политруком на фронте?
– Я не стесняюсь своего членства в партии. Я не был партийным функционером и не пользовался никакими номенклатурными благами. Я вступил в партию под Сталинградом. Ночью к моему окопу подползли комиссар и парторг полка, они дали мне рекомендации, третья – от комсомольского бюро полка. Никакого собрания не было. Политотдельский фотограф сидел у противоположной стены окопа до рассвета. Вспышки он сделать не мог, это была бы последняя вспышка в его жизни, да и в моей тоже. Щелкнул и поскорее уполз (только комсомольские билеты на фронте были без фотографий). Зато привилегию я получил сразу. Комиссар вызвал: «Ты теперь коммунист! Будет зеленая ракета – вскочишь первым – За Родину! За Сталина! И вперед! Личным примером!» Фраза «личным примером» – была у начальства одной из любимых. Легко сказать… Вскакивать не хотелось. Ни первым. Ни последним. Это после войны нашлось много желающих… А тогда их было почему-то во много крат меньше. У Александра Межирова есть стихи «Коммунисты! Вперед!». Так было. И вскакивал. Как будто внутри пружина заложена. И бежал в атаку. И кричал… Что? Не знаю. Наверное, матерился. Все равно никто этого не слышал. И я тоже. Перед атакой призыв «За Родину! За Сталина!» – звучал только в речах политработников и командиров. А в самой атаке солдаты кричат «Ура!» и нечто среднее между «А» и «У», чтобы подбодрить себя и напугать противника, но никаких лозунгов «За Сталина!» никто в бою никогда не кричал.
А подлецов хватало и среди политработников, и среди простых командиров. Но в большинстве своем – это были патриоты, не жалевшие жизни во имя Победы.
– Вы упомянули Межирова. У него есть еще известное стихотворение «Мы под Колпином скопом стоим, артиллерия бьет по своим…». Такое у вас случалось?
– Конечно, иногда, и свои штурмовики, и свои артиллеристы промахивались. Была такая шутка – «Бей своих, чтобы чужие боялись!».
Как правило, получали от своих только в наступлении, по причине несовершенства связи и быстро меняющейся обстановки.
– Наградной темы коснемся?
– В 1942 году солдата нашего полка наградили медалью «За отвагу». Полк вывели на митинг по поводу его награждения… Награждать начали щедро только с 1944 года. В принципе никакой справедливости в этом отношении не было никогда. Я видел солдата после шести(!) ранений с одинокой медалью на груди. В штаб приезжаешь – там «иконостасы» на кителях. В штрафную роту я пришел с двумя орденами Красной Звезды, а за последний фронтовой год получил орден Отечественной войны. Хотя в штрафной роте за каждую атаку можно было спокойно по ордену давать. Я за наградами не гонялся и у начальства не выпрашивал. Один раз только, в 1943 году, спросил у комполка, что слышно про орден Красного Знамени, к которому был представлен, а ответа так и не услышал. Потом выяснилось. Был у нас писарь в штабе полка, некто Писаренко (полное соответствие должности и фамилии), так он мой наградной лист уничтожил, фамилия ему моя не понравилась. Потом мне в госпиталь письмо написал. Каялся, извинялся…
А что дали или что не дали – какая сейчас разница. Евреев в наградах очень часто ограничивали, я знаю много подобных случаев. Документально подтвержденные факты хотите? Сколько угодно. Чего только стоят примеры танкистов Миндлина, Фишельсона, Пергаменщика, пехотного комбата Рапопорта, летчиков Нихомина и Рапопорта, партизана Беренштейна, морского пехотинца Лейбовича, которых по три раза за время войны представляли к званию Героя Советского Союза, но этого звания они так и не получили. В пехоте, в отличие от танковых или артиллерийских частей, антисемитизм был махровым, неприкрытым и процветал. Не забывайте еще одну немаловажную деталь: я был сын «врага народа». В личном офицерском деле это было указано. Вот, например, у Григория Поженяна, дважды представленного к званию Героя и не получившего этого звания, на личном деле было написано красным карандашом: «мать – еврейка, отец – враг народа». Тогда подобная аннотация звучала совсем не смешно.
– Беседую с фронтовиками, спрашиваю, что было самым трудным на войне? Многие отвечают – фронтовые дороги. Опишите пехотного солдата на марше.
– На пехотном солдате всего навешано, как на том ишаке. Иного, кто ростом не вышел, не видно из-за снаряжения. И скатка, и вещмешок, и противогаз (будь он неладен), и каска, и саперная лопатка, и котелок, еще сумка полевая, два подсумка с патронами. В противогазную сумку гранату запихаешь. Ну и винтовка или автомат. Пот льет ручьями. На просушенных солдатских гимнастерках проступают белые пятна соли, снимешь гимнастерку – коробом стоит. Пыль фронтовых дорог, истертых до центра земли… В освобожденных селах угощали семечками, немцы называли их «русский шоколад». Семечки помогали скоротать дорогу. Шинельный карман отщелкал – 10 километров прошел, вот такой был солдатский спидометр. Переходы по восемьдесят километров за двое суток вспоминаются как кошмар. Спали на ходу. Да еще по четыре 82-мм мины на шею повесят. С миной падать не рекомендуется, особенно во второй раз. От удара мина могла встать на боевой взвод. Идешь, все тело от пота и вшей зудит, желудок от голода к спине прилипает. Так и дошли до Победы.
– Свой последний бой или последний фронтовой день помните?
– Боем это не назовешь, но как я встретил последний день войны, я вам сейчас расскажу. Курляндия. Уже сообщили, что Берлин взят. Готовимся к атаке, саперы сделали проходы в минных полях перед нами. Напротив немецкие доты и четыре вкопанных в землю танка. До немцев метров триста. День «не обещал быть приятным». Смотрим – над немецкими траншеями шатаются белые флаги и исчезают. Все разочарованно вздыхают и матерятся. Вдруг белый флаг твердо возвысился над бруствером. На всякий случай артподготовку отменили. К нашим окопам никто не идет, видно, боятся получить в спину пулю от своих. Все смотрят на меня. В роте я один знал немецкий язык, и иногда приходилось допрашивать пленных. Боец, стоявший рядом, говорит: «Да если что, от них мокрое место оставим». И оставят… Такое подразделение… Только я не увижу того самого мокрого места. Встаю демонстративно в полный рост на бруствер, снимаю пояс с пистолетом. Достаю носовой платок, цветом отдаленно напоминающий белый, и на негнущихся ногах иду в сторону противника по разминированной тропинке. Тишина. Фронт замер. Вдруг сзади шаги. Один из наших штрафников, молодой и здоровый парень, меня догнал. Пошли дальше вдвоем и добрались до немецкой обороны целыми. Спустились к немцам в траншею. А они митингуют, кричат, на нас кидаются. Мой солдат нервничает, да и я тоже гранату в кармане «лакаю». И думаю про себя: «Это же надо, в последний день так глупо погибнуть придется!» Немцы говорят быстро, я от волнения слов не разберу. Привели к оберсту. Я сначала, кроме «Сталин гут, Гитлер капут», не могу ничего внятно сказать. Овладел собой и заявляю: «Гарантируем жизнь, отберем только оружие». Оберст только головой кивает, понял, что я еврей, до разговора со мной не унижается. Пошли назад, я все эти метры ждал выстрела в спину. Обошлось. Когда немцы шли сдаваться, бойцы кричали «Ура!» и обнимались. Все понимали, что война для нас кончилась и мы остались живы!!! Пленных немцев разоружили, «освободили» от часов и отправили дальше в тыл.
По случаю завершения войны личный состав роты был амнистирован.
– Пили на фронте много? Полагались ли штрафникам 100 грамм «наркомовских»?
– Как и всему личному составу фронтовых частей. Зимой, а также в наступлении, вне зависимости от времени года. Я на фронте пил мало. Бутылку водки делили спичечным коробком, поставленным торцом. Пять коробков – бутылка поделена. Самогонку бойцы часто доставали. Бывало, и древесный спирт по незнанию выпьют и погибают в страшных муках. Очень много народу погибло на войне по «пьяному делу».
Немцы досконально знали нашу психологию и нередко, покидая оборонительные рубежи в каком-нибудь населенном пункте, оставляли нетронутую цистерну спирта на железнодорожных путях. А через пару часов отбивали этот пункт снова. У нас уже воевать было некому. Все были «в стельку»… Примеры… Любого фронтовика спросите. Чего стоит только первое взятие Шяуляя. Но дикий случай произошел на станции Попельня. Взяли станцию, а там цистерна спирта. Начали отмечать успех. Через несколько часов на станцию прибыл эшелон немецких танков. Спокойно(!!!)разгрузились и выбили нас оттуда. Наши танки Т-34 стояли без экипажей. Танкисты изрядно приняли «на грудь». Видел я однажды, как генерал застрелил командира батареи за то, что тот осмелился возразить, получив гибельный приказ. Но был ли генерал пьян?
Мой комбат Иващук тоже погиб, будучи пьяным. Выехал на белом коне на передний край и начал немцев матом крыть. Немцы кинули мину. Был бы Иващук трезвым, может, развернулся бы и ускакал, но он продолжал что-то немцам кричать, угрожая в сторону их окопов кулаком. Следующей миной его накрыло. Нелепая смерть…
– После всего пережитого на передовой вам никогда не хотелось «довоевывать во втором эшелоне»?
– После госпиталя я пару месяцев служил в батальоне связи. Отдыхал от войны, так сказать. Но и там люди погибали. Своей судьбы не знает никто.
Как-то шли по полю с командиром роты связи. На мне катушки с проводом на 400 метров. Появился в небе немецкий пикировщик и стал за нами охотиться. Всего лишь за двумя (!) людьми в военной форме. Побежали к окопам. Я отстал, а старший лейтенант успел добежать и прыгнуть в окоп. Думаю – все… Метров двадцать до окопа оставалось, а туда бомба прямым попаданием. Вот такая бывает служба во втором эшелоне… Мой товарищ Генрих Згерский, командир радиороты, высокий широкоплечий красавец, погиб от случайной мины, находясь в километре от передовой. Гибель Саши Кисличко и Генриха Згерского – для меня самые горькие утраты на войне.
Осенью сорок второго года, когда в центре Сталинграда сложилась тяжелая обстановка, наша дивизия была переброшена северо-западнее города, с целью оттянуть на себя часть сил противника. Шли к передовой, чтобы с ходу вступить в бой. Проходили вдоль огромной балки, в которой сотни людей копали щели и «зарывались в землю». Штабы, санбат, артиллеристы, обозы, кого там только не было! Пологие склоны балки были сплошь изрыты щелями, возле которых копошились, что-то укрепляя и прилаживая, солдаты. Некоторые сидели и с наслаждением курили разнокалиберные самокрутки, – день был теплый. Это ж сколько народу во втором эшелоне! А на передовой раз-два и обчелся… Через несколько часов, когда остатки батальона возвращались из боя, балки было не узнать… Война прошлась по ней, да, видно, не один раз. Скорей всего здесь поработали немецкие пикировщики. Все изрыто, исковеркано. Ни одной уцелевшей щели, ни одного окопа, узкая дорога по середине балки завалена разбитой техникой, перевернутыми, изломанными бричками. Еще дымились опрокинутые кухни с солдатскими щами. И трупы, трупы, трупы… Их еще не успели убрать. Уцелевшие, полуоглохшие, не пришедшие еще в себя от дикого разгула войны солдаты перевязывали раненых товарищей и пристреливали покалеченных лошадей. Подавленные увиденным, мы с трудом пробирались по балке, осторожно переступая через трупы людей и лошадей, как будто им можно было еще повредить. Я шел и думал: «Это ж сколько людей побито! Вот тебе и второй эшелон! Нет, на передовой лучше…»
Гольбрайх Е.А. c женой
– Почему люди вашего поколения, хоть и звучит это странно, называют годы войны лучшим временем своей жизни?
– Для многих людей моего поколения война была лучшим временем нашей жизни. Война, с ее неимоверной, нечеловеческой тяжестью, с ее испытаниями на разрыв и излом, с ее крайним напряжением физических и моральных сил, и… все-таки – ВОЙНА. И дело не только в тоске по ушедшей молодости.
На войне нас заменить было нельзя… И некому…
Ощущение сопричастности с великими, трагическими и героическими событиями составляло гордость нашей жизни.
Я знал, что нужен. Здесь. Сейчас. В эту минуту. И никто другой…
Войцехович Владимир Викторович
Я родился 10 мая 1924 года в селе Скобровка Пуховического района Минской области. Мама моя была простой колхозницей, а отец Виктор Степанович служащим, работал в райисполкоме. В нашей семье было пятеро детей – три мои младшие сестры и брат. Я успел окончить 10 классов в школе в Марьиной Горке. Наша школа имела такую прекрасную репутацию, что выпускников математических классов, а я как раз учился в таком, после собеседования, без экзаменов, принимали учиться в знаменитый «Бауманский» институт в Москве. Достаточно сказать, что уже в 10-м классе мы изучали высшую математику… Если девочки поступали еще и в медицинские институты, то все ребята поголовно шли только в «Бауманку». Я учился очень хорошо, знал, что поступлю в институт, стану инженером, и поэтому мое будущее виделось мне вполне определенным. Помимо математики и физики нам прекрасно преподавали и другие предметы, например литературу. Наш преподаватель – Ничипорович Лидия Николаевна была, я считаю, выдающимся учителем. Своими уроками она на всю жизнь привила и мне, и всем остальным ребятам любовь к литературе. Многие из нас, например, знали наизусть «Евгения Онегина», сказки Пушкина, отрывки из произведений Гоголя, Тургенева. С тех пор прошло уже столько времени, но я до сих пор многое помню наизусть.
– Ваше поколение воспитывали в духе патриотизма, верности Партии.
– Да, мы свято верили и продолжаем верить в идеалы справедливости, равенства и братства, для нас это не пустые слова. Но, кроме того, огромную роль в моем воспитании сыграли и родители, их народная мудрость. Они учили меня честно работать, не врать и не воровать, уважать старших. Так что воспитание у меня, да и у нашего поколения в целом, было неким сплавом старого и нового.
– Было предчувствие надвигающейся войны?
– Было общее ощущение, что война будет, но не завтра или послезавтра. В школе огромное внимание уделялось патриотическому воспитанию, физической и военной подготовке. Мы, старшеклассники, даже изучали устройство 45-мм пушки, а винтовку и пулемет «максим» могли разобрать и собрать с завязанными глазами. Регулярно устраивались различные соревнования. За то, что я выиграл кросс, военные мне вручили карманные часы. Вы даже представить себе не можете, какая эта была награда по тем временам, наверное, как если бы сегодня вручили машину…
Но когда по радио объявили, что немцы напали, то у людей был просто шок. Я как раз возвращался с рыбалки и еще удивлялся в то утро, почему столько самолетов летает, а люди слушали на улице сообщение по радио.
Вечером 22 июня у нас должен был быть выпускной вечер, но он не состоялся, т. к. в шесть часов вечера был налет немецкой авиации, и у нас в Пуховичах разбомбили военный городок и нефтебазу. Никакого страха тогда у меня еще не было, я даже с интересом наблюдал, как самолеты сбрасывают над нашей головой бомбы, за что меня отец обматерил, тогда я первый раз в жизни услышал от него такие слова… Военные были в лагерях, поэтому в городке погиб только один человек, зато нефтебаза горела два дня.
– Как вы оказались в истребительном батальоне?
– В прифронтовой полосе действовало много немецких диверсантов и агентов, и, видимо, поэтому райкому партии поручили сформировать истребительный батальон, основной задачей которого была борьба с ними.
Уже 24 июня меня и семь моих одноклассников направили служить в этот батальон. Когда нас увозили, то мы были уверены, что разгромим немцев буквально за несколько дней… Мне еще мой дядя, у которого после тяжелой контузии на «финской» отнялись ноги, сказал: «Привези мне из-за границы коньяк, говорят, он в таких случаях помогает…»
В батальон направляли не только молодежь, но и взрослых мужчин, так что его состав был весьма пестрый. Выдали нам всем по винтовке и 10 патронов, гранаты, два ручных пулемета было. Формы на всех не хватило, поэтому кто-то щеголял только в гимнастерке, кто-то только в брюках, а большинству не хватило и этого, ходили в своей гражданской одежде. Командиром к нам назначили кадрового старшего лейтенанта, который разбил нас на звенья по шесть человек. Главной нашей задачей было следить, чтобы не резали провода на столбах, ловить агентов, которые пускали ракеты для ориентира немецкой авиации, и часть нашего батальона охраняла мост.
Однажды мы задержали человека, который пускал ракеты для немецкой авиации. Сдали его в милицию и ушли. А этот диверсант во время допроса как врезал милиционеру! – и сбежал через окно; так и не поймали его потом.
А во второй раз, патрулируя свой участок, мы увидели, что кто-то из кустарника пускает ракеты в направлении военного городка, наводя на него немецкую авиацию. Мы окружили этот кустарник и задержали там одного литовца, правда, ракетницы при нем мы так и не нашли, но были абсолютно уверены, что это делал именно он, другому больше некому было. Мы его, конечно, арестовали и повели сдавать военным, т. к. сами мы ничего предпринимать не могли. Но по дороге мы встретили взвод солдат в новенькой форме, объяснили их командиру, в чем дело. Этот лейтенант проверил его документы, причем литовец в это время ехидно улыбался, и… отпустил его. Мы попытались возразить, но он нам сказал: «Это беженец из Литвы, оставьте его в покое». Наш старший лейтенант, которому, возвратившись, мы все рассказали, равнодушно как-то заметил: «Наверное, вы ошиблись». Только позже я подумал, что скорее всего это был отряд немецких диверсантов, я почти уверен в этом. Ведь еще когда мы их встретили, нас очень удивило, что все они были в новой, что называется, «с иголочки» форме, а ведь мы постоянно общались с военными и никогда никого не видели в новенькой форме. Но почему они нас не убили? Ведь нас было всего шесть человек. Не знаю, может, они сильно спешили, а может, не хотели поднимать лишнего шума.
А потом был наш первый бой… Где-то в начале июля мы охраняли какой-то мост через реку, и немцы сбросили десант из 25 человек, чтобы его захватить. А нас было 120 человек, причем мы видели, как они выпрыгивали, как спускались, но наш старший лейтенант запретил нам стрелять, пока они были в воздухе, видите ли, по какой-то конвенции это запрещено… А ведь мы легко могли перестрелять парашютистов в воздухе, но проявили гуманность, ведь тогда мы еще не знали, какие звери на нас напали… Потом их окружили, и начался бой. Мы только убитыми потеряли 12 человек, причем один из них был мальчишка, который просто оказался рядом… Но девятнадцать десантников мы уничтожили, а шестерых взяли в плен. Вели они себя крайне вызывающе и нагло. Кричали «Хайль Гитлер!» и выбрасывали руку в приветствии… А их не то что не расстреляли за это, но даже ни разу не ударили, просто передали воинской части. Вообще за всю войну я ни разу не видел, чтобы к пленным применялось какое-то насилие или тем более, чтобы их убивали. Я в этом бою тоже стрелял, но попал ли в кого тогда, я не знаю.
Потом наш истребительный батальон охранял в Чаусах аэродром с истребителями, но вскоре, где-то 20 июля, нас влили в состав 132-й стрелковой дивизии под командованием Бирюзова С.С., а я попал в 3-й батальон 716-го полка.
– Что вы чувствовали после первого боя?
– Когда ты видишь, что 12 человек, которых ты знаешь, которые еще час назад были живы, лежат убитые… Помню, что в основном тогда погибли мужчины среднего возраста, был даже один пожилой. Остатки юношеской романтики сразу улетучились, и я понял, что нужно быстрее взрослеть, становиться настоящим мужчиной, ведь перед нами встала ответственнейшая задача – защитить Родину…
– Что запомнилось из первых боев?
– То, что, несмотря на весь хаос и бардак, которые царили вокруг, кадровые части, и наша дивизия в том числе, отступали очень организованно, успешно сдерживая немцев, наносили им ощутимые потери.
Заняли мы рубеж на Березине. Немцы подошли только к вечеру, начали кричать через реку: «Рус, сдавайся!», но мы молчали. Утром они позавтракали и только потом попытались переправиться. Ни артподготовки, ни авианалета, ничего не было, до того наглые были. Но когда первые две амфибии «сорокапятки» потопили, они сразу отступили. Попытались переправиться на резиновых лодках, но по ним как врезали пулеметы. И вот только тогда они уже вызвали авиацию. Налетели «музыканты», так мы называли Ju-87, и смешали нас с землей… А к вечеру слышим: слева и справа нас обошли, и мы оказались в окружении, пришлось отступать. Так и воевали тогда: остановим немцев, они нас обойдут, и мы выходим из окружения, опять остановим и снова выходим из окружения… Три раза тогда мы выходили из окружения, а когда выходили в последний раз, наш батальон оставили в арьергарде, и когда мы с тяжелыми потерями вышли к своим, то попали в другую дивизию и так и остались воевать в ее составе.
А вообще не верьте тому, кто говорит, что только немцы нас в 1941-м били. У нас, конечно, были большие потери, но и мы им крепко давали прикурить… Потери они несли серьезные, а танки их бензиновые вообще вспыхивали как спичечные коробки. Вначале мы, конечно, их очень боялись, я даже «драпнуть» хотел, когда первый раз танк близко увидел, но мой напарник успел меня остановить, буквально за штаны схватил: «Куда бежишь, сукин сын, от танков разве драпают?» Зато когда мы увидели, как они горят… А ведь у нас еще «коктейля Молотова» не было, он появился только в боях под Москвой, а в начале войны были простые бутылки с бензином. И ничего, мы и этими бутылками их останавливали, мне и самому доводилось их бросать, да и «сорокапятки» хорошо тогда с немецкими танками справлялись. На Смоленщине в одном бою я видел, как подбили восемь танков, в следующем еще шесть…
– Почему вас назначили связистом?
– Вначале я был простым стрелком. Но связь между командиром роты и командиром батальона рвалась очень часто, и уже на Смоленщине, в одном из боев, когда всех связистов поубивало, соединить линию отправили меня. И когда у меня это получилось сделать, да еще наш ротный увидел, как я быстро бегаю, то меня решили назначить связистом. На самом деле – это очень опасная и тяжелая воинская профессия, и я много раз должен был погибнуть, но мне везло. Особенно же мне повезло с напарником, на всю жизнь его запомнил, латыш – Вальма Антон Павлович. Он меня и учил, и опекал, и берег. Помню, мы с ним сами догадались соединить наши ячейки ходом сообщения, ведь в начале войны рыли не траншеи, а лишь отдельные ячейки.
– Как вас первый раз ранило?
– Очень хорошо помню тот день, это было примерно 10 августа. Мы заняли позиции, хорошо окопались и замаскировались. Появились голые по пояс немецкие мотоциклисты, машины с пехотой. Наш командир приказал подпустить немцев максимально близко, и только тогда мы открыли огонь. Из десяти мотоциклов только один успел уехать, а всех остальных там положили… Немецкая пехота спешилась и попыталась атаковать, но мы их отбросили. Больше пытаться атаковать они не стали, зато вызвали авиацию, подтянули минометы. И что они нам устроили, просто ад какой-то… Перерывов между налетами почти не было. Дикая бомбежка, артобстрел, все кругом горит, пылища и гарь, дышать стало абсолютно нечем, меня даже стало тошнить и рвать, и, чтобы хоть как-то вздохнуть, я высунулся из своего окопчика. Осколок задел мне левую челюсть, и хотя ранение было неопасным, сейчас тут у меня даже шрама нет, но там находится много кровеносных сосудов, кровью мне залило всю голову, и, наверное, поэтому меня все-таки решили отправить в госпиталь.
Раненых набралось на несколько машин, две с тяжелоранеными поехали вперед, а нас, легкораненых, грузили последними. Успели мы проехать всего километров десять, как увидели две горящие санитарные машины, которые поехали впереди нас, но не успели ничего понять, как по нашей машине ударил снаряд. Кто мог бегать, кинулись врассыпную. Оказалось, это были несколько немецких танков, которые все-таки прорвались и наводили у нас в тылу панику. Рядом со мной бежал незнакомый мне парень, раненный в руку. Я и так очень хорошо бегал, а когда за тобой еще и немецкий танк гонится, то, наверное, мировой рекорд тогда установил и успел-таки добежать до зарослей кустарника. Правда, немецкие танкисты по нам не стреляли, они решили нас гусеницами раздавить. Только они почти настигали этого парня, как он бросался в сторону, и погоня начиналась заново. Так он успел сделать несколько раз, пока не догадался бежать в сторону болотца, рассчитывая, что танк там не проедет, но, видно, немцам эта забава уже надоела. Я только увидел, как он будто наткнулся на невидимую стену, и только потом услышал звук пулеметной очереди…
Нас учили хоронить погибших товарищей, и поэтому я решил его обязательно похоронить, пытался какой-то каргой выкопать могилу на пригорке. Но тут мимо проезжали на повозке два местных жителя, и они мне сказали: «Оставь, сынок, мы его в деревне похороним». Забрали в деревню тело этого убитого парня, я у них переночевал, а утром отправился к своим. Добирался дня два, а уже там меня отправили в госпиталь в Орле.
– Что-то вам запомнилось в госпитале?
– Ранение у меня было пустяковое, оно быстро зажило, но меня не отпускали, т. к. санитаров не хватало, а я был здоровый и мог проделывать большой объем работы. Госпиталь был переполнен, раненых было очень много, «тяжелые» лежали на первом этаже, а мы, легкораненые, на втором, но больше всего запомнилось, как ребята разыгрывали друг друга. Город часто бомбили, и раненые должны были прятаться по «щелям», которые были выкопаны вокруг больницы. Некоторые «шутники» поднимали ложную тревогу, будто начинается налет, тогда поднимался хаос, все выбегали из больницы, в общем, весело было. Но после того как один из раненых, разозленный таким розыгрышем, своим костылем ударил по раненой руке такому «шутнику», такие вещи прекратились.
А накануне прихода немцев, видно, что-то почувствовал начальник госпиталя, он потребовал немедленно выделить два эшелона для эвакуации тяжелораненых, и их успели отправить. А уже на следующее утро в Орел ворвались немецкие танки, и все, кто мог, побежали из города. И я тоже тогда драпанул через хутора Воин-1, Воин-2, а уже под Мценском нас останавливали солдаты Лелюшенко и формировали из таких, как я, новые подразделения.
Я попал в отдельный мотоциклетный батальон под командованием полковника Танасишина 1-й Гвардейской армии. Из этого периода очень запомнились бои, когда подошла танковая бригада Катукова, у нее в составе были только «тридцатьчетверки». Они устроили большую засаду и с первого же удара сожгли 29 немецких танков, а всего за неделю боев бригада уничтожила 134 танка, за что получила звание Гвардейской, а нашей задачей было уничтожение немецких танкистов и пехоты… За неделю тех боев немцы не продвинулись на нашем участке ни на шаг. А затем части Лелюшенко, Катукова, в том числе и наш мотоциклетный батальон, перебросили под Можайск. Только успели там остановить немцев, как нас перебросили под Клин, и уже там мы участвовали в наступлении.
– Говорят, при отступлении в 41-м было много страшного и неприглядного.
– Хватало всего: и дезертиров, и трусов, и паника бывала, но кадровые части, наша и те, что я видел, отступали очень организованно. Дисциплина была железная, моральный дух у нас сохранялся высокий, и даже питание тогда было отличное. А вот в воинских частях, где было много мобилизованных людей, бывало всякое… Но массового дезертирства, такого, чтобы дезертиры чуть ли не колоннами шли навстречу фронту, я не видел.
– Что запомнилось из боев под Москвой?
– Это были самые тяжелые бои за все время войны, не столько из-за своей напряженности, а из-за той ответственности, которая тогда на нас была. Задача была – умереть, но не пропустить немцев, и мы все были готовы к этому. Наш мотоциклетный батальон был очень мобильным, хорошо вооруженным и укомплектован прекрасно обученными кадровыми военными, поэтому нас постоянно перебрасывали на самые опасные участки. В этом батальоне я тоже был связистом, но и часто приходилось непосредственно принимать участие в боях, стрелять по немецким сол-датам.
Когда началось наступление, наш батальон придали 107-й дивизии, в которую я потом попал после училища. Первую деревню мы взяли очень легко: ночью нам удалось скрытно подойти, разминировали подступы, сняли часовых. А в деревне стояли заведенные 16 танков, немцы их даже на ночь не глушили, потому что завести их на таком морозе было очень тяжело. Всех немцев мы там перебили, только один успел заскочить в танк и попытался уехать, но гранатой удалось перебить гусеницу, а потом забросали этот танк «коктейлем Молотова». Это было хорошее оружие, но и очень опасное, у нас два человека заживо сгорели из-за того, что нечаянно разбили бутылки, и мы им ничем не могли помочь…
После такого успеха попытались уже «в лоб» взять следующую деревню, но не тут-то было… У немцев пулеметы, минометы, и мы ничего поделать не могли, застряли там капитально. А сколько людей там положили… Но на следующий день мы получили приказ: на немецкие опорные пункты времени не тратить, обходить их. И вот тогда наше наступление стало стремительным: в день стали проходить по 30–40 километров, а за первые два дня всего на 10–15…
Но уже где-то 10 декабря меня легко ранило, осколок задел левую руку, и меня отправили в госпиталь, причем далеко, аж в башкирский районный центр Дюртюли. Рана зажила быстро, и встал вопрос, что со мной делать, ведь наш год еще не подлежал призыву. Вызвали в военкомат, и когда выяснилось, что я окончил 10 классов, то меня сразу направили в Гурьевское военно-пехотное училище. Причем направили нас четверых, но трое ребят, родители которых, как оказалось, были репрессированы и высланы, сбежали. Но в Уфе их поймали, судили и, насколько я знаю, отправили на лесо-повал.
– Как удавалось справляться с морозами под Москвой?
– Одели нас очень хорошо: валенки, ватные брюки и фуфайки, у командиров полушубки. Но все равно были случаи, когда люди замерзали прямо в окопах. И я ведь тоже чуть не замерз, впал уже в забытье, мне привиделось, что я лежу на печке и ем блины… Но повезло, наш сержант это заметил, приволок меня в землянку, где меня напоили горячим чаем, сделали растирание, отогрели. А так бы точно замерз…
– Как вас подготовили в училище?
– Считаю, что отлично. Преподаватели у нас были очень грамотные, уже с боевым опытом, и они нам подавали личный пример во всем, и мы невольно начинали за ними тянуться. Не поверите, но в то тяжелейшее время нас в училище даже танцам обучали, чтобы мы были настоящими офицерами. Меня стали учить на минометчика, но и другие виды вооружения мы изучили прекрасно. В училище была интересная система обучения курсантов: разбивали нас на группы из трех-четырех человек, с элементами самоподготовки, и тогда ее эффективность возрастала многократно. Я эту методику обучения перенял именно там, и активно использую в своей педагогической практике до сих пор. Кормили вроде сносно, но нам, молодым, конечно, не хватало, поэтому все старались попасть в наряд по кухне. Нам обычно выдавали кастрюлю еды на 10 курсантов, а в наряде мы такую кастрюлю втроем могли слопать.
Организация обучения и дисциплина были прекрасные, хотя пару курсантов сажали на гауптвахту за самоволки и за то, что приворовывали помидоры на частных участках. Что еще запомнилось? То, что в воздухе целыми кусками постоянно летала сажа, а Урал был настолько грязный, что во избежание эпидемий из него категорически запрещалось пить, хотя один раз эпидемия дизентерии все же была. Пить разрешалось только кипяченую воду.
Войцехович В.В. в Гурьевском военно-пехотном училище
Коллектив был прекрасный: из двухсот человек курсантов большинство, конечно, были русские, но были и татары, шестеро ребят было из Левобережной Молдавии, несколько белорусов. Мы начали учиться в январе 42-го, а в августе всем курсантам 1923 года рождения присвоили звание сержантов и срочно отправили под Сталинград. А нам, 24-го года, дали доучиться положенные 10 месяцев. Присвоили всем звания младших лейтенантов, а мне и еще одному парню лейтенантов, т. к. мы уже воевали.
– Куда вы попали служить после училища?
– На северную окраину Сталинграда, во 2-ю гвардейскую армию командиром минометного взвода, причем в свою же дивизию. Но если раньше она называлась 107-я мотострелковая, то за бои под Москвой она получила звание 2-й Гвардейской мотострелковой, но еще под Сталинградом ее переименовали в 49-ю Гвардейскую дивизию. Нас пополнили моряками Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, это были отличные солдаты: смелые, здоровые, а из старого состава у нас в полку оставалось только 16 человек…
– Что запомнилось в Сталинградских боях?
– Тяжелейшие уличные бои, снайперы свирепствуют. Меня там тяжело контузило. Мы сражались за дом на окраине какого-то завода. Захватили первый этаж, выкопали вдоль стен окопы, а на втором были немцы, они кидали нам через дыру в потолке гранаты, но мы выстрелами старались не подпускать их. Пару дней мы кроме сухарей ничего не ели, и тут нам доставили термос с горячим питанием. Один солдат, сибиряк, поставил котелок с долгожданным супом на бруствер, но тут немцы бросили очередную гранату, и его котелок взрывом опрокинуло. У него произошел взрыв бешенства, он схватил автомат и буквально ринулся на второй этаж. За ним бросились еще два солдата, и наверху начался бой. И что получилось: те двое, кто побежали за ним, погибли, а он застрелил всех шестерых немцев, которые там находились… У немцев на втором этаже был телефон, и кто-то из наших солдат поднял трубку и послал немцев от всей души… И тут началась дикая бомбежка, взрывом меня так засыпало, что только сапоги торчали. Но и тут мне опять повезло, откопали, хотя у меня уже пена изо рта шла… После этого несколько дней я провалялся в медсанбате, не мог говорить, ничего не слышал. А когда вернулся, нас бросили навстречу частям Манштейна. Мы совершили тяжелейший стопятидесятикилометровый пеший марш, причем пришли даже раньше намеченного срока и успели закрепиться. Поэтому смогли остановить немцев, но бои там были страшнейшие… Названия: Васильевка, Капчинск, Жутово, Челноково навсегда остались в моей памяти…
Потом было наступление на Котельниково, Кутейниково, освобождали Новочеркасск. Перед Матвеевым Курганом в боях за село Совет меня ранило осколком в левую височную кость, и месяца два я провалялся в полевом госпитале. А после ранения был направлен в 130-ю дивизию, когда линия фронта была уже по реке Миус.
– На Миусе, говорят, были тяжелые бои.
– Тяжелые – это не то слово, а тяжелейшие и очень кровавые. С февраля по июль 1943 года там шли кровопролитнейшие бои местного значения. Мы несколько раз пытались прорвать немецкую оборону, но неудачно, они очень хорошо укрепились. На возвышенности на правом берегу Миуса немцы построили полноценную линию оборону. В тех боях «местного значения» у нас полдивизии полегло… Погибли почти все командиры взводов, рот, батальонов и даже командир нашего полка подполковник Гришин, причем вначале откуда-то прошел слух, что он перешел к немцам… Появились «смершевцы», начали выяснять, но потом его тело нашли на поле боя, а тень на имя, получается, уже бросили…
Там погиб и командарм 44-й Армии Хоменко, а командующего 2-й Гв. а. Крейзера сняли, а на его место назначили Г.Ф. Захарова. Ростовка, Алексеевка, Демидовка, Анастасиевка, я, как вспомню, сколько у этих станиц народу полегло… С тяжелыми боями добрались до Днепра.
– Как вы попали служить в штрафную роту?
– Скажу сразу, что рассказ Ефима Гольбрайха очень и очень точный и правдивый, добавить мне особо нечего. Жалко только, что его не читали создатели сериала «Штрафбат», такую чушь наснимали… Вообще насчет «штрафников» и заградотрядов в последнее время столько нагородили, а он, повторюсь, описал все очень правдиво. Единственный момент, который у меня идет немного вразнобой с его рассказом, это то, что примерно за месяц моей службы в штрафной роте мы почти все время были в обороне на передовой, но ведь у нас и не было возможности наступать, и лишь несколько раз провели разведку боем.
Как я уже сказал, сразу после ранения меня назначили командиром минометного взвода в 528-й сп 130-й сд. Но т. к. младших командиров на передовой всегда не хватало, то вышел приказ ликвидировать должности заместителей у командиров рот. У меня командиром роты был очень опытный капитан Мальцев, но со своим заместителем старшим лейтенантом Кузнецовым он уже сдружился и не захотел расставаться, поэтому его он оставил у себя командиром взвода, а меня как новенького, я там пробыл едва ли месяц, отправили в офицерский резерв армии.
Временное удостоверение
Мне еще запомнилось, что этот Кузнецов на той стороне Миуса с одним минометным расчетом и взводом стрелков захватили маленький плацдарм. Они вырыли в большой возвышенности целую пещеру и там закрепились. И как немцы их ни обстреливали и ни бомбили, ничего с ними поделать не могли.
И вот в 4-м Отделе, изучив мое личное дело, подполковник меня спрашивает: «Учиться хочешь?» Я успел про себя обрадоваться, ну, думаю, сейчас учиться куда-то пошлют. А он продолжает: «Назначаем вас в штрафную роту, после нее и академий никаких заканчивать не надо». Я опешил, как в штрафную роту, за что? Мне объясняют, что к штрафникам командирами направляют только лучших офицеров, чтобы они не только командовать, но чтобы и воспитывать могли. Но я все равно не соглашался, дошло до того, что уже в случае моего неповиновения мне стали угрожать штрафным батальоном. Я все равно ни в какую, молодой был, упрямый, горячий. Этот подполковник дал мне еще времени на раздумье, и тут, когда я выходил от него, встретил моего сокурсника по Гурьевскому училищу. Оказалось, что он уже служил в штрафной роте, рассказал мне, что ничего страшного там нет и почти все то же самое, что и в обычных частях, рассказал о структуре, о плюсах: о двойном окладе, о повышенной выслуге лет. И вот только после его рассказа я согласился.
Так меня направили служить командиром минометного взвода в 274-ю отдельную штрафную роту. Командиром у нас был Георгий Баланда, очень боевой и храбрый офицер, но уж очень любил женщин и выпить: правда, надо отдать ему должное, в состоянии опьянения он никаких решений никогда не принимал.
За что попадали в штрафную роту? Я помню, например, одного прислали за то, что он, будучи завскладом, продал «на сторону» вагон зерна, другого за грабежи магазинов, третьего за дезертирство, были моряки Азовской флотилии, получившие срок за убийство, но об этом я еще расскажу. И была целая банда из Ростова – человек десять, с ними у меня связана целая история.
Я попал в роту, когда в ней оставалось всего человек двадцать, и меня с двумя офицерами отправили в Азов получить пополнение. Добрались мы до лагеря, он был километрах в пяти от Азова, где должны были утром получить 250 штрафников и вернуться в часть. Но ночью была тревога, оказывается, среди штрафников был то ли бывший особист, то ли милиционер, осужденный за превышение власти, но другие штрафники его узнали и хотели убить. Но ему очень повезло, охрана его отбила. Утром два офицера, больше никакой охраны не было, ушли с 230-ю штрафниками, а я должен был привести 25 штрафников, которые остались для выяснения ночного инцидента. Как-то там разобрались, и мы ушли. Отошли буквально на пару километров от лагеря, они сели на землю и говорят мне: «Командир, мы дальше пешком не пойдем». Я, конечно, мог кого-нибудь из них застрелить, такое право у меня было, но мне очень не хотелось прибегать к такой крайней мере. Причем многие из них были из одной ростовской банды, а приговоры на них были со мной. Представьте, если бы они меня убили и забрали эти приговоры, то, считай, опять были бы свободными людьми… Их главарь мне говорит: «Мы поедем до Ростова на речном трамвайчике», я ему возражаю: «У нас же денег нет». – «Ничего, мы эту проблему решим». Я с ним спокойно поговорил, назначил его моим заместителем, а он разбил людей на два отделения и назначил там командиров.
Сутки мы ждали этот трамвайчик и пока ждали, подошел один из этих бандитов и спрашивает: «А в сумке не наши случайно приговоры?» и так слегка ногой ее задел. У меня хватило выдержки не дернуться к ней, не показать волнения: «Да, нет, говорю, ваши со вчерашней командой отправили…» Потом подходит ко мне их главарь: «Товарищ командир, есть разговор, давайте отойдем». Отошли: «Понимаете, один наш товарищ хотел бы присоединиться к нашей команде, чтобы, честно сражаясь на фронте, смыть свои старые грехи». Я немного опешил, конечно, но сказал «ладно». «Новенький» был за углом и присоединился к нам, все на него только молча посмотрели, он, видно, тоже был из их банды. Как я потом узнал – это был матерый рецидивист, насколько я понял, «медвежатник», приговоренный к расстрелу, но ему удалось бежать, и он решил присоединиться к своим товарищам. А вечером ко мне подошел какой-то особист и спрашивает:
– Чьи люди?
– Мои.
– На всех есть документы?
– Да.
– Если кто-то к вашей команде присоединится, подайте условный знак, за вами будут наблюдать.
– Хорошо.
Не могу сказать, что я так уж испугался, но почему-то знак я не подал… И еще пару раз ко мне подходили и спрашивали: «Никто не появлялся?», но я так и не выдал…
Где-то они достали денег на билеты, на меня тоже, а пока плыли, успели обворовать несколько человек. У одного из них была гитара, и когда он стал петь жалостливые песни, то женщины начали плакать. Хорошо пел, ничего не скажешь.
Так мы доплыли, и тут их главарь мне говорит: «Лейтенант, мы нашу колонну догоним, но хотим три дня отдохнуть в Ростове». Тут я, конечно, просто за голову схватился: «Да вы что, это же невозможно, это же подсудное дело». – «Не волнуйтесь, слово даю, что все будет нормально, и никто из нас не убежит».
Они и так могли достаточно легко от меня сбежать, а я бы ничего не смог сделать, и поэтому я ему даже не то что поверил, а просто доверился.
Строем пошли к дому, в котором мы должны были ночевать, до сих пор его очень хорошо помню: в самом центре Ростова, рядом с главной, наверное, церковью в городе, там еще рынок был близко. Пока я осматривался, они уже все разбежались… Это оказался дом родителей того, кто толкнул «вагон зерна». Они мне всё говорили: «Наш сын хороший, это его дружки подбили…»
Вечером все вернулись, начали мне предлагать пойти в ресторан, сапоги хорошие хотели подарить, девушек мне предлагали… Но я им твердо сказал: «Даже не предлагайте ничего, все равно не возьму». А на второй день один из них не вернулся… Но они его сами быстро нашли и так страшно избили, что уже я хотел вмешаться, но они мне сказали: «Это не ваше дело»…
Они за эти три дня порядком в городе «покуролесили»: на рынке какой-то колхоз продавал зерно, так они умудрились стащить у них целый мешок денег… Двое подошли прицениться к паре сапог, рассматривают и разбегаются в разные стороны… Украли у полковника, который пошел купаться, форму и хохочут…
Слава богу, настал третий день, и тут один из этой команды, даже фамилию его помню, – Гаврилов, подходит ко мне и говорит: «Я на фронт не пойду, а вместо меня пойдет этот «новенький». Вот так просто он взял и ушел, произошла эта «подмена», и я до сих пор никому и никогда об этом случае не рассказывал…
Пошли мы строем, с песнями, а за нами до самой окраины города шли их родные и плакали… Дошли до Султан-Салы, это деревня такая недалеко от Ростова, тогда в ней только армяне жили. Решили, что найдем машину, чтобы доехать до Матвеева Кургана. А в этой деревне продавали масло, так они и тут умудрились украсть. Нашли мы попутные машины, и тут бежит одна женщина и кричит, что вот эти «басурмане» украли у нее ведро масла. Комендатура нас задержала, ссадили, машины обыскали, но как не нашли масла, до сих пор не пойму, ведь машины были почти пустые… Когда уже отъезжали, один из них хотел поднять и показать это ведро, но его одернули, испугавшись погони…
Нашу колонну мы благополучно догнали, но эта история имела трагическое продолжение.
Когда уже в расположении роты начали распределять людей по подразделениям, вышел конфликт: главарь что-то грубо ответил командиру взвода Фадееву, а тот его за это ударил… Этот, конечно, вскипел и, видно, затаил обиду… И попали эти урки прямо к нам в роту, во взвод именно к старшему лейтенанту Фадееву.
А там было так: на высотке засели немцы, а наши окопы внизу, но совсем близко, потому что немцы добрасывали до нас гранаты. А Фадеев был из поволжских немцев, и немецкий язык знал отлично. Его послали к немецкой позиции, чтобы он послушал, о чем говорят немцы. Сделали проход в минном поле, но когда он двинулся в сторону немцев, ему в спину раздался выстрел… Пуля в него не попала, но он заволновался, неудачно повернулся, и ему миной оторвало ногу…
Такое ЧП… Этот взвод сразу заменили на передовой, и началось выяснение. Всех построили, но никто не сознается. А среди следователей был такой пожилой, седой уже весь и, видно, очень опытный. Он все приговаривал: «Я ведь все равно узнаю» – и начал ходить вдоль строя, заглядывая всем в глаза. Остановился возле какого-то молодого и говорит: «Это он стрелял, заберите его». Тот в крик: «Я не стрелял, это не я, я знаю, я скажу кто…» И тут их главарь сам выходит из строя: «Сволочь!»