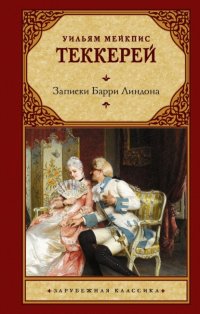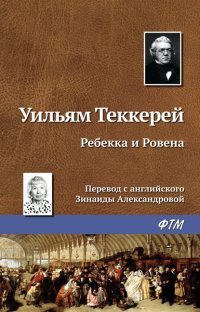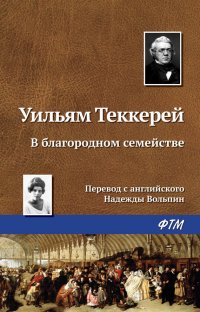Читать онлайн Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим бесплатно
- Все книги автора: Уильям Мейкпис Теккерей
William Thackeray
THE MEMOIRS OF BARRY LYNDON, ESQ.
Оформление обложки Татьяны Павловой
© Р. М. Гальперина (наследники), перевод, 1963
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
Глава I. Моя родословная и мое семейство. Я одурманен нежной страстью
Так уже повелось с адамовых времен, что, где бы какая ни приключилась напасть, корень зла всегда в женщине. С тех пор как существует наш род (а это и есть почитай что с адамовых веков, столь древен, и славен, и знатен наш дом, как всякому известно), женщины оказывали на его судьбы поистине роковое влияние.
Мне думается, в Европе не сыскать дворянина, который не был бы наслышан о доме Барри из Барриога в Ирландском королевстве, а уж более прославленного имени не найти ни у Гвиллима[1], ни у д’Озье[2]; и хотя, как человек бывалый, я знаю цену нелепым притязаниям иных выскочек, чье родословье короче воробьиного носа, и первым готов смеяться над самохвальством иных моих соотечественников, кои объявляют себя потомками ирландских королей и о вотчине, где впору прокормиться разве что свинье, рассуждают, точно это княжеское поместье, – а все же из уважения к истине долгом считаю сказать, что род мой был самый знатный на всем острове, если не в целом мире, и что его владения, ныне столь ничтожные – так как львиную долю их отторгли у нас войны, предательство, преступная мешкотность и расточительство предков, а также их приверженность к старой вере и династии, – были некогда необозримы и охватывали многие графства во времена, когда Ирландия была еще благоденствующей страной. И я по праву увенчал бы свой фамильный герб ирландской короной, когда бы множество пустоголовых выскочек не унизили это высокое отличие, присвоив его себе.
Кабы не женщина, смею вас уверить, я ныне и сам бы носил эту корону. Вы, кажется, удивлены? А между тем что может быть проще! Найдись отважный военачальник, который возглавил бы рать моих соотечественников, на место скулящих трусов, склонивших выю перед Ричардом Вторым[3], ирландцы были бы сейчас свободными людьми; найдись решительный вождь, который дал бы отпор кровавому насильнику Оливеру Кромвелю[4], мы бы навеки разделались с англичанами. Но ни один Барри не встретил узурпатора на поле брани; напротив, мой предок Саймон де Барри перебежал к первому из названных монархов и женился на дочери мюнстерского короля, сыновей которого он безжалостно зарубил в бою.
Во времена же Оливера наша звезда закатилась, и ни один Барри не мог уже кликнуть клич против кровавого пивовара[5]. Мы не были больше владетельными князьями, наш злосчастный род еще за век до этого утратил фамильное достояние вследствие гнусной измены. Я доподлинно это знаю, так как не раз слышал от матушки, она даже запечатлела этот эпизод в домотканой родословной из узорчатой шерсти, висевшей на стене нашей желтой гостиной в Барривилле.
То самое ирландское поместье, на которое ныне притязают англичане Линдоны, было некогда нашей родовой вотчиной. Рори Барри из Барриога владел им еще при Елизавете, а также доброй половиной Мюнстера в придачу. Род Барри и род О’Мэхони исстари враждовали между собой, и вот случилось, что некий английский полководец проходил через владения Барри с вооруженным отрядом в тот самый день, когда О’Мэхони вторглись в наши земли и захватили богатую добычу, угнав наши отары и стада.
Сей молодой англичанин по имени Роджер Линдон, Линден, или Линдейн, был принят семейством Барри со всем радушием, а так как они как раз собирались вторгнуться в земли О’Мэхони, он охотно пришел им на помощь со своими копейщиками и выказал такую доблесть, что О’Мэхони потерпели непоправимый урон, тогда как Барри не только вернули свое достояние, но, по свидетельству старинной хроники, захватили у неприятеля вдвое больше добра и скота.
Наступали холода, и гостеприимные хозяева упросили молодого воина у них перезимовать, а людей его расквартировали по хижинам вместе со своими висельниками – по солдату на каждого холопа. Англичане, как им свойственно, издевались над ирландцами, вследствие чего драки и убийства не утихали, и местные жители поклялись разделаться с чужаками.
Барри-сын (от коего я веду свой род) не меньше ненавидел англичан, чем любой селянин в его поместьях, и, когда на предложение убраться восвояси англичане ответили отказом, он сговорился с друзьями вырезать их всех до одного.
И надо же было заговорщикам посвятить в свои планы женщину, наследницу Родерика Барри! Она же, питая склонность к англичанину Линдону, выдала ему сию тайну, и проклятый англичанин, упреждая заслуженное возмездие, сам напал на ирландцев, и в свалке был убит Фодриг Барри, мой предок, а также сотни его людей. Камень на перекрестке Барри-Кросс у Карригнадихиоула еще и сегодня указывает место, где произошло это чудовищное кровопролитие.
Линдон взял в жены дочь Родерика Барри и стал подбираться к его поместью; и хотя живы были прямые потомки Фодрига Барри, чему я живое доказательство[6], английский суд присудил поместье англичанину, как это всегда бывает, когда тягаются англичане и ирландцы.
Итак, если бы не женская слабость, я по праву рожденья владел бы поместьем, которое досталось мне потом единственно в силу моих заслуг, как вы со временем услышите. Но вернемся к моей семейной хронике.
Батюшка был хорошо известен в избранных кругах как Английского, так и Ирландского королевства под прозванием Лихой Гарри Барри. Как и многие отпрыски наших лучших фамилий, он готовился к карьере адвоката и был приписан к конторе видного стряпчего в Дублине, на Сэквилл-стрит; при своем уме и способностях он, несомненно, преуспел бы на этом поприще, когда бы его светские таланты, его пристрастие к мужским потехам, а также исключительные личные достоинства не предначертали ему другую карьеру. Еще будучи писцом стряпчего, он содержал семь скаковых лошадей, и ни одна охота в поместьях Килдеров и Уиклоу не обходилась без него; это он на своем сером жеребце Эндимионе оспаривал первенство у капитана Пантера на знаменитых скачках, о коих любители вспоминают и по сей день; я заказал живописцу картину, увековечивающую это событие, и повесил ее над камином в парадной столовой замка Линдон. Год спустя он на том же Эндимионе скакал в присутствии его величества блаженной памяти Георга Второго и был удостоен кубка, а также августейшей похвалы.
Хоть батюшка и был вторым сыном, он без больших хлопот унаследовал фамильное достояние (ныне сведенное к жалкой ренте в четыреста фунтов); ибо старший сын деда Корнелий Барри (прозванный шевалье Борнь[7], вследствие увечья, полученного в Германии) остался верен старой религии, к коей искони прилежало наше семейство, и с честью сражался не только под чужими знаменами, но и против его святейшего величества Георга Второго, участвуя в злополучном Шотландском восстании 45-го года[8]. В дальнейшем мы не раз встретимся с помянутым шевалье.
Что до батюшкиного обращения, то этим счастливым событием я обязан моей дорогой матушке мисс Белл Брейди, дочери Юлайсеса Брейди в графстве Керри, эсквайра и мирового судьи. Мисс Белл слыла в Дублине первой красавицей и щеголихой. Увидев ее в собрании, батюшка влюбился без памяти, но она и слышать не хотела о католике да вдобавок писце стряпчего; и вот, подстрекаемый любовью, драгоценный батюшка, воспользовавшись законами доброго старого времени, попросту присвоил себе права старшего брата, отняв у него родовое имение. Но не только ясные девичьи глаза совершили это чудо; несколько джентльменов из лучшего общества также способствовали сей благотворной перемене, я не раз слышал, как матушка рассказывала, смеясь, о торжественном отречении, состоявшемся в трактире за доброй выпивкой в присутствии сэра Дика Рингвуда, лорда Бэгвига, капитана Пантера и двух-трех юных повес из местной знати. Лихой Гарри в тот вечер выиграл в фараон триста гиней, а наутро дал требуемые показания против брата; жаль только, что батюшкино обращение посеяло холодок между кровными родственниками и даже побудило дядюшку Корни примкнуть к бунтовщикам.
Как только досадное препятствие было устранено, милорд Бэгвиг предоставил батюшке свою яхту; и красотка Белл Брейди, сдавшись на уговоры, бежала с ним в Англию, обманув надежды стариков-родителей, а также несчастных обожателей – а были это все богач к богачу (как я тысячу раз слышал от нее самой), и они так и ходили за ней толпами!
Свадьбу сыграли во дворце Савой. Дед вскоре умер, и Гарри Барри, войдя в права наследства, с честью поддерживал в Лондоне славу нашего имени. Это он продырявил шпагой знаменитого графа Тирселина на пустоши позади Монтегю-хауса. Он был завсегдатаем «Уайта» и всех шоколадных лавок столицы; матушка, надо отдать ей должное, была ему достойной парой. И вот наконец, после славной Ньюмаркетской победы, одержанной на глазах у его святейшего величества, счастье улыбнулось Гарри Барри: милостивый монарх обещал о нем позаботиться. Но – увы! – его предупредил другой монарх, чья воля не знает отказа и не терпит отлагательства: смерть настигла батюшку на Честерских скачках. Он умер в одночасье, оставив меня беспомощным сиротой. Мир праху его! Были у него свои недостатки; это батюшка промотал наше княжеское достояние, но зато в храбрости он не уступал ни одному человеку, когда-либо поднимавшему заздравную чашу или объявлявшему очко, играя в кости, и он выезжал в карете цугом, как светский кавалер, ни в чем не отступающий от моды.
Не знаю, оплакал ли милостивый монарх внезапную кончину моего отца – по словам матушки, он все же уронил королевскую слезинку, – но нам это мало помогло. Единственное, что осталось в доме во утешение вдове и кредиторам, был кошель с девяноста гинеями, и матушка, разумеется, прибрала его к сторонке вместе с фамильным серебром и своим и мужниным гардеробом. Погрузив эти пожитки в наш рыдван, она отправилась в Холихед, где и села на судно, отплывающее в Ирландию. Останки батюшки сопровождали нас на самом пышном катафалке с самыми пышными перьями, какие можно было достать за деньги; ибо, хоть супруги частенько ссорились, смерть батюшки все искупила для этой женщины с пылким и благородным сердцем, и она устроила ему невиданно пышные похороны и воздвигла над его прахом памятник (спустя много лет мне пришлось за него уплатить), на коем он был назван самым мудрым, беспорочным и любящим из супругов.
Отдавая печальный долг усопшему, вдова поистратила чуть ли не последнюю гинею и истратила бы несравненно больше, если бы выполнила хотя бы треть обязательств, налагаемых подобной церемонией. Однако соседи по Барриогу – усадьба, где стоял наш старый дом, – хоть и гневались на отца за отступничество, но не отвернулись от него в эту печальную минуту: плакальщики, кои, по настоянию лорда Пламера, сопровождали драгоценные останки от самого Лондона, в сущности, оказались не у дел. Итак, памятник и склеп в церковном подвале – вот и все, что осталось от моих обширных владений; ибо всю нашу мебель до последнего стула отец продал некоему стряпчему Нотли и в покосившемся мрачном доме ожидали нас только голые стены[9].
Эти пышные похороны завоевали матушке репутацию женщины светской и независимой, и когда она написала своему брату Майклу Брейди, сей достойный джентльмен, нимало не медля, прибыл издалека, чтобы обнять ее и пригласить от имени своей супруги в замок Брейди.
Еще в пору батюшкиного жениховства дядюшка Мик и Барри повздорили, как это бывает между мужчинами, и дело у них дошло до крупной размолвки. Когда Барри увез его сестру, Брейди поклялся, что в жизни не простит беглецов; но, приехав в сорок шестом году в Лондон, он снова сдружился с Лихим Гарри, гостил у него в его нарядном доме на Кларджес-стрит, проиграл ему десяток гиней, разбил при его содействии головы двум-трем ночным сторожам, – эти дорогие воспоминания заронили в сердце добряка особую нежность к Белл и ее сыну, и он принял их с распростертыми объятиями. Миссис Барри поступила бы, возможно, разумнее, если бы сразу открыла родным свои печальные обстоятельства; но, прибыв в раззолоченной коляске, украшенной огромными гербами, она произвела на невестку и на прочих жителей графства впечатление богатой и влиятельной особы.
Некоторое время миссис Барри, как и должно, заворачивала всем в замке Брейди. Она командовала слугами и преподала им не один урок лондонской опрятности, в чем они, кстати, весьма нуждались. Что же до «Редмонда-англичанина», как меня здесь называли, то со мной носились как с маленьким лордом; ко мне были приставлены особый лакей и нянька, и честный Мик исправно платил им жалованье, чем отнюдь не баловал собственных слуг, – словом, из кожи лез, чтобы утешить сестру в ее горе. Матушка, со своей стороны, обещала назначить любезному братцу изрядную сумму на свое и сына содержание, как только ее дела будут приведены в порядок. Она также намеревалась перевезти свои щегольские мебели с Кларджес-стрит в замок Брейди, чтобы украсить его покои, имевшие весьма заброшенный вид.
Вскоре, однако, выяснилось, что негодяй-домохозяин захватил каждый стол и стул, на какие по праву рассчитывала вдова. Имение, которое мне предстояло унаследовать, прибрали к рукам алчные кредиторы, и единственным источником существования вдовы и ребенка была рента в пятьдесят фунтов, выплачиваемая нам лордом Бэгвигом, которого связывали с покойным какие-то дела по скаковым конюшням. Похвальные намерения матушки отблагодарить брата так и пропали втуне.
Едва лишь открылось, как бедна золовка, миссис Брейди из замка Брейди, не к чести ей будь сказано, перестала заискивать в маменьке, как неизменно делала до сей поры, прогнала со двора лакея и няньку и объявила миссис Барри, что та вольна последовать за ними, как только ей будет благоугодно. Миссис Мик была особой низкого происхождения и соответственного образа мыслей; и вдова, по истечении двух-трех лет (за каковое время ей удалось сберечь почти весь свой небольшой доход), согласилась выполнить желание миссис Брейди, а заодно поклялась, давая волю справедливому и лишь до поры до времени мудро сдерживаемому гневу, что не переступит порог замка Брейди, доколе жива его хозяйка.
Новое свое жилище матушка обставила с примерной бережливостью и отменным вкусом, и никогда она, невзирая на бедность, не теряла чувства собственного достоинства и уважения всей округи. Да и как можно было не уважать даму, жившую в Лондоне, вхожую в самое изысканное общество столицы и представленную ко двору (как она торжественно уверяла)! Эти преимущества давали ей право, коим, на мой взгляд, злоупотребляют иные уроженцы Ирландии, удостоенные этой великой чести, – право с презрением глядеть на тех, кто никогда не выезжал за пределы своей отчизны и не живал в Англии. Стоило миссис Брейди показаться в новом туалете, и ее золовка неизменно говаривала: «Бедняжка! Какое у нее может быть представление о настоящем шике!» И хоть ей и льстило, что ее зовут хорошенькой вдовушкой, еще больше дорожила она прозваньем английской вдовы.
Впрочем, миссис Брейди не оставалась у нее в долгу: она уверяла, будто покойный Барри был нищий и банкрот; высший свет он якобы видел только из-за приставного стола в доме лорда Бэгвига, в чьих блюдолизах и льстецах неизменно обретался. Что же до миссис Барри, то тут госпожа замка Брейди вдавалась в намеки и вовсе оскорбительные. Но стоит ли ворошить старые наветы и повторять сплетни вековой давности? Названные лица жили и враждовали меж собой еще в царствование Георга Второго; добрые или злые, красивые или безобразные, богатые или бедные – все они ныне сравнялись, и разве воскресные газеты и судебная хроника не поставляют нам еженедельно куда более свежую и пряную пищу для пересудов?
Но что бы там ни было раньше, никто не станет отрицать, что, удалившись от света после смерти мужа, миссис Барри жила схимницей и даже тень подозрения не смела ее коснуться. И если Белл Брейди была когда-то самой отчаянной кокеткой во всем Уэксфордском графстве и если добрая половина местных кавалеров лежала у ее ног и каждого она умела обласкать и обнадежить, то Белл Барри вела себя со сдержанным достоинством, граничившим с чопорностью, была сурова и недоступна, что твоя квакерша. Немало женихов, плененных чарами девы, возобновили свои предложения вдове; но миссис Барри отвергла всех искателей, клянясь, что намерена жить только ради сына и памяти почившего праведника.
– Нечего сказать, праведник! – негодовала зловредная миссис Брейди. – Такого греховодника, как Гарри Барри, свет не видывал. Да и кто же не знает, что они с Белл жили как кошка с собакой? Если она отказывается выходить замуж, то, уж верно, у нее другой на примете, она, поди, спит и видит, чтобы лорд Бэгвиг овдовел.
Ну а хоть бы и так, что в том дурного, скажите! Неужто вдова Барри не достойна руки любого английского лорда? И разве не живет у нас в семье предание, что женщине суждено восстановить богатство и могущество рода Барри? Если матушка и вообразила себя этой женщиной, думается, у нее были на то веские основания; граф (мой крестный) всегда был необычайно к ней внимателен; я и не подозревал, как крепко засела у нее мысль способствовать таким образом моему преуспеянию в свете, пока в пятьдесят седьмом году его сиятельство не обвенчался с мисс Голдмор, дочерью богатейшего индийского набоба.
Тем временем мы по-прежнему обитали в Барривилле и при наших скудных средствах жили, можно сказать, на барскую ногу. Из тех пяти-шести семейств, что составляли общество Брейдитауна, никто не одевался лучше бедной вдовы; матушка так и не сняла траур по своему почившему супругу, однако тщательно следила, чтобы наряды как можно лучше оттеняли ее природную красоту, и по меньшей мере шесть часов в сутки отдавала на то, чтобы перекраивать, перешивать и отделывать их по последней моде. Она носила самые широкие кринолины и самую изящную фалбалу и ежемесячно получала из Лондона письма (с печатью лорда Бэгвига) с сообщениями о новинках столичной моды. Цвет лица у нее был столь свежий, что она не нуждалась в румянах, бывших тогда в большом употреблении. Пусть белое остается белым, а розовое – розовым, говорила она мадам Брейди, чей желтый цвет лица не поддавался никакой штукатурке, – судите же, читатель, как обе женщины ненавидели друг друга! Словом, она была так бесподобно хороша, что дамы по всей округе только и мечтали на нее походить, а молодые люди приезжали за десять миль в церковь замка Брейди поглядеть на нее.
Но если (как и всякая женщина, известная мне лично или по книгам) матушка гордилась своей красотой, то, надо отдать ей должное, не меньше гордилась она сыном и тысячу раз повторяла мне, что другого такого красавчика поискать надо. Разумеется, это дело вкуса. Но когда человеку перевалило за шесть десятков, он может без пристрастия говорить о себе, четырнадцатилетнем, и смею вас уверить, матушка была недалека от истины в своем лестном мнении. Добрая душа любила наряжать меня: в праздники и по воскресеньям я выходил одетый в бархатный кафтанец, на боку меч с серебряным эфесом, золотая подвязка пониже колена – ни дать ни взять молодой лорд. Матушка расшила для меня несколько изящных камзолов, и не было у меня недостатка ни в кружевах для манжет, ни в свежих лентах для волос, и, когда мы в воскресенье приходили в церковь, даже завидущая миссис Брейди признавала, что более красивой пары не найти во всем королевстве.
В этих случаях госпожа замка Брейди вознаграждала себя язвительными замечаниями по адресу некоего Тима, моего так называемого камердинера: он провожал нас с матушкой в церковь, неся пухлый молитвенник и трость, одетый в ливрею одного из наших выездных лакеев с Кларджес-стрит, в которой, по причине кривых ног, выглядел весьма неавантажно. Но при всей своей бедности мы слишком гордились дворянским званием, чтобы, испугавшись чьих-то колкостей, поступиться преимуществами своего ранга, и, шествуя по среднему проходу к нашей скамье, ступали чинно и величественно, точно сама супруга лорда-лейтенанта[10] с наследником. Усевшись на место, матушка отвечала на обычные вопросы священника так громко и с таким достоинством возглашала «аминь», что любо было слушать, а когда она пела псалмы своим сильным звучным голосом, поставленным в Лондоне наимоднейшим учителем, то заглушала пение и тех немногих прихожан, которые решались к ней присоединиться. Да и вообще у матушки было до пропасти разнообразных талантов – недаром она считала себя самой красивой, самой одаренной и добродетельной женщиной на свете. Часто-часто в разговоре со мной и соседями она толковала нам о своем смирении и благочестии – да так истово, что даже упрямый скептик вынужден был бы с ней согласиться.
Переехав из замка Брейди в местечко Брейдитаун, мы поселились в весьма неказистом домишке. Однако матушка, не смущаясь этим, окрестила его Барривилль, и мы не жалели усилий, чтобы придать ему побольше блеску. Я уже упоминал о родословной, висевшей в гостиной, которую маменька нарекла желтым салоном, тогда как моя комната называлась розовой спальней, а матушкина – палевой (я словно вижу их перед собой!). К обеду Тим звонил в большой колокол, перед каждым из нас ставили по серебряному кубку, и матушка с правом говорила, что рядом с моим прибором стоит бутылка кларета, которой не побрезговал бы и сквайр. Так оно и было на самом деле, но только по младости лет мне не разрешалось его отведать: вино помаленьку старилось в графинчике и со временем достигло преклонных лег.
Дядюшка Брейди самолично убедился в этом, когда как-то (невзирая на семейную ссору) явился к нам в Барривилль к обеду и неосмотрительно приложился к графину. Надо было видеть, как он плевался и какие корчил гримасы! А ведь этому честному джентльмену было решительно все равно, что пить и в какой компании. Он ни с кем не гнушался пропустить стаканчик, будь то пастор или поп; последнее – к крайнему негодованию матушки: как истая синяя нассауитка[11], она презирала приверженцев старой веры и считала невместным находиться под одной крышей с заблудшим папистом. Что до сквайра, то он не знал таких предубеждений; это был самый покладистый, самый добродушный и ленивый человек, когда-либо живший на свете; спасаясь от своей миссис Брейди, он немало часов проводил у одинокой вдовы. Меня он, по его словам, полюбил как сына, и маменька, крепившаяся несколько лет, не устояла и разрешила мне воротиться в замок, хотя сама она осталась безоговорочно верна клятве, данной в пику невестке.
В первый же день моего возвращения в замок Брейди и начались, собственно, мои невзгоды. Мастер Мик, мой кузен, девятнадцатилетний верзила, ненавидевший меня от всей души (правда, я платил ему тою же монетой), потешался за столом над бедностью моей матушки, поощряемый хихиканьем всей женской части дома. Когда мы удалились на конюшню, где Мик имел обыкновение выкуривать свою послеобеденную трубку, я, разумеется, не стал молчать, и между нами завязалась драка на добрых десять минут; я отчаянно сопротивлялся и даже поставил ему фонарь под левый глаз, а ведь мне было всего-то двенадцать лет. Конечно, и Мик вздул меня как следует, но побои обычно не производят большого впечатления в столь нежном возрасте, как я и до того не раз убеждался в многочисленных стычках с деревенскими оборвышами, с которыми уже и тогда расправлялся весьма успешно. Услышав о моей отваге, дядюшка выразил живейшее удовольствие, а кузина Нора приложила мне к носу оберточную бумагу, смоченную в уксусе. Домой в этот вечер я шел, подкрепившись пинтой кларету и чувствуя себя героем: шутка ли сказать – я целых десять минут не поддавался Мику.
И хоть любезный братец не изменил своего дурного обращения и не пропускал случая меня отдубасить, это не мешало мне с великим удовольствием проводить время в замке Брейди, пользуясь покровительством моих кузин – по крайней мере, некоторых – и добротою дядюшки, всячески меня баловавшего. Он подарил мне жеребенка, стал приучать к верховой езде, брал с собой на охоту, показывал, как ставить силки и капканы, как бить птицу влет. А со временем я даже избавился от преследований Мика. Из колледжа Святой Троицы воротился мастер Улик, ненавидевший старшего братца, как это нередко бывает в привилегированных семьях, и взял меня под свое покровительство. А поскольку Улик был выше ростом и сильнее Мика, я, Редмонд-англичанин, как меня называли, чувствовал себя в безопасности, за исключением, впрочем, тех случаев, когда Улику самому приходило в голову меня отодрать, что он и делал всякий раз, как находил нужным.
Не оставалось в небрежении и мое светское воспитание. Обладая от природы разносторонними способностями, я вскоре оставил за флагом большинство своих учителей. У меня был верный слух и приятный голос, и матушка не жалела стараний, чтобы развить их; она же учила меня торжественно и грациозно выступать в менуэте, заложив этим основу моих будущих успехов в жизни. Более вульгарным танцам я учился (хоть и не стоило бы в том сознаваться) в лакейской, где всегда найдется кто-нибудь умеющий наигрывать на волынке, и вскоре никто не мог меня превзойти в матросском танце и джиге.
Что касается книжных познаний, то я упивался чтением пьес и романов, составляющим важнейшую часть образования светского джентльмена, и не пропускал случая купить у разносчика одну-две баллады, если в кармане у меня имелся пенни. Что же до скучнейшей грамматики, а также греческого, латыни и всей прочей тарабарщины, я их терпеть не мог и уже тогда говорил без колебаний, что эта премудрость мне ни к чему.
И я доказал это самым неопровержимым образом, когда мне исполнилось тринадцать лет. Получив по завещательному распоряжению тетушки Бидди Брейди сто фунтов, матушка решила употребить их на мое образование и послала меня в знаменитую в то время школу доктора Тобиаса Тиклера в Бэллиуэкете – или Гнилоуэкете, как дядюшка предпочитал его называть. И вот ровно шесть недель спустя, после того как меня отвезли к его преподобию, я неожиданно опять объявился в замке Брейди, отмахав пешком сорок миль и оставив почтенного доктора в состоянии, близком к удару. Если в беге, прыжках и кулачной драке я вскоре занял первое место в школе, то древние языки мне решительно не давались; семь раз меня высекли без всякой пользы для моей латыни, и когда очередь дошла до новой порки, восьмой по счету, я решительно запротестовал, не видя в ней большого проку. «Попытайте-ка лучше что-нибудь новенькое, сэр!» – предложил я почтенному доктору, когда он пригрозил мне очередной лупцовкой; однако он стоял на своем; защищаясь, я запустил в него грифельной доской, а его подручного сбил с ног свинцовой чернильницей. Школьники поддержали мой протест дружным «ура», а слуги бросились меня вязать; но, вытащив из кармана большой складной нож, подарок моей кузины Норы, я поклялся вонзить его в жилетку первому, кто осмелится меня задержать, и все без слов расступились, давая мне дорогу. Той ночью я спал в двадцати милях от Бэллиуэкета в хижине бедняка-арендатора, угостившего меня картошкой и молоком, – позднее, в дни своего величия, приехав в Ирландию, я подарил этому славному человеку сто гиней. Как бы они мне сейчас пригодились! Но что толку в пустых сожалениях! Случалось мне отдыхать и на более жестком ложе, чем то, что ждет меня сегодня, и довольствоваться худшим ужином, нежели тот, каким угостил меня честный Фил Мерфи в вечер моего побега. Итак, вся моя учеба свелась к шести неделям. Говорю об этом в назидание иным родителям: я немало встречал потом книжных червей, не исключая и грузного, неуклюжего, лупоглазого старого толстяка доктора Джонсона[12], проживавшего в одном из переулков на Флит-стрит в Лондоне, которого я шутя переспорил (дело было в кофейне «Боттона»), – а между тем ни в отношении учености или поэзии, ни в том, что я называю натуральной философией, иначе говоря – житейской мудрости, ни в верховой езде, музыке, прыжках или фехтовании как шпагой, так и рапирою, ни в знании лошадиных статей и бойцовых петухов, ни в манерах безукоризненного джентльмена или светского щеголя, могу поклясться, Редмонд Барри не часто встречал себе равного.
– Сэр… – сказал я доктору Джонсону во время упомянутой встречи (его сопровождал некий мистер Босуэлл, родом из Шотландии, тогда как меня ввел в этот клуб мой соотечественник мистер Гольдсмит)[13], – сэр, – сказал я в ответ на какую-то его громозвучную греческую тираду, – чем кичиться предо мной своими познаниями, цитируя Аристотеля и Платона, не скажете ли вы, какая лошадь на той неделе придет в Эпсоме первой? И беретесь ли вы пробежать шесть миль без передышки? И попадете ли в туза пик десять раз подряд, без промаха? Если да, я готов весь день слушать вашего Платона и Аристотеля.
– Да знаете ли вы, кто перед вами? – взъелся на меня джентльмен, говоривший с заметным шотландским акцентом.
– Придержите язык, мистер Босуэлл[14], – остановил его старый учителишка. – Виноват я сам. Мне не следовало щеголять своими знаниями греческого перед этим джентльменом, и он ответил мне как должно.
– Доктор, – сказал я, посмотрев на него лукаво, – подберите мне рифму к слову «Аристотель».
– Портвейн, если вам угодно, – отозвался, смеясь, мистер Гольдсмит.
И до того как покинуть кофейню, мы в тот вечер употребили шесть рифм к слову «Аристотель». Эта шутка, когда я повторил ее у «Уайта» и в «Какаовом дереве», произвела фурор – со всех сторон только и слышалось: «Человек, тащите сюда одну из рифм капитана Барри к Аристотелю!»
Однажды, когда я был уже изрядно под хмельком, молодой Дик Шеридан[15] назвал меня великим Стагиритом[16] – я и по сей день не уразумел, в чем тут соль. Но я отклонился от своего рассказа – пора нам вернуться домой, в добрую старую Ирландию.
С той поры я немало встречал знаменитостей; но, в тонкости изучив искусство светского обращения, я со всеми держался как равный. Быть может, вас удивит, где же это я, деревенский сорванец, выросший среди ирландских сквайров и покорных им арендаторов и конюхов, набрался таких изысканных манер, в чем отдавал мне должное всяк меня знавший? Дело в том, что я обрел первоклассного воспитателя в лице старого лесничего, когда-то служившего французскому королю при Фонтенуа[17]; он-то и обучил меня светским танцам и обычаям, ему же я обязан умением изъясняться по-французски, не говоря уже об искусстве владеть рапирой и шпагой. Я исходил с ним немало миль, прилежно слушая его рассказы о французском короле, об Ирландской бригаде[18], о саксонском маршале и балетных танцовщицах. Встречал он за границей и моего дядюшку шевалье де Борнь. Словом, это был неисчерпаемый кладезь всяких полезных сведений, которыми он украдкой со мной делился. Я не видел человека, который так искусно забрасывал бы удочку, объезжал, лечил или выбирал коня; он учил меня всем мужским потехам, начиная от охоты за птичьими гнездами, и я навек сохраню благодарность Филу Пурселлу как лучшему моему наставнику. Была у него слабость: он любил заглянуть в чарочку, но я не вижу в том большого порока; а кроме того, он терпеть не мог моего братца Мика, каковой недостаток я так же охотно ему прощал.
С таким учителем, как Фил, я в пятнадцать лет был вполне просвещенным юношей и мог заткнуть за пояс любого моего кузена; к тому же и природа, насколько я понимаю, оказалась ко мне щедрее, одарив меня более приятной внешностью. Некоторые девицы из семейства Брейди (как вы вскоре увидите) считали меня неотразимым. На ярмарках и бегах я не раз слышал от хорошеньких девушек, что они не отказались бы от такого кавалера. И все же, по правде сказать, я не пользовался расположением окружающих.
Прежде всего каждый знал, что я гол как сокол, но, возможно благодаря влиянию матушки, я был не менее спесив, чем беден. У меня было обыкновение похваляться моим знатным родом, а также великолепием наших выездов, садов, погребов и слуг, и это – в присутствии людей, как нельзя лучше знавших наши плачевные обстоятельства. Если это были мои ровесники и они поднимали меня на смех, я приходил в исступление и лез драться – меня не раз приносили домой полумертвым. Когда матушка спрашивала о причинах потасовки, я неизменно отвечал ей: «Я вступился за честь семьи». – «Защищай наше имя кровью своей!» – говорила эта праведница, заливаясь слезами; и сама она грудью стала бы на его защиту и не постеснялась бы пустить в дело зубы и ногти.
Когда мне минуло пятнадцать лет, на десять миль кругом не было двадцатилетнего парня, с которым я не подрался бы по той или другой причине. Среди прочих двое сынков нашего священника – мне ли якшаться с этим нищим отродьем! Между нами разыгралось немало сражений за первенство в Брейдитауне. Вспоминается мне и Пат Лурган, сын кузнеца, одержавший надо мной верх в четырех битвах, прежде чем мы вступили в решающий бой, из которого я вышел победителем. Я мог бы назвать и много других доблестных подвигов, но лучше воздержусь: кулачные расправы не слишком достойный предмет для обсуждения в кругу благородных джентльменов и дам.
Однако есть предмет, сударыни, о котором речь пойдет ниже, – он уместен в любом обществе. Вы же день и ночь готовы о нем слушать. Стар и мал, все ваши мечты и думы о нем; красавицы и дурнушки (хотя, сказать по чести, я до пятидесяти лет ни одну женщину не находил уродиной), все вы молитесь этому кумиру; не правда ли, вы разгадали мою загадку? Любовь! Поистине это слово состоит из сладчайших гласных и согласных нашего языка, и тот или та, что воротит нос от такого чтения, не заслуживает, по-моему, названия человека.
У дядюшки было десятеро детей, которые, как это часто бывает в таких больших семьях, делились на два лагеря, или две партии: одни всегда брали сторону матери, а другие – дядюшки, в бесчисленных стычках между почтенным джентльменом и его дражайшей половиной. Фракцию миссис Брейди возглавлял Мик, старший сын, так меня изводивший и видевший в своем папеньке досадную помеху на пути к правам владения. Зато Улик, второй по счету, был отцовский любимец, и мастер Мик боялся его как огня. Здесь не стоит перечислять имена всех девиц: видит бог, я достаточно от них натерпелся в дальнейшем, однако старшая была причиною всех моих ранних злоключений; то была мисс Гонория, самая хорошенькая в семье, что сестры ее, разумеется, единодушно отрицали.
Она говорила тогда, что ей девятнадцать, хотя на заглавном листке фамильной Библии, который я мог прочитать наравне со всяким (эта книга вместе с двумя другими и доскою для игры в триктрак составляла всю дядюшкину библиотеку), значилось, что она родилась в тридцать седьмом году и была крещена доктором Свифтом, настоятелем собора Святого Патрика в Дублине[19]; и следственно, в пору, когда мы много бывали вместе, ей исполнилось двадцать три года.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что ее нельзя было назвать красавицей: для этого у нее были чересчур пышные формы и слишком большой рот; к тому же она пестрела веснушками, как яйцо куропатки, а волосы ее в лучшем случае напоминали цветом овощ, который подается к отварной говядине. Я часто слышал эти соображения из уст матушки, но не давал им веры, предпочитая видеть в Гонории высшее существо, превосходящее всех других ангелов ее пола.
Всякий знает, что дама, изумляющая нас искусными танцами и пением, достигла такого совершенства лишь благодаря долгой практике в тиши уединения и что романс или менуэт, исполняемый с грациозной легкостью в блестящем собрании, стоил ей немало трудов и усердия где-нибудь вдали от людских глаз; но то же можно сказать и о прелестных созданиях, изощренных в искусстве кокетства. Что до Гонории, она практиковалась в нем неустанно; ей довольно было даже моей малости для проверки своих чар, или сборщика налогов, совершающего обход, или нищего церковного служки, или юного аптекарского ученика из Брейдитауна, которого, помнится, я даже отколотил по этой самой причине. Если он еще жив, приношу ему свои извинения. Бедняга! Разве он виноват, что запутался в сетях той, кого можно было бы назвать величайшей кокеткой в мире, если бы не ее скромное положение и сельское воспитание.
Сказать по правде – а ведь каждое слово этого жизнеописания непреложная истина, – моя страсть к Норе родилась самым обычным образом и не заключала сперва ничего романтического. Я не спас ей жизнь; наоборот, я чуть не убил ее, как вы сейчас услышите. Я не узрел ее при лунном свете играющей на гитаре и не вызволил из рук отпетых негодяев, как Альфонсо Линдамиру в известном романе; но однажды летом после обеда в Брейдитауне, забравшись в сад, чтобы нарвать себе крыжовника на сладкое, и думая только о крыжовнике, клянусь честью, я увидел средь кустов Нору с одной из сестер, к которой она в тот день случайно благоволила, – увидел за тем же развлечением, какое привлекло сюда и меня.
– Редмонд, как «крыжовник» по-латыни? – спросила Нора, любившая позубоскалить.
– Я знаю, как по-латыни «дура», – увернулся я.
– Ну как, скажи! – подхватила бойкая мисс Майзи.
– Брысь, хохлатки! – отозвался я с обычной своей находчивостью.
И мы принялись обирать куст, смеясь и болтая в самом беззаботном расположении духа. Но, развлекаясь таким образом, Нора умудрилась поцарапать руку; выступила кровь, Нора вскрикнула, а рука у нее была на диво круглая и белая, я перевязал ее и, кажется, получил разрешение поцеловать; и хотя это была нескладная здоровенная ручища, я счел оказанную мне милость восхитительной и отправился домой в полном упоении.
В ту пору я был слишком наивен, чтобы скрывать свои чувства. Вскоре весь выводок сестер Брейди знал о моей страсти, поздравлял Нору и подшучивал над ее новым воздыхателем.
Трудно вообразить, какие муки ревности я терпел по вине жестокой кокетки. Она обращалась со мной то как с ребенком, то как с мужчиною. Стоило в доме объявиться новому гостю, как она меня безжалостно бросала.
– Рассуди сам, голубчик Редмонд, – внушала она мне, – ведь тебе всего пятнадцать лет и у тебя ни пенни за душой.
Я клялся, что стану героем, какого еще не видали в Ирландии, и еще до того, как мне минет двадцать, так разбогатею, что смогу купить поместье в десять раз большее, чем замок Брейди. Ни одного из этих обещаний я, конечно, не сдержал, но думаю, что они оказали свое действие на мою юную душу и немало способствовали свершению тех великих деяний, коими я прославился и о коих вы услышите в свое время.
Об одном из них расскажу не откладывая, дабы мои читательницы уразумели, что за человек был юный Редмонд Барри, сколько горячности и неукротимого мужества скрывалось в его душе. Вряд ли у кого из нынешних хватит духу совершить подобное, даже спасаясь от опасности.
В то время все Соединенное Королевство от края и до края было объято тревогой – опасались французского вторжения. Говорили, что Версаль держит руку Претендента[20], что неприятель, скорее всего, высадится в Ирландии, и вся знать и все влиятельные люди как в этой, так и в остальных частях королевства, желая доказать свою преданность, собирали ратников, пеших и конных, дабы должным образом встретить вторгнувшегося врага. Брейдитаун тоже отправил роту для присоединения к Килвангенскому полку под началом мастера Мика. Мастер Улик писал нам из колледжа Святой Троицы, что в университете тоже сформирован полк и он удостоен чести служить в нем капралом. До чего же я завидовал обоим, а в особенности ненавистному Мику, глядя, как, затянутый в алый, сверкающий галуном мундир, с лентой на шляпе, он шагает во главе своих молодцов. Этот сморчок – капитан, а я – ничто, это я-то, чувствовавший в себе отвагу по меньшей мере герцога Камберлендского[21] и знавший, как пойдет ко мне алый мундир! Матушка уверяла, что я слишком молод для военной службы, на самом деле она была слишком бедна – стоимость нового обмундирования поглотила бы чуть ли не половину нашего годового дохода, ибо она считала, что сын ее должен явиться в полк, как подобает его рождению, – верхом на кровном скакуне, в безукоризненном мундире и что дружбу он должен водить с самыми избранными.
Итак, всю страну лихорадило войной, военная музыка оглашала все три королевства, каждый уважающий себя мужчина спешил явиться ко двору Беллоны[22], и только я был обречен сидеть дома в своей фризовой куртке и тайком вздыхать о славе.
Мастер Мик то приезжал из полка, то уезжал в полк и привозил с собой все новых сослуживцев. Их щегольские мундиры и бравая выправка ввергали меня в грусть, а замечая, как льнет к ним Нора, я сходил с ума от бешенства. Никому, однако, и в голову не приходило отнести мою печаль за счет молодой леди; все думали, что я тоскую оттого, что мне нельзя идти в солдаты.
Как-то офицеры ополчения давали в Килвангене грандиозный бал; приглашены были, разумеется, все дамы из замка Брейди (надо было видеть этот рой образин, еле умещавшийся в старом рыдване). Я догадывался, какие муки готовит мне Нора, как она всю ночь будет кокетничать с офицерами, и долго отказывался ехать. Однако Нора знала, как меня уломать. Она клялась, что ее укачивает в карете.
– Как же, – плакалась она, – я попаду на бал, если ты не отвезешь меня на Дейзи?
Дейзи была дядюшкина породистая кобыла, и от такого предложения я был не в силах отказаться. Итак, мы благополучно доскакали до Килвангена, и я был горд, как принц, оттого что Нора обещала мне контрданс.
Но только когда танец пришел к концу, неблагодарная спохватилась, что начисто забыла свое обещание. Она протанцевала все фигуры с англичанином! Бывали у меня в жизни огорчения, но таких мук я еще не испытывал. Нора старалась загладить обиду, но моя гордость встала на дыбы. Немало красоток пыталось меня утешить – ведь я был лучший танцор в зале. Одна из них даже меня уговорила, но, не выдержав этой пытки, я махнул рукой на танцы и всю ночь проскучал один. Я охотно присоединился бы к игрокам, но у меня не было денег, кроме неразменного золотого, – матушка наказывала, чтобы я, как истый джентльмен, всегда хранил его в кошельке. К вину я был равнодушен, я еще не знал, какой это пагубный бальзам для души, и думал лишь о том, как я убью себя и Нору, а из капитана Квина вышибу дух!
Наконец к утру бал кончился. Наши дамы отбыли в своем неуклюжем тарахтящем рыдване. Но вот и Дейзи вывели из конюшни, и мисс Нора взобралась на седельную подушку за моей спиной. Я молчал как убитый. Но не успели мы отъехать на милю от города, как она начала приставать ко мне с утешениями и уговорами, всячески пытаясь рассеять мою угрюмость.
– Ах, Редмонд, голубчик, утро-то какое холодное, ты наверняка простудишься без шейного платка.
На это сочувственное замечание седельной подушки седло ответило упорным молчанием.
– Хорошо ли ты провел время с мисс Кланси, Редмонд? Вы, кажется, всю ночь не расставались?
На это седло только скрипнуло зубами и изо всех сил хлестнуло Дейзи.
– Что ты делаешь, глупенький! Хочешь, чтобы Дейзи стала брыкаться и сбросила меня? Разве ты не знаешь, какая я трусиха?
Говоря это, подушка тихонько обняла седло за талию и даже, может быть, чуть-чуть привлекла к себе.
– Я ненавижу мисс Кланси! – не выдержало седло. – Я только потому пошел с ней танцевать, что у той, на кого я рассчитывал, за всю ночь не нашлось ни минутки свободной!
– Надо было пригласить моих сестер! – ответствовала подушка, разражаясь смехом, в горделивом сознании своего превосходства. – У меня, голубчик, в первые же пять минут расхватали все танцы.
– Так неужто надо было пять раз танцевать с капитаном Квином? – воскликнул я, и – о неисповедимая власть кокетства! – мне кажется, что у Норы Брейди в ее двадцать три года радостно забилось сердце при мысли, как велика ее власть над простодушным пятнадцатилетним подростком.
Разумеется, она заявила, что капитан Квин нисколько ее не интересует; просто с ним легко танцевать и он занятный собеседник, и притом такой душка в своем военном мундире; и если человек ее приглашает, неужто она должна ему отказать?
– Мне же ты отказала, Нора!
– Вот еще! С тобой я могу танцевать хоть каждый день, – ответила мисс Нора, презрительно вскидывая головку, – да и неудобно танцевать на балу с кузеном; подумают, что у меня другого кавалера не нашлось. А кроме того, – продолжала Нора, и это был жестокий, безжалостный выпад, показывавший, как велика ее власть надо мной и как беспощадно она ею пользуется, – а кроме того, Редмонд, капитан Квин – мужчина, а ты ребенок!
– Погоди, вот я встречусь с ним, – вскричал я, разражаясь проклятием, – увидишь, кто из нас мужчина! Я намерен драться с ним на шпагах или на пистолетах, будь он сто раз капитан! Подумаешь, мужчина! Да я готов биться с любым мужчиной, кто бы то ни был! Разве я не взгрел Мика Брейди – и это в одиннадцать лет! И разве я не поколотил Тома Сулливана, хоть это такой верзила и хоть ему все девятнадцать минуло. А помнишь, как попало от меня учителю-шотландцу в школе? О Нора, зачем ты надо мной издеваешься?
Но такой уж стих нашел в то утро на Нору, она только и сыпала насмешками: говорила, что капитан Квин показал себя храбрым солдатом, что в Лондоне его знают как человека светского и что, сколько бы я, Редмонд, ни хвалился своими победами над учителями и деревенским сбродом, что ни говори, капитан Квин – англичанин, а с англичанином шутки плохи!
Тут она пустилась рассуждать о вторжении и о прочих военных материях: о короле Фридрихе (в те дни он ходил в протестантских героях), о мосье Тюро и его флоте, о мосье Конфлане и его эскадроне, о Менорке, недавно подвергшейся нападению, и о том, где оная, собственно, находится; оба мы сошлись на том, что в Америке, и оба надеялись, что французов там как следует взгреют.
Я вздохнул (я уже начинал оттаивать) и заговорил о том, как мне хочется быть солдатом, на что Нора, как всегда, возразила:
– Этого еще не хватало! Значит, ты собираешься меня покинуть? И куда ты годишься, скажи на милость? Разве что в недомерки-барабанщики!
На что я поклялся, что все равно буду солдатом, а со временем и генералом.
Так, болтая о том о сем, подъехали мы к мосту, который с этого дня получил название «Прыжок Редмонда». То был старый высокий мост, перекинутый через глубокий ручей, бежавший по каменистому ложу. И когда Дейзи с двойным грузом ступила на него, мисс Нора, дав волю своему воображению и все еще импровизируя на военные темы (голову даю на отсечение, что она думала о капитане Квине), – мисс Нора сказала:
– Редмонд, если ты такой герой, скажи, что бы ты стал делать, когда бы, въехав на этот мост, увидел на том берегу неприятеля?
– Я вытащил бы саблю из ножен и проложил бы себе дорогу.
– Как? Со мною вместе? Ты, видно, задумал убить меня, бедняжку? – Эта молодая леди при всяком удобном и неудобном случае называла себя бедняжкой.
– Ладно, я скажу тебе, что бы я сделал. Бросился бы вместе с Дейзи в реку и переправил вас обеих туда, где вам не грозила бы опасность.
– Да ведь тут футов двадцать глубины. Никогда бы ты этого не сделал на Дейзи. Вот у капитана лошадь Черный Джордж! Мне рассказывали, что капитан Кви…
Она так и не закончила: взбешенный назойливым повторением ненавистного имени, я крикнул: «Держись за меня крепче!» – и, пришпорив Дейзи, в мгновение ока махнул с Норой через перила и прямо в глубокий ручей. Почему я это сделал, я и сам не сумел бы сказать: то ли хотел погибнуть вместе с Норой, то ли совершить поступок, перед которым дрогнул бы даже капитан Квин; а может, я и правда вообразил, что перед нами неприятель, – не знаю; во всяком случае, я прыгнул. Лошадь ушла в воду с головой, Нора безостановочно визжала и когда мы погружались в воду и когда вынырнули из воды; на берег я высадил ее в полуобмороке, и здесь нас подобрали дядюшкины люди, прискакавшие на Норины крики. Вернувшись домой, я вскорости слег в горячке, приковавшей меня к постели на шесть недель. Встал я с одра болезни выросший чуть ли не на голову и еще более, чем когда-либо, влюбленный.
В первые дни моей болезни Нора усердно за мной ухаживала, предав забвению семейные распри, да и матушка выказывала склонность по-христиански все забыть и простить. Со стороны женщины с таким надменным нравом, никогда не прощавшей обиды, было нешуточной жертвой презреть давнюю вражду и оказать мисс Брейди ласковый прием. Шалый мальчишка, я только и бредил Норой и беспрестанно о ней спрашивал; лекарства принимал лишь из ее рук и угрюмо, исподлобья поглядывал на матушку, которой я был дороже всего на свете и которая ради меня отказалась от справедливых притязаний и подавила в себе естественную ревность.
По мере выздоровления я с грустью замечал, что посещения Норы становятся все реже. «Почему она не приходит?» – спрашивал я сварливо десять раз на дню. Миссис Барри придумывала тысячи благовидных причин, чтобы объяснить это невнимание: то Нора подвернула ногу, то рассердилась на матушку или еще что-нибудь, – так ей хотелось меня успокоить. А часто добрая душа, не выдержав притворства, оставляла меня одного и убегала к себе выплакаться на свободе, а потом возвращалась с улыбкой на лице, ничем не выдавая своей обиды. Боюсь, я и в самом деле ничего не замечал, а если бы и заметил, не придал бы этому значения. Начало возмужания, насколько я могу судить, пора отъявленного себялюбия. Мы охвачены неодолимым желанием расправить крылья и выпорхнуть из родного гнезда, и никакие слезы и мольбы, никакая привязанность не в силах укротить в нас стремление к независимости. В ту пору моей жизни бедной матушке приходилось тяжко страдать – да вознаградит ее Небо, – и она часто рассказывала мне потом, как больно ей было видеть, что ее многолетняя забота и преданность забыты ради ничтожной бессердечной обманщицы, которая лишь играла мной за отсутствием лучших поклонников. Ибо, как вскоре выяснилось, не кто иной, как капитан Квин, приехал погостить в замок Брейди за месяц до моего выздоровления и стал ухаживать за Норой по всей форме. Матушка не решалась рассказать мне эту новость, Нора же и подавно от меня таилась; и я только случайно раскрыл их невольный заговор.
Рассказать вам, каким образом? Плутовка навестила меня как-то, когда я был уже на пути к выздоровлению и мне позволяли сидеть в постели; она была так весела, так милостива и ласкова со мной, что я был на седьмом небе и даже бедную матушку в то блаженное утро осчастливил приветливым словом и нежным поцелуем. Я чувствовал себя отлично и уписал целую курицу, а дядюшке, пришедшему меня проведать, обещал совсем поправиться к тому дню, когда начнется охота на куропаток, и сопровождать его как обычно.
Как раз на послезавтра приходилось воскресенье, и у меня были на этот день планы, которые я твердо намеревался привести в исполнение, несмотря на все запреты врача и матушки, уверявших, что мне ни под каким видом нельзя выходить из дому, так как свежий воздух убьет меня.
Я лежал, блаженно умиротворенный, и впервые в жизни слагал стихи. Привожу их здесь такими, как написал их юный недоросль, со всеми присущими ему орфографическими ошибками. И хоть эти строки не так изысканны и безупречны, как «Арделия, драгая, я стражду от любви» или «Чуть солнце озарило цветущие луга» и другие лирические излияния моего пера, получившие впоследствии столь высокое признание, однако, как мне кажется, для скромного пятнадцатилетнего поэта они написаны весьма изрядно.
РОЗА ФЛОРЫ
Послание, адресованное юным высокородным джентльменом мисс Бр-ди, из замка Брейди
- У Брейдской башни, средь всех невзрачных
- Один завидный мне мил цвиток, —
- Есть в замке Брейди красотка-леди,
- (Но как люблю я – вам невдомек);
- Ей имя Нора. Богиня Флора
- Дарит ей розу, любви залог.
- И молвит Флора: «О леди Нора,
- У Брейдской башни цвиточков тьма —
- Семь дев я знаю, но ты, восьмая,
- Мужчин в округе свела с ума.
- Ирландский остров, на зависть сестрам,
- Твою взлилеял красу весьма!»
Заканчивались стихи так:
- «Пойдем-ка, Нора! – взывает Флора, —
- Туда, где бедный грустит юнец.
- То некий местный поэт безвестный,
- Но вам известный младой певец;
- То Редмонд Барри, с ним, юным, в паре,
- Пойти б вам стоило под винец»[23].
В воскресенье, едва матушка ушла в церковь, я кликнул камердинера Фила, со всей строгостью велел принести мое лучшее платье, в каковое и облачился (убедившись при этом, что все стало мне за время болезни до смешного коротко и узко), и, прихватив заветный листок со стихами, понесся во всю прыть в замок Брейди, мечтая увидеть мою богиню. Воздух был свеж и чист, птицы звонко распевали в зеленых ветвях, я ощущал давно незнакомую мне радость и бежал вприпрыжку по широкой просеке (дядюшка, конечно, постарался свести весь лес в своих владениях), точно проворный молодой фавн. Сердце мое отчаянно колотилось, когда я поднимался по заросшим травой ступеням и распахнул покосившуюся дверь холла. Господа ушли в церковь, сообщил мне мистер Скру, дворецкий (с удивлением оглядывая мое осунувшееся лицо и тощую долговязую фигуру), и с ними шесть барышень.
– И мисс Нора в том числе? – осведомился я.
– Нет, мисс Нора не с ними, – ответил мистер Скру с непроницаемым, загадочным видом.
– Где же она?
На этот вопрос он ответил – или сделал вид, что ответил, – с обычной для ирландца уклончивостью, предоставив мне гадать, поехала ли Нора с братом в Килванген, пристроившись за его седлом, отправилась ли на прогулку с одной из сестер или лежит больная в своей комнате. А пока я пытался решить этот вопрос, мистер Скру незаметно исчез.
Я бросился на задний двор, к конюшням, и здесь увидел драгуна, насвистывавшего на мотив «Да здравствует английский ростбиф!» и чистившего скребницей кавалерийскую лошадь.
– Чья эта лошадь, малый? – спросил я.
– Какой я тебе «малый»! – заворчал англичанин. – Это капитанова лошадь, он тебе покажет «малого»!
Я не стал задерживаться, чтобы намять ему шею, что непременно сделал бы в другое время, и под влиянием вспыхнувшего подозрения бросился со всех ног в сад.
То, что я увидел, почему-то нисколько меня не удивило. По аллее прогуливалась Нора с капитаном Квином. Негодяй вел Нору под руку, поглаживая и нежно сжимая ей пальчики, доверчиво прильнувшие к его распроклятой жилетке. Немного отступя, за первой парой шествовала вторая – капитан Килвангенского полка Фэган, по-видимому, усердно волочился за Нориной сестрицей Майзи.
Вообще-то, я не робкого десятка, но при этом зрелище ноги у меня подкосились и такая вдруг нашла слабость, что я чуть не рухнул в траву под дерево, к которому прислонился, и несколько секунд почти ничего не сознавал; однако, взяв себя в руки, я шагнул навстречу милой парочке, прогуливавшейся по аллее, выхватил из ножен серебряный кортик, который всегда носил при себе, ибо я собирался пронзить им обоих злодеев, насадив их на вертел, словно двух голубков. Умолчу о том, какие чувства, помимо гнева, бушевали в моей груди, какое горькое разочарование, какое безумное, неистовое отчаяние – ощущение, будто весь мир рушится предо мной; не сомневаюсь, что и ты, читатель, не раз бывал уязвлен женским коварством, вспомни же, что чувствовал ты под тяжестью первого удара.
– О нет, Норилия, – говорил капитан (в то время в обычае любовников было награждать друг друга выспренними именами из романов), – клянусь богами, в сердце моем только вы да еще четверо других зажгли божественный огонь.
– О мужчины, мужчины, все вы таковы, мой милый Евгенио, – проворковала Нора (негодяя, кстати, звали Джон). – Нашу любовь не сравнить с вашей. Мы, подобно… гм… одному растению, о котором я читала, цветем лишь однажды и умираем!
– Так, значит, до меня вы ни к кому не испытывали сердечной склонности? – осведомился капитан Квин.
– Ни к кому, кроме тебя, о мой Евгенио! Как можешь ты смущать стыдливую нимфу таким вопросом?
– Голубка моя, Норилия! – просюсюкал он, поднося к губам ее пальцы.
Я хранил на груди пунцовый бант. Нора как-то подарила его мне, отколов от своего лифа, и я с ним не расставался. И вот, достав бант из-за пазухи, я швырнул его в лицо капитану и бросился к нему с занесенным клинком, восклицая:
– Не верьте ей, она обманщица, капитан Квин! Обнажите же меч, сэр, и защищайтесь как мужчина!
С этими словами я подскочил к нему и схватил негодяя за шиворот, меж тем как Нора оглашала воздух пронзительными воплями. Услышав их, к нам поспешила Майзи со своим капитаном.
Хоть за время болезни я вытянулся как лопух и почти достиг полного своего роста в шесть футов, однако по сравнению с огромным капитаном казался хрупкой тростинкой, ибо он обладал икрами и плечами, которым позавидовал бы носильщик портшезов в Бате. Когда я напал на него, он сначала покраснел, а потом сделался мертвенно-бледен; отпрянув, он схватился за эфес шпаги, но тут Нора в ужасе повисла на нем с криком:
– Ради бога, пощадите его, Квин! Ведь он еще ребенок!
– И заслуживает порки за свою наглость, – отпарировал капитан. – Но успокойтесь, мисс Брейди, я его пальцем не трону. Вашему любимцу ничто не угрожает. – Говоря это, он наклонился, поднял ленту, упавшую к Нориным ногам, подал ей и добавил язвительно: – Когда молодые леди дарят джентльменам сувениры, другим джентльменам остается только убраться восвояси.
– Господи, Квин! – вскричала девушка. – Да ведь он же ребенок!
– Не ребенок, а мужчина! – взревел я. – И я докажу это.
– Ведь это все равно что ручной попугай или комнатная собачка. Неужто нельзя подарить кузену несчастный клочок ленты?
– Сколько угодно, мисс, хоть целый аршин! – продолжал язвить капитан.
– Чудовище! – вскричала кроткая дева. – Вот и видно, что папенька у вас аршинник, вы все мерите на аршин. Но не думайте, что ваша низость вам сойдет с рук! И ты потерпишь, Редди, чтобы меня оскорбляли?
– Не сомневайтесь, мисс Нора! – вскричал я. – Он за все заплатит кровью. И это так же верно, как то, что меня зовут Редмонд!
– Я прикажу конюху высечь тебя, мальчишка! – пригрозил капитан, к которому вернулось самообладание. – А что до вас, мисс, честь имею кланяться!
Он церемонно снял шляпу и, помахав ею у самых ног, хотел уже ретироваться, но тут подоспел мой кузен Мик, очевидно тоже привлеченный криками Норы.
– Вот так так! Что такое? Джон Квин, что здесь произошло? – спросил Мик. – Я вижу Нору в слезах, дух Редмонда грозится обнаженным мечом, а вы куда-то спешите?
– Я скажу вам, что здесь произошло, мистер Брейди, – сказал англичанин. – Я сыт по горло вашей мисс Норой и вашими ирландскими порядками. Я по-другому воспитан, сэр!
– Ну-ну, это ничего не значит, – добродушно заметил Мик (как выяснилось, он задолжал Квину много денег), – либо мы вас приучим к ирландским порядкам, либо у вас переймем английские.
– У нас, англичан, не положено, чтобы дамы заводили себе по двое обожателей. Вы меня крайне обяжете, мистер Брейди, уплатив должок, а я отказываюсь от притязаний на эту молодую особу. Если она предпочитает школьников, я ей не помеха.
– Полно вам, Квин, вы, кажется, шутить изволите? – спросил Мик.
– Я никогда не был настроен серьезнее, – возразил Квин.
– А тогда берегитесь, сэр, черт возьми! – вскипел Мик. – Бессовестный обманщик, подлый обольститель! Вы завлекли в сети этого ангела, эту страдалицу, вы завладели ее сердцем и теперь намерены ее покинуть? Уж не думаете ли вы, что ее некому защитить? Обнажите вашу шпагу, лакей, холоп! Или я вырежу из тела ваше подлое сердце.
– Да это форменное убийство! – воскликнул Квин, пятясь назад. – Двое против одного! Надеюсь, Фэган, вы не допустите, чтобы меня зарезали!
– Вот еще! – сказал Фэган, которого, видимо, забавляла эта сцена. – Заварили кашу, капитан Квин, сами и расхлебывайте! – И, подойдя ко мне, шепнул: – Всыпь ему как следует, малыш!
– Раз мистер Квин отказывается от молодой девицы, – возразил я, – мое дело сторона.
– А я и отказываюсь, – подхватил Квин, все более теряясь.
– Защищайтесь же как мужчина, черт бы вас побрал! – снова взревел Мик. – Майзи, уведи несчастную жертву! Редмонд и Фэган последят, чтобы это был честный поединок.
– Да я… дайте мне подумать… я сам еще не решил – запутался тут между вами.
– Как осел между двумя вязанками сена, – сухо заметил мистер Фэган. – Не знает, куда и кинуться.
Глава II, в которой я выказываю незаурядную отвагу
Во время этих споров кузина Нора поспешила сделать то, что сделала бы на ее месте всякая молодая особа, – хлопнулась по всем правилам в обморок. Я пререкался с Миком, что и помешало мне броситься к ней на помощь, к тому же капитан Фэган (удивительно черствая натура этот Фэган!) удержал меня, говоря: «Оставьте молодую леди в покое, мастер Редмонд, тем скорее она очнется». Так оно и случилось – вернейшее доказательство того, что Фэган был дока в житейских делах. С тех пор я не раз видел, как быстро приходят в себя дамы при подобных обстоятельствах. Квин тоже, разумеется, не кинулся ее спасать, бесчестный хвастунишка воспользовался переполохом, чтобы обратиться в бегство.
– Кто же из нас вызовет капитана Квина? – спросил я Мика, ибо это было первое мое дело на поле чести, и я радовался ему, как радовался бы новому бархатному платью, обшитому позументом. – Кто из нас – я или ты, кузен Мик, – удостоится чести проучить наглеца-англичанина? – Говоря это, я протянул ему руку, ибо растаял под впечатлением победы и уже готов был обнять кузена.
Однако он отверг столь искреннее предложение дружбы.
– Ты… ты… – повторял он, задыхаясь от бешенства, – повесить тебя мало, негодный мальчишка! Ты что не в свое дело суешься! Болван, молокосос, а туда же лезет! Да как ты посмел завести ссору с человеком, у которого тысяча пятьсот фунтов годового дохода?
– Ох! – простонала Нора, лежавшая пластом на каменной скамье. – Я умру! Я знаю, что умру! Мне уже не подняться с этого места!
– Капитан здесь, никуда он не делся, – шепнул ей Фэган, и Нора, смерив его негодующим взглядом, вскочила и убежала в дом.
– И что тебе взбрело, ублюдок, ухаживать за девушкой из порядочного дома? – продолжал Мик меня отчитывать.
– Сам ты ублюдок! – взревел я. – Посмей еще раз, Мик Брейди, так меня назвать, и я всажу тебе в горло этот клинок! Вспомни, как ты не справился с одиннадцатилетним мальчишкой! А теперь я ни в чем тебя не уступлю и, богом клянусь, так измолочу тебя, как… как всегда колачивал твой младший брат!
Удар пришелся по больному месту, я видел, что Мик позеленел от злости.
– Не слишком удачное начало, чтобы понравиться семье невесты, – примирительно пошутил Фэган.
– Девушка в матери ему годится, – буркнул Мик.
– Годится или не годится, – отрезал я, – но вот что я тебе скажу, Мик Брейди (и я разразился чудовищным проклятием, которое не стану здесь повторять): человек, который женится на Норе Брейди, должен сперва убить меня – заруби себе на носу!
– Вздор, сударь, – бросил мне Мик, отвернувшись, – не убить, а высечь, хочешь ты сказать. Я поручу это егерю Нику. – С этими словами он удалился.
Тут ко мне подошел капитан Фэган и, ласково взяв за руку, сказал, что я храбрый малый и что он уважает мою отвагу.
– Но Брейди прав, – продолжал он, – конечно, трудно советовать человеку, который так далеко зашел в своих чувствах, но верьте мне, я кое-что повидал в жизни, и если вы меня послушаете, вам не придется об этом пожалеть. За Норой Брейди нет ни пенни приданого, да и вы ничуть не богаче. К тому же вам всего пятнадцать, а ей все двадцать четыре. Лет через десять, когда вам придет пора жениться, она уже будет старухой. А главное, бедный мой мальчик, разве вы не видите, как это ни тяжело и больно, что она бездушная кокетка и так же мало интересуется вами, как и капитаном Квином.
Но какой же влюбленный (да и не только влюбленный, если на то пошло) станет слушать мудрых советов? Я, по крайней мере, никогда их не слушал. И я сказал Фэгану, что любит меня Нора или нет, на то ее святая воля, но прежде чем на ней жениться, клянусь честью, Квин будет иметь дело со мной!
– Верю, верю, – сказал Фэган, – с вас, пожалуй, станется, мой мальчик. – Поглядев на меня пристально секунды две, он повернулся и пошел, насвистывая себе что-то под нос, и, прежде чем войти в старую калитку, снова на меня оглянулся. Когда он ушел, оставив меня одного, я бросился на каменную скамью, где только что лежала в притворном обмороке Нора и где она забыла свой платок, и, зарывшись в него лицом, оросил его слезами, которых в ту пору моей жизни стыдился до крайности и никому не решился бы показать.
Лента, брошенная мной в лицо капитану Квину, лежала смятая у моих ног, я сидел и много-много часов смотрел на нее, чувствуя себя несчастнейшим человеком во всей Ирландии. Но до чего же непостоянен мир! Ведь, кажется, как велики наши печали, а сколь они ничтожны на деле! Нам представляется, будто мы умираем с горя, а до чего же мы, в сущности, легко все забываем! Как же нам не стыдиться такого непостоянства! И почему у Времени ищем мы утешения! Но очевидно, мне, среди многообразных моих испытаний и мытарств, так и не пришлось напасть на единственно желанную; вот почему через короткое время я забывал каждое существо, которому поклонялся; если бы мне удалось встретить ту, единственно желанную, я, надо думать, любил бы ее вечно.
Должно быть, я не один час просидел на садовой скамье, оплакивая себя; рано поутру явился я в замок Брейди, а между тем только колокол, как всегда в три часа зазвонивший к обеду, вывел меня из задумчивости. Я взял платок и подобрал с земли ленту. Проходя мимо служб, я заметил, что седло капитана по-прежнему висит у дверей конюшни, и увидел его нахала-денщика: щеголяя красным мундиром, он зубоскалил с судомойками и прочей кухонной челядью.
– Англичанин еще здесь, мастер Редмонд! – шепнула мне одна из горничных, восторженная черноглазая девушка, прислуживавшая молодым хозяйкам. – Он в столовой, с нашей прелестной Девой долины; не давайте им себя запугать, мастер Редмонд!
Я решительно вошел в столовую и занял свое место в конце стола; мой друг-дворецкий тут же поставил мне прибор.
– Алло, Редди, малыш! – приветствовал меня дядюшка. – Поправился и уже на ногах? Вот и отлично!
– Сидел бы лучше дома с маменькой, – заворчала тетка.
– Не слушай ее, – подбодрил меня дядюшка. – Это она за завтраком объелась холодной гусятины, и теперь ей свет не мил. Выпей-ка лучше стаканчик горячительного, миссис Брейди, за здоровье Редмонда!
Видно, от него держали в секрете, что здесь произошло; зато Мик, Улик и девицы глядели тучей, а у капитана Квина был преглупый вид. Нора, сидевшая с ним рядом, казалось, вот-вот разревется. Капитан Фэган улыбался, а я наблюдал всех с каменным лицом. Каждый кусок застревал у меня в горле, но я и виду не подавал, а когда убрали скатерть, наполнил свой кубок вместе с другими. Мы выпили, как и полагается джентльменам, за короля и Церковь. Дядюшка был в наилучшем расположении духа и все время подшучивал над Норой и капитаном. Шутки его были примерно такого свойства: «Спроси-ка, Нора, мистера Квина, у кого из вас первого мы будем пировать на свадьбе?» Или: «Джек Квин, мой мальчик, не ждите чистого бокала, в замке Брейди не хватает хрусталя. Возьмите Норин стакан, вино от этого не покажется вам хуже». Сегодня он был особенно в ударе – я не мог понять почему. Уж не состоялось ли официальное примирение между вероломной красоткой и ее воздыхателем, с тех пор как они вернулись в дом?
Впрочем, я недолго оставался в неведении. В доме дядюшки третью чару выпивали уже обычно без дам; но на сей раз дядюшка задержал их, невзирая на просьбы Норы, взывавшей: «Папочка, пожалуйста, дозволь нам уйти!»
– Нет-нет, миссис Брейди и прочие дамы, – воскликнул он, – прошу вас! Я собираюсь провозгласить тост, который мы, к сожалению, слишком редко слышим в моем доме, и прошу поддержать его как можно дружнее. Итак, пью за здоровье капитана и миссис Квин и желаю им счастья на многие лета! Поцелуй ее, Джек, шельма ты этакая, у тебя будет не жена, а чистый клад!
– Он уже сегодня заработал!.. – взвизгнул я, вскакивая с места.
– Придержи язык, болван, придержи язык! – остановил меня Улик, сидевший со мной рядом.
Но я уже ничего не соображал.
– Он уже сегодня заработал оплеуху, ваш капитан Джон Квин! – надрывался я. – Он уже сегодня съел «труса»! Пью за ваше здоровье, капитан Джон Квин!
И я швырнул ему в лицо полный бокал кларета. Не знаю, как он это принял, ибо в следующую секунду я уже лежал под столом, сбитый с ног Уликом, который еще вдобавок двинул меня по шее. Я только смутно слышал визг, суматоху и беготню над головой, так как все мое внимание было поглощено тумаками, зуботычинами и проклятьями, которыми продолжал угощать меня Улик. «Дуралей, – честил он меня, – этакий балбес и дубина, путается у всех под ногами, нищее отродье, – (каждый лестный эпитет сопровождался новым подзатыльником), – говорил я тебе, придержи язык!» Я, разумеется, не сердился на такое обращение, так как Улик всегда стоял за меня – и постоянно избивал без пощады.
Когда я вылез из-под стола, дам уже не было, и я с удовольствием увидел, что у капитана Квина, как и у меня, идет носом кровь, однако у него вдобавок была рассечена переносица, отчего красота его пострадала безвозвратно. Улик между тем встряхнулся, сел поудобнее, налил себе бокал и передал бутылку мне.
– Пей, не жалей, молодой осел, – сказал он, – и чтобы нам больше не слышать ослиного рева!
– Господи боже, это еще что за свалка! – недоумевал дядюшка. – Уж не горячка ли опять у малыша?
– Это ваших рук дело, – сумрачно отозвался Мик. – Ваших да того, кто сюда его приваживает.
– Не скули, Мик, – остановил его Улик. – Выражайся осторожнее, когда говоришь обо мне и об отце, а то как бы не пришлось поучить тебя вежливости.
– Ты-то и виноват во всем, – не унимался Мик. – Что этому прощелыге здесь нужно? Моя бы воля, я давно бы вздул его и выгнал.
– Самое милое дело, – отозвался капитан Квин.
– Не советую вам и пробовать, Квин, – пригрозил мой заступник и, повернувшись к отцу, пояснил: – Дело в том, сударь, что наш молодой повеса втрескался в Нору; сегодня он застал их с капитаном в саду за нежным объяснением и теперь жаждет крови!
– Черт возьми, рано же он начинает! – умилился дядя. – Ей-богу, Фэган, этот мальчик настоящий Брейди, со всеми потрохами.
– А я вот что вам скажу, мистер Брейди, – вскричал Квин, обозлившись, – меня оскорбили в этом доме! И вообще, не нравятся мне здешние порядки! Я англичанин и человек состоятельный… я… я…
– Если вам нанесли оскорбление, Квин, требуйте сатисфакции, – оборвал его Улик. – И помните, что нас с малышом здесь двое.
В ответ на что Квин промолчал и стал усердно промывать себе нос.
– Мистер Квин может во всякое время получить удовлетворение, – сказал я со всем возможным достоинством. – Редмонд Барри из Барривилля к вашим услугам, сэр!
Услышав это, дядюшка разразился громким смехом (что он, кстати, делал при всяком удобном случае), и капитан Фэган, к великому моему огорчению, к нему присоединился. Повернувшись к Фэгану, я заносчиво попросил его помнить, что если от моего кузена Улика, который всю жизнь был моим лучшим другом, я терпел такое обхождение, то впредь терпеть не намерен; что же касается других лиц, которые позволят себе в отношении меня малейшее неуважение, пусть пеняют на себя.
– Мистер Квин, – добавил я, – узнал на собственном опыте, чем это грозит, и если мистер Квин считает себя мужчиной, ему известно, где меня искать.
Дядюшка спохватился, что час поздний и матушка, должно быть, обо мне тревожится.
– Пусть кто-нибудь доставит его домой, – обратился он к сыновьям, – а то он ненароком еще что-нибудь выкинет!
На что Улик, перемигнувшись с братом, сказал:
– Мы оба едем провожать Квина.
– Мне не страшны никакие французишки, – возразил Квин с кривой усмешкой, – мой денщик вооружен, да и я тоже.
– Вы отлично владеете оружием, – сказал Улик, – и никто не сомневается в вашей храбрости. Тем не менее мы с Миком вас проводим.
– Этак вы к утру не вернетесь. До Килвангена, поди, миль десять.
– А мы заночуем у Квина. Да и вообще поживем у него с недельку.
– Премного благодарен, – слабым голосом ответил Квин. – Очень любезно с вашей стороны.
– Вы в одиночестве соскучитесь, Квин, сами понимаете!
– Ясно, соскучусь, – поддакнул Квин.
– А через недельку, мой мальчик… – продолжал наседать Улик и, пригнувшись к капитану, что-то зашептал ему на ухо – мне послышались слова «свадьба» и «пастор», и я почувствовал, что кровь опять закипает в моих жилах.
– Как вам угодно, – прохныкал капитан.
Тем временем к крыльцу подвели лошадей, и трое джентльменов ускакали.
Мистер Фэган никуда не уезжал и по дядюшкиной просьбе пошел проводить меня через старый вырубленный парк. Он высказал предположение, что после давешнего скандала я вряд ли захочу встретиться с девицами, с чем я полностью согласился, и мы ушли, ни с кем не простясь.
– Ну и натворили же вы бед, – сказал мне Фэган по дороге. – Вы считаете себя другом семейства Брейди и, зная, как ваш дядюшка стеснен в средствах, стараетесь расстроить брак, который принесет его семейству полторы тысячи годового дохода! Не говоря уже о том, что Квин обещал выплатить долг в четыре тысячи фунтов, особенно беспокоящий вашего дядю. Он берет бесприданницу, да еще с наружностью не лучше, чем вон у той коровы, – ну-ну, не сердитесь, я готов признать ее красавицей, на вкус и цвет товарища нет, – девицу, известную тем, что за последние десять лет она кому только не вешалась на шею и никого не сумела подцепить. И вы, такой же бедняк, как она, да притом еще пятнадца… – ладно-ладно, раз вы настаиваете, – пусть шестнадцатилетний мальчик, – вы, который должен любить своего дядюшку как родного отца…
– А я и люблю его, – буркнул я.
– …вот как вы благодарите его за доброту! Разве он не приютил вас, когда вы остались сиротой, и разве не отдал вам без всякой арендной платы ваш превосходный дом Барривилль? А теперь, чуть дела его пошли в гору и он может под старость вздохнуть от забот, вы становитесь между ним и его благополучием! И это вы, который особенно ему обязан! Такая черствость и неблагодарность поистине противоречат естеству. От юноши вашей отваги я ожидал больше настоящего мужества.
– Я не боюсь никого на свете! – воскликнул я (сосредоточивая огонь на последнем доводе и выбивая его из капитановых рук, как мы всегда делаем, чувствуя превосходство противника). – С тех пор как существует мир, не было человека, так обманутого. Видите вы эту ленту? Шесть месяцев я носил ее на сердце, не расставался с ней даже во время болезни. Ибо разве Нора не сняла ее со своей груди и не отдала мне?! И разве не запечатлела она на моих губах поцелуй и не назвала меня своим милым, милым Редмондом!
– Да она же практиковалась на вас, – отвечал мистер Фэган с сардонической усмешкой. – Я знаю женщин, сэр! Подержите женщину под запором, не пускайте к ней никого, и она заведет роман с трубочистом. В Фермоне я знавал молодую особу…
– Молодую особу в любовной горячке, – перебил я (на самом деле я употребил более крепкое выражение). – Попомните мое слово, капитан: к чему бы это ни привело, клянусь, я буду драться с каждым искателем руки Норы Брейди, кто бы он ни был. Я схвачусь с ним в церкви, если придется! Либо я упьюсь его кровью, либо он упьется моей, и тогда эта лента обагрится моей кровью. Если же я убью его, я приколю этот бант к его груди, и пусть Нора берет себе свой талисман. – Я говорил это, не помня себя от волнения, а кроме того, не зря я начитался романов и любовных пьес.
– Что ж, – сказал Фэган, помолчав, – видно, чему быть, того не миновать. Для вашего возраста вы, молодой человек, на редкость кровожадны. Но и Квин шутить с собой не позволит.
– Так вы согласны отправиться к нему от моего имени? – загорелся я.
– Тише! – остановил меня Фэган. – Ваша матушка, верно, все глаза проглядела, высматривая вас. Вот мы и у цели – в Барривилле.
– Ради бога, ни слова ей, – предупредил я и вошел в дом, распираемый гордостью и возбуждением, в надежде скоро переведаться с ненавистным англичанином.
Вернувшись из церкви, матушка послала за мной слугу Тима; добрая женщина была крайне обеспокоена моим уходом и с нетерпением ждала меня домой. Тим видел, как я направился в столовую по приглашению восторженной горничной; и когда он всласть угостился на кухне всякими разносолами, каких и не видывал у нас дома, то тут же поспешил в Барривилль доложить госпоже, где я нахожусь, и, конечно, поведал ей по-своему о новейших происшествиях в замке Брейди. Напрасно я намеревался сохранить все в тайне; уже по тому, как матушка обняла меня при моем возвращении и как приняла нашего гостя капитана Фэгана, я сразу догадался, что ей все известно.
У бедняжки был крайне взволнованный и встревоженный вид; она то и дело испытующе поглядывала на капитана, но ни словом не помянула про размолвку, так как в груди у нее билось благородное сердце и она скорее предпочла бы увидеть своего сына на виселице, нежели бегущим с поля чести. Увы, что стало теперь с этими возвышенными чувствами! Шестьдесят лет назад мужчина в старой Ирландии был мужчиной, и шпага, которую он носил на боку, угрожала жизни каждого джентльмена при первом же возникшем недоразумении. Но добрые старые времена миновали, а с ними забыты и добрые обычаи. Вы уже не услышите о честном поединке: трусливые пистолеты, сменившие более достойное и мужественное оружие джентльменов, внесли жульничество в благородное искусство дуэли, о каковом падении нравов можно только сокрушаться.
Домой я воротился с сознанием, что я настоящий мужчина; приветствуя капитана Фэгана с прибытием в Барривилль и представляя его матушке с подобающим достоинством и величием, я заметил, что капитан, должно быть, не прочь выпить с дороги, и приказал Тиму немедля принести бутылку бордо с желтой печатью и подать печенье и бокалы.
Тим с удивлением взглянул на свою госпожу; за несколько часов до этого я скорее решился бы поджечь родительский дом, чем потребовать бутылку кларету; но я внезапно почувствовал себя взрослым мужчиной, имеющим право распоряжаться; и матушка тоже почувствовала это; обернувшись к лакею, она сказала грозно: «Ты что же, бездельник, не слышишь, что велит тебе твой господин? Сейчас же беги за вином, печеньем и бокалами!» И тут же сама (она, конечно, не доверила Тиму ключей от нашего маленького погреба) пошла и достала бутылку. А уж Тим, как полагается, подал нам все на серебряном подносе. Моя дорогая матушка разлила вино и сама выпила за здоровье капитана; но я видел, как дрожит у ней рука и как бутылка – дзинь-дзинь! – дребезжит о стаканы. Едва пригубив, она выразила желание удалиться к себе, сославшись на головную боль; я испросил у нее благословения, как и подобает послушному сыну (современные франты презрели эти почтительные церемонии, в мое время отличавшие джентльменов), и матушка оставила нас с капитаном Фэганом вдвоем, чтобы не мешать нам толковать о нашем важном деле.
– Признаться, – начал капитан, – я не вижу другого выхода из этой передряги, как честный поединок. Собственно, в замке Брейди уже заходил об этом разговор после вашего утреннего нападения на Квина; он клялся, что сделает из вас бифштекс, и, только уступая слезам и просьбам мисс Гонории, отказался от своего намерения. Сейчас, однако, дело зашло чересчур далеко. Ни один джентльмен на службе его величества не допустит, чтобы ему швыряли в лицо бокалами вина (кстати, у вас отличное винцо, Редмонд, с вашего разрешения, я позвоню, чтобы нам принесли еще бутылку), а получив такой афронт, обязан смыть его кровью. Словом, вам не избежать драки, а Квин, как вам известно, огромный детина и здоров как бык.
– Тем легче взять его на мушку, – не сдавался я. – Не боюсь я его!
– Охотно вам верю, – ответил капитан. – Для ваших лет – вы забияка хоть куда.
– Взгляните на этот меч, – сказал я, указывая на шпагу с серебряным эфесом необыкновенно тонкой работы, в ножнах шагреневой кожи, висевшую над камином под миниатюрой, изображающей Гарри Барри, моего отца. – Этим мечом отец сразил Мохока О’Дрисколла в Дублине в тысяча семьсот сороковом году; этим же оружием, сэр, он заколол сэра Хаддлстона Фаддлстона, хемпширского баронета, пробив ему шею. Встреча состоялась на пустоши Хаунслоу, как вы, должно быть, слышали; противники дрались верхом, на шпагах и пистолетах; кстати, вот они (пистолеты висели по обе стороны миниатюры), они верно послужили ему. Виноват был отец: после обильных возлияний он оскорбил леди Хаддлстон на брентфордском балу, отказался, как истый джентльмен, принести извинения и, прежде чем взяться за шпагу, прострелил мистеру Хаддлстону тулью шляпы. Я сын Гарри Барри и намерен поступить, как подобает моему имени и достоинству.
– Поцелуй меня, мой мальчик, – сказал Фэган со слезами на глазах, – ты мне пришелся по сердцу. Пока Джек Фэган жив, ты не будешь нуждаться ни в друге, ни в секунданте!
Бедняга! Спустя полгода, исполняя боевое поручение лорда Сэквилла, он пал под Минденом, сраженный пулей, а я потерял верного друга, – но так как будущее от нас скрыто, мы провели этот вечер как нельзя лучше. Опорожнив вторую бутылку, а потом и третью (все тот же дворецкий Тим ставил их нам на стол), мы наконец расстались. Фэган обещал еще этим вечером переговорить с секундантом Квина, а утром мне сообщить, где назначена встреча. Впоследствии я не раз думал, как сложилась бы моя судьба, не влюбись я в столь нежном возрасте в Нору и не запусти бокалом в Квина, сделав этим дуэль неизбежной. Я, может быть, всю жизнь прозябал бы в Ирландии (ибо разве не была мисс Квинлен, жившая в двадцати милях, богатой наследницей, да и дочка Питера Берка в Килвангене разве не унаследовала отцовскую ренту в семьсот фунтов, а ведь я спустя несколько лет мог бы заполучить любую из них). Но видно, мне было на роду написано стать бездомным странником – мой поединок с Квином, как вы вскоре услышите, вынудил меня еще в ранней юности оставить родной дом.
Никогда я не спал крепче, чем в эту ночь, что не помешало мне проснуться утром чуть раньше обычного; и как нетрудно догадаться, прежде всего мелькнула у меня мысль о предстоящем поединке, к которому я чувствовал себя вполне готовым. По счастью, в спальне у меня нашлись чернила и бумага, ибо разве я, одержимый любовью глупец, не кропал вчера чувствительные стишки в честь Норы? Сейчас я снова взялся за перо и настрочил две записки, невольно думая, что это, может быть, последние письма, какие мне суждено написать. В первом я адресовался к матушке.
«Достоуважаемая госпожа! – гласило мое письмо. – Сие вам вручат лишь в том случае, если мне суждено пасть от руки капитана Квина, с коим я сегодня встречусь на поле чести, чтобы драться на шпагах или пистолетах. Если я умру, то как образцовый христианин и джентльмен, да и могло ли быть иначе, принимая в разумение, какая мать меня воспитала! Прощаю всех моих врагов и как послушный сын испрашиваю вашего благословения. А также изъявляю желание, чтобы кобыла Нора, подаренная мне дядюшкой и названная в честь самой вероломной представительницы ее пола, была возвращена в замок Брейди, а еще прошу отдать мой кортик с серебряной рукояткою доезжачему Филу Пурселлу. Передайте мой привет дядюшке и Улику, а также тем из девиц, кто на моей стороне. Остаюсь вашим послушным сыном – Редмондом Барри».
Норе я написал:
«Эта записка будет найдена у меня на груди вместе с талисманом любви, коим вы меня осчастливили. Он будет окрашен моей кровью (если только не удастся мне спровадить на тот свет капитана Квина, которого я ненавижу, но прощаю) и послужит для вас лучшим украшением в день вашей свадьбы. Носите же его и думайте о бедном юноше, которому вы его подарили и который умер за вас (как готов был умереть ежечасно). – Редмонд».
Написав это послание и запечатав его большой отцовской серебряной печатью с гербом дома Барри, я спустился вниз к завтраку, где матушка, разумеется, меня ожидала. Мы не обменялись ни словом о предстоящей мне встрече; напротив, болтали о том о сем, тщательно обходя предмет, главным образом занимавший наши мысли; говорили о тех, кого она видела вчера в церкви, и что пора уже мне обзавестись новым платьем – из старого я окончательно вырос. Матушка обещала к будущей зиме сшить мне новое, если… если… это окажется ей по средствам. Я видел, как она запнулась на словечке «если», – да благословит ее Бог! – и угадывал, что у нее на душе. И она рассказала мне, что решила заколоть черную свинью и что сегодня попалось ей гнездо рябой несушки, яйца которой мне особенно по вкусу, и еще многое другое. Несколько таких яиц было сварено к завтраку, я уплел их с отменным аппетитом. Набирая соли, я нечаянно опрокинул солонку, и у матушки невольно вырвалось с криком: «Слава богу, соль просыпалась в мою сторону!» После чего, не справившись с душившим ее волнением, она бросилась вон из комнаты. Бедные матери! У каждой из них свои слабости, и все же ни одна женщина с ними не сравнится!
Как только она вышла, я снял с гвоздя шпагу, ту самую, которой батюшка сразил хемпширского баронета, – и, поверите ли! – увидел, что отважная женщина привязала к ее эфесу новую ленту: поистине, бесстрашие львицы сочеталось в ней с храбростью рода Брейди. Затем достал пистолеты, как всегда хорошо вычищенные и смазанные, и только сменил в них кремни да приготовил к появлению капитана пули и порох. На буфете ждала его холодная курица и бутылка кларету, а также фляжка старого коньяку с двумя бокальчиками на серебряном подносе, украшенном нашим гербом. Впоследствии, когда я достиг вершин благополучия и купался в богатстве и роскоши, лондонский ювелир, в свое время продавший поднос батюшке в долг, сорвал с меня тридцать пять гиней да почти столько же в счет наросших процентов; а вскоре после этого негодяй-закладчик дал мне за него шестнадцать гиней: у этих канальских торговцев нет ни совести, ни чести!
В одиннадцать прискакал капитан Фэган в сопровождении драгуна. Отдав должное матушкиному угощению, капитан принялся меня уговаривать:
– Послушай, Редмонд, мой мальчик! Пустое дело ты затеял. Эта девушка все равно выйдет за Квина, попомни мое слово! И ты столь же быстро ее забудешь, ведь ты еще цыпленок. Квин так и согласился посчитать тебя за мальчишку. Дублин чудесный город, и, если ты не прочь туда прокатиться и провести там месяцок, вот тебе двадцать гиней в полное твое распоряжение. Извинись перед Квином и поезжай с Богом!
– Человек чести, – возразил я, – скорее умрет, чем попросит прощения!
– Тогда вам ничего не остается, как стать к барьеру!
– Что ж, лошадь моя оседлана, все готово. Скажите, капитан, а где назначена встреча и кто секундант противной стороны?
– С Квином поедут твои кузены, – отвечал Фэган.
– Я позвоню груму и прикажу подать мне лошадь, как только вы малость передохнете, капитан.
Я послал Тима за Норой и тут же ускакал, так и не простившись с миссис Барри. Занавески в ее спальне были приспущены, и ни одна из них не дрогнула, пока мы садились на коней и выезжали со двора… Зато два часа спустя надо было видеть, как она, еле держась на ногах, скатилась с лестницы; надо было слышать, с каким криком она прижала к сердцу ненаглядного сыночка, который воротился к ней цел и невредим, без единой царапины.
Но расскажу по порядку. Когда мы прискакали на условленное место, Улик, Мик и капитан уже дожидались нас. Квин, в своем пламенеющем гренадерском мундире, показался мне исполином. Вся компания хохотала над чьей-то шуткой, и смех моих кузенов резнул меня по сердцу: вот вам и родственники! Ведь им, возможно, предстояло стать свидетелями моей смерти.
– Надеюсь вскорости испортить им настроение, – сказал я капитану Фэгану, едва сдерживая ярость. – Посмотрим, что они запоют, когда я этой шпагой проткну его мерзкую тушу!
– Ну уж нет, драться будете на пистолетах, – ответил мистер Фэган. – Куда тебе со шпагой против Квина!
– Я против кого угодно выйду со шпагой! – отвечал я.
– Нет-нет, ни о какой шпаге не может быть и речи! Квин вчера вечером зашиб ногу. Ударился коленом о ворота парка, когда в темноте возвращался домой. Он и сейчас ее волочит.
– Тогда он зашиб ее не в воротах замка Брейди, – не сдавался я. – Их уже лет десять как сняли с петель.
На что Фэган сказал, что, значит, он зашиб ее в других воротах, и все сказанное мне повторил затем мистеру Квину и моим кузенам, когда мы спешились и, присоединившись к этим господам, приветствовали их.
– Как же, нога у него что твоя колода, – подтвердил Улик, пожимая мне руку, меж тем как капитан Квин снял кивер и густо покраснел. – Тебе еще повезло, Редмонд, мой мальчик, – продолжал Улик. – Плохи были бы твои дела; ведь это же сущий дьявол, верно, Фэган?
– Форменный турок, секим-башка, – ответил Фэган. – Я еще не видел человека, который устоял бы против капитана Квина.
– Пора кончать эту волынку! – сказал Улик. – Мне все осточертело. Стыдно, господа! Скажи, что сожалеешь, Редмонд, ну что тебе стоит!
– Если молодой человек согласен отправиться в Дублин, как предполагалось… – вставил Квин.
– Черта с два я сожалею! Черта с два стану просить прощения! А уж что до Дублина, то скорей я отправлюсь в…! – воскликнул я, топнув ногой.
– Ничего не попишешь! – сказал, смеясь, Улик. – Давайте, Фэган, приступим. Я полагаю, двенадцати шагов хватит?
– Десять, и самых маленьких, – гаркнул мистер Квин, – вы слышите меня, капитан Фэган?
– Не хорохорьтесь, мистер Квин, – сердито огрызнулся на него Улик. – А вот и пистолеты! – И, обратившись ко мне, добавил чуть дрогнувшим голосом: – Да благословит тебя Бог, малыш! Стреляй сразу, как только я скомандую «три!».
Мистер Фэган вручил мне пистолет, но не из моих, мои остались в запасе на случай повторного обмена выстрелами, эти же принадлежали Улику. – Они в порядке, – сказал он. – Смотри же, Редмонд, не робей да целься ему в шею, пониже кадыка. Видишь, как болван выставился!
Мик, за все время не сказавший ни слова, Улик и капитан перешли на другую сторону, и Улик подал сигнал. Он считал медленно, и у меня вполне достало времени навести пистолет. Я заметил, что лицо Квина покрылось бледностью и что он дрожит, слушая команду. На счете «три» оба пистолета выстрелили. Что-то прожужжало мимо моего уха, и я увидел, как мой противник со страшным стоном зашатался и рухнул наземь.
– Упал, упал! – вскричали оба секунданта, бросившись к нему.
Улик поднял его с земли, Мик сзади поддерживал голову.
– Ранен в шею! – констатировал Мик.
Расстегнув воротник мундира, он обнаружил то место пониже адамова яблока, куда я целился и откуда теперь, булькая, вытекала кровь.
– Что с вами? – допытывался Улик. – Неужто в самом деле ранен? – растерянно пробормотал он, словно глазам своим не веря.
Несчастный не откликался, но чуть Улик отвел руку, как он опять с глухим стоном повалился навзничь.
– Недурное начало для такого малыша! – проворчал Мик, грозно на меня пялясь. – Тебе бы лучше убраться, юный сэр, пока не всполошилась полиция. Когда мы уезжали из Килвангена, там уже что-то пронюхали.
– Он в самом деле умер? – спросил я.
– Можешь не сомневаться, – ответил Мик.
– Что ж, одним трусом на свете меньше, – сказал капитан Фэган, презрительно пиная сапогом простертое на земле грузное тело. – Его песенка спета, Редди, он не шевелится.
– Кто бы он ни был, мы не трусы, Фэган! – резко отозвался Улик. – Давайте спровадим мальчишку как можно скорее. Пошлите вестового за телегой, надо увезти труп несчастного джентльмена. Для нашего семейства, Редмонд Барри, это поистине черный день: ты отнял у нас тысячу пятьсот годовых.
– Спрашивайте их не с меня, а с Норы! – отрезал я. И, достав из жилетного кармана ленту – ее подарок, – а также письмо, я и то и другое швырнул на труп капитана Квина. – Вот! – сказал я. – Отдайте ей эту ленту. Она поймет. Это все, что осталось ей от двоих возлюбленных, которых она сгубила.
Несмотря на мою молодость, бездыханное тело врага не внушало мне ни ужаса, ни отвращения. Ведь я знал, что сразил его в честном бою, как и подобает человеку моего имени и происхождения.
– А теперь, ради бога, уберите мальчишку! – взмолился Мик.
Улик вызвался меня проводить, и мы понеслись во весь опор, ни разу не дав коням повода, пока не доскакали до нашего порога. Как только мы спешились, Улик приказал Тиму хорошенько покормить мою кобылу, так как мне еще предстоит дальний путь, – а уже в следующее мгновенье матушка сжимала меня в своих объятиях.
Надо ли описывать, с какой гордостью и ликованием слушала она рассказ Улика о том, как мужественно я вел себя на поединке. Однако Улик настаивал, что мне следует на время скрыться. Было решено, что я на ближайшее будущее откажусь от имени Барри и, назвавшись Редмондом, отправлюсь в Дублин, чтобы там переждать, пока все это не порастет быльем. Матушка долго противилась этому решению. Почему в Барривилле я в меньшей безопасности, чем мои кузены – да тот же Улик – в замке Брейди? Ведь ни один судебный пристав, ни один кредитор к ним и близко не подступится! Но с таким же успехом могу и я отсидеться от констеблей в нашем Барривилле! Однако Улик настаивал на моем немедленном отъезде; я поддерживал его, сознаюсь, главным образом потому, что мне не терпелось увидеть свет; в конце концов матушка вынуждена была признать, что в нашем домишке, стоящем в самом центре деревни и охраняемом всего лишь двумя слугами, укрыться невозможно, и добрая душа уступила настояниям моего кузена, после того как он уверил ее, что дело это можно будет скоро замять и я вновь к ней вернусь. Увы! Он понятия не имел, какие каверзы готовит мне судьба!
Чуяло, видно, материнское сердце, что нам предстоит долгая разлука; матушка рассказала мне, что всю эту ночь гадала по картам, чем грозит мне дуэль, и все предвещало близкую разлуку. И вот, достав из секретера заветный чулок, добрая душа сунула в мой кошель двадцать гиней (у нее всего-то их было двадцать пять) и собрала мне дорожную сумку, которая прикреплялась сзади к седлу. Туда она сложила мое платье, белье и батюшкин серебряный несессер. Она также велела мне оставить у себя шпагу и пистолеты, которыми я сумел распорядиться как мужчина. Теперь уж она торопила меня с отъездом (хотя сердце ее, я знаю, разрывалось от горя), и чуть ли не через полчаса после возвращения домой я снова тронулся в путь, и передо мною и в самом деле открылся широкий мир. Стоит ли описывать, как Тим и преданная кухарка рыдали, провожая меня в дорогу, – боюсь, что и у меня навернулись слезы; но какой же юноша в шестнадцать лет станет долго горевать, вырвавшись впервые на свободу и зная, что в кармане у него позвякивают двадцать гиней; так и я ускакал, размышляя, признаться, не столько о любезной матушке, которую оставлял в полном одиночестве, и не о родном доме, где прошла моя юность, сколько о чудесах, которые мне принесет неведомое завтра.
Глава III. Я неудачно начинаю знакомство с высшим светом
В тот же вечер добрался я до Карлоу и заехал в лучшую гостиницу. На вопрос хозяина этого почтенного заведения, кто я и куда держу путь, я отвечал, следуя наставлениям кузена, что я из уотерфордских Редмондов, а направляюсь в колледж Святой Троицы в Дублине, где намерен пройти курс наук. Увидев по моей наружности, шпаге с серебряным эфесом и плотно набитой сумке, с кем он имеет дело, хозяин сам, без спросу, прислал мне наверх кувшин кларету и, разумеется, потом не обидел себя, составляя счет. В те благословенные дни ни один порядочный джентльмен не ложился в постель без доброй порции такого снотворного, а так как в день своего выхода в свет я решил разыграть бывалого джентльмена, то, уж будьте уверены, блестяще исполнил эту роль. Волнующие события истекшего дня, мой отъезд из дому и поединок с Квином и без того затуманили мне голову, а винные пары довершили дело. Но не думайте, что во сне мерещилась мне смерть капитана Квина, как это наверняка было бы с каким-нибудь слабонервным мозгляком! Нет, я не таков! Никогда после доброй драки не знал я дурацких угрызений совести, но прежде всего принимал в соображение, что, раз человек в отважном бою рискует головой, он должен быть последним дураком, чтобы стыдиться своей победы. Итак, в Карлоу я спал сном праведника; встав поутру, выпил за завтраком порядочную кружку легкого пивца и закусил его тостом, а разменяв свой первый золотой, дабы заплатить по счету, не забыл раздать слугам щедрые чаевые, как оно и полагается истинному джентльмену. Так начал я первый день самостоятельной жизни и в таком же духе продолжал и дальше. Ни один человек не попадал в такие переделки, как я, ни один не испытал таких трудностей и тяжких лишений; но всякий вам скажет, что, покуда имелся у меня золотой, я тратил его с щедростью лорда.
В будущем своем я нимало не сомневался, уверенный, что человек такой внешности, таких дарований и такой храбрости везде пробьет себе дорогу. К тому же в кармане у меня звенели двадцать гиней – этих денег, по моим расчетам (весьма ошибочным, как оказалось), должно было хватить месяца на четыре, а тем временем судьба уж позаботится о моем благосостоянии.
Итак, я продолжал свой путь, напевая про себя или беседуя со случайными прохожими, и встречные девушки, завидев меня, ахали от восторга – что за душка джентльмен! Что до Норы из замка Брейди, все это отодвинулось куда-то вдаль, точно между вчера и позавчера пролегло по меньшей мере десятилетие. Я поклялся, что, только достигнув величия, вернусь в родные края, и, как вы увидите из дальнейшего, сдержал слово.
В ту пору на королевской проезжей дороге царило большее оживление и сутолока, чем наблюдается сейчас, во времена почтовых карет, которые за несколько часов доставляют вас из одного конца королевства в другой. Дворяне путешествовали на собственных конях или в собственных экипажах и проводили по три дня в дороге, на которую вы сейчас истратите не больше десяти часов. Таким образом, у путника, направляющегося в Дублин, не было недостатка в приятном обществе. Часть дороги из Карлоу в Наас я проделал в обществе джентльмена в зеленом с позументом кафтане и с нашлепкой на глазу, ехавшего из Килвангена на кряжистой кобыле. Мой попутчик задал мне обычные вопросы: куда я еду и как мамаша не побоялась отпустить свое дитятко без призора – ведь на дорогах, слышно, пошаливают; на что я ответил, выхватив из кобуры пистолет, что у меня с собой надежное оружие, оно уже сослужило мне верную службу и при случае опять меня выручит; но тут к нам подъехал какой-то конопатый малый, и, пришпорив гнедую кобылу, мой попутчик пустился вскачь. Догонять его я не стал, моя лошадь была слабее, и я щадил ее, мне хотелось еще этим вечером добраться до Дублина, и по возможности в пристойном виде.
Подъезжая к Килкуллену, я увидел толпу поселян, окруживших одноконный портшез, а в полумиле от нее улепетывал, взбираясь на косогор, как будто мой давешний приятель в зеленом кафтане. Рядом с портшезом выездной лакей, надсаживаясь, орал: «Держи вора!» Но никто не трогался с места: стоявшее кругом мужичье только смеялось его испугу и наперебой подшучивало над забавным дорожным приключением.
– Что же ты не шугнул его своей хлопушкой? – говорил один.
– Эх ты, трус! – корил его другой. – Сплоховал перед капитаном! Даром что он одноглазый!
– Вперед, как твоя барыня соберется куда ехать, пусть лучше тебя дома оставит, – советовал третий.
– Эй, любезные, что здесь за шум? – поинтересовался я, въезжая в толпу, но, увидев, что дама, сидящая в портшезе, смертельно бледна и напугана, хорошенько щелкнул плетью, заставив грубиянов отойти подальше.
– Что случилось, сударыня, отчего вы в таком расстройстве? – спросил я, сорвав с головы шляпу и осадив свою кобылу у самого окошка портшеза.
Дама сообщила мне, что она жена капитана Фицсаймонса и направляется в Дублин к мужу. На ее портшез напал грабитель, и хоть этот дубина, ее слуга, вооружен до зубов, он сразу же запросил пардону. Когда грабитель их остановил, в поле рядом работало человек тридцать поселян, но ни один не бросился на помощь – мало того, эти изверги называли его «капитаном» и желали ему удачи.
– Что ж, это свой брат бедняк, – сказал один из крестьян, – мы и желаем ему удачи.
– Наше дело сторона, – сказал другой.
А третий сообщил нам, ухмыляясь, что это небезызвестный капитан Френи. Два дня назад он в Килкенни откупился от суда, тут же у ворот тюрьмы сел на свою лошадь и уже на другой день ограбил двух чиновников, объезжавших округу с избирательными списками.
Я приказал этим канальям вернуться к своей работе, если они не хотят познакомиться с плетью, и принялся, как только мог, утешать миссис Фицсаймонс в постигшем ее несчастье. «Много ли она потеряла?» «Все решительно! Злодей взял у нее кошелек, где лежало больше сотни гиней, а также все ее драгоценности – табакерки, часы и две алмазные пряжки от башмаков капитана, ее мужа». Я от души посочувствовал ей и, заключив по выговору, что передо мной англичанка, посетовал на огромное различие между обеими странами, заметив, что у нас дома (имея в виду Англию) такие ужасы просто невозможны.
– Как, стало быть, и вы англичанин? – воскликнула она в крайнем удивлении.
На что я ответил, что да, я англичанин и горжусь этим – я и вправду гордился; и я не встречал ни одного добропорядочного ирландского тори, который не желал бы сказать о себе того же.
Я сопровождал портшез моей новой знакомки до самого Нааса и, поскольку грабитель забрал у нее кошелек, испросил разрешение ссудить ей несколько золотых, чтобы у нее было чем расплатиться в гостинице. Она милостиво взяла деньги и была так добра, что пригласила меня пообедать. На вопросы миссис Фицсаймонс о моем происхождении и моей родине, я сообщил, что я молодой человек со средствами (я говорил неправду, но кто же станет хулить свой товар? Моя добрая матушка обучила меня с младых ногтей этой житейской мудрости), что происхожу я из хорошей семьи в Уотерфордском графстве, а еду в Дублин учиться наукам, на что матушка ассигновала мне пятьсот фунтов в год. Миссис Фицсаймонс также оказалась общительной собеседницей. Она дочь генерала Грэнби Сомерсета из Вустершира, чье имя мне, конечно, знакомо (оно было мне незнакомо, но у меня хватило учтивости об этом умолчать); замуж она вышла, признаться, против воли отца, ее муж, прапорщик Фицджеральд Фицсаймонс тайно увез ее. Бывал ли я когда-нибудь в Донеголе? Нет? Какая жалость! У капитанова отца там сотни тысяч акров земли, а такого замка, как Фицсаймонсбург, не найдешь во всей Ирландии. Капитан Фицсаймонс – старший сын и, хоть он и в ссоре с отцом, со временем унаследует огромное состояние. Она без конца описывала дублинские балы, банкеты в Замке, скачки в Феникс-парке, а также светские собрания и рауты – немудрено, что я развесил уши и только и думал, как бы и мне приобщиться к этой веселой жизни; но с грустью говорил себе, что мои щекотливые обстоятельства требуют особой осторожности и возбраняют мне представляться ко двору, коего чета Фицсаймонс была лучшим украшением. Я невольно восхищался этими непринужденными излияниями, сравнивая их с глупейшей трескотней вульгарных захолустных кокеток в килвангенских собраниях. Моя спутница чуть ли не на каждом шагу поминала какого-нибудь лорда или другую благородную особу и, видимо, свободно говорила по-французски и итальянски – я не преминул ввернуть, что немного изъясняюсь по-французски. Что до ее английского произношения, тут я, по правде сказать, был плохим судьей, ведь это была первая настоящая англичанка, какую мне довелось встретить. Она посоветовала мне остерегаться случайных знакомств в Дублине, где, по ее словам, было до пропасти жуликов и проходимцев, понаехавших из разных стран; когда мы познакомились покороче (а это произошло за десертом), она даже, к великой моей радости и благодарности, предложила мне поселиться у них на квартире, где Фицсаймонс, по ее словам, примет ее храброго юного спасителя с распростертыми объятиями.
– Полноте, мадам, – пытался я ей возразить. – Что же я, собственно, спас? – И это была чистейшая правда: я появился слишком поздно и не мог помешать грабителю распорядиться ее деньгами и жемчугами.
– А ведь сказать по чести, не так уж он много и взял, – вмешался ее обормот-слуга, который давеча испугался грабителя, а теперь исправно прислуживал нам за столом. – Разве он не вернул вам тринадцать пенсов медью, да и часы – сказал, что они томпаковые?
В ответ госпожа назвала его дерзким мошенником и приказала сию же минуту убираться вон. Когда же он повиновался, объяснила мне: этому дуралею, мол, и невдомек, что такое ассигнация в сто фунтов, которую Френи отнял у нее вместе с кошельком.
Будь я побогаче житейским опытом, я, пожалуй, догадался бы, что мадам Фицсаймонс отнюдь не дама из общества, за каковую она себя выдает; желторотый новичок, я верил каждому ее слову и, когда хозяин явился со счетом, уплатил за обед с видом лорда. Она, кстати, и не вспомнила о двух золотых, которые я ей одолжил. Итак, мы не спеша проследовали дальше в Дублин, куда и прибыли с наступлением ночи. Грохот нарядных экипажей, сияние факельных огней, великолепие тесно стоящих зданий ошеломили меня, хоть я и старался этого не показать, памятуя уроки милой матушки, учившей меня, что светский человек не должен ничему удивляться, будь то дом, экипаж или элегантное общество, дабы показать, что он и не то еще видал у себя дома.
Мы остановились у неприглядного строения и вступили в прихожую, которая не могла сравниться опрятностью с нашими сенями в Барривилле и где густо носились запахи ужина и пунша. Багровый с лица толстяк, без парика, в изрядно заношенной ночной рубахе выбежал к нам из гостиной и обнял супругу (ибо это был сам капитан Фицсаймонс) с величайшей нежностью. Увидев же, что она явилась в сопровождении молодого человека, он обнял ее с еще большим жаром. Представляя меня супругу, миссис Фицсаймонс опять назвала меня своим спасителем и так расхвалила мое мужество, как будто я по меньшей мере прикончил Френи, а не поспел к шапочному разбору. Капитан сообщил мне, что прекрасно знает уотерфордских Редмондов. Услышав это, я малость струхнул, так как понятия не имел, что это за семья. Однако не растерялся и тут же огорошил его вопросом, каких, собственно, Редмондов он имеет в виду, ибо мне лично ни разу не довелось слышать от домашних его имя. На что он ответил, что знает Редмондов из Редмондстауна. Тогда мне все понятно, успокоился я. Дело в том, что я происхожу от Редмондов из замка Редмонд. Таким образом, я успешно сбил его со следа. Затем я сдал свою кобылу на ближайшую конюшню вместе с портшезом и лошадью капитана, после чего вернулся к моему гостеприимному хозяину.
Хотя на столе стояла разбитая тарелка с остатками бараньих отбивных и жареным луком, капитан сказал супруге:
– Душа моя, как жаль, я не ждал тебя сегодня, и мы с Бобом Мориерти только что прикончили изумительный олений паштет, лорд-наместник прислал мне его вместе с бутылкой шампанского из собственных погребов. Тебе, конечно, знакомо его шампанское, дорогая? Но что было, то сплыло, не стоит горевать! А что бы ты сказала, голубка, насчет порядочного омара и бутылки кларета, самого лучшего, какой найдется в Ирландии? Ну-ка, Бетти, уберите со стола, мы как следует угостим вашу госпожу и нашего юного друга.
За отсутствием разменных денег мистер Фицсаймонс вознамерился занять у меня десять пенсов на покупку означенного блюда омаров, но тут его супруга, выложив одну из моих гиней, приказала служанке разменять ее и закупить все необходимое для ужина, что та и сделала, однако сдачи принесла самую малость, заявив, что остальное рыботорговец удержал в счет старого долга.
– Экая дурища, прости господи! – заорал на нее мистер Фицсаймонс. – Ведь придет же в голову – сует торговцу золотой!
Я уж и не припомню, сколько сотен фунтов мистер Фицсаймонс, по его словам, за последний год переплатил этому мошеннику.
Наш ужин был сдобрен не так изысканными манерами, как обильными рассказами о высоких особах, с коими капитан был на короткой дружеской ноге. Я тоже не остался в долгу и с уверенностью владетельного герцога поведал гостеприимной чете о моих имениях и прочем состоянии. Я изложил все анекдоты из жизни высшего общества, известные мне по рассказам матушки, присочинив немало от себя. Уже то, что мой хозяин не уличил меня во множестве ошибок и противоречий, должно было сказать мне, что он такой же обманщик, как и я. Но такова чистосердечная юность. Прошло немало времени, прежде чем я разобрался, что в лице капитана Фицсаймонса и его супруги я обрел не слишком лестное знакомство, – напротив, укладываясь спать, я поздравлял себя с великой удачей – в самом начале моих приключений встретиться с такой достойной четой!
Правда, отведенная мне комната ясно говорила, что наследник замка Фицсаймонсбург все еще в немилости у своих богатых родичей, и окажись на моем месте юноша-англичанин, он бы сразу заподозрил неладное. Как читателю известно, люди у нас, в Ирландии, более терпимы к беспорядку, чем жители этой педантичной страны, вот почему запущенность моей спальни не слишком меня поразила. Ибо разве в замке Брейди, в великолепных апартаментах моего дядюшки, имелось хотя бы одно стекло, не заткнутое тряпьем? И разве хотя бы одна дверь там запиралась? Где не хватало замка, где щеколды или засова, а где утерян был ключ. И пусть моя новая спальня могла похвалиться всеми этими неудобствами, да и многими другими в придачу; пусть покрывалом на моей постели служило засаленное парчовое платье самой хозяйки, а туалетное зеркало было расколото пополам и не превышало размерами полукроны, это меня ничуть не смущало. Я привык к таким порядкам в ирландских домах и по-прежнему воображал себя в гостях у людей светских. Ящики комода не запирались, когда же мне удалось их открыть, они оказались доверху забиты личными вещами моей хозяйки, такими как банки с румянами, стоптанные башмаки, корсеты и всевозможные женские тряпки, вследствие чего я не стал разбирать свою сумку и только водрузил на рваную скатерть комода батюшкин серебряный несессер, где он и засверкал на диво.
Утром ко мне явился Сулливан и на мой вопрос, как там моя лошадь, доложил, что она в полном порядке. Тогда я громко и решительно распорядился насчет горячей воды для бритья.
– Это вам-то горячей воды для бритья? – переспросил он, разражаясь смехом (и, признаться, не без оснований). – Уж не вы ли затеяли бриться? А может, принести вам заодно и кошку, как раз ее и побреете?
В ответ на такую наглость я запустил сапогом в голову болвана и вскоре уже сидел с моими друзьями за завтраком в гостиной. Здесь меня ждали сердечный прием и вчерашняя скатерть: я узнал ее по жирному пятну от блюда с тушеной бараниной и по отпечатку от кувшина с портером, который накануне подавали нам за ужином.
Хозяин дома встретил меня весьма сердечно, а миссис Фицсаймонс уверяла, что такому франту не стыдно показаться и в Феникс-парке; и действительно, могу сказать, не хвалясь, в Дублине той поры немало молодых людей глядело рядом со мной совершенными замухрышками. Правда, не было еще у меня той мужественной осанки и атлетического сложения, коими я гордился впоследствии (кто бы сказал это, глядя на мои искривленные подагрой ноги и узловатые пальцы, – впрочем, такова наша общая судьба!); но я уже тогда достиг своего нынешнего роста в шесть футов, а мои изящно убранные под пряжку волосы, рубашка с жабо из тончайших кружев и такими же манжетами и красный плисовый жилет придавали мне вид настоящего джентльмена, каким я и был по рождению. Слов нет, мой светло-коричневый кафтан с пуговицами накладного серебра тянул в плечах, и я обрадовался предложению капитана Фицсаймонса заказать у его портного новый, более отвечающий моему росту и сложению.
– Не стану спрашивать, показалась ли вам удобной кровать, – заметил сей джентльмен мимоходом. – Юный Фред Пимплтон (второй сын лорда Пимплтона) спал на ней семь месяцев, пока у меня гостил, а уж если он остался доволен, я думаю, она каждому должна понравиться.
После завтрака отправились мы осматривать город, и мистер Фицсаймонс представлял меня друзьям, коих немало попадалось нам навстречу, как мистера Редмонда из Уотерфордского графства, своего лучшего друга; он также познакомил меня со своим шапочником и портным, отнесясь обо мне как о состоятельном молодом человеке с блестящим будущим; и хоть я предупредил последнего, что я не при деньгах и мне требуется всего один кафтан, да только бы сидел как влитой, он изготовил несколько, и я не решился его огорчить отказом. Капитан, чей гардероб тоже нуждался в освежении, выбрал себе из готового платья щегольской военный мундир и приказал доставить его на дом.
Потом мы воротились к миссис Фицсаймонс и последовали за ее портшезом в Феникс-парк, где в этот день был военный смотр и где вокруг нее все время толпилась золотая молодежь. Она рекомендовала меня каждому как своего вчерашнего спасителя. Да и во всем прочем миссис Фицсаймонс расточала мне такие комплименты, что спустя полчаса меня уже считали отпрыском самой могущественной фамилии в Ирландии, связанным родственными узами со знатнейшими домами страны, кузеном капитана Фицсаймонса и наследником ренты в десять тысяч фунтов. В свою очередь Фицсаймонс заверял всех, что исколесил вдоль и поперек каждый дюйм моих владений. Поскольку это говорилось от чистого сердца, я не стал ему перечить и был даже польщен (таковы заблуждения юности), что мне уделяют столько внимания и принимают меня за важную персону. В то время я не подозревал, что связался с шайкой обманщиков, что капитан Фицсаймонс – откровенный искатель приключений, а его супруга – женщина сомнительной репутации, но таковы опасности, угрожающие юности: пусть же мой печальный пример послужит предостережением для других молодых людей.
Я умышленно не задерживаюсь на описании этой поры моей жизни; события ее малоприятны и представляют интерес разве только для моей злополучной особы, так как люди, среди которых я вращался, были отнюдь не подходящей для меня компанией. Молодому человеку трудно было попасть в худшее общество, нежели то, в каком оказался я. С тех пор мне пришлось побывать в Донеголе, но я так и не видел там знаменитого замка Фицсаймонсбурга, и даже старожилы этих мест никогда о таком не слыхали; равным образом в Хемпширском графстве никто не знавал семейства Грэнби Сомерсета. Милая парочка, в чьи руки я угодил, представляла в то время куда более распространенное явление, нежели сейчас, так как последовавшие вскорости непрерывные войны затруднили покупку офицерских патентов лакеям и всякого рода прихлебателям знати; ибо именно таково было общественное положение, с которого капитан Фицсаймонс начал свое продвижение в свете. Знай я это, я бы скорее умер, чем стал с ним якшаться. Но в ту пору легковерной юности я принимал его рассказы за чистую монету и считал себя счастливчиком оттого, что с первых же шагов в свете попал в такое почтенное семейство. Увы! Все мы лишь игрушки рока! Как вспомню, на каких ничтожных случайностях зиждутся важнейшие события моей жизни, я прихожу к заключению, что был лишь пешкою в руках судьбы, которая сыграла со мной не одну диковинную шутку.
Капитан вышел из лакеев, да и супруга его принадлежала к тому же племени. Общество, где вращалась достойная чета, состояло из весьма разношерстной братии, так как они держали стол для приходящей публики, для всех, кто был готов у них пообедать за достаточно умеренную плату. Закусив, садились, разумеется, за карты, причем игра велась не из чистой любви к искусству. Кто только не бывал здесь: юные гуляки из расквартированных в Дублине частей; молодые чиновники из Замка; любители скачек и ночных пирушек; буяны и скандалисты – гроза ночной стражи; словом, всякого рода праздношатающиеся из числа городских шалопаев, которых особенно много водилось в то время в Дублине – несравненно больше, чем в любом другом европейском городе, куда заносила меня судьба. Я нигде больше не встречал повес, которые жили бы так широко на такие скудные средства. Я нигде больше не встречал молодых джентльменов с таким, я бы сказал, призванием к праздной жизни; если англичанин, имея ежегодный доход в пятьдесят фунтов, живет как бедняк и трудится в поте лица, то молодой ирландский щеголь при таком же капитале держит собственных лошадей, кутит напропалую и откровенно бьет баклуши, что твой лорд. Здесь вы увидите врача, который в жизни не пользовал ни одного больного, и под пару ему адвоката, не имеющего ни одного клиента: у обоих ни гроша за душою, но и тот и другой гарцует по парку на отличнейшей лошади и щеголяет в платье от лучшего портного. Прибавьте к этому весельчака-священника без прихода, нескольких владельцев винных погребков, потребляющих больше вина, чем доводится им продавать или хранить в своих подвалах, и других подобных прожигателей жизни, и вы получите представление о том, какие люди вращались в доме, куда я имел несчастье попасть. Знакомство с подобным обществом не сулило ничего хорошего (я умалчиваю о женщинах, они были в своем роде не лучше мужчин), и я в самом коротком времени узнал это на себе.
Что до моих несчастных двадцати гиней, не прошло и трех дней, как я с ужасом увидел, что они куда-то испарились: осталось только восемь – театры и таверны порядком облегчили мой кошелек. Сколько-то гиней я еще, правда, продул в карты; но, видя, что все вокруг играют на мелок и только обмениваются векселями, я, разумеется, чем платить наличными, предпочел этот удобный способ расчета и неизменно придерживался его при проигрыше.
Так же поступал я с портными, шорниками и прочими поставщиками. Рекомендация мистера Фицсаймонса пришлась мне как нельзя более кстати; приняв на веру его утверждение, будто у меня денег куры не клюют (впоследствии я слышал, что этот негодяй обобрал не одного состоятельного юношу), они некоторое время отпускали мне в долг все, что бы я ни пожелал. Когда кошелек мой истощился, пришлось заложить кое-что из платья, которым снабдил меня портной: не расставаться же, в самом деле, с лошадью – я ежедневно ездил на ней в парк, к тому же она была мне дорога как память о моем почтенном дядюшке. Я также выручил немало денег за безделушки, купленные у ювелира, – он прямо-таки навязал мне свой кредит; все это дало мне возможность еще какое-то время играть роль богатого и независимого шалопая.
Я время от времени спрашивал на почте писем для мистера Редмонда, но таковых не оказывалось, и каждый раз, услышав «нет», вздыхал свободнее. Мне вовсе не хотелось признаваться матушке, какую расточительную жизнь я веду в Дублине. Но долго это не могло продолжаться. Вконец издержавшись, я опять зашел к портному дать ему новый заказ, но негодяй все что-то мямлил и мялся и наконец самым наглым образом потребовал уплаты по старому счету; на что я ответил, что отныне ноги моей не будет в его мастерской, и в сердцах хлопнул дверью. Ювелир (живодер-еврей) тоже отказался продать мне несчастную золотую цепочку, которая мне приглянулась, и это впервые привело меня в смущенье. А тут еще молодой джентльмен, завсегдатай Фицсаймонсов, коему я выдал долговую расписку на восемнадцать фунтов (проиграв их ему в пикет), сплавил ее содержателю конюшен мистеру Курбину в счет уплаты долга. Представьте же мое негодование, когда этот маклак отказался выпустить из конюшни мою лошадь до тех пор, пока я не очищу свой долг. Напрасно я предлагал ему на выбор четыре векселя, благо они были у меня с собой, один Фицсаймонса – на двадцать фунтов, другой адвоката Мюллигена и так далее; старый йоркширец только качал головой и смеялся, на них глядя, и наконец сказал:
– Послушайте, мастер Редмонд, вы, кажется, молодой человек из почтенной, состоятельной семьи, дозвольте же шепнуть вам на ушко, что вы попали в дурное общество, проще сказать, в шайку жуликов. Молодому джентльмену вашего звания негоже якшаться с этой бандой. Возвращайтесь лучше восвояси! Соберите свои вещички, расплатитесь со мной, садитесь на свою лошадь да и поезжайте домой к вашим родителям – это самый лучший для вас выход.
Нечего сказать, в хорошенькую компанию я угодил! Да это же форменный разбойничий вертеп! А тут еще все несчастья, казалось, сговорились обрушиться на меня сразу; ибо, воротившись домой и поднявшись наверх в крайнем унынии, я увидел перед собой капитана и его супругу: оба они стояли перед моей порожней сумкой, все мои пожитки валялись на полу, и этот гадина Фицсаймонс размахивал моими ключами.
– Кого я приютил в своем доме? – заорал он, увидев меня на пороге. – Кто же ты таков, бродяга?
– Бродяга? Ошибаетесь, сэр! – отвечал я, не теряясь. – Я дворянин – порядочнее и честнее не найдется во всей Ирландии!
– Вы подлый обманщик, молодой человек! Вы мошенник и плут! – орал капитан.
– Повторите еще раз, и я проткну вас этой шпагой, – пригрозил я.
– Видали мы таких! Я фехтую не хуже вашего, мистер Редмонд Барри! Ага, вы бледнеете! Как видите, ваш обман раскрыт! Вы змеей вкрались в лоно невинного семейства; вы назвались наследником моих друзей – Редмондов из замка Редмонд; я ввел вас в избранное аристократическое общество этой метрополии, – (капитан выбирал по возможности звучные многосложные слова), – я поручился за вас перед моими поставщиками, они открыли вам кредит, и что же? Вы отнесли в заклад те самые товары, которыми они вас снабдили!
– Я выдал им долговые обязательства, сэр! – возразил я с достоинством.
– Да, но от чьего имени, несчастный вы мальчик, – от чьего имени? – взвизгнула миссис Фицсаймонс.
И только тут я спохватился, что подписывал векселя именем Барри Редмонд вместо Редмонда Барри. Но как мог я поступить иначе? Ведь это матушка потребовала, чтобы я так назвался.
Разразившись неистовой тирадой – о том, как он узнал мое имя по меткам на белье, и как я обманул его надежды и доверие, и как он заранее сгорает от стыда при мысли о необходимости открыть своим светским друзьям, что он пригрел на груди мошенника, – мистер Фицсаймонс подобрал с полу мое белье, платье, серебряные туалетные принадлежности и все прочие пожитки, заявив, что сию же минуту пошлет за полицией и отдаст меня в руки правосудия.
Во время первой половины его речи покаянные мысли о моей опрометчивости и о трудном положении, в какое я себя поставил, так смутили и ошеломили меня, что я не отвечал на его оскорбления и стоял как оглушенный, не раскрывая рта. Однако сознание опасности заставило меня очнуться.
– Послушайте, вы, мистер Фицсаймонс! – ответил я ему. – Так и быть: я открою вам, что принудило меня назваться другим именем – ибо меня и в самом деле зовут Барри, и более славного имени не найдется во всей Ирландии. Я оставил его, сэр, потому, что за день до приезда в Дублин убил человека в смертном поединке – англичанина, сэр, капитана на службе его величества, – и, если вы посмеете меня задержать, та же рука, что сразила его, покарает вас! Клянусь Небом, вам или мне не выйти отсюда живым!
Сказав это, я с быстротой молнии выхватил из ножен шпагу, воскликнул «ха-ха!», притопнул ногой и сделал выпад, коснувшись острием его груди против самого сердца. Капитан побледнел и отпрянул в страхе, меж тем как жена его бросилась нас разнимать.
– Милый Редмонд, – вскричала она, – успокойтесь! Фицсаймонс, неужто тебе нужна кровь этого младенца? Отпусти его на все четыре стороны, пусть уходит!
– По мне, пускай хоть повесится, – насупившись, проворчал Фицсаймонс, – да только поскорей. Ювелир и портной уже заходили, того гляди опять зайдут; это Моисей-закладчик его выдал, я от него первого слышал.
Из чего я заключил, что мистер Фицсаймонс носил в заклад свой новенький мундир, тот самый, которым он раздобылся у портного, когда последний впервые открыл мне кредит.
К чему же в итоге привела наша беседа? Куда мог теперь обратиться потомок Барри в поисках крова? Мой собственный дом был для меня закрыт вследствие злополучной дуэли. В Дублине я по юношескому легкомыслию навлек на себя судебное преследование. Но у меня не было ни минуты для раздумий и колебаний, как не было и угла, где искать спасения; Фицсаймонс после своей отповеди оставил мою комнату, все еще огрызаясь, но уже не питая ко мне злобы. Его жена потребовала, чтобы мы подали друг другу руки, и он обещал ничего не предпринимать против меня. Да и в самом деле, уж этому-то субъекту я ничего не был должен; напротив, за ним оставался карточный долг и у меня в кармане лежала его расписка. Что касается миссис Фицсаймонс, то она села на мою кровать и ударилась в слезы. У этой леди имелись свои недостатки, но сердце у нее было предоброе; и хоть все ее достояние составляли три шиллинга четыре пенса медью, бедняжка уговорила меня взять их на дорогу. На дорогу – но куда? Однако решение мое было принято: в городе находилось десятка два отрядов, набиравших солдат в наши доблестные полки, стоявшие в Америке и Германии; я знал, где найти такого вербовщика, – как-то я очутился с ним рядом в Феникс-парке на параде, и словоохотливый сержант указал мне главных лицедеев этого спектакля, за что я потом угостил его кружкой эля.
Я отдал шиллинг Сулливану, дворецкому Фицсаймонсов, и, выбежав на улицу, поспешил в маленькую харчевню, где стоял на квартире мой знакомый; не прошло и десяти минут, как он вручил мне шиллинг его величества. Я рассказал ему, не таясь, что я молодой дворянин, попавший в безвыходное положение, что я убил офицера на дуэли и хочу покинуть эту страну. Но я мог бы обойтись без этих объяснений. Король Георг в ту пору чересчур нуждался в солдатах, чтобы допытываться у каждого что и почему, и человек стольких дюймов росту, по словам сержанта, сгодился бы ему при любых условиях. Вербовщик сказал, что я и время выбрал удачное. В Данлири стоял транспорт в ожидании попутного ветра – и на этом-то транспорте, к которому я в тот же вечер направил свои стопы, ожидал меня величайший сюрприз, а какой – о том речь пойдет в следующей главе.
Глава IV, в которой Барри близко знакомится с военной славой
Я всегда чувствовал влечение к благородному обществу, и описание жизни низменной мне не по вкусу. А посему рассказ мой о среде, куда я теперь попал, будет по необходимости краток; по правде сказать, меня кидает в дрожь от этих воспоминаний. Тьфу, пропасть! Как представлю себе ад кромешный, куда нас, солдат, загнали, и это жалкое отребье, моих товарищей и собратьев – пахарей, браконьеров, карманников, которые бежали сюда, гонимые нуждой или законом (как это было, впрочем, и со мной), – краска стыда еще и сейчас заливает мои увядшие морщинистые щеки – страшно подумать, что мне пришлось унизиться до такого общества. И я, конечно, впал бы в полное отчаяние, если бы не произошли события, отчасти поднявшие мой дух и утешившие меня в моих горестях.
Первое утешение я почерпнул в доброй драке, состоявшейся на второй же день после моего прибытия на судно между мной и рыжеволосым детиной – форменным чудовищем, который попал в армию, ища избавления от жены-мегеры; несмотря на свои мускулы профессионального носильщика портшезов и кулачного бойца, он оказался бессилен с нею справиться. Однако стоило этому детине, – помнится, его звали Тул – бежать из объятий своей благоверной, как к нему вернулась обычная его храбрость и свирепость и он стал грозой для окружающих. В особенности доставалось от него нам – рекрутам.
Как я уже сказал, в кармане у меня гулял ветер, и я уныло сидел на кубрике над своим обедом из ломтика прогорклого бекона и заплесневелых сухарей, когда дошла моя очередь угоститься положенной солдату порцией рома с водой, которая подавалась в неаппетитной жестяной кружке вместимостью в полпинты. Этот кубок так зарос ржавчиной и грязью, что я невольно обратился к дневальному со словами:
– Эй, малый, подай сюда стакан!
Тут все эти подонки так и покатились со смеху, и особенно надсаживался, конечно, мистер Тул.
– Эй, подайте джентльмену полотенце да принесите ему в ушате черепахового супу! – гаркнуло чудовище, сидевшее против меня на палубе или, вернее, примостившееся на корточках. Сказав это, великан схватил мою кружку грога и осушил ее под новый взрыв ликования.
– Если хочешь досадить ему, спроси про его жену-прачку, она его колотит, – шепнул мне на ухо сосед, тоже весьма почтенная личность, бывший факельщик, разочаровавшийся в своей профессии и сменивший ее на военную карьеру.
– Уж не то ли полотенце, что гладила ваша жена, мистер Тул? – спросил я. – Она, говорят, частенько утирала им вам сопли.
– Спроси, почему он вчера к ней не вышел, когда она приехала его навестить? – снова подзадорил меня бывший факельщик.
Я отпустил по адресу Тула еще несколько плоских шуточек, пройдясь насчет мыльной пены, супружеских нежностей и утюгов, чем привел его в полное исступление, и между нами завязалась нешуточная перепалка.
Мы бы, конечно, тут же схватились, когда бы не ухмыляющиеся матросы, поставленные у дверей на случай, как бы кто из нас, пожалев о заключенной сделке, не вздумал удрать. Они разняли нас, угрожая примкнутыми штыками; однако сержант, спускавшийся по трапу и слышавший нашу перебранку, сказал, снизойдя к нашей малости, что, если мы хотим разрешить наш спор, как подобает мужчинам, в кулачном бою, фордек будет очищен и отдан в наше распоряжение. Однако же бокс, о котором говорил англичанин, был еще неизвестен в Ирландии, и мы условились драться на дубинках, каковым оружием я и расправился со своим противником ровно в пять минут, огрев его по глупой башке так, что он без признаков жизни растянулся на палубе, тогда как сам я отделался сравнительно легко.
Эта победа над бойцовым петухом с навозной кучи снискала мне уважение подонков, к числу которых принадлежал и я, и несколько подняла мое упавшее настроение; а тут дела мои еще поправились с прибытием на борт моего старого друга. Это был не кто иной, как мой секундант в роковой дуэли, по милости которой я оказался преждевременно выброшен в широкий мир, – капитан Фэган. Некий юный вельможа, командовавший в нашем полку ротой, решил сменить опасности суровой компании на приятности Мэлл и клубов и предложил Фэгану с ним поменяться, на что последний, чьей единственной опорой в жизни была его сабля, охотно согласился. Сержант проводил с нами учение на палубе (на потеху матросам и офицерам корабля, наблюдавшим нас со стороны), когда катер доставил с берега нашего капитана. И хотя я вздрогнул и залился краской, нечаянно встретясь с ним глазами, – шутка ли, я, наследник дома Барри, в таком унизительном положении! – клянусь, я чрезвычайно обрадовался, увидев родное лицо Фэгана, обещавшее мне поддержку и дружбу. До этого я пребывал в таком унынии, что непременно удрал бы с корабля, если бы представилась малейшая возможность и если бы нас не сторожили неусыпно, чтобы помешать таким попыткам. Фэган украдкой дал мне понять, что узнал меня, но остерегся выдать окружающим наше давнишнее знакомство; и только на третьи сутки, когда мы простились с Ирландией и вышли в открытое море, он позвал меня к себе в каюту и, сердечно со мной поздоровавшись, сообщил долгожданные новости о моих родных.
– Слышал я о твоих дублинских похождениях, – сказал он. – Ты начинаешь рано, совсем как твой отец, но, в общем, ты с честью вышел из трудного положения. Почему же ты не ответил твоей бедной матушке? Она без конца писала тебе в Дублин.
Я сказал, что не раз заходил на почту, но там не было писем на имя мистера Редмонда. Мне не хотелось говорить, что после первой недели в Дублине я совестился писать домой.
– Давай пошлем письмо с лоцманом, – предложил Фэган, – ему через два часа возвращаться на берег. Напиши, что ты жив-здоров и женат на блондинке Бесс[24]. – (Когда он заговорил о женитьбе, я не удержался от вздоха.) – Вижу, вижу, ты все еще думаешь о некоей леди из Брейдитауна, – продолжал он, смеясь.
– Здорова ли мисс Брейди? – осведомился я.
Сознаюсь, мне стоило труда выговорить это имя. Я действительно все еще думал о Норе. Если я и забыл ее среди дублинских развлечений, то несчастье, как я заметил, располагает человека к чувствительности.
– На свете осталось только семь барышень Брейди, – сказал Фэган с оттенком торжественности в голосе. – Бедная Нора…
– Господи боже! Что с нею? – Я подумал, уж не горе ли ее убило?
– Ее крайне огорчил твой отъезд, и она в замужестве искала утешения. Теперь она миссис Джон Квин.
– Как – миссис Джон Квин? Значит, есть еще и другой Джон Квин? – спросил я, остолбенев.
– Нет, все тот же, мой мальчик. Он исцелился от своей раны. Пуля, которой ты его сразил, не причинила ему большого вреда. Она была из пакли. Неужто семейство Брейди позволило бы тебе вытащить у них из кармана полторы тысячи годовых? – И Фэган поведал, что, желая убрать меня с дороги, так как трус-англичанин ни за что бы не женился из страха предо мной, семейство Брейди придумало этот фортель с дуэлью. – Но ты и вправду попал в него, Редмонд, этаким основательным патроном из пакли; поверишь ли, болван так перепугался, что целый час лежал замертво. Мы уж потом рассказали все твоей матушке; ну и взбучку она задала нам! Она с десяток писем отправила тебе в Дублин, но, видимо, на твое настоящее имя, а тебе и в голову не пришло им назваться.
– Подлый трус! – воскликнул я (хотя, не скрою, почувствовал большое облегчение при мысли, что я не убил Квина). – Неужто Брейди из замка Брейди согласились принять такого подлеца в одну из самых старых и почтенных фамилий, какие только есть на свете?
– Он выплатил долг твоего дяди по закладной, – отвечал Фэган, – и завел Норе карету шестериком, а теперь продает свой патент, и лейтенант ополчения Улик Брейди метит на его роту. В общем, семейство твоего дядюшки сумело взять к ногтю этого труса. Обработали на славу. – И, смеясь, он рассказал мне, как это было сделано. Квин собрался было сбежать в Англию, но Мик и Улик глаз с него не спускали, пока честь честью не сыграли свадьбу и счастливая парочка не укатила в Дублин. – Кстати, как у тебя с деньгами, малыш? – спросил добродушный капитан. – Можешь смело брать у меня. Я тоже выудил у мистера Квина несколько сотен на свою долю, и, пока они не кончились, нуждаться ты не будешь.
Он усадил меня писать матушке, что я и сделал, покаявшись ей в самых искренних и смиренных выражениях в том, что промотал ее деньги, и пояснив, что я все это время находился в роковом заблуждении, а теперь записался волонтером и еду в Германию. Едва я кончил письмо, как лоцман объявил, что возвращается на берег; и он уплыл на своем катере, забрав с собой вместе с моим посланием прощальные приветы и других тоскующих душ, обращенные к друзьям в старой Ирландии.
Хоть я много лет именовался капитаном Барри и хоть я был в этом качестве известен первым лицам Европы, сейчас уже можно признаться, что у меня было не больше прав на это звание, чем у многих джентльменов, кои им щеголяют, и что из всех воинских знаков отличия мне были присвоены только шерстяные капральские нашивки. Я был произведен в капралы Фэганом во время нашего плавания к устью Эльбы, и производство мое было подтверждено на terra firma[25]. Мне, правда, обещали чин сержанта, а со временем, быть может, и прапорщика, при условии, что я сумею отличиться; но судьбе неугодно было, чтоб я долго оставался английским солдатом, как вы вскоре увидите.
Тем временем наше плавание протекало вполне благополучно. Фэган рассказал о моих приключениях своим собратьям-офицерам, и они меня не обижали, а победа над дюжим носильщиком обеспечила мне уважение товарищей по фордеку. Побуждаемый поощрениями и строгими разносами Фэгана, я выполнял свои обязанности как должно; но при всем моем дружелюбии и снисходительности в обращении с простыми рядовыми на первых порах держался на расстоянии, считая их общество для себя унизительным, и даже заслужил у них кличку Милорд. Сильно подозреваю, что это бывший факельщик, зубоскал и продувная бестия, наградил меня таким прозвищем; впрочем, я ни минуты не сомневался, что меня еще будут так называть – наравне с любым пэром Англии.
Я недостаточно философ и историк, чтобы судить о причинах пресловутой Семилетней войны[26], в которую ввергнута была в ту пору вся Европа. Обстоятельства, ее вызвавшие, казались мне всегда чрезвычайно запутанными, а книги, ей посвященные, написаны столь невразумительно, что я редко чувствовал себя умнее, кончая главу, нежели к ней приступая, а потому я не собираюсь обременять читателя личными соображениями о сем предмете. Единственное, что мне известно, – это что привязанность его величества к своим ганноверским владениям сделала его непопулярным в Английском королевстве[27], в то время как мистер Питт возглавлял антигерманскую партию[28]; и вдруг с приходом Питта на пост министра вся страна приветствовала войну с таким жаром, с каким раньше ее осуждала. Победы при Деттингене и Крефельде были у всех на устах, и «протестантский герой», как величали у нас безбожника Фридриха Прусского, был провозглашен у нас «святым», невдолге после того, как мы в союзе с австрийской императрицей чуть было не объявили ему войну. Неисповедимыми судьбами мы оказались на стороне Фридриха, в то время как императрица австрийская, французы и русские заключили против нас союз; помню, когда вести о битве при Лиссе достигли нашего богоспасаемого уголка в Ирландии, мы сочли это великой победой протестантской веры: жгли потешные огни, разводили костры и отслужили в церкви молебен, а потом из года в год отмечали дни рождения прусского короля; дядюшка в этот день обязательно напивался, как, впрочем, и при всяком удобном поводе. Большинство рядовых, зачисленных вместе со мной, были, конечно, католики (да и вообще английская армия кишит ими, их безотказно поставляет наша страна), и вот католикам и приходилось защищать протестантскую веру вместе с Фридрихом, а он, в свою очередь, бил протестантов-шведов и протестантов-саксонцев, не говоря уже о русских, исповедующих православие, и о католических войсках императора[29] и французского короля[30]. Именно против последних и действовал английский вспомогательный корпус, ибо, как известно, в чем бы ни заключались нелады между англичанином и французом, дело у них быстро доходит до драки.
Мы высадились в Куксгавене. Я и месяца не пробыл в курфюршестве, как превратился в высокого ладного солдата и, будучи от природы склонен к воинским экзерцициям, вскоре так понаторел в солдатской муштре, что разве только старейший сержант в полку мог со мной сравниться. Однако мечтать о военной славе хорошо, отдыхая у себя дома в покойных креслах или будучи офицером в нарядном мундире, джентльменом среди джентльменов, с надеждами на производство. Бедные же парни с шерстяными нашивками не знали этих окрыляющих надежд. Когда мимо проходил офицер, я до слез стыдился своего грубого красного кафтана; сердце у меня щемило, когда во время обхода я слышал веселые голоса, доносившиеся из офицерского буфета; гордость моя страдала оттого, что вместо помады и пудры, приличествующих джентльмену, мы вынуждены были склеивать волосы свечным салом и мукой. Да, я всегда тянулся к возвышенному и изящному, и то ужасное общество, куда я попал, внушало мне отвращение. Мог ли я рассчитывать на повышение в чине? Ведь у меня не было богатых родственников, которые купили бы мне патент. Вскоре я так пал духом, что мечтал о решительном сражении, призывал спасительную пулю и только дожидался удобного случая дезертировать.
Подумать только, что мне, потомку ирландских королей, какой-то негодяй-мальчишка, едва со школьной скамьи в Итоне, грозил палочным караулом, и он же звал меня в лакеи, а я ни в тот, ни в другой раз не убил его! В первом случае (не стыжусь в том признаться) я разразился слезами и самым серьезным образом подумывал о самоубийстве – так нестерпимо было мне подобное унижение. Хорошо еще, что мой добрый друг Фэган вовремя меня утешил, поделившись со мной следующими соображениями.
– Не принимай этого близко к сердцу, бедный мой мальчик! – сказал он. – Палочные удары не такой уж позор. Все зависит от точки зрения. Прапорщика Фэйкенхема всего лишь месяц назад самого пороли в Итоне. Держу пари, что спина у него еще и сейчас свербит. Выше голову, мой мальчик! Неси честно службу, будь джентльменом, и ничего худого с тобой не случится.
Потом уже я узнал, что мой заступник учинил мистеру Фэйкенхему разнос, предупредив, что, если такое повторится, он, Фэган, сочтет это за личное оскорбление, после чего тот на время унялся. С сержантами я сам поладил, пригрозив, что, если кто меня ударит, я убью его на месте, я не посмотрю ни кто он таков, ни какое мне за это будет наказание. И было в моих словах нечто столь убедительное, что вся свора приняла их во внимание, и, пока я находился на английской службе, ни одна трость не коснулась моей спины. Я и в самом деле был в таком бешеном, мрачном состоянии духа, что, клянусь, только и мечтал услышать, как над моим гробом играют траурный марш. С производством в капралы положение мое кое в чем улучшилось: в виде особой милости мне было позволено столоваться с сержантами. Я угощал этих каналий вином и проигрывал им деньги, которыми бесперечь снабжал меня мой добрый друг.
Наш полк, расквартированный под Штаде и Лунебургом, получил приказ срочно двигаться на юг, к Рейну; ибо поступили сообщения, что при Бергене, близ Франкфурта-на-Майне, наш фельдмаршал князь Фердинанд Брауншвейгский потерпел поражение – или, вернее, встретил отпор – в своей атаке на французов под командою герцога Бролио и вынужден был отойти на новые позиции. Но едва союзники отступили, французы двинулись вперед в неудержимом марше, угрожая занять Ганноверское курфюршество нашего всемилостивейшего монарха, как это уже было однажды, когда д’Эстре побил героя Куллоденского, доблестного герцога Камберлендского, и принудил его подписать капитуляцию в Зевенском монастыре. Наступление на Ганновер каждый раз вселяло смятение в царственную грудь английского короля: мы получили свежие подкрепления, нам и нашему союзнику, прусскому королю, были присланы конвойные суда с казной; и если, невзирая на такую подмогу, армия под началом князя Фердинанда была все же значительно слабее, нежели силы вторгнувшегося неприятеля, зато мы могли похвалиться лучшим снабжением, а также величайшим в мире полководцем – я мог бы прибавить сюда также испытанную британскую храбрость, но чем меньше мы об этом скажем, тем лучше! К сожалению, милорду Джорджу Сэквиллю не удалось увенчать себя лаврами под Минденом; в противном случае там была бы одержана одна из величайших побед нашего времени.
Выйдя наперерез французам в их продвижении вглубь курфюршества, князь Фердинанд мудро взял в полон вольный город Бремен, сделал его своим цейхгаузом и арсеналом и стал собирать вокруг него войска, готовясь дать знаменитое Минденское сражение.
Когда бы эти записки не придерживались правды, когда бы я отважился сказать здесь хоть слово, на которое не давали бы мне право мои личные наблюдения, я, уж верно, изобразил бы себя героем какого-нибудь чудесного увлекательного приключения и по примеру наших романистов представил бы читателю великих людей того замечательного времени. Эти борзописцы (я имею в виду сочинителей романов), избрав героем какого-нибудь барабанщика или мусорщика, непременно сведут его с могущественными лордами или другими выдающимися личностями страны; ручаюсь, что ни один из них, описывая битву при Миндене[31], не упустил бы случая вывести на сцену князя Фердинанда, милорда Джорджа Сэквилла и милорда Грэнби. Мне ничего не стоило бы сказать, будто я присутствовал при том, как лорд Джордж получил предписание двинуть в бой кавалерию и разбить наголову французов и как он отказался выполнить этот приказ и таким образом упустил величайшую победу. Дело в том, что я находился в двух милях от кавалерии, когда на лорда нашли роковые сомнения, и никто из нас, солдат, не знал, что случилось, пока мы не разговорились о событиях этого дня, собравшись вечером за котлами, чтобы отдохнуть от кровопролитных трудов. В этот день я не видел никого рангом выше нашего полковника или нескольких полковых адъютантов, промчавшихся мимо меня в пороховом дыму, – вернее, никого из наших. Ничтожный капрал (каковым я был тогда, к великому моему стыду) обычно не приглашается в общество командиров и великих мира сего; зато, уж будьте покойны, я побывал в отличном обществе, если говорить о французах, так как их полки – Лотарингский и Королевских кроатов – атаковали нас в течение всего дня; а на такие смешанные сборища доступ открыт равно знатным и незнатным. Хоть я и не люблю хвалиться, однако должен упомянуть, что я весьма коротко познакомился с полковником кроатов, ибо проколол его насквозь штыком, а также уложил беднягу-прапорщика – он был так молод, так мал и тщедушен, что, кажется, случись мне задеть его косичкой, я из него и то бы вышиб дух. Кроме того, я убил еще четырех офицеров и нижних чинов, а в кармане бедняги-прапорщика обнаружил кошелек с четырнадцатью луидорами и серебряную коробочку с леденцами: первый подарок пришелся мне особенно кстати. Сдается мне, если бы люди так попросту рассказывали о битвах, в коих они участвовали, истина только выиграла бы. Все, что мне известно о знаменитом Минденском сражении (не считая книг), сводится к вышесказанному. Серебряная бонбоньерка прапорщика и его кошелек с золотом; восковое лицо бедного малого, когда он упал навзничь; крики «ура» моих товарищей, когда я под сильным огнем подполз к нему, чтобы обшарить его карманы; их вопли и проклятия, когда мы схватились врукопашную с французами, – все это поистине не слишком возвышенные воспоминания, и лучше на них не задерживаться. Когда мой добрый друг Фэган упал, сраженный пулей, другой капитан, его собрат и близкий приятель, повернувшись к лейтенанту Росону, немногословно сказал; «Фэган вышел из строя; Росон, переймите вы командование ротой!» Вот и вся эпитафия, которой удостоился мой храбрый покровитель. «Я оставил бы тебе сотню гиней, Редмонд, – были его последние слова, – но вчера мне чертовски не повезло в фараон». И он слабо сжал мне руку; но тут раздался приказ «Вперед!» – и мне пришлось его покинуть. Когда же мы вскоре вернулись на это место, он все еще был там, но дыхание жизни оставило его. Кто-то из наших успел сорвать с него эполеты и, конечно, побывал в его кошельке. Вот в каких негодяев и головорезов превращает людей война! Хорошо вам, джентльмены, рассуждать о рыцарских временах! А вы вспомните лучше, какое голодное зверье вы за собой ведете – людей, взращенных в нищете, скотски невежественных, людей, наученных гордиться своими кровавыми подвигами, людей, не знающих иных развлечений, кроме пьянства, разврата и грабежа. Вот каковы те ужасные орудия, с помощью которых ваши великие воины и короли совершили свои злодеяния в этом мире. И если мы в наши дни восхищаемся Фридрихом Великим, как его теперь зовут, – его философией, либерализмом, его военным гением, то я, который служил ему и видел как бы из-за кулис это явленное миру феерическое зрелище, не могу вспомнить о нем без ужаса. Сколько преступлений, несчастий, сколько насилий над чужой свободой надо сложить вместе, чтобы получить в сумме этот апофеоз славы! Мне вспоминается день, недели три спустя после Минденского сражения, и крестьянская хижина, куда мы забрели; и как старая крестьянка с дочерьми, дрожа всем телом, угощала нас вином; и как мы перепились; и как запылало жилище гостеприимных хозяек: горе несчастному, который спустя какое-то время вернется в родные края, чтобы разыскать свой дом и свою семью!
Глава V, в которой Барри пытается как можно дальше бежать от военной славы
После смерти моего покровителя, капитана Фэгана, я, как ни грустно сознаться, попал в дурную компанию и предался самым разнузданным порокам. Фэган, сам всего лишь наемный солдат, чувствовал себя одиноко среди офицеров полка; англичане всячески подчеркивали свое презрение к ирландцу – черта, присущая многим их соотечественникам, – высмеивая его произношение и грубые, неотесанные манеры. Одному или двум из них мне как-то случилось нагрубить, и только заступничество Фэгана спасло меня от наказания. Особенно недолюбливал меня мистер Росон, сменивший капитана в командовании ротой; в битве под Минденом выбыл у нас сержант, и, в пику мне, Росон взял на вакантное место не меня, а другого. Столь явная несправедливость еще усилила мое отвращение к службе, и, вместо того чтобы рассеять нерасположение моих начальников и заслужить их милость примерным поведением, я искал облегчения, без разбора набрасываясь на всякие удовольствия и забавы. Находясь в чужой стране, перед лицом неприятеля, среди населения, которое тяжко страдало и от той, и от другой стороны, наши войска, с молчаливого благословения начальства, совершали такие беззакония, каких им никто бы не разрешил в мирное время. Постепенно я опустился до того, что уже не отделял себя от сержантов, был с ними запанибрата и участвовал во всех их дебоширствах. Излюбленным нашим занятием были, стыдно сказать, попойки и карты. Мальчишка, семнадцатилетний недоросль, я, однако, так быстро перенял все их дурные повадки, что вскоре стал у них первым заводилой, даром что были среди них прожженные негодяи, опытные мастера по части всякого беспутства. Если бы мне пришлось задержаться на английской службе, я бы, конечно, не миновал военной тюрьмы, но тут произошел случай, который самым неожиданным образом помог мне расстаться с английской армией.
В год смерти короля Георга II наш полк удостоился великой чести принять участие в Варбургской битве, в коей маркиз Грэнби и его конница полностью смыли позор, навлеченный на нашу кавалерию просчетом лорда Джорджа Сэквилла в Миндене и в коей принц Фердинанд вторично наголову разбил французов. Во время этого сражения мой лейтенант мистер Фэйкенхем из Фэйкенхема – тот самый, который, как вы помните, грозился отправить меня под палки, был ранен пулею в бедро. Молодой лейтенант был не трус и не раз доказал это в многочисленных стычках с французами; но то было его первое ранение, и он страшно испугался. Он предложил пять гиней тому, кто переправит его в город, тут же неподалеку, и я вместе с другим солдатом, положив раненого на плащ, отнесли его в весьма порядочный дом, где его уложили в постель и куда наш молодой лекарь (только и мечтавший убраться подальше от ружейного огня) вскоре явился перевязать ему рану.
Чтобы проникнуть в этот дом, нам пришлось, нечего греха таить, маленько пострелять в замочную скважину, в ответ на каковые настойчивые призывы нам отворила его обитательница, прехорошенькая черноглазая молодая особа, проживавшая со своим полуслепым отцом, бывшим ягдмейстером герцога Кассельского, ныне удалившимся на покой. Когда в городе стояли французы, эти люди пострадали не меньше других горожан, и суровый старик был не склонен пускать новых постояльцев; но первый же наш стук в дверь возымел действие, а тут еще мистер Фэйкенхем, достав из туго набитого кошелька несколько гиней, сумел убедить этих почтенных людей, что они имеют дело с человеком порядочным. Оставив пациента на попечение врача (который и не желал ничего лучшего) и получив условленную мзду, я вместе с товарищем поспешил обратно в полк, не забыв отпустить на прощание черноглазой варбургской красотке несколько комплиментов на ломаном немецком языке, и только-только размечтался с завистью, до чего приятно было бы очутиться здесь на постое, как мой спутник бесцеремонно прервал мои размышления, предложив поделиться с ним заработанными гинеями.
– Вот твоя доля, получай, – сказал я, протягивая этому олуху золотой, что было вполне справедливо, так как главою экспедиции был я.
Но негодяй, разразившись чудовищным проклятием, потребовал у меня половину. Когда же я послал его в одно место, коего не стану здесь называть, разбойник так двинул меня по голове прикладом, что я как подкошенный рухнул наземь. Очнувшись, я увидел, что валяюсь в луже крови, натекшей из большой раны на голове. У меня только и хватило сил доползти до дома, где мы давеча оставили лейтенанта, и я замертво свалился у самого порога.
Здесь, по-видимому, и нашел меня лекарь, уходя от больного. Очнулся я уже в верхнем этаже дома, черноглазая девушка поддерживала меня сзади, между тем как доктор отворял мне кровь из руки. В комнате, где лежал лейтенант, стояла запасная кровать, где обычно спала горничная Гретель; теперь на нее уложили меня, тогда как раненому офицеру Лизхен, ибо так звали нашу прелестную хозяйку, уступила свою.
– Кого это вы кладете на вторую постель? – спросил Фэйкенхем по-немецки слабым голосом, ибо у него только что извлекли пулю из бедра и он еще не пришел в себя от боли и потери крови.
Ему сказали, что это капрал, который доставил его сюда.
– Капрал? – переспросил он уже по-английски. – Гоните его в шею!
Можете себе представить, как польстили мне его слова. Но обоим нам было не до комплиментов и препирательств. Меня бережно уложили в постель; а пока меня раздевали, я имел возможность убедиться, что солдат-англичанин, сбив меня с ног, не преминул затем очистить мои карманы. Отрадно было, по крайней мере, сознавать, что я в надежных руках. Молодая девушка, приютившая меня, вскоре принесла мне освежающее питье. Принимая его из рук моей хозяюшки, я не мог удержаться, чтобы не пожать ее пальчики, и этот порыв благодарности был, видимо, встречен милостиво.
Установившаяся между нами короткость только росла с дальнейшим знакомством. Лизхен оказалась нежнейшей из сиделок. Какое бы лакомство ни готовилось для раненого лейтенанта, его сосед по койке непременно получал свою долю, к великой досаде этого сквалыги. Болезнь лейтенанта изрядно затянулась. На второй день у него открылась горячка, и несколько ночей он пролежал в беспамятстве. Помню, заглянул к нам офицер из высшего командования, под видом инспекторского смотра, а на самом деле, как я догадываюсь, чтобы устроиться здесь на квартире, но больной встретил его наверху такими воплями и бешеной бранью, что начальство поспешило ретироваться. Я в это время уютно посиживал внизу, так как рана моя уже заживала, и только когда начальник сердито спросил, почему я не возвращаюсь в полк, раздумался я над тем, как хорошо мне, в сущности, здесь живется и насколько это лучше, чем вместе с пьяной солдатней забираться в постылую палатку, или шататься в ночных караулах, или вставать чуть свет, торопясь на ученье.
Беспамятство мистера Фэйкенхема навело меня на мысль прикинуться сумасшедшим. Был у нас в Брейдитауне убогий человечишко, по прозванию Бесноватый Билли, мальчишкой я ловко представлял всякие его безумные ужимки, и теперь они мне пригодились. В тот вечер я испробовал их на Лизхен и напугал ее до смерти своим криком и идиотской ухмылкой; отныне, кто бы ни явился в дом, я начинал беситься. Контузия в голову, очевидно, подействовала на мой рассудок – наш лекарь готов был в этом поклясться. Как-то вечером я стал уверять его шепотом, будто я Юлий Цезарь и узнаю в нем мою нареченную, царицу Клеопатру, чем окончательно убедил его в том, что я повредился в рассудке. Да и то сказать, если бы ее величество походила на моего эскулапа, у нее была бы борода морковного цвета, а такую не часто встретишь в Египте.
Какая-то переброска войск на французской стороне заставила нас продвинуться вперед. Город был эвакуирован, за исключением небольшого отряда пруссаков, врачам которого был поручен присмотр за всеми остающимися в городе ранеными и отправка их в полки по мере выздоровления. Однако я решил не возвращаться в полк. У меня был план добраться до Голландии, почти единственной в то время нейтральной страны в Европе, а там на каком-нибудь судне махнуть в Англию и оттуда в родной Брейдитаун.
Если мистер Фэйкенхем еще жив, приношу ему свои извинения: я поступил с ним не слишком деликатно. Но он был очень богат, со мной же обращался по-свински. Я нагнал на его слугу, который после варбургского дела приехал ухаживать за ним, такого страху, что бедный простофиля пустился наутек. С тех пор я иногда оказывал больному кое-какие услуги, за что он неизменно платил мне презрением. Мне, однако, важно было не подпускать к нему никого другого, и я отвечал на его грубости величайшей учтивостью и смирением, а между тем обдумывал про себя, как бы лучше отплатить ему за господскую ласку. Впрочем, не я один страдал от грубости достойного джентльмена. Он помыкал и очаровательной Лизхен, донимал ее бесцеремонными ухаживаниями, придирался к ее супам и хаял ее омлеты, попрекал каждым грошом, который выдавал на свое пропитание, так что хозяйка наша ненавидела его в такой же мере, в какой, могу сказать не хвалясь, благоволила ко мне.
Собственно, говоря напрямоту, я не шутя приударивал за моей хозяюшкой, ибо таково мое обыкновение со всеми представительницами прекрасного пола, независимо от возраста и наружности. Человеку, который сам пробивает себе дорогу, эти милые создания всегда могут пригодиться так или иначе; пусть они даже не отвечают на вашу страсть – не важно: они нисколько на вас не рассердятся и только станут еще участливее во внимание к вашему разбитому сердцу. Что касается Лизхен, то я сочинил для нее слезную повесть о моих приключениях (повесть несравненно более романтическую, чем рассказанная здесь, поскольку я не связывал себя уважением к истине, каковой неуклонно придерживаюсь на этих страницах) и покорил ею сердце бедняжки, а кроме того, значительно усовершенствовался в немецком под ее руководством. Милые барышни! Не называйте меня жестокосердым обманщиком: сердце Лизхен, до того как я подверг его осаде, было уже не раз взято приступом и не однажды меняло хозяев; подобно некоторым городам этой округи, оно выкидывало то французский, то зелено-желтый саксонский, то черно-белый прусский флаг, смотря по обстоятельствам, – да и какая прекрасная молодая леди, отдав свое сердце военному мундиру, не должна быть готова к быстрой смене возлюбленных, а иначе сколь незавидной будет ее участь!
Лекарь-немец, приставленный к нам после ухода англичан, только раза два удосужился нас навестить; и я, к великой досаде мистера Фэйкенхема, но имея в виду свои особые цели, постарался встретиться с ним в полутьме, с завешенными окнами, ссылаясь на то, что после контузии не выношу света. Итак, я закутывался в простыни с головой и объявлял доктору, что я египетская мумия или что-нибудь другое в этом роде, чтобы сойти за сумасшедшего.
– Что это вы за чушь городите, будто вы египетская мумия? – брюзгливо спросил меня мистер Фэйкенхем.
– Скоро узнаете, сэр! – отвечал я.
В следующий приход доктора я не стал его дожидаться в темной спальне, уткнувшись в подушку, а засел внизу в столовой играть в карты с Лизхен. На этот раз я завладел шлафроком моего лейтенанта и другими предметами его гардероба, которые пришлись мне впору и, смею надеяться, придавали мне вид совершеннейшего джентльмена.
– Доброе утро, капрал, – сердито буркнул доктор в ответ на мою приветливую улыбку.
– Капрал? Лейтенант, хотите вы сказать! – вскричал я со смехом, лукаво подмигивая Лизхен, которая еще не была посвящена в мои планы.
– Как так – лейтенант? – вскинулся на меня доктор. – Ведь вы не лейтенант, а…
– Полноте, доктор! – воскликнул я, смеясь. – Слишком большая честь! Вы, кажется, путаете меня с рехнувшимся капралом, что лежит наверху. Чудак уже дважды выдавал себя за офицера… Наша любезная хозяюшка лучше вам скажет, кто из нас кто.
– Вчера он вообразил себя принцем Фердинандом, – подхватила Лизхен, – а в прошлый ваш приход – помните – все представлялся египетской мумией.
– Верно, верно! – подтвердил доктор. – Помню. Но как же это… ха-ха-ха… подумайте, лейтенант, ведь вы у меня в журнале значитесь капралом.
– Не говорите мне о болезни этого несчастного, сейчас он стал чуть тише.
Мы с Лизхен посмеялись ошибке доктора, точно самой забавной шутке на свете, а когда он собрался наверх послушать своего пациента, я посоветовал ему не говорить с помешанным о его болезни – сегодня он показался мне особенно возбужденным.
Читатель уже, конечно, понял из этого разговора, в чем заключался мой план. Я замыслил бежать, и бежать под именем лейтенанта Фэйкенхема, позаимствовав у него оное, как говорится, нахрапом. Этот отчаянный поступок был продиктован суровой необходимостью. Называйте это подлогом, грабежом, если хотите, ибо, говоря по правде, я забрал у него также деньги и одежду, но окажись я сегодня в таком же безвыходном положении, я без колебаний сделал бы то же самое; ведь я не мог бежать, не воспользовавшись его кошельком, равно как и его именем, а потому и счел себя вправе присвоить как то, так и другое.
Пользуясь тем, что лейтенант по-прежнему пригвожден к постели, я забрал к себе его форменное платье, предварительно осведомившись у доктора, не задержался ли здесь кто из моих однополчан. Заключив из его ответа, что я не рискую встретить знакомых, я стал беспечно прогуливаться по городу в обществе фрау Лизхен, щеголяя в форме лейтенанта. Попутно я расспрашивал, не продает ли кто лошадь, а также явился с рапортом к коменданту под видом Фэйкенхема, лейтенанта английского пехотного полка, выздоравливающего, и был даже приглашен на обед к офицерам прусского полка и остался крайне недоволен их кухней. Воображаю, как взбесился бы Фэйкенхем, знай он, как бесцеремонно я пользуюсь его именем!
Когда этот достойный джентльмен спрашивал меня, где его платье, – а он частенько осведомлялся о нем, пересыпая свою речь бранью и угрозами, что, мол, вернувшись в полк, он прикажет меня выпороть за неисправную службу, – я почтительнейше уверял его, что оно внизу, убрано в сохранное место: оно и в самом деле было аккуратно сложено в ожидании моего отъезда. Свои документы и деньги больной держал под подушкой. А между тем я присмотрел себе лошадь, и мне надо было расплатиться с ее хозяином.
Итак, я назначил час, когда барышник должен был привести мне моего скакуна и получить причитающиеся ему деньги (не стану описывать здесь мое прощание с любезной хозяюшкой, скажу только, что оно было орошено слезами); собравшись с духом для предстоящего подвига, я поднялся к Фэйкенхему, одетый в его форму и в его кивере, лихо сдвинутом на левую бровь.
– Ах ты, пвохвост пвоклятый! – накинулся он на меня, перемежая свои слова еще более отборной бранью. – Ты, подлый бунтовщик! С какой это стати ты вывядился в мою фовму? Погоди, вот вевнемся в полк, и так же вевно, как то, что меня зовут Фэйкенхем, я с тобой посчитаюсь: живого места не оставлю!
– Я получил повышение, лейтенант, – ответил я ему с глумливой улыбкой, – и пришел с вами проститься. – И, подойдя к его постели, добавил: – Мне нужен ваш кошелек и документы. – С этими словами я сунул руку ему под подушку.
Но тут он громко завопил, словно хотел созвать весь полк на мою погибель.
– Ни звука, сэр, – предупредил я его, – а не то вам крышка! – И, достав носовой платок, так крепко завязал ему рот, что едва не задушил, а потом стянул ему локти рукавами рубашки, намертво связал их узлом, да так его и оставил, прихватив, разумеется, его кошелек и бумаги и учтиво пожелав ему скорого выздоровления.
– Это рехнувшийся капрал рвет и мечет, – пояснил я обитателям дома, которых встревожили крики, доносившиеся сверху.
Итак, простясь с полуслепым ягдмейстером, а также (невыразимо нежно) с его дочкой, я вскочил на свою новую лошадь, лихо прогарцевал по городу и милостиво кивнул страже у городских ворот, почтительно отдавшей мне честь. Я снова чувствовал себя в привычной сфере и дал себе обещание никогда больше не ронять свое джентльменское достоинство.
Сперва я взял курс на Бремен, где стояла наша армия, повсюду заявляя, что везу в штаб-квартиру рапорты и письма от варбургского коменданта; но, едва миновав наши аванпосты, повернул коня и направился в гессен-кассельские владения, которые, по счастью, находятся недалеко от Варбурга; и как же я обрадовался, увидев на шлагбаумах красные и голубые полосы, сказавшие мне, что я нахожусь уже на земле, не занятой моими соотечественниками. Я заехал в Гоф, а оттуда на другой день направился в Кассель, выдавая себя за курьера, везущего депеши принцу Генриху, стоявшему тогда на нижнем Рейне. Остановился я в лучшей гостинице, где столовались штабные офицеры местного гарнизона. Желая поддержать честь английского джентльмена, я угощал их самыми изысканными винами, какие нашлись в гостинице, и рассказывал им о своих английских поместьях так речисто, что чуть ли не первый верил своим выдумкам. Я даже получил приглашение в Вильгельмсхёхе, дворец курфюрста, где танцевал менуэт с прелестной дочкой самого гофмаршала и проиграл несколько золотых его превосходительству обер-егермейстеру его высочества.
В гостинице за общим столом я познакомился с прусским офицером, который обращался ко мне весьма учтиво и без конца расспрашивал об Англии. Я старался отвечать ему с толком, хотя, боюсь, не слишком в этом преуспел, ибо никогда не бывал в Англии и понятия не имел ни о дворе, ни о тамошних аристократических семействах; но, увлекаемый тщеславием юности (а также склонностью хвалиться и заноситься в ущерб истине, чертой, присущей мне в те годы, хоть я и полностью отделался от нее впоследствии), я сочинил для него тысячу анекдотов, описал ему короля и его министров, объявил, что английский посланник в Берлине – родной мой дядя и обещал новому знакомцу порадеть о нем в рекомендательном письме к моему родичу. Когда же прусский офицер осведомился об имени этого дяди, я, недолго думая, сказал, что его зовут О’Грейди, считая, что это имя вполне постоит за себя и что жители Килбэллиоуэна в графстве Корк ни в чем не уступят другим семействам, о каких мне приходилось слышать. Что до случаев из моей полковой жизни, тут я был поистине неисчерпаем. Хотелось бы мне, чтобы и другие мои рассказы были хоть вполовину так достоверны.
В то утро, когда я покидал Кассель, мой друг-пруссак подошел ко мне с открытой приветливой улыбкой и сказал, что тоже едет в Дюссельдорф, куда якобы собирался я. Итак, мы сели на коней и не спеша тронулись в путь. Вся местность кругом являла вид неописуемого запустения. Здешний государь был известен как самый бесчеловечный торговец людьми во всей Германии. Он продавал их каждому встречному и поперечному и в течение пяти лет, какие уже длилась война (вошедшая потом в историю как Семилетняя), перевел все мужское население в княжестве, так что некому стало обрабатывать землю: даже двенадцатилетних отроков угоняли на войну, и нам встречались целые гурты несчастных мальчуганов, обычно под конвоем нескольких кавалеристов с ганноверским краснокафтанником-сержантом или прусским унтер-офицером во главе; с некоторыми из этих конвоиров мой спутник обменивался приветствиями.
– Вы не представляете, до чего мне претит знаться с этой братией, – пожаловался он. – Но такова печальная необходимость. Война требует все нового притока людей, отсюда и вербовщики, поставляющие нам человечье мясо. Они получают от казны по двадцать пять талеров с головы. Конечно, за такого молодца, как, скажем, вы, цена доходит и до сотни. При старом короле за вас дали бы, пожалуй, и всю тысячу – для его полка гренадеров, который ныне правящий король расформировал.
– Я сам знавал служивого из вашего гренадерского полка, – откликнулся я. – У нас его так и звали – Морган-пруссак.
– В самом деле? Кто же он был, этот Морган-пруссак?
– Верзила-гренадер, ваши вербовщики каким-то образом похитили его в Ганновере.
– Экие канальи! – удивился мой приятель. – И хватило же у них смелости завербовать англичанина!
– То-то и есть, что он ирландец, да такая расторопная голова, что где им всем против него! Сами посудите! Моргана, стало быть, схватили и зачислили в гвардию великанов, где он оказался на голову выше всех. Многие из верзил плакались на свою жизнь, на палочье, на бесконечные учения да на нищенскую плату; но Морган не принадлежал к ворчунам. А по мне, говорил он, лучше раздобреть на берлинских харчах, нежели ходить в отрепье и подыхать с голоду в Типперэри!
– А где это – Типперэри? – поинтересовался мой спутник.
– То же самое спросили у Моргана его приятели. Типперэри – это чудесная провинция в Ирландии с главным городом Клонмелем, а это, скажу я вам, такая столица, что уступит только Лондону или Дублину, – не чета вашим европейским городам! Морган сказал им, что родина его недалеко от этого города и что одно у него огорчение в нынешних счастливых обстоятельствах: братья его дома, поди, голодают, а ведь как славно бы им жилось на харчах его величества!
«Голову даю на отсечение, – сказал Морган сержанту, которому он все это выкладывал, – был бы здесь мой братец Бин, его бы тут же произвели в сержанты».