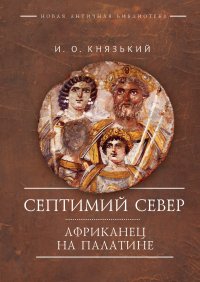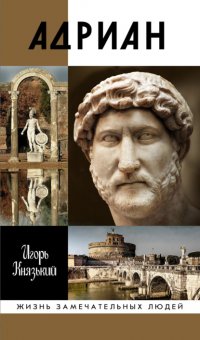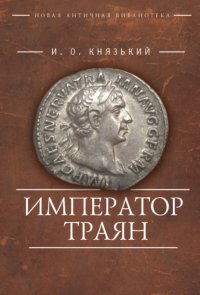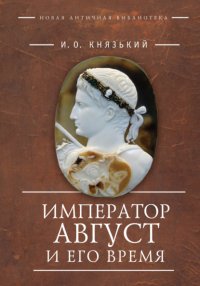
Читать онлайн Император Август и его время бесплатно
- Все книги автора: Игорь Князький
Серия «Новая античная библиотека. Исследования»
Рецензенты: доктор исторических наук А. П. Скогорев кандидат исторических наук В. О. Никишин
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ
© И. О. Князький, 2022
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022
* * *
Республика – ничто,
пустое место без тела и облика.
Цезарь
Республику из своей власти
я на усмотрение сената
и римского народа передал.
Август
Глава I
Юные годы Гая Октавия
Шёл 691-ый год от основания Рима, и вот «в консульство Марка Туллия Цицерона и Гая Антония, в девятый день до октябрьских календ, незадолго до рассвета, у Бычьих голов в палатинском квартале Рима»[1], в семье Гая Октавия и его супруги Атии родился сын, поименованный подобно же его отцу Гаем Октавием. Такова была семейная традиция этого рода: все мужчины получали при рождении такое имя. По нашему летоисчислению появился на свет очередной Гай Октавий, коему суждено будет войти в римскую и мировую историю под именем Августа, 23 сентября 63 года до н. э.
Род Октавиев не входил в число особо известных родов Рима. К знати он не принадлежал. Предки Августа были плебеями, обретшими всадническое достоинство. О них мы знаем лишь то, что прадед нашего героя сражался в Сицилии с карфагенянами во время Второй Пунической войны, дед его жил в городке Велитры, где имел загородную усадьбу. Должно быть, в детстве маленький Гай бывал у дедушки в гостях на этой вилле, где ему отводилась маленькая комнатка, похожая скорее на кладовую[2]. Позже, когда потомок скромных Октавиев станет могущественным Цезарем Августом, жители Велитр и сами с гордостью уверятся и станут всех уверять, что в этой комнатушке будущий император и родился.
Дед Гая особой карьеры не сделал, да и не стремился к таковой, довольствуясь скромными муниципальными должностями. Прожил он до старости в добром достатке, семью свою оставив в богатстве. Муниципальные должности особых богатств не сулили, потому так ли уж стоит подвергать сомнению утверждение Марка Антония, что дед Октавия был ростовщиком. Ведь именно римские всадники являлись сословием, весьма успешным в финансовых делах. Сенаторам-то денежные операции воспрещались! Да и кто был богатейшим человеком Римской республики в то время, о котором мы ведём речь? Представитель всаднического сословия, из плебейского рода вышедший Марк Лициний Красс. Октавиям, конечно же, до Красса было безнадёжно далеко, но к числу людей весьма зажиточных они, безусловно, относились.
Отец будущего властелина Рима, выросший в богатстве, решил заняться политической карьерой и в деле этом немало преуспел. В 26 лет он стал военным трибуном, а через год, в 73 г. до н. э., квестором – финансовым чиновником. Это была весьма подходящая должность для представителя всаднического сословия. В 64 г. до н. э. он был избран плебейским эдилом и, наконец, через два года – претором Римской республики, то есть, вершителем городского правосудия по гражданским делам. Эта должность открывала Гаю Октавию-отцу как дорогу к наместничеству в какой-либо провинции после истечения годичного срока преторских обязанностей, так в перспективе и к консульству – вершине политической карьеры римского гражданина. По уверению Гая Светония Транквилла, Октавий свои обязанности исполнял отлично, потому и достигал сих почётных должностей без особого труда. Тут же Светоний, правда, сокрушается, что находились люди, объявлявшие его «ростовщиком и даже раздатчиком взяток при сделках на выборах»[3]. Что можно сказать по этому поводу? Похоже, сыну здесь приходилось расплачиваться за дела деда нашего героя, а что до взяток – так состояние Октавиев, финансовыми талантами деда укреплённое и выросшее, это, скажем прямо, оказывалось делом нетрудным.
Тем более что в те годы в Римской республике этим сложно было кого-либо удивить. Что впрочем не отменяет высокой оценки служебной деятельности на пользу общества Гая Октавия-отца, доказательством чего можно уверенно полагать его продвижение по политической лестнице. Претором Гай Октавий был достойным. Достойно же за свою претуру он и был вознаграждён, получив важное, почётное и ответственное назначение наместником в Македонию. Управлять территорией, некогда бывшей могучим царством, давшим миру славного Филиппа II и его сына Александра Великого, раздвинувшего пределы своих владений почти до сердца Индии – почёт первостатейный. Хотя и ответственность тоже немалая, ибо северные соседи провинции – воинственные фракийские племена, с каковыми римлянам приходилось уже не раз сражаться. А один из фракийцев племени медов по имени Спартак за десяток лет до описываемых событий возглавил грандиозное восстание римских гладиаторов и рабов, сотрясшее всю Италию. Любопытно, что погасить последние искры спартаковского восстания довелось как раз Гаю Октавию-отцу. Дело в том, что хотя армия Спартака и была разгромлена римскими легионами под командованием Марка Лициния Красса, а Гней Помпей Великий уверял, что «вырвал войну с корнем»[4] ещё в 71 г. до н. э., но в следующем Марк Туллий Цицерон, направляясь в Сицилию, с трудом и с риском для жизни сумел пробраться через южные области Италии, поскольку там продолжали действовать отряды бывших воинов армии Спартака. А после подавления в 62 г. до н. э. мятежа Луция Сергия Катилины часть его недобитых сторонников ухитрилась из Этрурии добраться до юга Италии и присоединиться к бывшим спартаковцам. В результате мятежные рабы, усиленные катилинарами (римскими гражданами!), осмелели настолько, что в том же году захватили на стыке Брутия и Луккании город Фурии! Потому Гай Октавий, отправлявшийся в Македонию в должности наместника-пропретора, получил особое поручение сената уничтожить захвативших Фурийский округ отряды спартаковцев и катилинаров. С чем доблестный пропретор блестяще справился[5]. В честь этой своей военной победы он решил добавить к имени своего сына прозвание Фурин, фуриец. Дело в том, что Октавии в своём роду традиционно носили, подобно большинству незнатных римлян, только два имени: личное (praenomen) и родовое (nomen). Теперь маленький Гай получил и родовое прозвание – (cognomen).
Есть, правда, и иное толкования прозвания Фурин, поскольку из Фурий происходили предки Октавиев. В любом случае наш герой от младенчества именовался Гай Октавий Фурин.
Гай Октавий-отец в Македонии оказался на своём месте. В качестве наместника он прославился своей справедливостью в отношении её населения, умело ладил с соседними союзными племенами и, более того, отличился и в делах военных: разбил враждебных Риму фракийцев в большом сражении[6]. Свидетельством справедливости высокой оценки наместничестива Гая Октиавия в Македонии являются письма Марка Туллия Цицерона своему брату Квинту, в те же годы бесславно управлявшему провинцией Азия (бывшее царство Пергам на западе Малой Азии). В этих письмах он побуждал брата и увещевал его брать пример с наместника-соседа Октавия. Цицерон не был склонен к особым похвалам кого-либо, кроме себя, потому данные письма заслуживают полного доверия[7].
Вполне возможно, что по возвращению в Рим Гая Октавия ждало успешное продолжение политической карьеры в сенате и, может быть, избрание консулом, но жизнь его внезапно оборвалась по дороге на родину. Так в четыре года маленький Гай Октавий Фурин остался без отца.
Мать Гая, Атия, происхождение имела достойной знатности. Её мать, Юлия, была родной сестрой Гая Юлия Цезаря, а отец, Марк Атий Бальб, приходился двоюродным братом славного полководца Гнея Помпея Великого. Замуж за Октавия она вышла в 70 г. до н. э. Сразу заметим: этот брак стал главной жизненной удачей Гая Октавия Фурина за семь лет до его рождения! Не будь его – никогда мир не знал бы великого Цезаря Августа, создателя Римской империи!
У Гая были две сестры: старшая сводная Октавия Старшая (дочь его отца и его первой жены Анхарии), а также ещё одна старшая родная сестра, которая родилась на шесть лет раньше брата, Октавия Младшая.
Теперь обратимся ко времени, когда появился на свет будущий Август, владыка Римской империи. А оно было насыщено знаменательными событиями в Римской истории.
Итак, 691 год от основания Рима (Ab urbe condita) или же 63 г. до н. э. Для римлян он также год консульства Марка Туллия Цицерона и Гая Антония. На первом месте, впрочем, было, конечно же, имя величайшего оратора, мыслителя, политика Цицерона. Для него этот год оказался вершиной его политических успехов, его славы как государственного деятеля. Не случайно историк Веллей Патеркул свою пространную характеристику столь значимого для Рима года начинает как раз с упоминания имени Цицерона: «Консульству Цицерона придало немалый блеск рождение в том году (девяносто два года назад) божественного Августа, которому предстояло затмить своим величием всех мужей всех народов. Может показаться излишним указывать время жизни выдающихся талантов. Кому, в самом деле, неизвестно, что в это время расцвели разделённые несколькими годами Цицерон и Гортензий, а до них Красс, Котта, Сульпиций, а вскоре после этого Брут, Калидий, Целий, Кальв и Цезарь, наиболее близкий к Цицерону, а также те, которые были как бы их учениками, Корвин и Азиний Поллион, подражатель Фукидида Саллюстий, авторы поэтических произведений Варрон и Луккреций, а также Катулл, не менее великий в своём поэтическом творчестве. Едва ли не глупо было бы перечислять гениев, которых мы еще помним, среди них выдающегося в нашем веке принцепса поэтов Вергилия, Рабирия, последователя Саллюстия Ливия, Тибулла и Назона, ведь насколько велико восхищение, настолько затруднительна оценка»[8].
Патеркул перечисляет блистательную плеяду великих римлян во всех сферах культуры. Здесь и великие ораторы – Цицерон, Гортензий, Цезарь (в то время еще не великий полководец и политик). Много менее нам известные, но высоко ценимые современниками ораторы и политики: Калидий, Целий Руф, Кальв, Корвин. Далее идут знаменитые историки Саллюстий, Азиний Поллион, Тит Ливий, поэт и философ Гай Рабирий, учёный и поэт Марк Теренций Варрон, великие поэты Тит Луккреций Кар, Катулл, Вергилий, Тибул, Овидий Назон… Надо помнить, что именно в эти годы римляне осознают, что их культура более не ученическая по отношению к эллинской, но стоит с нею наравне. Считалось, что Цицерон был первым, кто обеспечил это равенство, а в чём-то и превосходство. Да, Вергилий по привычке в своей «Энеиде» всё ещё напишет, что римлянам досталось лишь превосходство в войне и политике, а греки превосходят их интеллектуально, но в действительности в эту эпоху всё уже было иначе[9]. Правление Августа войдет в историю как «Золотой век римской литературы». Но, можно сказать, уже в год его рождения основы этого были блистательно заложены.
Более чем замечателен был этот год и для величия и славы Рима. Он стал последним годом жизни злейшего врага Рима царя Понта Митридата VI Евпатора. Второй после Ганнибала неукротимый противник римлян, ведший с ними три войны, обрёл свою кончину в далёком Пантикапее у Боспора Киммерийского. Разгромленный Луцием Лицинием Луккуллом, добитый на полях сражений Помпеем Великим понтийский владыка обрёл убежище в Боспорском царстве. Удивительно, но и здесь в совершенно безнадёжном положении он пытался строить грандиозные планы продолжения войны с ненавистным Римом.
«Неудачи не смирили Митридата, считаясь скорее со своими желаниями, нежели с возможностями, он задумал (дело в том, что Помпей находился в то время в Сирии) пройти через скифские владения до берегов Истра, а оттуда вторгнуться в Италию. Строить грандиозные планы было свойственно Митридату» – так писал о его последних воинственных замыслах Дион Кассий[10].
Окружение царя, его боспорские подданные и, главное, его сын Фарнак, правивший на Боспоре, отважных планов старого царя не оценили, Фарнак сам возглавил заговор против отца, и судьба всеми покинутого недавно ещё грозного воителя была решена. «Митридат пытался покончить с собой. Он прежде всего отравил своих жён и детей – тех, кто ещё был при нём, а остаток яда выпил сам, но ни яд, ни меч не помогли, и ему не удалось самому уйти из жизни, ибо царь укрепил свой организм, принимая из предосторожности большие дозы противоядия. И удар меча оказался недостаточно сильным – рука Митридата была ослаблена и возрастом, и горестями, которые выпали ему на долю. Да и отравление всё же сказалось»[11]. Добили старика мечами и копьями те же воины, которых он послал убить изменника-сына. Тело его не сразу нашло успокоение. «Набальзамированное тело Митридата Фарнак послал Помпею как свидетельство своего подвига. Он подчинил себя и свои владения римлянам. Помпей не выдал труп Митридата на посрамление, но приказал похоронить его в отеческих курганах: он считал, что вражда угасает вместе с жизнью и не гневался потому на мертвого. Боспорское царство он пожаловал Фарнаку за его кровавое злодеяние, причислил его самого к друзьям и союзникам римского народа»[12].
Так Гней Помпей Великий раздвинул пределы Римской республики не только до берегов Понта Эвксинского, но и до Меотиды (Азовского моря) и нижнего течения Танаиса (Дона). Его же стараниями 64 г. до н. э., 690-й от основания Рима, стал последним годом существования некогда крупнейшего эллинистического государства – державы Селевкидов или же Сирийского Царства. Оно просуществовало почти два с половиной столетия (312–64 г. до н. э.) и при своём основателе Селевке Никаторе (Победителе) включало в себя большую часть державы Александра Македонского. Эта держава простиралась от гор Тавра в Малой Азии до вершин Памира и Гиндукуша в Центральной Азии, от берегов Средиземного моря до берегов реки Яксарт (Сыр-Дарья). Изначальной столицей её был Вавилон, последняя резиденция Александра Великого, где он и скончался. Но постепенно держава ослабела, на востоке в середине III века до н. э. от неё отделились Греко-Бактрийское царство в Центральной Азии и Парфия на землях современной Туркмении и иранского Хорасана. Затем царство Селевкидов потерпело в 190–188 гг. до н. э. жестокое поражение от Рима, после чего начались его очевидное ослабление и потери всё новых и новых земель. Парфянский царь Митридат I (170–136 гг. до н. э.) отнял у Селевкидов Иран и Месопотамию после восстания Маккавеев (167–160 гг. до н. э.). Иудея добилась независимости. В начале I века до н. э. от некогда могучей эллинистической державы остались только территории собственно Сирии и Финикии и те в 83 г. до н. э. были завоёваны армянским царем Тиграном II Великим. В 69 г. до н. э., правда, победоносный Лукулл восстановил Сирийское царство Селевкидов, но, спустя пять лет, Помпей Великий обратил его окончательно в очередную им приобретённую римскую провинцию. В 63 г. до н. э., о главных событиях которого мы и ведем речь, Помпей двинулся на юг, мечтая достигнуть берегов Красного моря. Как пишет Плутарх о Помпее: «Теперь им овладело бурное стремление захватить Сирию и проникнуть через Аравию к Красному морю, чтобы победоносно достигнуть Океана, окружающего со всех сторон обитаемый мир. Ведь и в Африке он первый дошёл с победой до внешнего моря и в Иберии сделал Атлантический океан границей Римской державы, а незадолго до этого, преследуюя альбанов, едва не дошёл до Гирканского (Каспийского – И.К.) моря. Итак, Помпей решил снова выступить с войском, чтобы замкнуть Красным морем круг своих походов»[13].
К югу от Сирии лежала Иудея, где за власть вели упорную борьбу братья Гиркан и Аристобул. Помпей настолько успешно вмешался в их спор, взяв под покровительство Гиркана, что вскоре римские войска заняли земли Израиля и Иудеи, взяв штурмом Иерусалим. Здесь особо отличился, первым ступив на стену города при его взятии, Фавст Корнелий Сулла, сын знаменитого диктатора Луция Корнелия Суллы. Помпей, не вникавший в традиции и обычаи народа вновь покоренной страны, но движимый любопытством, совершил поступок, потрясший иудеев: он вошел в святая святых Иерусалимского храма, куда доступ раз в году имели только иудейские первосвященники.
«Сильное поругание постигло тогда и святилище, которое тогда было закрыто и невидимо. Дело в том, что туда проникли Помпей и немалое число его товарищей, и узрели то, что не было разрешено видеть никому, кроме первосвященников. Несмотря на то, что он нашёл здесь золотую трапезу со светильником, жертвенные чаши и множество курений, да, кроме того, в казне еще около двух тысяч талантов священных денег, он, в силу своего благочестия, ничего этого не тронул, но поступил так, как того и следовало ожидать от его добродетели»[14].
С завоеванной страной он поступил следующим образом: «Иерусалим он заставил платить дань римлянам, те же города Келесирии (южная Сирия, примыкающая к Иудее), которые прежде находились в зависимости от жителей Иерусалима, он занял сам и подчинил их своему собственному полководцу, народ же весь (иудейский), дошедший прежде до высокой степени могущества и распространения, он втиснул обратно в пределы его страны»[15].
Первосвященство в Иерусалиме теперь получил во всём покорный Риму Гиркан. Взятие Иерусалима произвело большое впечатление на царя Набатеи Арету III Филэллина. Если «сначала он ни во что не ставил римлян, а теперь в сильном испуге отправил Помпею послание, извещая о своей готовности ему подчиниться. Желая укрепить такое настроение царя, Помпей двинулся к Петре»[16], столице Набатейского царства. Во время этого похода он получил уже упомянутое известие о гибели Митридата VI Евпатора. Теперь Помпей счёл свою Восточную войну завершённой и, передав вновь созданную провинцию Сирия легату Марку Эмилию Скавру – земли от Евфрата до границы Египетского царства Птолемеев, он отбыл в Киликию.
Скавр, под командованием которого осталось два легиона, «предпринял поход на аравийскую Петру и, так как её было трудно взять и он кругом неё опустошил всю страну, войску его пришлось страдать от голода»[17]. Царь набатеев Арета счел за благо откупиться от римлян. Получив 300 талантов, Марк Эмилий Скавр отвел свои войска обратно в Сирию.
Таким образом, в год рождения будущего основателя Римской империи владычество и влияние Рима на Востоке достигали таких пределов: Киликия, Сирия, Финикия вошли в состав Римской державы, Иудея стала зависимой от римлян страной, Боспорское царство и царство Набатейское признали покровительство Рима. Восточной границей римских владений стала теперь река Евфрат. А в целом с севера на юг на Востоке сфера влияния Рима отныне простиралась от Боспорского царства в Приазовье до царства Набатейского, чьи земли прилегали к Красному морю. Подлинно великий и славный год для римской республики!
Казалось бы в Риме должно было царить сплошное ликование и предвкушение возвращения в столицу победоносного полководца с невиданной доселе добычей… Но на самом деле победные дела восточные в этом знаменательном году для жителей Рима отошли на второй план, уступив место чрезвычайным волнениям по поводу судьбы самого государственного строя Римской державы. Что же могло вдруг угрожать находящейся на такой ранее невиданной вершине могущества республике? А это было то, что вошло в историю под названием «заговор Катилины». Собственно, так его и увековечил в своём знаменитом творении «О заговоре Катилины» выдающийся римский историк Гай Саллюстий Крисп, бывший его современником. Надо сразу оговорить, что споры вокруг этого события, его трактовка, оценка личности самого предводителя заговорщиков являются по сей день предметом дискуссий между историками. Вступать в эти споры – не является нашей задачей, но коснуться этого исторического события необходимо, ибо оно не только происходило в год рождения нашего героя, но и наложило свой отпечаток на последующие события римской истории.
Итак, Луций Сергий Катилина родился предположительно около 108 г. до н. э. Он выходец из старинного, знатного патрицианского рода. Род Сергиев, согласно преданию, традиционно полагал своим предком сподвижника Энея Сергеста.
Луций Сергий Катилина впервые стал известен во время Союзнической или Марсийской войны 91–88 гг. до н. э., когда римляне сражались с мятежными италийцами, добившимися равных прав в государстве. Предположительно, он мог быть одним из шести трибунов легиона или префектом, возглавлявшим вспомогательные войска. Война эта, как известно, закончилась военной победой римлян, но италийцы при этом добились своего: былые «союзники» стали, наконец, полноправными римскими гражданами. Принял Катилина участие и в другой войне на землях Италии – в гражданской войне сулланцев и марианцев. Здесь, предположительно, он был уже легатом в армии Суллы и одним из наиболее верных его соратников. Расположение Луция Корнелия Суллы к молодому военачальнику очевидно, ибо Катилина принял активное участие в проскрипциях против действительных, а часто и мнимых марианцев после торжества Суллы в гражданской войне. На этом деле он недурно поживился, но, будучи человеком, не умеющим сберегать богатства, а имея огромный талант деньги транжирить, не считая, он довольно быстро не только утратил неправедно приобретённое, но и оказался в долгах. Разумеется, его участие в кровавых и грабительских сулланских проскрипциях в нравственном отношении характеризует Луция Сергия прескверным образом, но таких людей в Риме было не так уже и мало, потому он, желая поправить свои дела, окунулся в политическую жизнь республики. Этому не помешал даже такой крупный скандал, как обвинение Катилины в кощунственной связи с весталкой Фибрией. Но на суде, где его защищал весьма известный и уважаемый Квинт Лутаций Катулл, он был полностью оправдан. Спустя несколько лет, в 68 г. до н. э., Катилина становится претором – весьма высокая и престижная магистратура. Ранее, еще при Сулле, он побывал и в должности квестора и был введён в сенат. В 67–66 гг. до н. э. Катилина был наместником провинции Африка. Это было и весьма престижно, и в положении Луция Сергия выгодное назначение. Африка была обширной, многочисленной и замечательно богатой провинцией, житницей, обильно снабжавшей Рим хлебом, фруктами, оливками, овощами. Как он там управлял – подробных сведений нет. Но надо помнить, что в республиканскую эпоху провинции рассматривались, прежде всего, как источник доходов, а те, кто их возглавлял, свои пропреторства или проконсульства использовали и для личного обогащения. Добродетельные и толковые наместники, подобные Гаю Октавию-отцу, были в ту эпоху, увы, немалой редкостью.
Катилина, судя по всему, себя не обижал, почему и вскоре после его пропреторства, в 65 г. до н. э., в Рим прибыла целая делегация из провинции Африка с жалобой на многочисленные злоупотребления наместника. На суде, однако, Катилина вновь был оправдан. Думается, злоупотреблений у него там было предостаточно, о личном обогащении он едва ли забывал, но вопиющих преступлений, как у печально знаменитого наместника Сицилии Гая Верреса, у него всё же не было. Гай Веррес, можно сказать, был «образцом» наместника-преступника. Будучи ещё скромным квестором в Галлии, он нагло присвоил казённые деньги. Когда он был в Малой Азии, его назвали «бичом провинции», а за три года хозяйничания в Сицилии он так разорил этот цветущий остров, что Цицерон свидетельствовал: провинцию совершенно невозможно восстановить в прежнем состоянии.
Но на карьере политической Катилины африканская жалоба всё же отразилась. Ему пришлось из-за прибытия жалобщиков снять свою уже выдвинутую на должность консула кандидатуру. Существует версия, что крайне удручённый таким поворотом дел Катилина составил в том же году натуральный антигосударственный заговор. В заговоре этом ему сопутствовали ещё два незадачливых претендента на консульство – Публий Автроний Пет и Публий Корнелий Сулла. Эти двое были даже избраны консулами, но затем уличены в подкупе избирателей и постов своих, бесчестно обретённых, немедленно лишились. В «заговоре» якобы поучаствовали два достаточно известных человека: победитель Спартака Марк Лициний Красс и видный аристократ, набирающий силу политик Гай Юлий Цезарь. «Заговорщики» якобы были намерены убить вновь избранных консулов и вручить консульские полномочия Автронию и Сулле. Провалился «заговор» вроде как из-за нерасторопности Красса, не явившегося на заседание сената, а потом по бестолковости Катилины, не сумевшего своевременно подать «сигнал к действию».
Никаких репрессий против участников этого ужасного заговора не последовало. Думается, справедливым здесь представляется мнение, что «заговор» серьезного внимания и не заслуживал, не выходя за пределы досужей болтовни, за которой не стояло и тени действительных кровавых намерений[18].
Катилина тем временем продолжает официальную, совершенно законную борьбу за должность консула. В выборах на год 64 до н. э. он опять не смог принять участие, поскольку «африканское дело» затянулось, пусть и закончилось для него вполне благополучно. На год 63 до н. э. Катилина вновь выдвигает свою кандидатуру, мобилизует своих сторонников. На сей раз, казалось, у него есть все шансы на успех. Его кандидатура и кандидатура близкого к нему Гая Антония выглядели наиболее перспективными среди семи человек, участвовавших в выборной гонке. Цицерон до поры до времени серьезным соперником не выглядел из-за своего скромного всаднического происхождения. Но вот случилось неожиданное: друг Катилины и его соратник Квинт Курий выболтал своей любовнице планы Луция Сергия и его сторонников на случай успешного завоевания консульства. Якобы Катилина сулил тем, кто его поддерживал, «отмену долгов, просскрипции состоятельных людей, магистратуры, жреческие должности, возможность грабить и всё прочее, что несут с собой война и произвол победителей»[19]. Любовница оказалось болтуньей, и вскоре весь Рим обсуждал зловещие планы Катилины и его сторонников в случае их прихода к власти.
Скорее всего, обещание отмены долгов было реальным, обещание магистратур, жреческих должностей своим друзьям, несомненно. Иначе зачем бы они его поддерживали? Но вот уже проскрипции представляются обещанием, придуманным для дискредитации Катилины. Ведь все знали об участии его в сулланских проскрипциях, каковые и тогда, почти двадцать лет спустя, римляне вспоминали с содроганием. Что до слов о грабежах, войне и тому подобных ужасах, то они никак не могли входить в сферу деятельности будущих консулов, да и менее всего были им нужны в случае успеха на выборах.
Гаю Антонию разговоры об ужасных намерениях Луция Сергия не помешали избраться на должность консула, Катилина же на выборах провалился, и вторым консулом стал Марк Туллий Цицерон, человек, к нему отнюдь не дружественный.
И после очередного провала Катилина продолжает совершенно законный, открытый путь борьбы за высшую должность в римской республике. Он готовится к новым выборам консулов на следующий 62 г. до н. э. При этом, правда, он уже действительно не исключает силовой борьбы за власть. Вербуются сторонники решительных действий, заготавливается оружие, а верный друг Катилины Манлий, щедро снабжённый деньгами, готовится набрать войска в Этрурии[20].
Этрурия была избрана местом вербовки сторонников переворота, поскольку в этой области Италии народ «ввиду нищеты и несправедливостей жаждал переворота, так как он при господстве Суллы лишился земель и всего своего достояния»[21]. Любопытно, что соратник бывшего сулланца Катилины вербовал в его войско людей, более всего от Луция Корнелия Суллы пострадавших. В то же время и былые сулланцы забыты не были, так как Манлий вербовал также «и кое-кого из жителей сулланских колоний – тех, кто из-за распутства и роскоши из огромной добычи не сохранил ничего»[22]. Достойные сторонники Катилины, очень близкие ему по духу и образу жизни!
Сулланских ветеранов на самом деле рассматривали как сторонников Катилины. По Риму шли разговоры, что он намерен привести этих самых ветеранов из Этрурии на консульские выборы.
А положение в выборной кампании неожиданно стало угрожающим для тех, кто не желал победы Катилины. На сей раз претендентов было четыре: Катилина, Сульпиций Руф, Лициний Мурена и Децим Юний Силан[23]. Но вот Сульпиций Руф, видный правовед, объявляет о выходе из предвыборной борьбы и, более того, возбуждают дело против Лициния Мурены, обвиняя его в подкупе избирателей. Кажется, наконец-то путь к заветному консульству для Катилины открыт, но именно это обстоятельство мобилизует его противников. Да еще как мобилизует! Слухи об ужасах, кои Луций Сергий Катилина готовит для мирных римских граждан, следуют один за другим, оглашаются письма, изобличающие страшные намерения заговорщиков… Всё это решительным образом поворачивает общественное мнение и настроение в Риме: «События эти потрясли гражданскую общину и даже изменили внешний вид Города. После необычайного веселья и распущенности, порождённых долгим спокойствием, всех неожиданно охватила печаль; люди торопились, суетились, не доверяли достаточно ни месту, ни человеку, не вели войны и не знали мира; каждый измерял опасности степенью своей боязни. В довершение всего женщины, охваченные страхом перед войной, от чего они отвыкли ввиду могущества государства, убивались, с мольбой вздымая руки к небу, сокрушались о своих маленьких детях, всех расспрашивали и, забыв свою заносчивость и отказавшись от развлечений, не рассчитывали ни на себя, ни на отечество»[24].
На Катилину в сенате обрушиваются Марк Порций Катон Младший и главный его ненавистник Марк Туллий Цицерон. Он в ответ, взбешённый нападками и обвинениями, крайне неосторожно бросает слова: «Так как недруги, окружив, преследуют меня и хотят столкнуть в пропасть, то пожар, грозящей мне, я потушу под развалинами»[25]. Стоит ли удивляться, что противники Катилины во главе с Цицероном блестяще используют эти неосторожные, да и не умные слова для уже просто яростного натиска на него. Вскоре сенат после доклада Цицерона о положении дел, где есть и правдивые сведения о сборе войск, вынес постановление против Катилины по формуле: «Videant consules ne quid Respublica detrementi capiat!» – «Да смотрят консулы за тем, чтобы государство не потерпело ущерба!» Смысл постановления: «Это наибольшая власть, какую сенат, по римскому обычаю, предоставляет магистрату – право набирать войско, вести войну, применять к союзникам и гражданам всяческие меры принуждения, в Городе и за его пределами и в походах обладать не только высшим империем, но и высшей судебной властью»[26].
Этим судьба Катилины и всего его движения была решена. Новые выборы прошли спокойно. Консулами стали Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена, которому как-то простили грозное обвинение в подкупе избирателей. Теперь Катилина не мог не понять, что законным образом он заветного консульства не достигнет никогда. Отсюда отчаянная попытка добиться силой того, что не удалось получить миром. Таким образом весь этот «заговор Катилины» вполне можно назвать «мятежом от отчаяния». Битву за общественное мнение Катилина и его соратники безнадёжно проиграли, и их дальнейшие действия только усугубляли ситуацию, приближая конечную погибель. Чего стоит только «покушение» на жизнь Цицерона двух видных приверженцев Луция Сергия. Они явились к нему поутру, но, когда услышали от раба переданный им отказ в приёме, то безропотно ушли. А вот Публий Корнелий Лентул, возглавивший заговорщиков в Риме, после того, как сам их предводитель отбыл в Этрурию на поиски воинства Гая Манлия, попытался найти союзников в лице послов галльского племени аллоборгов, приехавших в Рим с жалобой на обиды, чинимые им администрацией, доведшей их несчастную общину до полной нищеты. Аллаборги, однако, сочли предложение Лентула для себя малоперспективным и решили сообщить о таковом в сенат, разумно полагая, что такая верность законной власти зачтётся всему их племени. В результате пятеро изобличённых заговорщиков были удушены рукой палача в подземелье Мамертинской тюрьмы, хотя это и было нарушением закона, поскольку казнить римских граждан без одобрения народного собрания было нельзя. Но Цицерон и Катон так настроили и сенат, и общественное мнение, что Гай Юлий Цезарь, выступивший против беззаконной смертной казни, едва сохранил свою собственную жизнь, подвергнувшись нападению нескольких особо рьяных поклонников красноречия Цицерона и воинственного пыла Катона.
В самом начале 62 г. до н. э., 5 января, близ городка Пистория в Этрурии (нынешний город Пистойя в Тоскане) состоялся бой между войсками Катилины и консульской армией, которой командовал Марк Петрей. Консул Гай Антоний, былой друг Катилины, сказавшись больным, передал командование своему легату. Силы, конечно же, были неравны. У Катилины лишь четверть войска была вооружена настоящим оружием. Остальные были вооружены «как кого вооружил случай»[27]. Так что два «легиона», образованные Катилиной и Манлием, возможно, по численности таковыми и были, но никак не по действительным боевым возможностям. А противостояли им когорты ветеранов, прекрасно вооруженные и организованные, да и возглавляемые военачальниками, более тридцати лет прослужившими в войсках.
Катилина свой последний бой провёл героически. Во время битвы он находился в первых рядах сражающихся, «поддерживал колебавшихся, заменял раненых свежими бойцами, заботился обо всём, нередко бился сам, часто поражал врага; был одновременно и стойким солдатам, и доблестным полководцем»[28].
Отвагу и мужество явило собою всё войско Катилины, но силы были уж больно неравны. «Заметив, что его войско рассеянно и он остался с кучкой солдат, Катилина, помня о своём происхождении, бросается в самую гущу врагов, и там в схватке его закалывают»[29].
Так же сражаясь в первых рядах, доблестно пал Манлий. «Однако победа, одержанная войском римского народа, не была ни радостной, ни бескровный, ибо все самые стойкие бойцы либо пали, либо покинули поле боя тяжелоранеными. Но многие солдаты, вышедшие из лагеря осмотреть поле битвы и пограбить, находили, переворачивая тела врагов, – один – друга, другой – гостеприимца или родича; некоторые узнавали и своих недругов, с которыми бились. Так всё войско испытывало разные чувства: ликование и скорбь, горе и радость»[30].
Что ж, обыкновенная картина после сражения в гражданскую войну. Она верна для всех времён, для всех народов.
Как же вошел в историю Луций Сергий Катилина? Надо сказать, что современники сделали всё возможное, чтобы предельно очернить его образ. Это, прежде всего, знаменитые «Катилинарии» Цицерона, добросовестно им изданные и потому прекрасно дошедшие до потомков, исторический труд Саллюстия, непосредственно заговору Катилины посвящённый. Под влиянием такой традиции очевидно и Плутарх в своей биографии Цицерона представил Катилину и его соратников совершеннейшими монстрами, скреплявшими своё единство ритуальным человекоядением: «Поставив его (Катилину – И.К.) над собою вожаком, злодеи поклялись друг другу в верности, а в довершении всех клятв закололи в жертву человека и каждый отведал его мяса»[31].
Не изменилась радикально репутация Катилины и в Средние века. В эпоху Возрождения Макиавелли в целом разделял взгляды на его личность, ещё Цицероном и Саллюстием сформированные. В Новое время сложилось уже два подхода к личности Луция Сергия Катилины. Для одних он оставался честолюбивым злодеем, для других он стал борцом за свободу, своего рода романтическим героем. Таким он предстаёт в знаменитом историческом романе Рафаэлло Джованьоли «Спартак». И в настоящее время у историков нет сколь-либо единого подхода к личности Катилины, к его заговору. Это проявляется и в новейших исторических трудах. Если в одном случае оценки Цицерона сомнению не подвергаются[32], то в другом – взгляд на Катилину куда более взвешенный[33].
Каким же был он? Безусловно, его нельзя назвать нравственно достойным человеком. Одно участие в сулланских проскрипциях говорит о многом. Если даже далеко не все убийства и иные злодеяния, ему приписываемые, правдивы, то, надо думать, добродетельной жизнь его, конечно же, не назовёшь. Были ли у него грандиозные цели по сокрушению Республики, установлению единоличной власти и массовому истреблению политических противников? Таковые ему, прямо говоря, голословно приписываются вполне злонамеренными современниками. Реально, о чём свидетельствуют исторические факты, Катилина со товарищи стремился до последнего момента абсолютно законным путём обрести консульство и ряд других почтенных магистратур прежде всего для того, чтобы кассировать долги. Свои собственные в первую очередь! Ну и, надо полагать, использовать пребывание на высоких должностях для личного обогащения. В заговор они объединились лишь, когда поняли, что шансов на обретение власти законным путём у них никаких не имеется, вот и стали катилинары мятежниками от отчаяния. Занятно, что, уже подняв вооруженный мятеж, Катилина в своём лагере в Этрурии ходил в консульском облачении. Никакой иной магистратуры он себе, очевидно, не представлял. Потому не стоит в Катилине видеть неудачливого, можно даже сказать незадачливого борца за единовластие и врага республиканского строя. На самом деле будущий единовластный правитель Рима на протяжении ряда десятилетий только-только появился на свет – в самый разгар событий, с «заговором Катилины» связанных. И звали его Гай Октавий.
Итак, в возрасте четырёх лет Гай Октавий Фурин остался без отца. Теперь ему и буквально пришлось провести своё раннее детство «in gremio ac sinu matris educari», что означало «быть воспитанным на груди и лоне матери». Мать Октавия Атия отдала сына на воспитание своей матери Юлии. Бабушка Октавия, сестра тогда уже весьма известного и популярного в Риме Гая Юлия Цезаря, самым добросовестным образом стала помогать дочери в воспитании внука. В доме Юлии Гай провел восемь лет – она скончалась в 51 г. до н. э.
Атия около двух лет скорбела о первом муже, а потом, в 57 г. до н. э., вышла замуж за Луция Марция Филиппа. Отчим маленького Гая происходил из знатного плебейского рода Марциев. По словам Николая Дамасского, род его прославился ещё в начале II в. до н. э. в числе победителей македонского царя Филиппа V во Второй Македонской войне[34]. О незаурядности мужа Атии говорит и то, что вскоре, в 56 г. до н. э., он был избран консулом. Филипп к своим обязанностям отчима относился самым серьезным образом и искренне старался заменить ребенку рано ушедшего из жизни родителя. По словам того же Николая Дамасского, «воспитывался Гай у Филиппа, как у родного отца»[35]. Атия и Филипп позаботились, чтобы у Гая были достойные учителя. Среди таковых особо стоит выделить Марка Эпидия, латинского ритора. Любопытно, что в своё время, лет так за двадцать до Октавия, учеником его был Марк Антоний, будущий противник, потом союзник и, наконец, злейший враг нашего героя. А за несколько лет до Гая Октавия Марк Эпидий побывал в наставниках у Вергилия, чьё поэтическое творчество расцветёт в годы правления уже императора Августа… Среди учителей Гая Октавия нам также известны раб-педагог Сфер, греки-философы Арей из Александрии и Афинодор Канаит из Тарса. Помимо ритора латинского был ритор греческий – Аполлодор из Пергама. Учителей своих Гай почитал. Об этом свидетельствует то, что, когда Сфер скончался в 40 г. до н. э., благодарный воспитанник устроил ему публичные похороны[36]. А вот Арей, очевидно, особо чтимый из учителей, получил и римское гражданство с родовым именем Юлиев, был в числе личных друзей уже правителя империи и даже получил пост наместника Египта[37].
Как учился Гай Октавий? Если полностью довериться Николаю Дамасскому, то: «Достигнув не более как девятилетнего возраста, юный Цезарь вызывал у римлян немалое удивление проявлением в столь раннем возрасте выдающихся природных дарований»[38].
Надо сказать, что пребывание в доме Юлии обеспечило мальчику, что называется, хорошее общество друзей детства. Юлии – знатнейший род, поэтому и сверстники Гая в их доме были из достойнейших семей Рима: «Он всегда был окружён многочисленной толпой своих ровесников, детей знатнейших граждан»[39].
Как непосредственно проходила его учёба? Николай Дамасский пишет: «Он упражнял свой ум в возвышенных науках, тело своё закалял в благородных воинских упражнениях, а воспринятые от своих учителей знания скорее их самих умел применять к жизни, что вызывало большое восхищение в его родном городе. За ним следила его мать и муж её Филипп, спрашивавшие каждый день у его учителей и у людей, надзиравших за ним, что он сделал за этот день, куда ходил, чем был занят и с кем встречался»[40].
Воспринимать всерьёз льстивое славословие биографа поразительным способностям Гая, разумеется, невозможно. Но ценная информация здесь всё же присутствует. Прежде всего, описание круга его сверстников, из представителей высшей знати состоявшего, и, главное, замечательная забота матери и отчима об образовании мальчика. Так поставленная и контролируемая каждодневно учёба не могла не принести свои плоды. Гай Октавий, что достаточно общеизвестно, не обладал выдающимися талантами, подобно своему двоюродному деду Юлию Цезарю. На первый взгляд, он едва ли сколь-либо заметно мог возвышаться над средним уровнем выходцев из высших слоев римского общества, получивших подобное же образование. Образование это, как мы видим, было вполне добротным, хотя бы потому, что учителя были отменные и контроль родительский за его учебой был жёстким. Кроме того, сам ученик относился к своим занятиям именно так, как могли желать его учителя и наставники. Куда более, нежели Николай Дамасский, критически настроенный к своему персонажу Светоний – автор, в принципе чуждый какому-либо славословию, тем не менее, отмечал в своей биографии Августа: «Красноречием и благородными науками он с юных лет занимался с охотой и великим усердием»[41]. Более того, учителя и наставники добились того, что желание наращивать свои знания и умения сохранились у их подопечного и после выхода из ученического возраста: «В Мутинской войне (43 г. до н. э. – И.К.) среди всех своих забот он, говорят, каждый день находил время и читать, и писать, и декламировать»[42].
А вот пространное сообщение Светония о том, как Гай Октавий освоил греческую словесность, что для просвещённого римлянина было обязательно: «Греческой словесностью занимался он с не меньшим усердием и достиг больших успехов. Его учителем красноречия был Аполлодор Пергамский, которого он в молодости даже увез с собой из Рима в Аполлонию, несмотря на его преклонный возраст. Много разных познаний дала ему потом близость с философом Ареем и его сыновьями Дионисием и Никанором. Все же по-гречески он бегло не говорил и не решался что-либо сочинять, а в случае необходимости писал, что нужно, по-латыни и давал кому-нибудь перевести. Однако поэзию он знал хорошо, а древней комедией даже восхищался и не раз давал её представления на зрелищах»[43].
Достоин внимание его практический подход к литературному наследию и греков, и соотечественников римлян: «Читая и греческих, и латинских писателей он больше всего искал в них советов и примеров, полезных в общественной и частной жизни»[44].
Одним из важнейших элементов античного образования как в Греции, так и в Риме было, разумеется, ораторское искусство. Потому среди учителей Гая мы видим видных риторов, представляющих как эллинское, так и римское красноречие. Судя по всему, Октавий успешно осваивал сей очень непростой вид искусства. К двенадцати годам он уже настолько познакомился с ораторскими приёмами, что, когда скончалась его бабушка Юлия, он был способен произнести на её похоронах речь[45]. И его первое выступление «перед большим собранием было встречено шумным одобрением взрослых людей»[46]. Важность этого выступления была не только в демонстрации степени овладения ораторским искусством, каковую продемонстрировал puer – ребенок от семи до четырнадцати лет – Гай. Похороны-то были представительницы знатнейшего рода Юлиев.
А вот, что говорил о своём роде сам Гай Юлий Цезарь, чьим внучатым племянником и был Гай Октавий, на похоронах своей тетушки: «Род моей тетки Юлии восходит по матери к царям, по отцу же к бессмертным богам: ибо от Анка Марция происходят Марции-цари, имя которых носила её мать, а от богини Венеры – род Юлиев, к которому принадлежит и наша семья. Вот почему наш род облечён неприкосновенностью, как цари, которые могуществом превыше всех людей, и благоговением, как боги, которым подвластны и самые цари»[47].
Скромные Октавии и помыслить не могли о таких славных предках, как четвёртый римский царь Анк Марций, внук второго царя Нумы Помпилия, не говоря уж об Аскании Юле, предке рода Юлиев, бывшего сыном Энею, рождённому самой богиней Венерой. Теперь же Гай Октавий выступал в качестве человека, к роду этому великому причастного. Но главным было иное: имя главы рода в эти дни, Гая Юлия Цезаря, звучало совершенно иначе, нежели за двенадцать лет до этого. Конечно, и тогда он был фигурой среди римской знати неординарной. Родовитый патриций, блестяще образованный, имевший славу храброго воина, выдающийся оратор, прошедший через все ступени политической карьеры знатного римлянина. На семнадцатом году жизни он стал жрецом Юпитера, войдя в число так называемых фламинов, служителей богов Юпитера, Марса и Квирина. Первой же его должностью, присуждённой ему народным голосованием, была должность войскового трибуна[48]. Далее он стал квестором в провинции Дальняя Испания, где исполнял ряд поручений местного претора по делам судебным и финансовым, отличился в Риме в должности эдила заботой об украшении столицы и устроением игр и развлечений для народа, был избран претором в непростые для Рима дни «заговора Катилины». А перед этим, в год рождения Гая Октавия, Цезарь был избран и верховным понтификом, главой Верховной коллегии жрецов-понтификов из пятнадцати человек. Эту должность он сохранит пожизненно. После претуры Цезарь получил назначение в хорошо ему уже знакомую Дальнюю Испанию, где успешно навёл порядок. Следующее десятилетие стало для Гая Юлия Цезаря подлинно победоносным, и к тому дню, когда Октавий произносил свою первую публичную речь, он был одним из двух могущественнейших людей в Риме. Потому-то родство, пусть и не самое близкое, с таким человеком стало главным залогом достойной судьбы маленького Гая.
Теперь обратимся к рассказу о важнейших событиях, случившихся в римской республике после разгрома заговора и мятежа Катилины и катилинаров.
62 г. до н. э. стал замечательно памятным для римлян в связи с возвращением в Италию Гнея Помпея Великого после многолетней победоносной войны на Востоке. Славному воителю предстоял грандиознейший триумф, по богатству с которым не мог бы сравниться ни один из триумфов веков минувших. Но, как сие не покажется странным, далеко не все в Риме были рады возвращению великого полководца, добывшего для Рима и воинскую славу, и богатейшую добычу, и обширные территориальные приобретения. Это был страх, что победоносный полководец, опираясь на свою могучую армию, установит в Риме единовластие. Прецедент был: возвращение Суллы из победного похода на тот же Восток. Сулла, правда, возвращался в Италию, объятую гражданской войной его сторонников с марианцами. И высшая нераздельная власть была ему нужна для восстановления мира и порядка в Республике, для уничтожения самих корней гражданского противостояния, как он это понимал. Помпей, однако, пусть и бывшей сулланец, самим Луцием Корнелием Суллой в Великие произведённый, возвращался в Италию, совершенно мирную, где вспышка гражданской войны, на каковую Катилину и его соратников Цицерон и большинство сената добросовестно спровоцировали, была без особых трудов, но с пребольшим шумом подавлена. Таким образом, Помпей мог бы стремиться к единовластию исключительно в силу своего честолюбия. Разумеется, знаменитый полководец, побывавший уже и консулом в 70 г. до н. э., удостоенный двух триумфов и имевший право на третий, был человек честолюбивый. Но вот насколько это честолюбие соединялось с властолюбием?
Если Помпей и был властолюбив, то возможность достижения высшей единоличной власти в Республике силовым образом, преступая римские законы, он решительно не принимал. Вот что пишет Плутарх о его возвращении в Италию по завершении войны на Востоке в 62 г. до н. э.:
«В Риме шли о Помпее всевозможные слухи, и еще до его прибытия поднялось сильное смятение, так как опасались, что он поведёт тотчас свое войско на Рим и установит твёрдое единовластие. Красс, взяв с собой детей и деньги, уехал из Рима, оттого ли, что он действительно испугался, или, скорее, желая дать пищу клевете, чтобы усилить зависть к Помпею. Помпей же тотчас по прибытии в Италию собрал на сходку своих воинов. В подходящей к случаю речи он благодарил их за верную службу и приказал разойтись по домам, помня о том, что нужно будет вновь собраться для его триумфа. После того, как войско таким образом разошлось и все узнали об этом, случилось нечто совершенно неожиданное. Жители городов видели, как Помпей Магн без оружия, в сопровождении небольшой свиты, возвращается, как будто из обычного путешествия. И вот из любви к нему они толпами устремлялись навстречу и провожали его до Рима, так что он шёл во главе большей силы, чем та, которую он только что распустил. Если бы он задумал совершить государственный переворот, для этого ему вовсе не нужно было бы войска[49]».
Если… если тысячи и тысячи римлян, сопровождавших Помпея с его скромной свитой от Брундизия до столицы действительно были бы рады установлению единовластия в Республике в лице обожаемого победоносного покорители Азии, то это означает наличие в Италии массы людей, вовсе не считающих упразднение исторического многовластия преступлением и готовых приветствовать правителя Рима, даже путём государственного переворота свое владычество обретшего. Не исключено, однако, что эти толпы просто желали выразить свою любовь к полководцу-победителю, вовсе не подвигая его на борьбу за единоличную власть в Римской державе. Ведь прецедентов-то государственных переворотов Рим до сих пор не знал со времени свержения последнего царя Луция Тарквиния Гордого в 509 г. до н. э. Напомним, что и Сулла переворота не совершал, а лишь методами, кои почитал наилучшими, восстанавливал Республику, где верховная власть принадлежала бы Сенату римского народа и где возможности политические отвратительных ему плебейских трибунов стали бы сугубо декоративными, не давая им возможности из-за своих непомерных амбиций ввергать государство в кровопролитие вплоть до гражданских войн.
Конечно же, ретроспективный взгляд на случившиеся в 62 г. до н. э. в Брундизии события в свете грядущего превращения Римской республики в Империю заставляет думать, что Гней Помпей нелепейшим образом упустил свой шанс возглавить державу. Ведь, опираясь на преданное ему победоносное войско, обожавшее своего полководца, на любовь народа, в чём нельзя было усомниться по пути в столицу, власть в Риме он мог обрести бескровно и к всеобщему восторгу. Против такой военной силы, да ещё и на народную поддержку всей Италии опирающуюся, защитники республики во главе с сенатом ничего бы противопоставить не могли. Их бы просто смели… Но такой ход событий в тогдашней Римской республике был решительно невозможен. Прежде всего потому, что Гней Помпей Великий был римлянином, глубоко почитающим Римское государство, римские законы, обычаи, опыт столетий. Для него силовое свержение законной власти, пусть и в свою пользу, не могло быть ничем, кроме тяжелейшего государственного преступления, самого сурового наказания заслуживающего. Он мог быть недоволен, раздражён, даже возмущён теми или иными действиями высших магистратов Рима, того же сената, но менять весь государственный строй – никогда! Но вот именно эти его качества, с точки зрения римлянина тех времён, качества наидостойнейшие, с точки зрения потомков ставятся ему в упрёк уже более двух тысячелетий! Плутарх ещё очень мягко упрекнул его в неумении или нежелании по недомыслию использовать столь блистательно представившуюся ему возможность обретения, причём бескровного, высшей власти. Историки новейших времён здесь куда более жёстки! Величайший немецкий антиковед XIX века Теодор Моммзен объяснял его поведение в 62 г. до н. э. исключительно его личной слабостью, неспособностью действенно бороться за власть. Он искренне поражался поведению политика, имевшего возможность без всякого труда получить корону и упустившего свой шанс из-за отсутствия мужества! Именно слабость характера, заурядность, почему в нужное время мужество ему изменяет, – вот главные черты Гнея Помпея по Моммзену[50]!
Решительно не разделявший взгляд Моммзена на Помпея российский антиковед XX в. С. Л. Утченко вовсе не полагал верность его римским законам и традициям слабостью, но, скорее, видит в этом достоинства его личности. По словам этого учёного, вся карьера Гнея Помпея Великого – редчайший пример завоевания чрезвычайно крупных успехов «честным путём»[51]. Правда, и он упрекает славного полководца в роковой для него «гипертрофированной лояльности»[52].
Весьма расположенный к Помпею немецкий историк Эдуард Мейер полагал, что тот был историческим предвестником Августа, сумевшего после краха монархического проекта Цезаря создать действенную форму правления – принципат[53]. В новейшем исследовании, эпохе Августа посвящённом, такой подход представляется много более историческим, нежели уничижительные суждения о личности Помпея Теодора Моммзена[54].
Нельзя не признать глубоко справедливым и несогласие с характеристикой «гипертрофированная лояльность». На деле эта лояльность была глубоко естественной[55].
Действительно, ведь верность отеческим законам, обычаям, почитание Республики – это сугубо положительные качества римлянина, основа его мировоззрения. Да и кто, собственно, за всю римскую историю на них всерьёз покушался? И Спурию Кассию, и Спурию Мелию, и Манлию Капитолийскому, и братьям Гракхам, и Сатурнину, да и Катилине, наконец, претензии на захват «царской власти» просто удачно приписывались их врагами. Потому не будем упрекать Помпея Великого в «неразумном» поведении. Это было поведение честного римлянина.
Теперь Помпей праздновал триумф. Он «был столь велик, что, хотя и был распределён на два дня, времени не хватило и многие приготовления, которые послужили бы украшению любого другого великолепного триумфа, выпали из программы зрелища. На таблицах, которые несли впереди, были обозначены страны и народы, над которыми справлялся триумф: Понт, Армения, Каппадокия, Пафлагония, Мидия, Колхида, иберы, альбаны, Сирия, Киликия, Месопотамия, племена Финикии и Палестины, Иудея, Аравия, а также пираты, окончательно уничтоженные на суше и на море»[56].
Колоссальным был денежный вклад Помпея в казну Римского государства, в эрарий: «Помпей внёс в государственную казну чеканной монеты и серебряных и золотых сосудов на двадцать тысяч талантов»[57]. Это была сумма, более значительная, чем когда-либо в римской истории, исключая триумф Эмилия Павла, победителя в Третьей Македонской войне[58]. Тот триумф длился три дня[59].
Но дело было не только в захваченной Помпеем добыче. В триумфе были пронесены особые таблицы, указывавшие, «что доходы от податей составляли до сих пор пятьдесят миллионов драхм, тогда как завоеванные им земли принесут восемьдесят пять миллионов[60].
Понятно, что за такие достижения, за такой замечательный вклад в казну и грядущие доходы государства, беспрецедентное его расширение на Востоке и образцовую лояльность, проявленную при возвращении в Италию, уже по дороге в Рим Гней Помпей Великий был вправе рассчитывать на такую же лояльность и доброжелательность сената. Потому он, никак не ожидая какого-либо противодействия, обратился в сенат с совершенно естественной просьбой утвердить все его распоряжения на Востоке. Не менее естественной и совершенно справедливой была просьба вознаградить ветеранов его победоносных войн землёй.
Но тут-то и нашла коса на камень! Сенат проявил совершенно неожиданную для Помпея строптивость: «оптиматы заняли бескомпромиссную позицию, решив «поставить Помпея на место»[61].
Недоброжелатели Помпея в сенате немедленно вспомнили о Луции Лицинии Лукулле, который в своё время так успешно начинал Третью Митридатову войну, нанёс решающие поражения и самому понтийскому царю, и царю Армении Тиграну, союзнику Митридата. Обеспечив по сути успешный исход войны, он, по предложению плебейского трибуна Гая Манилия, активно поддержанного Марком Туллием Цицероном, был лишён командования, уступив таковое Помпею. Вынуждено возвратившись в Рим, Лукулл поселился на своей вилле близ Неаполя и утешал себя гастрономическими изысками. За недостатком гостей частенько прибегал к самогостеприимству, когда «Лукулл обедал у Лукулла». Возможность хоть как-то отомстить похитителю своей воинской славы Лукулла вдохновила. И с помощью Метелла Критского, имевшего свои претензии к Помпею, поскольку тот в своём триумфе провел ряд вождей, пленённых им, на что Метелл имел право жаловаться[62], а также извечного, можно сказать, патологического борца против даже тени стремления к единовластию Марка Порция Катона Младшего в сенате ему удалось создать сильнейшую оппозицию победоносному полководцу-триумфатору. Утверждение итогов восточного похода Помпея, его, кстати, весьма здравых и полезных для Римского государства распоряжений в 61 г. до н. э. было заблокировано. Сенат сам вбил клин между собой и самым в то время заслуженно популярным человеком в Республике. Помпей от неожиданности, похоже, даже впал в нечто, напоминающее отчаяние: «Потерпев поражение и теснимый в сенате, Помпей был вынужден прибегнуть к помощи народных трибунов и связаться с мальчишками»[63]. Получив поддержку плебейского трибуна Клодия, наглого проходимца и отъявленного авантюриста, пусть по-своему и незаурядной личности, Помпей был вынужден пожертвовать ради этого сомнительного во всех отношениях политического союза многолетней дружбой с Цицероном. Великий оратор после того, как Помпей не принял его, от страха даже тайно покинул Рим. И вот тут-то на помощь Помпею пришёл человек, чей престиж в Риме в последние годы непрерывно рос – Гай Юлий Цезарь. Римляне помнили его заслуги в должности курульного эдила, он достойно исполнял преторские обязанности, а совсем недавно отлично проявил себя пропретором в Дальний Испании. Честолюбие Цезаря, в каковом во всей республике, похоже, равных ему не было, естественно, толкало его на соискание консульской должности. Но здесь ему нужны были серьёзные политические союзники, ибо господствовавшие в сенате оптиматы явного популяра Цезаря вовсе не жаловали, несмотря на его блистательное аристократическое происхождение и уже всем очевидные и выдающиеся разносторонние таланты. Своими союзниками доблестный Юлий сумел сделать людей, до этого друг друга весьма не жаловавших. Гней Помпей Великий и Марк Лициний Красс были не в лучших отношениях и порой крепко не ладили между собой. Цезарь сумел найти подход к обоим, вполне убедительно пояснив, что, вредя друг другу, они лишь усиливают Цицеронов, Катуллов и Катонов, влияние которых обратится в ничто, если они, Красс и Помпей, соединившись в дружеский союз, будут править совместными силами и по единому плану[64].
Что ж, у каждого из трёх незаурядных людей были свои резоны заключить этот тройственный союз, вошедшей в историю под названием Первого триумвирата. Помпей нуждался в помощи Цезаря в случае успешного избрания того консулом, чтобы добиться наконец одобрения всех своих распоряжений на Востоке. Цезарю союз с наипопулярнейшим в народе тогда Помпеем сулил и успех в соискании консульства, и отменное после него назначение в провинцию. Крассу нужны были авторитет Помпея и сила Цезаря, поскольку он не имел надежды добиться первого места в одиночку. А Цезарю с Помпеем союз с богатейшим человеком Рима никак не мог быть лишним. Их же личные отношения были укреплены родственным браком: Гней Помпей Магн женился на Юлии, дочери Гая Юлия Цезаря[65]. Главное, о чём твёрдо договорились триумвиры, «не допускать никаких государственных мероприятий, неугодных кому-либо из троих»[66].
Действительно, могущество триумвиров было очевидно. Помпей находился в зените своей воинской славы и был замечательно популярен в войске и в народе. Цезарь считался защитником плебса, да и крепко повысил свой авторитет, прекрасно проявляя себя на самых разных магистратурах, за богатейшим Крассом стояло всадничество. Потому совершенно справедливым должно признать мнение, что «трехголовое чудище», как его назвал Варрон в своих сатирах, «совершенно парализовало сопротивление сената»[67].
Цезарь, как и предполагалось, получил своё консульство, а «Помпей вскоре же после своей свадьбы заполнил форум вооружёнными воинами и помог народу добиться утверждения законов»[68] Все мероприятия, проведённые им на Востоке, наконец-то были утверждены, а в благодатной Кампании двадцать тысяч человек ветеранов и бедняков были наделены плодороднейшими землями. К слову, эта земля была последней сельскохозяйственной землёй в Италии, находившейся ранее в государственной собственности.
Получило своё и всадничество, чьи интересы блюл Марк Лициний Красс. В пользу всадников была снижена сумма откупных платежей с налогов в Азии, также была усилена кара за злоупотребления провинциальных наместников»[69]. Цезарь с 58 г. до н. э., после окончания своего консульства получил на пять лет наместничество в Цизальпийской и Трансальпийской Галлии. Если Цизальпийская Галлия была давно уже освоена римлянами, овладевшими ею еще в период между I и II Пуническими войнами, а южная Нарбоннская Галлия, лежавшая между Альпами и Пиренеями, стала римской после II Пунической войны, то большую часть Трансальпийской Галлии, именуемую римлянами «Косматой Галлией» предстояло завоевать. Это завоевание, собственно, и было главной целью Гая Юлия Цезаря, справедливо полагавшего, что победоносное покорение «Косматой Галлии» создаст ему огромный престиж и в армии, и в народе, открыв в итоге перед победителем «врата великих возможностей». Проконсульская власть была вручена Цезарю на пять лет. Для ведения войны Цезарь получил четыре легиона, за свой счёт набрал ещё шесть[70]. Почему же началась эта знаменитая Галльская война, которую так блистательно увековечил на бессмертных страницах своих записок Гай Юлий Цезарь?
Безусловно, здесь мы имеем дело с целым комплексом причин, где причудливо переплетаются и интересы личностные, и интересы государства, диктуемые непосредственным ходом событий, войне предшествующих и к ней ведущих, и исторические причины, связанные с традицией восприятия римлянами Галлии, и бедствий для Рима, с её территории многократно исходивших. Конечно же, сам Цезарь был крайне заинтересован в победоносном завоевании столь обширной страны, дабы после этого его воинская слава, по меньшей мере, не уступала славе Помпея, на Востоке добытой! Поскольку покорить Галлию можно было только немалыми военными усилиями, задействовав большую армию, то после удачного завершения войны победитель располагал бы многочисленным, испытанным, победоносным и горячо преданным ему войском. Не будет слишком смелым предположение, что Цезарь едва ли предполагал безропотный роспуск своих легионеров после окончания войны, подобно Помпею. Наконец, покорение Галлии было бы ценнейшим приобретением для Римского государства, интересы которого для Цезаря были первостепенными как для подлинного римлянина, до мозга костей преданного своему отечеству. Само собой, интересы державные вкупе с интересами личными, среди каковых, что очевидно[71], присутствовало также и решение за счёт предстоящей воинской добычи и долговых проблем доблестного Юлия, вдохновляли потомка Энея на великие свершения во имя обретения славы великого полководца[72].
Непосредственной причиной галльской войны, очевидно, должно считать угрозу вторжения гельветов в Галлию и захват её этим воинственным и явно недружественным германским племенем. Вот, что писал об этом сам Цезарь:
«У гельветов первое место по своей знатности и богатству занимал Оргеториг. Страстно стремясь к царской власти, он, в консульство М. Мессалы и М. Писона (61 г. до н. э. – И.К.), вступил в тайное соглашение со знатью и убедил общину выселиться всем народом из своей земли: так как гельветы, говорил он, превосходят всех своей храбростью, то им нетрудно овладеть верховной властью над всей Галлией. Склонить на это гельветов было для него тем легче, что по природным условиям своей страны они отовсюду стеснены: с одной стороны весьма широкой и глубокой рекой Рейном, которая отделяет область гельветов от Германии, с другой – очень высоким хребтом Юрой – между секванами и гельветами, с третьей – Леманнским озером и рекой Роданом, отделяющей нашу Провинцию от гельветов. Всё это мешало им расширять район своих набегов и вторгаться в земли соседей: как люди воинственные, они этим очень огорчались. Они полагали, что при их многолюдстве, военной славе и храбрости им было слишком тесно на своей земле, которая простиралась на двести сорок миль в длину и на сто шестьдесят в ширину»[73].
Самому Оргеторигу не суждено было возглавить поход гельветов в Галлию. Он то ли умер при неясных обстоятельствах, то ли покончил жизнь самоубийством из-за конфликта с другими вождями и общинами гельветов[74]. Но после его смерти вторжение всё же началось. В Галлию из земли гельветов наиболее удобный путь шёл через римскую Провинцию (Нарбоннскую Галлию)[75]. И вот, «при известии о том, что гельветы пытаются идти через нашу Провинцию, Цезарь ускорил свой отъезд из Рима, двинулся самым скорым маршем в Дальнюю Галлию и прибыл в Генаву»[76]. Галльская война началась. И сражаться в таковой Цезарю пришлось и с гельветами, и с собственно галлами, и с зарейнскими германцами, и даже с бриттами на их острове.
Теперь обратимся к третьей, может быть, даже главнейшей причине этой войны. Таковой следует полагать исторический феномен metus hostilis, страх перед внешней угрозой, испытываемый римлянами, и его самым долговременным проявлением metus gallicus[77].
Metus gallicus, страх перед галлами, имеет совершенно очевидное происхождение – события 390–367 гг. до н. э. [78]. Настоящий разгром римлян галлами – сенонами во главе с вождём Бренном в битве при Аллии, последующий захват варварами Рима, за исключением Капитолия, спасённого, согласно преданию, гоготанием священных гусей храма Юноны, и унизительный откуп, во время которого и прозвучали якобы слова, галльским вождём произнесённые: «Vae Victis!» – «Горе побежденным!». Рассказ о том, что во время этого грабительского откупа внезапно появился Марк Фурий Камилл, а за ним новое римское войско и рано торжествующие галлы были разбиты в пух и прах[79] – воспринимать всерьёз просто смешно.
Сенонам римляне сумели отомстить лишь спустя столетие с небольшим. Перед отмщением, правда, сеноны в 285 г. до н. э. нанесли римлянам жестокое поражение: потери легионов составили около тринадцати тысяч человек[80]. Два года спустя римляне реваншировались и даже весьма успешно. Эта победа даже воспринималось как «истребление сенонов»[81]. Полного истребления всё же не произошло. Уцелевшие сеноны поголовно покинули оказавшуюся в итоге столь негостеприимной для них Италию и переселились в придунайские земли и Македонию[82].
Во время II Пунической войны metus gallicus вновь оживился, став на сей раз дополнением к куда более ужасающему страху: битва при Каннах в 216 г. до н. э. породила в римлянах metus punicus – страх перед карфагенянами, что можно и должно считать выдающейся личной заслугой Ганнибала.
В битве при Каннах галлы, как известно, составляли немалую, пусть и не лучшую часть карфагенского войска. И вот теперь metus gallicus и metus punicus сосуществовали одновременно[83]. Напомним заодно, что, когда славный Баркид с превеликими потерями всё же перевалил через Альпы, то у него оставалось всего лишь около двадцати тысяч пехотинцев и шести тысяч всадников. Но благодаря помощи галлов его войско резко в числе возросло и смогло нанести римлянам ряд жестоких поражений. Мetus punicus подарил латинскому языку известную поговорку: «Hannibal ante portas!» – «Ганнибал у ворот!». Пожалуй, ни перед кем за всю историю у римлян не было подобного страха. Даже славная победа Сципиона Африканского над ранее непобедимым Ганнибалом при Заме в 202 г. до н. э. не развеяла страха римлян перед пунами. Стремительное экономическое возрождение Карфагена даже после столь печальной для него II Пунической войны вдохновило знаменитого Марка Порция Катона Старшего на его историческую фразу: «Карфаген должен быть разрушен!»
Призыв славного сенатора был услышан римской элитой, и в итоге III Пунической войны былой соперник Рима был уничтожен. С гибелью Карфагена исчез у римлян и страх перед пунами. О таковых им теперь напоминала ядовито произносимая поговорка: «Punica fides» – «Пунийская верность», означавшая вероломство. В последние десятилетия римско-пунического противостояния, надо сказать, римляне карфагенян по бесчестности по всем статьям превзошли.
Но вот metus gallicus о себе вскоре напомнил, да еще как! С 113-го по 101-ый гг. до н. э. римлянам пришлось вести целую серию войн с кимврами и тевтонами и в ряде сражений они терпели жесточайшие поражения. Вообще-то кимвры и тевтоны – германцы. Но вторгались они в Италию в основном из-за галльских рубежей. Память об этих поражениях, порой и разгромах у римлян была замечательно острой. Не зря ведь Цезарь, говоря об угрозе гельветов Галлии и Риму, вспомнил гибель в 107 г. до н. э. целой римской армии во главе с консулом Кассием Лонгином: «… Цезарь помнил, что гельветы убили консула Луция Кассия, разбили его армию и провели её под ярмом»[84]. Гельветы входили в состав войска кимвров, уничтожающих римскую армию. Разгром гельветов таким образом означал как отмщение за события почти полувековой давности, так и устранял очередную угрозу с севера. Покорение же всей Галлии до морского побережья и западного берега Рейна означало исторический конец того самого пресловутого metus gallicus. Чего в восьмилетней войне доблестный Юлий и добился, пусть и путём очень немалых усилий.
После трёх лет войны в Галлии стало очевидно, что до полного её покорения ещё далеко. Цезарь не мог не обеспокоиться продлением своих полномочий. Здесь его интересы совпали с интересами его коллег-триумвиров, жаждущих для себя перспективных назначений. Потому в апреле 56 г. до н. э. в городе Лукке Цезарь, Помпей и Красс вновь встретились. Значимость встречи была прекрасно понята в Риме. «Большинство из наиболее знатных и выдающихся людей»[85] съехались в Лукку, «всего там собралось сто двадцать ликторов и более двухсот сенаторов»[86]. Так что встреча в Лукке уже не была просто встречей трёх пусть и весьма значимых персон римской политики. Здесь определялись на перспективу важнейшие государственные дела. «Трёхглавое чудище» реально диктовало Республике текущую политику. В итоге «на совещании было решено следующее: Помпей и Красс должны быть избраны консулами, Цезарю же, кроме продления консульских полномочий ещё на пять лет, должна быть также выдана определённая сумма денег»[87] (на продолжение Галльской войны – И.К.). Так всё и произошло. Помпей и Красс стали консулами на 55 г. до н. э., Цезарь продолжил воевать в Галлии.
Встреча в Лукке – апогей Первого триумвирата. Далее пути триумвиров стали резко расходиться. Уже в 54 г. до н. э. смерть Юлии, жены Помпея, стала естественным концом их родственных отношений. В следующем году погиб Красс, крайне неудачно совершивший поход против Парфии. В самом Риме вражда Милона и Клодия стала принимать совсем уже опасные для государства формы: их вопиюще незаконные вооружённые отряды стали сражаться и на римских улицах, и на самом форуме. «Римское народное собрание превратилась в поле брани, где боролись не римские граждане своими мнениями, а гладиаторы мечами»[88]. Надо сказать, что бесславная гибель Красса явно ослабляла позиции Цезаря. Красс был много ближе к доблестному Юлию, нежели к Помпею. Хотя у обоих – Помпея и Красса – и было сулланское прошлое, но Помпей всегда был ближе к оптиматам, а Красс не раз бывал с Цезарем заодно, им даже обоим приписывали соучастие в загадочном «первом заговоре Катилины». Помимо утраты союзника по триумвирату положение Цезаря осложнялось восстанием в Галлии Верцингеторикса, что требовало от наместника Галлии чрезвычайных военных усилий.
Тем временем Помпей впервые в римской истории был избран на 52 г. до н. э. единственным консулом. Это было сущностным попранием самой консульской власти. Ведь таковая как раз и заключалась в коллегиальности. Единовластие традиционно давалось только диктатору. Но Помпей диктатором не стал. Возможно, опасаясь слишком явной параллели с Суллой, страшная память о кровавых делах его диктатуры была в Риме всё ещё жива. Не исключено, что и сенат надеялся на добропорядочность Помпея, который сам себе подберёт товарища по консульству[89]. Но Помпею одиночество на вершине власти очевидно понравилось…
С беспорядками в Риме было быстро покончено. Клодий погиб в схватке с людьми Милона, а рано торжествующего свою «победу» самого Милона Помпей принудил отправиться в изгнание. Что же касалось отношений оставшихся триумвиров, то гибель Красса вовсе не сделала их дуумвирами. Во время своего единоличного консульства Помпей провёл постановление, что его полномочия в Испании, которые он получил ещё в 54 г. до н. э. согласно договорённостям в Лукке, продлевались ещё на пять лет – до 45 г. до н. э. Легионеры войск, стоящих в Испании, каковых Помпей полагал своими, должны были получить щедрое вознаграждение за счёт государственной казны. Для армии Цезаря, завершавшей в тяжёлых боях Галльскую войну, имевшую столь немалое значение для Республики, ничего подобного не предусматривалось. Более того, по Риму пошли толки, что стоило бы вообще сократить срок полномочий Цезаря в Галлии. Вскоре выяснилось, что это вовсе не пустые разговоры. В сенате сторонники Помпея, не без его ведома, разумеется, подняли вопрос о сроке окончания наместничества Цезаря. Если он сам полагал таковой 1-ым января 48 г. до н. э., то сенат стал настаивать на малоприятной для него дате 1 марта 49 г. до н. э. Положение Цезаря было тревожным. После консульства без коллеги Помпея последующие консулы (и на 51 г. до н. э., и на 50 г. до н. э.) избирались из сторонников оптиматов, вождем каковых ныне однозначно стал Помпей. Правда, консулом 51 г. до н. э. был и сторонник Цезаря. Старые недоразумения, обиды, сенатом Помпею нанесённые, он великодушно предал забвению. Похоже, сулланские корни его военной и политической карьеры окончательно взяли верх. Цезарь не мог этого не видеть и не понимать возможных последствий. В складывающемся положении пойти на поводу у контролируемого всё более и более откровенно враждебными ему оптиматами сената становилось крайне опасно. Поступить, подобно тому же Помпею в 62 г. до н. э., распустить легионы и покорно простым гражданином вернуться в Рим означало бы конец всей его военной и политической карьеры. Понятно, такой человек как Гай Юлий Цезарь категорически не мог принять подобный поворот событий. Между тем политическое обострение в Республике нарастало всё с большей и большей силой.
В сентябре того же самого 51 г. до н. э., когда юный Гай Октавий Фурин впервые произнес в Риме свою публичную речь на похоронах своей бабушки, сестры Гая Юлия Цезаря Юлии, большинство сената, ведомое оптиматами, приняло постановление, согласно которому консулам следующего года было поручено подыскать преемника Цезаря на должности проконсула Галлии. Само собой, консулами на 50 г. до н. э. вновь были избраны очередные сторонники оптиматов. По счастью, у Цезаря в Риме оставался верный союзник – плебейский трибун Гай Скрибоний Курион.
Прекрасно зная настроения в сенате, Курион сделал верный вывод, что сенат римского народа не только опасается хорошо известного всем честолюбивого славного потомка Аскания Юла, но не испытывает полного доверия и к скромному всаднику Гнею Помпею, пусть он и стал окончательно оптиматом. Цезарь-то рядов популяров никогда не покидал, потому среди населения Рима и Италии сторонников у него было множество. Курион предложил вариант, как бы ставящий обоих политических и военных, что скрывать, вождей в равное положение: пусть оба сложат с себя имеющиеся полномочия и распустят легионы. Сенат, и Помпея тоже опасавшийся, ибо в том, очевидно, проснулась тяга к единовластию, большинством голосов (370 против 22-х) такое постановление принял. Цезарь немедленно сообщил о своём согласии его исполнить. Помпей, очевидно не ожидавший такого оборота дел в сенате, каковой почитал уже решительно своим, отказался. Стало понятно, что в рядах оптиматов и помпеянцев всё не так уж и складно. Положение Цезаря явно укреплялось. Такой поворот дел ни Помпея, ни оптиматов в равной степени не устраивал. Они вновь объединились. По Риму и Италии немедленно стали распространяться ложные слухи о будто бы уже начавшемся походе легионов Цезаря на столицу. Потому возникала необходимость сохранить армию Помпея, дабы было кому противодействовать Цезарю, дерзко начавшему гражданскую войну. Но слухи были уж больно грубо сработаны. Сторонники Цезаря их без особого труда разоблачили и чрезвычайных полномочий Помпей не получил. В отчаянии действующий консул-оптимат Марцелл и два вновь избранных консула той же политической ориентации уговорили Помпея взять на себя защиту города и государства, на каковые, к слову сказать, никто явственно не покушался. На тот момент поход на Рим в планы Цезаря ещё не мог входить.
В декабре 50 г. до н. э. Помпей покинул столицу и приступил к военным приготовлениям. По сути, из всех источников следует однозначный вывод: гражданская война в Риме в 49 г. до н. э. грянула по вине оптиматского большинства сената и решившегося примкнуть к нему и возглавить таковое Гнея Помпея Великого. Ведь Цезарь был даже готов распустить восемь из девяти своих легионов, уступить завоёванную им Галлию и сохранить за собой до избрания в консулы – абсолютно законного избрания! – только два легиона, да две достаточно скромные провинции: Цизальпийскую Галлию и Иллирик[90]. Как справедливо написал Веллей Патеркул; «Ничто не было упущено Цезарем для сохранения мира, ничто не было принято помпеянцами»[91]. Консул Лентул на заседании сената буквально сорвался на крик. «И таким образом, под влиянием окриков консула, страха перед стоявшим вблизи войском и угроз друзей Помпея, большинство против воли и по принуждению присоединяется к предложению Сципиона (консул 51 г. до н. э. – И.К.), которое гласило: «Цезарь должен к известному сроку распустить свою армию; в противном случае придётся признать, что он замышляет государственный переворот»[92]. Протест народных трибунов Марка Антония и Квинта Кассия, их законное «вето» просто игнорируются. Более того, «консул Лентул и его друзья воспротивились и дошли до того, что выгнали Антония и Куриона (также сторонник Цезаря – И.К.) из сената»[93]. Они были вынуждены бежать из Рима[94]. Такие действия сената прямо означали начало гражданской войны[95].
Игнорировать подобный senatusconsultum ultimum Цезарь решительно не мог. Это означало бы полную сдачу на милость очевидно совсем немилостивого врага. Да и само такое поведение правящей олигархической верхушки нобилитета, господствующей в сенате, каковой в это время совсем уже не был «сенатом римского народа», ибо интересы такового давным-давно никак не представлял, было для Гая Юлия Цезаря глубоко оскорбительно. Ведь за последнее десятилетие его заслуги перед отечеством были очевидны и, безусловно, должны были почитаться выдающимися. По словам Плутарха, Цезарь в Галльских войнах «… выказал себя не уступающим никому из величайших, удивительнейших полководцев и военных деятелей. Ибо, если сравнить с ним Фабиев, Сципионов и Метеллов или живших одновременно с ним и незадолго до него Суллу, Мария, обоих Лукуллов и даже самого Помпея, воинская слава которого превозносилась тогда до небес, то Цезарь своими подвигами одних оставит позади по причине суровости мест, в которых он вёл войну, других – в силу размеров страны, которую он завоевал, третьих – имея в виду численность и мощь неприятеля, которого он победил, четвертых – принимая в расчёт дикость и коварство, с которыми ему пришлось столкнуться, пятых человеколюбием и снисходительностью к пленным, шестых – подарками и щедростью к своим воинам и, наконец, всех – тем, что он дал больше всего сражений и истребил наибольшее число врагов. Ибо за те неполные десять лет, в течение которых он вёл войну в Галлии, он взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста народностей, сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил во время битв и столько же захватил в плен»[96].
Да и добыча, обогатившая казну Римской державы, была очень достойной.
Веллей Патеркул, правда, число истреблённых Цезарем в Галльской войне врагов числит много более скромным, но в величии его побед также не сомневается; «…Цезарем было перебито четыреста тысяч врагов и ещё больше взято в плен. Приходилось сражаться то в открытом бою, то во время переходов, то свершая вылазки. Дважды он проникал и в Британию. Едва ли не любая из девяти летних кампаний Цезаря в полной мере заслуживает триумфа»[97].
Было время, когда тот же сенат, получив известия о победах Цезаря в Галлии, «постановил устроить пятнадцатидневные празднества в честь богов, чего не бывало раньше ни при одной победе»[98].
А ныне сенат, что называется, сам напросился на то, чтобы победоносные легионы Цезаря, подарившие Риму новую богатую и обширную провинцию, тем самым на корню истребив у римлян злополучный почти четырёхвековой metus gallicus, были готовы под водительством горячо любимого полководца идти на столицу Республики…
Вернёмся теперь непосредственно к роковым событиям 49 г. до н. э., предопределившим, как выяснилось, не только судьбы Цезаря и Помпея, но всей Римской державы и скромного тринадцатилетнего мальчика по имени Гай Октавий Фурин. Ему-то ведь в итоге и достанутся плоды многолетних гражданских войн, только-только собравшихся разразиться. Да и вся Республика! Об этом, понятное дело, ни сам подросток, ни горячо любящая его мать Атия, ни его отчим, ни сам двоюродный дедушка, с одним единственным легионом приближавшийся к речке, именуемой Рубикон и бывшей рубежом между провинцией Цизальпийская Галлия и собственно Италией, тогда и помыслить не могли.
Цезарь, находясь во главе верных ему когорт на берегу Рубикона, прекрасно осознавал, что влечёт за собой переход этой реки: «Здесь он помедлил и, раздумывая, на какой шаг он отваживается, сказал, обратившись к спутникам: „ещё не поздно вернуться; но стоит перейти этот мостик, и всё будет решать оружие“.»[99] По другой версии сказал Цезарь так: «Если я откажусь от перехода, это будет бедой для меня, если перейду – для всех»[100], он понимал, «…началом каких бедствий для всех людей будет переход через эту реку и как оценит этот шаг потомство. Наконец, как бы отбросив размышления и отважно устремляясь навстречу будущему, он произнес слова, обычные для людей, вступающих в отважное предприятие, исход которого сомнителен: „Пусть будет брошен жребий!“ – и двинулся к переходу»[101].
Короче, «решив воевать, Цезарь с войском перешёл Рубикон»[102].
Цезарь не зря столь тягостно размышлял об оценке потомками его решительного поступка. Подавляющее большинство историков, со времён античных и до времён новейших, традиционно винит именно Гая Юлия Цезаря в развязывании гражданской войны в Римской республике в 49 г. до н. э.[103]
Движение Цезаря на Рим оказалось, как известно, замечательно успешным. Хвастливые слова Помпея: «Стоит мне только топнуть ногой в любом месте Италии, как тотчас же из-под земли появится и пешее, и конное войско», оказались звуком пустым[104]. Топать он мог сколько угодно. Мог даже исполнить воинственную «пляску салиев» (пляска жрецов Марса и Квирина на празднестве в честь бога войны Марса), но собрать сколь-либо серьёзные силы в Италии для отпора Цезарю, у которого при переходе Рубикона было всего пять тысяч пехотинцев и триста всадников, Помпей оказался не в состоянии и был вынужден покинуть Италию. За Цезарем пошли все слои населения Италии и даже солдаты собственных войск Помпея. Нельзя не согласиться с выводом, что победное шествие Цезаря в Рим при массовой поддержке италийцев стало своеобразным референдумом, обеспечившим доблестному Юлию господство в Италии, а это и стало залогом его грядущей победы в начавшейся не по его вине гражданской войне[105].
Отчего же тогда так устойчива точка зрения, что именно Цезарь – главный виновник гражданской войны?
Здесь представляется справедливым объяснение, что его главные противники – Марк Порций Катон Младший и Марк Туллий Цицерон весьма успешно создали идеологический миф о защите помпеянцами «римской свободы», каковую стремился уничтожить рвущийся к единовластию Гай Юлий Цезарь[106]. Катон имел самую высокую нравственную репутацию ревнителя «свободы», Цицерон мастерски владел словом и пером, а финал гражданской войны как бы подтвердил верность подобного подхода к целям сторон. Не зря Цицерон в третьей книге своего труда «Об обязанностях» утверждал, что у Цезаря всегда на устах были слова Этеокла из трагедии Еврипида «Финикиянки»:
- «Коль преступить закон – то ради царства;
- А в остальном его ты должен чтить»[107].
Действительно ли Цезарь столь часто и неосторожно твердил эти как бы программные для себя строки – сие осталось на совести славного оратора и мыслителя, никогда вообще-то не упускавшего случая опорочить своего политического противника, менее всего считаясь с правдивостью своих утверждений.
На самом деле вспыхнувшая война ещё вовсе не выглядела как борьба между «республиканцами» и сторонниками «самовластия» Цезаря. Множество сторонников Цезаря отнюдь не были противниками существующего политического строя в Риме[108]. В то же время стоит ли почитать Помпея как бескорыстного борца за римскую свободу? Ведь за годы, прошедшие после его законопослушной высадки в Брундизии по окончании Восточной кампании, он, похоже, сильно изменился и идея единовластия, законно дарованного ему сенатом, едва ли была ему так уж и чужда.
Что до «римской свободы» как таковой, то Республика давно уже превратилась в лучшем случае в «выборную олигархию»[109]. Когда же Цезарь шёл на Рим в 49 г. до н. э., то Римская держава находилась в очевидном состоянии хаоса, а действия сената, походу Цезаря предшествовавшие, ясно показали неспособность существующей политической системы нормально функционировать[110]. Своими бестолковыми метаниями сенаторы буквально вынудили Цезаря перейти к решительным действиям. Так что «ревнители римской свободы» сами породили очередную гражданскую войну в Римской республике.
Где же находился в эти роковые дни Гай Октавий, и как его родные воспринимали происходящее?
Когда стало известно о переходе Цезарем Рубикона и его походе на Рим, то, очевидно опасаясь помпеянцев, Атия и Филипп отослали мальчика из столицы в одну из италийских вилл, его отцу принадлежавших[111]. Осторожность, далеко не лишняя! По счастью, победное шествие славного Юлия по Италии сделало эту предосторожность непродолжительной. Вступление же Цезаря в Рим радикально меняет судьбу Гая Октавия.
До этой поры Цезарь едва ли особо интересовался своим внучатым племянником. Конечно же, он знал о его существовании. Но, во-первых, тот был ещё слишком мал, а, во-вторых, в годы Галльской войны и последующего противостояния с сенатом ему было как-то не до родственных дел.
То, что статус Гая Октавия в Риме решительным образом изменился, стало всем очевидным, когда, как только ему исполнилось четырнадцать лет, он стал не только обладателем взрослой мужской тоги, по возрасту ему никак не полагавшейся, но и был избран членом жреческой коллегии понтификов. Понтифики – их было пятнадцать человек во главе с верховным понтификом – являлись главной жреческой коллегией в Риме. Они стояли над всеми остальными жрецами, курировали и ведение календаря, и отправление всех традиционных священных обрядов. В их ведении находилось сакральное право, нормы его исполнения. Вхождение в состав коллегии понтификов позволяло активно участвовать в общественной и политической жизни Республики[112]. Так что официальное вступление подростка Гая в статус взрослого римского гражданина было дополнено и началом его государственной деятельности. Напомним, верховным понтификом тогда был сам Гай Юлий Цезарь, избранный на эту почётную и почтенную должность полтора десятилетия назад. Вот как описаны эти события биографом Августа Николаем Дамасским: «На форуме он (Гай Октавий – И.К.) выступил в возрасте не более четырнадцати лет, после того, как он сложил с себя тунику, окаймлённую пурпуром, и надел белую, как символ того, что он вступил в ряды мужей. Он привлёк к себе народ своей красотой и блеском своего знатного рода, когда совершал торжественные жертвоприношения, записанный в коллегии понтификов на место умершего Луция Домиция; народ подал за него голоса с большим воодушевлением…»[113]
Нам, конечно, понятно, что блеском знатного рода был блеск рода Юлиев. До этого родство Гая с таковым как-то мало замечалось, хотя, разумеется, было известным. Но сейчас это было родство с тем, кто утвердился в Риме и во всей Италии. Потому слава великого человека заставила римлян несколько по-иному взглянуть на его скромного юного родственника. Да тут ещё своевременно умер один из понтификов…
Возможно, что народ и в самом деле воодушевлённо, с энтузиазмом голосовал за Гая Октавия, прекрасно понимая, чья это креатура. Слава Цезаря и, главное, его власть позволили Гаю Октавию вступить на дорогу политической жизни Рима.
Это были события 48 г. до н. э. В том же году Гай Юлий Цезарь одерживает свою важнейшую победу над Гнеем Помпеем Великим в битве при Фарсале в Фессалии, что предопределило его победу в гражданской войне. Правда, впереди у Цезаря ещё были непростые военные кампании против не желающих мириться с поражением и гибелью своего вождя, напрасно искавшего убежища в Египте, помпеянцами. На последнюю из таковых в 45 г. до н. э. – Испанскую кампанию – прибудет и Гай Октавий, которому в этом году, в начале осени, минет уже восемнадцать лет. Как же провёл Гай годы гражданской войны? Любопытно, что мать Атия трепетно оберегала ненаглядного сына от всяких опасностей и неприятностей. Такая трогательная материнская забота была вызвана, прежде всего, слабостью здоровья сына, очевидной с его младенческих лет. Потому не стоит удивляться такому свидетельству Николая Дамасского: «И хотя по закону он был уже причислен к взрослым мужчинам, мать его всё так же не позволяла ему выходить из дома куда-нибудь, кроме тех мест, куда он ходил раньше, когда был ребёнком. Только по закону он был мужчиной, а во всём остальном оставался на положении ребёнка»[114].
На заседания коллегии понтификов и на совершения жертвоприношений, в каковых сии почтенные жрецы обязаны были участвовать, надо полагать, Атия ребёнка-понтифика всё-таки отпускала.
Открывшаяся знатность Гая, очевидные перспективы его грядущей карьеры при такой-то родственной опеке, да в сочетании с его юностью и не лишённой привлекательности внешностью стали привлекать к нему женское внимание… Но пока женские чары на него не действовали… «Несмотря на их многочисленные попытки увлечь его, он никогда не поддавался; мать, оберегая постоянно, сдерживала и никуда не отпускала его, да и сам он был благоразумен, поскольку с годами становился взрослее»[115].
В то же время была проявлена забота о будущем семейном положении Гая. Ему нашли достойную невесту: «Помолвлен он был ещё в юности с дочерью Публия Сервилия Исаврика»[116]. Этому браку, впрочем, не суждено будет состояться.
Тем временем великий родственник и покровитель, несмотря на крайнюю свою занятость делами военными, оказавшимися много более непростыми, нежели можно было ожидать после блистательной победы при Фарсале, не забывал о своём внучатом племяннике и продолжал постепенное введение его в разного рода государственные обязанности. Известно, что в 47 г. до н. э. Октавий был префектом Рима во время так называемых Латинских игр. Этот праздник (Feriae Latinae) был одним из древнейших празднеств, восходившим ещё к ранней республиканской эпохе. Он проходил на Альбанской горе, где, как это знал каждый римлянин, сын Энея Асканий Юл, предок рода Юлиев, основал город Альба-Лонгу. Потому, выступать как praefectus Feriarum Latinarum для Гая Октавия было делом не просто почётным, но и знаковым.
Римский политик должен был непременно владеть умением, а лучше сказать, искусством организовывать любезные народу зрелища самого разного толка: и игры, и театральные представления, и гладиаторские бои. Поначалу Цезарь решил привлечь юного родственника к руководству театром: «Цезарь хотел также, чтобы он приобрёл опыт в устройстве зрелищ и исполнял на них обязанности судьи. В Риме было два театра: Римский, в котором он сам взял на себя такие заботы, и Греческий, руководить которым он предоставил Октавию. Тот принялся с таким усердием и добросовестностью исполнять свои обязанности, никуда не отлучаясь даже в долгие жаркие дни до тех пор, пока не заканчивалось представление, что как человек молодой и непривычный к напряжению заболел»[117].
Хворь оказалась тяжёлая, и родные были в страхе, беспокоясь, что его некрепкий организм может не перенести такой жестокой болезни. «Больше всех тревожился Цезарь. Потому в течение дня он или лично находился при больном, внушая ему бодрость, или посылал своих друзей и не позволял врачам оставлять его. Однажды во время обеда кто-то сообщил ему, что юноша впал в забытье и что ему очень плохо. Цезарь сейчас же вскочил с ложа и, не одев обуви, поспешил в помещение, где лежал больной. Полный тревоги, он настоятельнейшим образом требовал помощи врачей, сам сел возле больного и очень обрадовался, когда привёл его в чувство»[118].
Беспокойство Цезаря о больном Октавии говорит о многом. Очевидно, внучатый племянник стал для него действительно родным, близким и дорогим человеком. И это было решающим обстоятельством, определившим будущее Гая. Он ведь не был единственным родственником Цезаря. От другой сестры, Юлии Старшей, у него было ещё два племянника: Луций Пинарий и Квинт Педий. Но их он почему-то никак не выделял. Среди очень дальних родственников Цезаря числился также и один из ближайших его соратников Марк Антоний. Был, впрочем, и прямой потомок – Цезарион, сын Гая Юлия Цезаря и царицы Египта Клеопатры. Но рождён-то он был вне брака и, самое главное, не от римлянки. Потому, наверное, Цезарь никогда сына официально не признавал, поскольку римляне такого, пусть и прямого потомка не одобрили бы. Бережное же отношение к Гаю Октавию Фурину – очевидное свидетельство серьёзных намерений Цезаря в отношении этого молодого человека.
В начале 46 г. до н. э. армия Юлия Цезаря высадилась в Африке. Октавий рвался сопровождать его в этом походе, но Атия не пожелала отпустить сына на войну, опасаясь, скорее, за крепость его здоровья, нежели за сугубо военные опасности, любого на войне подстерегающие. Узнав о мнении матери, Гай по привычке безропотно ей повиновался, оставшись в Риме[119]. Тем не менее, зная, должно быть, о стремлении молодого человека сопутствовать ему на войне, Цезарь вручил Гаю военные награды и позволил участвовать в своём африканском триумфе[120]. Октавию было предписано следовать за колесницей триумфатора и украшен он был знаками военной доблести, «точно он вместе с ним участвовал в войне»[121].
Завершив эту непростую очередную войну, Цезарь, вопреки своему обыкновенному великодушию, на сей раз простил только немногих пленников. Упорство помпеянцев, не пожелавших извлечь должных уроков из предыдущих войн и вопреки всякой логике, с его точки зрения, не признающих поражения, крепко его разозлило. Но эта редкая суровость Цезаря на сей раз оказалась не по душе Октавию, поскольку жертвой её мог стать родной брат лучшего друга Гая Марка Випсания Агриппы. Брат Агриппы был близок к Катону Младшему и из-за дружбы с ним участвовал в Африканской войне на стороне помпеянцев и оказался среди пленников[122]. Ранее Октавий Цезаря никогда ни о чём не просил. Но на сей раз речь шла о жизни родного брата его лучшего друга… Колебания у Гая, конечно, были: и отсутствие опыта подобных обращений, и очевидная враждебность Цезаря к этим своим противникам, коих он полагал великодушия не заслуживающими… «Наконец он отважился, попросил и получил просимое. Вследствие этого он очень радовался, что спас брата своего друга»[123].
Дружба Гая Октавия и Агриппы была замечательно крепкой и длилась до тех пор, пока ладья Харона не увезла Марка в царство мёртвых.
В последней Испанской кампании гражданской войны Цезаря с помпеянцами Гаю наконец-то удалось принять участие. Собственно Цезарь, отправляясь в Испанию, где сыновья Помпея Гней и Секст собрали последние силы, упорно служившие делу их погибшего отца, предписал Октавию, когда он окрепнет от очередной хвори, следовать за ним[124]. Как пишет Светоний: «Когда же затем его внучатный дядя отправился в Испанию против сыновей Помпея, то он, ещё не окрепнув после тяжкой болезни, с немногими спутниками, по угрожаемым неприятелем дорогам, не отступив даже после кораблекрушения, пустился ему вслед; а заслужив его расположение этой решительностью при переезде, он вскоре снискал похвалу и своими природными дарованиями»[125].
Задержка из-за кораблекрушения в дороге привела к тому, что Октавий опоздал к главному событию Испанской кампании – битве при Мунде.
Последняя битва гражданской войны оказалась для Цезаря, неожиданно, и самой тяжёлой. Поначалу помпеянцы потеснили легионы Цезаря и он, «видя, что неприятель теснит его войско, которое сопротивляется слабо, закричал, пробегая сквозь ряды солдат, что, если они уже ничего не стыдятся, то пусть возьмут и выдадут его мальчишкам»[126]. Под мальчишками надо понимать, он имел в виду сыновей Помпея.
Однако победа Цезарю на сей раз далась с величайшим трудом. Сам он после боя сказал о нём, «что он часто сражался за победу, теперь же впервые сражался за жизнь»[127]. Но главное всё же было достигнуто: Гней Помпей Младший погиб. Секст Помпей, правда, сумел скрыться где-то в горах Испании, и цезарианцам не удалось его разыскать. Этому «мальчишке», как называл его Цезарь, предстояло ещё напомнить Риму о себе и причинить немало неприятностей и даже бед наследнику божественного Юлия, нашему герою.
Тем временем Гай Октавий прибыл в Тарракону. Здесь «он вызвал у всех крайнее удивление тем, что смог приехать при столь тревожной военной обстановке»[128]. Цезаря, однако, он там не застал и был вынужден двинуться далее, претерпев ещё больше трудностей и опасностей, нежели по пути из Рима в Испанию. Лишь близ города Калии[129] «Цезарь неожиданно увидел юношу, оставленного им больным и счастливо избежавшим многочисленных врагов и разбойников, приветствовал его как сына и, никуда не отпуская, держал его при себе»[130].
Приблизив Гая, Цезарь постарался как можно подробнее оценить способности внучатого племянника, его интеллектуальное развитие, что называется, «испытывая его сообразительность»[131]. Молодой человек порадовал своего родственника и покровителя и остроумием, и сметливостью, краткими и точными ответами на многие важные вопросы, поставленные ему для испытания его ума и способностей.
Испытание Октавий выдержал и Цезарь «полюбил и оценил его ещё больше»[132]. Николаю Дамасскому вторит и Светоний, сообщающий о Гае, что «он вскоре снискал похвалу и своими природными дарованиями»[133].
Выдержать испытание на силу интеллекта у такого суперинтеллектуала, как Гай Юлий Цезарь, да ещё и снискать похвалу – дело нешуточное, только молодому человеку с очень неординарными способностями и большим природным умом посильное. Да и недурное образование, им полученное, здесь, конечно же, пригодилось. Едва ли Цезаря могли огорчить некоторые огрехи Октавия в греческом языке. Он более всего наверняка оценил остроумие, сообразительность, умение кратко и убедительно при этом излагать свои мысли. Тем более, что и у самого Цезаря такие таланты были высочайшие.
И ещё одно достоинство внучатого племянника Цезарь высоко оценил. Октавий на обратном пути из Испании в Италию без предварительного разрешения Цезаря взял с собой на его корабль трёх своих друзей. Цезарь вместо того, чтобы рассердиться из-за такого самоуправства, остался доволен такой привязанностью Гая к своим друзьям и даже похвалил за желание «всегда иметь при себе достойных людей»[134].
Вернувшись вместе с Цезарем в Италию, Октавий попросил у него разрешения поехать в Рим для встречи с Атией. Естественный поступок любимого и любящего сына. Но вот, согласно сообщению Николая Дамасского, близ Рима у холма Яникул он встретил целую толпу людей, во главе которой находился некий человек, называвший себя «сыном Гая Мария». Он якобы изъявил желание быть причисленным к роду Цезаря, поскольку Цезарь, как известно, состоял с Гаем Марием в родстве, ибо женат Марий был на тётке Цезаря Юлии[135]. И якобы Октавий благоразумно ответил, что глава рода – Гай Юлий Цезарь, и только он может принять такое решение. Но пока Цезарь не в курсе – обращаться к Гаю Октавию незачем[136]. Атия и Октавия поддержали сына и брата в этом благоразумии.
Поверить в такую встречу невозможно. При жизни Цезаря подобный самозванец не посмел бы появиться. Известно, что некий Гай Аматий, он же Герофил, объявился уже после гибели Цезаря в Мартовские Иды, пытался взбунтовать народ и был вскоре убит по приказу Антония, а консул Долабелла приказал истребить всех его сторонников[137]. Биограф Августа, скорее всего, измыслив такую решительно невозможную встречу, старался подчеркнуть, что ещё при жизни Цезаря Гай Октавий воспринимался как представитель рода Юлиев, что было невозможно, ибо в то время Цезарь внучатого племянника ещё не усыновил, да, кажется, при всём к нему уже очевидном расположении делать это не спешил.
Но весьма важные события в жизни Гая Октавия после его возвращения в Рим действительно происходили. В том самом 45 г. до н. э. трибун Луций Кассий предложил закон, согласно которому целый ряд плебейских семейств были бы переведены в состав патрициев. Среди таковых оказались и Октавии. Итак, на восемнадцатом году жизни Гай Октавий стал патрицием.
Понятное дело, закон этот был на деле предложен не плебейским трибуном Кассием, но самим Гаем Юлием Цезарем. Смысл его был в укреплении поредевшего сословия патрициев людьми, на которых победитель в гражданской войне мог бы в дальнейшем опереться. Заодно в этот список он включил и Октавиев, убедившись в толковости и полезности для своей власти молодого родственника. Осенью того же года Цезарь составил своё завещание, в каковом главным наследником своим он как раз назвал Гая Октавия. Но умирать диктатор никак в ближайшие годы не собирался, о чём свидетельствуют его грандиозные военные планы: «…усмирить вторгшихся во Фракию и Понт дакийцев; а затем пойти войной на парфян через Малую Армению, но не вступать в решительный бой, не познакомившись предварительно с неприятелем»[138]. На последнее замечание следует обратить особое внимание. Цезарь помнил о злосчастной судьбе похода на Парфию своего коллеги по триумвирату Марка Лициния Красса и не желал ни в коем случае повторять его роковые просчёты. Потому усыновление Гая Октавия могло состояться и спустя немало лет.
Но, готовясь к грандиозному восточному походу, в каковом, по его замыслу, должны были принять участие 16 полных легионов и 10 тысяч всадников[139], dictator perpetuus – пожизненный диктатор, каковым Цезарь стал официально после своей окончательной победы над помпеянцами при Мунде[140], о Гае Октавии не забывал. Более того, тот должен был принять участие в этом грандиозном походе по пути Александра Великого, чей образ тревожил доблестного Юлия с молодости[141]. Есть версия, что Гай Октавий, вдохновлённый, надо думать, успехами последних месяцев, и, переоценив своё влияние на Цезаря, стал домогаться должности «начальника конницы» в предстоящем походе. Начальник конницы – Magister equitum – второе лицо в армии после главнокомандующего! Цезарь, однако, столь великие притязания восемнадцатилетнего iuvenis’a решительно пресёк. Начальником конницы был назначен Марк Эмилий Лепид, человек многоопытный и Цезарю, безусловно, преданный[142].
Самого Октавия Цезарь направил в Эпир, в город Аполлонию, куда молодой человек прибыл на третий месяц после своего возвращения в Рим[143]. Это означало, что диктатор мыслил привлечение Гая к участию в грядущем походе против дакийцев и затем против парфян[144]. Согласно пожеланию Цезаря, в Аполлонию Гая сопровождали его близкие друзья – Марк Випсаний Агриппа и Квинт Сальвидиен Руф. Вместе с ними он проходил обучение военному делу в кавалерийских подразделениях, прибывших в Эпир из Македонии[145]. Помимо этого Октавий продолжал занятия свободными науками и искусствами[146]. Сам Гай Юлий Цезарь, готовясь к главному военному походу своей жизни по пути Александра Великого, продолжал обустраивать Римскую державу, наконец-то, после тяжёлой Испанской кампании полностью оказавшейся в его власти. Власть эта для него, в чём сомневаться не приходится, была средством вывода государства из явно затянувшегося всеобъемлющего кризиса, для чего следовало провести необходимые преобразования[147].
Для проведения реформ требовалась, прежде всего, организация той самой высшей власти, каковой после четырёх лет гражданской войны Цезарь и добился. И здесь важен взгляд самого победителя на Республику, которая и оказалась в его власти.
Необходимо помнить, что само это понятие «Республика» для римлян вовсе не было обозначением формы правления[148]. Для них оно было равноценно понятию «respopuli» – делу всего римского народа. «Оно охватывало всю сферу его интересов, материальных и духовных ценностей, государственных институтов и обычаев»[149]. Такова была историческая традиция понимания римлянами сути их Республики, насчитывавшая уже более четырёх с половиной столетий. Однако, потрясения гражданских войн, безусловная неспособность традиционной формы правления обеспечить Римской державе внутреннюю прочность не могли не породить и появления иного взгляда на понятие «Республика». И первым, кто озвучил этот новый взгляд, был Гай Юлий Цезарь: «Республика ничто, пустое имя без тела и облика[150]».
То, что здесь Цезарь истолковывает слово «республика» исключительно как форму правления – сомнению не подлежит. Ведь само Государство Римское вовсе не было для него пустым именем. Его величию и процветанию диктатор отдавал все свои силы. Могущество, слава, благополучие Рима – в этом Цезарь и полагал весь смысл своей державной деятельности. Пустым же местом для него была изжившая себя форма правления.
В этом, правда, мало кто в Риме мог быть с ним солидарен. Для того же Цицерона «res publica amissa» – «утраченная республика» – это не просто уходящая в прошлое форма правления[151]. В одном из писем к Луцилию Пету великий оратор оплакивает не форму правления, погибающую при единовластии Цезаря, но погибель самого государства, отечества: «Отечество я уже оплакал сильнее и оплакивал дольше, чем любая мать – единственного сына … Мы уже четыре года живы по милости, если милость или жизнь – пережить государство»[152].
И ведь это было не приватное мнение Марка Туллия Цицерона, так мыслило подавляющее большинство римской элиты. Так что, сильнейшая оппозиция представлениям Цезаря и, главное, его действиям по упразднению Республики как формы управления Римом была неизбежна.
Что же являла собой власть Гая Юлия Цезаря в Риме, завоёванная им в итоге Гражданской войны 49–45 гг. до н. э.?
Споры об этом ведутся историками уже не одно столетие и конца таковым не видно. Во второй половине XIX века сформировался сугубо апологетический взгляд на Цезаря, причём параллельно в трёх разных историографиях – французской, немецкой и английской. Это Огюст Конт, министр образования Наполеона III Жан Виктор Дюруи, крупнейший немецкий антиковед Теодор Моммзен, английский историк Джеймс Фрауд. Независимо друг от друга у всех этих авторов Юлий Цезарь изображался в идеальных формах и образцах, это был просто культ гения[153]. Отсюда и идеализированная оценка власти Цезаря: «демократическая монархия»[154].
Приписывание Цезарю «гениальной проницательности», способной предвидеть события трёх ближайших веков, никуда не ушло и в XX столетии[155]. Это отметил С. Л. Утченко[156]. Приписывались Цезарю и стремления установить в Риме эллинистическую форму монархии с очевидным уклоном в монархию восточную[157].
Строго говоря, отрицать монархические устремления Цезаря сложно. Для ведущих исследователей той эпохи они совершенно очевидны[158]. Что же лежит в основе этого подхода?
Цезарь не стал упразднять или даже покушаться на традиционные римские учреждения. Сенат, консулы, преторы, эдилы, квесторы, трибуны, народные собрания – все это продолжало существовать, будто в государстве ничего не произошло. Да было бы и странно, если бы Цезарь на них покусился. Во-первых, здесь он не нашёл бы ни малейшей поддержки ни в одном из слоев римского общества, во-вторых, а как же тогда собственно управлять государством? Естественно, что он должен был опираться на действующие государственные институты. Задача была только в одном: их надо было приспособить к новой реальности – обретённому им по итогом гражданской войны единовластию. А оно вытекало из следующих его полномочий: пожизненная диктатура – dictator perpetuus, консульская власть, каковой он располагал с 48 г. до н. э., цензорская власть – praefectura morum, а также трибунские полномочия – tribunicia potestas. Как патриций он не мог быть трибуном, но полномочия таковые ему были послушно предоставлены. Не забудем и полномочия верховного понтифика, каковыми он обладал с 63 г. до н. э., когда ещё и помышлять не мог о грядущем единовластии[159].
Помимо официальных магистратур, самый набор каковых обеспечивал ему безграничное единовластие, у Цезаря ещё были и дополнительные права, таковое гарантирующие. Он получил личное имя imperator и оставался верховным главнокомандующим всеми римскими войсками. Также он распоряжался финансами Республики, назначением наместников в провинции и должностных лиц в самом Риме[160].
Всё это вкупе обеспечивало Цезарю полновластие в Римской республике.
Но полновластие политическое ещё не есть монархия. Это диктатура или же тирания – в зависимости от личных качеств правителя, но это не царская власть. Таковая непременно нуждается в той или иной степени сакрализации и должна, как правило, быть наследственной принадлежностью одного рода. Надо сказать, что процесс сакрализации власти Гая Юлия Цезаря шёл, причём темпы его, очевидно, были высоки: «Мало того, что он принимал почести сверх всякой меры: бессменное консульство, пожизненную диктатуру, попечение о нравах, затем имя императора, прозвание отца Отечества, статую среди царских статуй, возвышенное место в театре, – он даже допустил в свою честь постановления, превосходящие человеческий предел: золотое кресло в сенате и суде, священную колесницу и носилки при цирковых процессиях, храмы, жертвенники рядом с богами, место за угощением для богов, жреца, новых луперков, название месяца по его имени; и все эти почести он получал и раздавал по собственному произволу»[161].
На публичных торжествах Цезарь стал появляться в одежде древних альбанских царей, что должно было подчёркивать связь времён: первым царём в Альба Лонге был Асканий Юл, предок рода Юлиев. Царственная преемственность здесь угадывалась немедленно. Более того, имя Цезаря было включено в молебствие, которое совершалось в храмах, – это уже чисто монархическое явление. Цезарю также было предоставлено право устроить в своём доме fastigium – остроконечный верх, что в Риме до этого допускалось только на храмах, но никак не на частных постройках[162].
Столь немалые числом, да и важные, по сути, элементы сакрализации власти Гая Юлия Цезаря носили уже откровенно монархический характер. Если изобилие магистратур, пусть оно и было слишком уж непривычно для римлян (даже Сулла столько не имел), но всё же оставалось сочетанием исконных, традиционных римских магистратур, потому не выглядело покушением на царскую власть, то статуи рядом с царями и в храме Квирина, да ёще с надписью, и иные перечисленные сакральные нововведения не могли у кого-то оставить сомнения в том, что всё идёт к утверждению в Риме чистой монархии – царской власти. Не забудем, что сам Цезарь никогда не забывал о своих царственных предках. Будучи в самом начале своей политической карьеры скромным квестором, он на похоронах своей тетушки Юлии так говорил о предках её и своего отца: «Род моей тетки Юлии восходит по матери к царям, по отцу же к бессмертным богиням: ибо от Анка Марция происходят Марции-цари, имя которых носила ее мать, а от богини Венеры – род Юлиев, к которому принадлежит и наша семья. Вот почему наш род облечён неприкосновенностью, как цари, которые могуществом превыше всех людей, и благоговением, как боги, которым подвластны и самые цари»[163].
Должно ли удивляться, что, будучи уже единовластным повелителем Рима, он воспринимал самого себя как подлинного царя, который лишь из-за косности сознания многих римлян не может так себя называть? Да, он был пожизненным диктатором, консулом мог быть столько, сколько ему заблагорассудится, но обе эти должности не были ему симпатичны. Подобным диктатором был и ненавистный ему Луций Корнелий Сулла, «консулом без коллеги» побывал Помпей Великий… у самого Цезаря и ныне были коллеги-консулы, декоративные коллеги, но без них никуда… Да, он получил важнейшие трибунские полномочия, но сами плебейские трибуны оставались и вели себя порою просто дерзко. Один из них – некто Понтий Аквила не изволил встать, когда Цезарь во время триумфа проезжал на колеснице мимо трибунских мест. Обычно очень выдержанный Цезарь здесь вспылил и негодующе воскликнул: «Не вернуть ли тебе и республику, Аквила, народный трибун?» И ещё много дней, давая кому-нибудь какое-нибудь обещание, он непременно оговаривал: «если Понтию Аквиле это будет угодно»[164]. Ещё более разозлили Цезаря два других плебейских трибуна – Эпидий Марулл и Цезетий Флав. Когда некто в момент бурных народных рукоплесканий диктатору возложил на его статую лавровый венок, перевитый белой перевязью, что было знаком царской власти, то они сорвали перевязь, а самого энтузиаста царственности Цезаря велели отправить в тюрьму. Крайне раздражённый Цезарь не только сделал трибунам жёсткий выговор, но и лишил их должностей, в очередной раз показав всем необъятность своей власти и презрение к римским традициям и законам. «Но с этих пор он уже не мог стряхнуть с себя позор стремления к царскому званию»[165]. Потому едва ли можно согласиться с мнением, что авторитарная власть Цезаря была всего лишь «механизмом выхода из кризиса, защиты империи и средством реформ»[166]. Указанные здесь цели Цезарь, разумеется, прекрасно осознавал и делал всё для их воплощения в жизнь, но желание стать именно царём, а не каким-то подобием Суллы или Помпея, этому вовсе не мешало. Тем более и происхождение его само по себе как бы сулило ему царственную диадему. Потому-то и сугубо римскую, а не как некое подражание эллинистическим восточным царям[167]. Беда, однако, была в том, что косность римского сознания более чем за четыре с половиной века крайнего неприятия царской власти и чьего-либо стремления к ней была настолько сильна, что преодолеть её не было никакой возможности. Отсюда неизбежное рождение заговора против Цезаря как убийцы республики и тирана, рвущегося к царскому венцу. И здесь уместно вспомнить замечательно верные и точные слова Плутарха: «Удивительное дело! Те, кто по сути вещей уже находился под царской властью, страшились царского титула, точно в нём одном была потеря свободы!»[168]
Увы, и сам Цезарь невольно способствовал возникновению заговора. Прежде всего, особенностями своей выдающейся, без преувеличения просто гениальной личности. Такие люди у окружающих всегда вызывают не столько восхищение, сколько зависть, порой и лютую. Цезарь в качестве единовластного правителя решительно не походил на Мария, незадолго до смерти сумевшего захватить власть в Риме и в седьмой раз стать консулом, ни на его врага Суллу, обретшего безграничную диктаторскую власть. И тот, и другой безжалостно уничтожали своих противников или же тех, кто таковыми им казался. Великодушие же Цезаря не знало границ. Но вызывало оно у множества римлян, прежде всего из числа тех, кто принадлежал к элите Республики, «не восхищение, а зависть, не благодарность, а чувство унижения и ненависть»[169]. И речь здесь не только о давних политических противниках Цезаря. Ведь многие из его сторонников сражались в его войсках против Помпея и помпеянцев вовсе не для того, чтобы завоевать для своего полководца единоличную власть. «Эти люди и создали заговор против Цезаря»[170].
Понятно, что у римского нобилитета было достаточно причин не жаловать Цезаря и его власть. Ведь при таковой их права на высшие должности в государстве и, что скрывать, на совсем немалые доходы, каковые благодаря таковым можно было получить (незаконно, как правило!), ныне зависели от милости, а то и просто прихоти властителя. Разумеется, об этом прямо никто не говорил, скрывая подлинные причины ненависти к диктатору воплями об угрозе его правления «libertas» – «свободе» и наступающем «servitas» – «рабстве»[171]. Как идейная основа для заговора очень пригодились исторические напоминания о злодеяниях Тарквиния Гордого и обстоятельствах перехода Рима от монархии к республике. При наличии такой идейной платформы возникновение заговора становилось неизбежным[172].
Не забудем и то, что Цезарь, находясь на вершине власти, вовсе не забывал о своей принадлежности в прошлом к популярам, благодаря каковой он во многом и завоевал народную любовь. Его аграрные и колонизационные программы, законы против коррупции и роскоши, частичная кассация долгов свидетельствовали о верности делу популяров»[173].
Усугубляли положение дел и всякого рода зловредные слухи, скорее всего, провокации ради измышлённые, но, увы, на благодатную почву падающие: «Более того, все чаще ходили слухи, будто он намерен переселиться в Александрию или в Илион и перевести туда все государственные средства, обескровив Италию воинскими наборами, а управление Римом поручив друзьям, и будто на ближайшем заседании сената квиндецимвир Луций Котта внесет предложение провозгласить Цезаря царем, так как в пророческих книгах записано, что парфян может победить только царь. Это и заставило заговорщиков ускорить задуманные действия, чтобы не пришлось голосовать за такое предложение»[174].
Если слухи о том, что Цезарь хочет перенести столицу государства в Александрию, где у него была возлюбленная им некоторое время Клеопатра, или же в Илион – в троянскую родину своего мифического предка Энея, явно были нелепы, то скорое принятие в самом сенате (!) царского титула нобилитет счёл вполне возможным, учитывая полную покорность диктатору большинства «отцов, внесённых в списки». Для римских нобилей такое развитие событий действительно выглядело как окончательная потеря свободы и наступление порабощения[175].
Противники Цезаря совершенно не желали признавать его свершений за недолгие месяцы мирной власти, их не интересовали его грандиозные замыслы… они воображали себя борцами за свободу, за восстановление попранной республики, в упор не замечая очевидного: «римская свобода» давно уже выродилась в скудоумную олигархию, решительно неспособную управлять державой. В рамках действующей политической традиции добиться ощутимо позитивных перемен в жизни Рима было невозможно[176]. Марк Туллий Цицерон возлагал надежды, правда, на появление некоего идеального управителя государства, какового он именует rector rei publicae, либо rector сivitatis. Этот образцовый государственный муж, чуждый стремлениям к славе, почестям, богатству, личной власти должен был бы укрепить римское государство, покоящееся на древних традициях, и тем обеспечить его процветание[177]. Цезарь, понятное дело, никак не подходил на роль такого вот идеального государственного мужа, ибо любил он и славу, и почести, и богатство, а более всего личную власть. Потому-то и видели заговорщики в Цицероне своего единомышленника.
Что же успел совершить Цезарь? Прежде всего, он реформировал сенат. Таковой был увеличен с шестисот до девятисот человек, а пополнили его представители всадничества, италийской знати и даже галлы, что немедленно привело к появлению в Риме забавной песенки: «Галлов Цезарь вёл в триумфе, галлов Цезарь ввёл в сенат, сняв штаны, они надели тогу с пурпурной каймой»[178]. Такая политика была сильнейшим ударом по претензии нобилитета сохранить монополию на господствующее положение в сенате[179].
Принципиально новой стала при Цезаре политика по отношению к провинциям. В них стало по его инициативе широко распространяться римское гражданство. И, главное, прежней политике беззастенчивого грабежа этих «поместий римского народа» руками бесчестных публиканов, представлявших, прежде всего, интересы множества насквозь коррумпированных сенаторов, был положен конец.
Наконец, изданный по инициативе Цезаря закон о муниципальном управлении – lex Iulia municipalis – стал основой системы городского управления Италии, а потом и всей Римской империи[180].
А вот, какие дела он хотел свершить в будущем: «День ото дня он задумывал все более великие и многочисленные планы устроения и украшения столицы, укрепления и расширения державы: прежде всего, воздвигнуть храм Марса, какого никогда не бывало, засыпав для него и сравняв с землею то озеро, где устраивал он морской бой, а на склоне Тарпейской скалы устроить величайший театр; гражданское право привести в надлежащий порядок, отобрав в нескольких книгах все самое лучшее и самое нужное из огромного множества разрозненных законов; открыть как можно более богатые библиотеки, греческие и латинские, поручив их составление и устройство Марку Варрону; осушить Помптинские болота; спустить Фуцинское озеро; проложить дорогу от Верхнего моря через Апеннинский хребет до самого Тибра; перекопать каналом Истм»[181]. Грандиозны были и военные планы Цезаря: «Он готовился к войне с парфянами, а после покорения их имел намерение, пройдя через Гирканию вдоль Каспийского моря и Кавказа, обойти Понт и вторгнуться в Скифию, затем напасть на соседние с Германией страны и на самое Германию и возвратиться в Италию через Галлию, сомкнув круг римских владений так, чтобы со всех сторон империя граничила с Океаном»[182]. Столь грандиозные планы прямо свидетельствуют о том, что Цезарь предполагал, вернее сказать, был уверен в долговременности своего правления. Один потрясающе замысленный поход после покорения Парфии через прикаспийские земли и Кавказ в скифские степи Причерноморья и далее в Германию с последующим возвращением в Италию через Галлию мог занять несколько лет, едва ли меньше, чем Александр Македонский потратил на войну в Азии, добравшись едва ли не до «сердца» Индии. Отсюда понятно, почему Цезарь не спешил обозначить своего наследника, что стало бы третьей важнейшей составляющей его уже явно монархического правления. Да, он составил завещание, да, Гай Октавий в нём был назван главным наследником, но содержание документа никому не было известно, а многократно проявленная доброжелательность к юному родственнику ещё ни о чём прямо не говорила. Об усыновлении его при жизни Цезарь никаких разговоров не вёл, потому такое развитие событий никто и не предполагал. Отказав Октавию в должности начальника конницы в предстоящем до большой войны с Парфией походе на гето-дакийское царство Буребисты, диктатор не просто поставил молодого человека «на место». Цезарь отправил его для начала как следует поучиться военному делу, не забывая при этом и о светских науках.
До отъезда Октавия из Рима к войскам в Македонию оставалось каких-то четыре дня… Но тут-то и пришли иды марта. Двадцать три удара кинжалами и мечами прервали жизнь Цезаря. А ведь не откажись этот гениальный человек от положенной ему по закону охраны – от тех же ликторов, числом в две дюжины – заговорщики едва бы отважились на нападение… Цезарь, думается, надеялся, что проявленное им великодушие к былым противникам может их, что называется, обезоружить, и не решатся они вооружённой толпой напасть на одного невооружённого человека, да ещё от охраны принципиально отказавшегося. Двое его соратников – Панса и Гирций – постоянно напоминали ему, что власть, обретённую оружием, оружием же должно и защищать. Мысль простая, здравая и, главное, совершенно верная во все времена для всех стран и народов. Цезарь, увы, полагал иначе. «Повторяя, что он предпочитает умереть, нежели внушать страх, Цезарь ожидал милосердия, которое проявлял сам»[183].
У многих нежелание Цезаря обеспечить себе естественную для человека его положения охрану при наличии столь немалого числа противников и даже ненавистников породило и порождает до сих пор мысль о готовности диктатора скорее расстаться с жизнью, нежели уподобиться настоящим тиранам и отказаться от великодушия и доверия к поверженным врагам. Взгляды современников на это подробно изложены Гаем Светонием Транквиллом: «У некоторых друзей осталось подозрение, что Цезарь сам не хотел дольше жить, а оттого и не заботился о слабеющем здоровье и пренебрегал предостережениями знамений и советами друзей. Иные думают, что он полагался на последнее постановление и клятву сената и после этого даже отказался от сопровождавшей его охраны из испанцев с мечами; другие, напротив, полагают, что он предпочитал один раз встретиться с грозящим отовсюду коварством, чем в вечной тревоге его избегать. Некоторые даже передают, что он часто говорил: жизнь его дорога не столько ему, сколько государству – сам он давно уж достиг полноты власти и славы, государство же, если что с ним случится, не будет знать покоя, а только ввергнется во много более бедственные гражданские войны»[184]