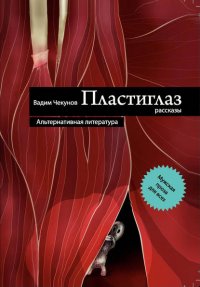
Читать онлайн Пластиглаз (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Вадим Чекунов
ДЕНЬ МОЛОДОГО ОТЦА
Мобильник запищал в начале седьмого.
Продрав глаза, несколько секунд я тупо смотрел в угол комнаты. Оттуда, с письменного стола и заливался трелями «Турецкого марша» верный Siemens.
Похмелье полоскало меня, словно тряпку в ведре.
Наконец, со скрипом и щелчком мыслительный орган заработал.
Юлька! Это же она звонит! Из роддома, бля!
Утро – перескакивая через ворох сваленной на пол одежды, я успел заметить – было ясное, солнечное, тревожно-радостное.
Кеглями разлетелись и покатились по паркету пустые пивные бутылки.
– Не спишь?.. – голос жены прерывался помехами.
– Алё! Ну, как ты?! Что там, а?! – трубка выпрыгивала из пальцев.
Треск и шипение.
– Алё! Слышишь меня?
– Слышу, слышу, – донёсся измученный голос. – Долго не могу говорить… В общем, я тебе Катьку родила. Три семьсот, пятьдесят три.
В кино, я часто видел – новоиспечённый отец кричит «Вау!», прыгает, как подорванный, а успокоившись, сидит, блаженный, с лицом мальчика-дауна.
– Круто! – только и сумел сказать я. – Ты-то как? Жива?
Юлька вздохнула:
– Три часа голова не выходила. Порвали и порезали меня от сих и до сих. А так ничего…
В трубке издалека раздался грубоватый женский голос: «Ты мужа-то не пугай! Потом страсти-мордасти рассказывать будешь!..»
– Ну, всё, слышишь, потом перезвоню, – заторопилась жена. – Ты моим и своим позвони, скажи им там. Давай, целую тебя!
– Я люблю тебя! – прокричал я отключившейся мембране Siemens-a.
«Конец разговора с Julia» – сообщил дисплей.
Нужно выпить. Пусть в половине седьмого утра. Сегодня это не во вред.
Бог есть.
Это я осознал с необыкновенной ясностью, дойдя до палатки у соседнего дома.
Палатка работала.
Голова раскалывалась, как у Троцкого.
Отстояв небольшую очередь из таких же бедолаг, просунул в амбразуру окошка мятые червонцы. Получил в ответ две тёплые и тоже мятые банки очаковского «джин-тоника». Почему-то у меня сегодня всё такое – деньги, одежда, рожа, недавно бывшая лицом.
Не гладко начинается день, не гладко.
Тут же, у палатки, высадил под сигарету одну из банок. Хининовый ёршик газированного спирта жёстко прошёлся по пищеводу.
Под ногами, дёргая головой, шлялись жирные неопрятные голуби. С автобусной остановки раздавалось шарканье сотен ног.
Народ волочился на работу – на другой стороне Каширки распахнулись ворота стройрынка. Снисходительно улыбаясь, я прошёл сквозь угрюмую толпу, открывая на ходу вторую банку.
Самочувствие явно разглаживалось.
Не так уж плохо всё.
Я стал отцом.
Уже вторую неделю нахожусь в отпуске. Впереди – ещё два месяца. В профессии преподавателя, при всех её минусах, есть и большой плюс.
Каникулы. Двухмесячные летние каникулы.
Жизнь хороша.
Я присел на скамейку возле собственного подъезда.
Выудил из кармана чёрное тельце Siemens-а и разослал друзьям sms-ку: «уа stal papoi!».
Воздух прогрелся. Утро сдавало вахту.
В ветвях густого куста чирикали воробьи. Я зашвырнул пустую банку в куст. Из него шумно выпорхнула серо-коричневая стая и уселась на ближайших проводах. С минуту воробьи разглядывали потревожившего их сукиного сына. Затем по одиночке и парами начали возвращаться. «Мухами там, что ли, у них намазано?» – говорил в таких случаях мой ротный.
Siemens затренькал сигналами поступающих sms-ок. Народ поздравлял, интересовался кто родился. Про вес и рост спрашивали. Забыл, в самом деле, сообщить.
Набирая на ходу ответ, добрёл опять до палатки. Теперь решил вдарить по пивку. Деньги, вытащенные из заднего кармана, на этот раз оказались сложенными пополам и влажноватыми.
Становилось откровенно жарко.
Три «Клинского» будет в самый раз для начала. То, что это только начало, я уже понял, разглядев слипшийся комок купюр. «Я рукой нащупал свой карман, Он мне намекнул, что буду пьян» – пел когда-то солист «Сектора» Юра Хой. Ну, что ж, держись, братан.
Шуму и гари на Каширке прибавилось – в обе стороны машины пёрли сплошным потоком.
С окрестных тополей слетали тучи пуха.
От привкуса хинина во рту начинался сушняк.
До скамейки у подъезда дошёл только с двумя бутылками – с одной закрытой и второй ополовиненной. Третью, пустую, обелиском воздвиг посреди тротуара. Поскромничал, пяточек брать надо было.
С удовольствием, врастяжку допил пиво под пару сигарет. Мочевой пузырь дал понять, что переполнился. Зашёл в подъезд. Лифт, сволочь, как всегда находился наверху. Сомкнув колени и стиснув зубы, я едва дожидался его. Влетел в квартиру. В комнате надрывался телефон. Пробежал в ванную, открыл кран над раковиной и, любуясь собой в зеркале, пустил тугую струю.
Дома я всегда писаю в раковину. Удобно и гигиенично. Ничего хуже, чем заставить мужчину мочиться в расположенный на уровне его колен фаянсовый горшок, изобрести не могли. Мало того, что поднятый стульчак норовит упасть под струю, так ещё сотни, тысячи мельчайших брызг неизбежно попадают на ноги. Рассмотрите внимательно домашние треники и вы поймёте.
Телефон не умолкал.
– Вадик, это ты?
Звонила тёща. Минут пять мы поздравляли друг друга, обсуждали рост, вес и наш изменившийся статус.
– Вот вы и бабушка, Елена Ивановна!
– А ты-то! Ты – отец теперь! Ты уж давай, не особенно пей-то там… Квартиру убрал? Юльку когда выписывают, не узнал?
Прикидываться трезвым по телефону у меня выходит гораздо лучше, чем визави. Но в случае с женой и тёщей номер не проходит. Получив наказ не шляться, лечь поспать и потом заняться уборкой, положил трубку и направился на кухню.
Как я мог забыть?!
Отнеся непростительный провал в памяти к охватившим отцовским чувствам, я решительно распахнул дверку холодильника.
Приветливо звякнув, подмигнула полная на треть поллитровка «Флагмана».
Наскоро соорудил бутерброд.
Водку выпил залпом. Холодная, она почти отрезвила меня. Вышибла хмельную тяжесть пива. Прояснила взор.
Я зашёл в пустую – лишь кроватка у стены – детскую. Скоро, через несколько дней, здесь будут жить.
Провёл пальцами по перилам кроватки. Нагнувшись, погладил упругий, набитый кокосовой стружкой матрас.
Сегодня у меня родилась дочь. Жена, хрупкая и нежная Юлька подарила мне крохотного – «3 кг. 700 гр., 53 см» – человечка. Жизнь пойдёт теперь иначе. Я перестану много пить, устроюсь на вторую работу. Наведу порядок в квартире. По ночам, затаив дыхание, буду подходить к кроватке, вдыхая молочный аромат маленького тельца… Помогать менять распашонки. Купать по вечерам в ванночке. Моё жильё пропахнет мочой и какашками… На кухне и в ванной будут висеть мокрые пелёнки.
Пересчитав наличность, я сходил к палатке.
Захотелось куда-нибудь съездить.
Двухлитровая баклажка «Оболони» вызвалась скрасить мой путь. Только успел подойти к трамвайной остановке, как по заказу подкатила «трёшка». Трамвай – огромный дребезжащий утюг, был почти пуст, лишь старухи с лицами из мятых сухих листьев ехали куда-то по своим делам.
Заскочив в салон, я сделал несколько больших глотков.
Трамвай, постепенно заполняясь, волочился вдоль задымленного Варшавского шоссе.
Солнце жарило спину сквозь пыльное стекло.
Едва не проехал нужную остановку.
Вывалился из вагона. С удивлением уставился на обилие животастых девок, деловитыми кряквами снующих туда и сюда. Я зачем-то приехал на детскую ярмарку у метро «Тульская».
Неправильный опохмел давно уже привёл к повторному опьянению. На дне моей баклажки бултыхались остатки пива.
Опять нестерпимо захотелось ссать.
Туалет найти не удалось. Затравленным зверем, расталкивая прохожих, метнулся во дворы. Каждый шаг отдавался жуткой резью внизу живота. Невдалеке виднелись спасительные гаражи.
Делая вид, что прогуливаюсь, я приставными шагами поскакал через детскую площадку. Едва не навернулся на сломанную карусель.
Сил хватило подбежать к гаражам, выхватить из ширинки член, застонать и опереться рукой о жестяную стену.
Напор не ослабевал, показалось, несколько минут. Под кроссовками скопилась пенистая лужа, но мне было наплевать. Нассать в прямом смысле слова. Наконец струя иссякла. Я осторожно, не касаясь члена руками, используя резинку трусов, потряс его, наслаждаясь жизнью.
– Ты что ж, гад, делаешь, а? – раздался за спиной голос. То, что гад – я, огорчило. Но порадовало, что в контакт вошли сейчас, а не минутой раньше. Застегнув джинсы, обернулся.
В двух шагах, сжимая монтировку, стоял невысокий мужичок во фланелевой рубашке и грязных трениках. Мужичок гневно топорщил усы. Хозяин обоссаного гаража, предположил я.
– Ну, извини, – развёл руками. – Сын у меня родился. Серёгой назвал.
Задумался над сказанным. А, это ж из рекламы…
Мужичка мои слова почему-то взбесили. Он резко вскрикнул и сделал выпад вперёд. Монтировка – я почувствовал лёгкий ветерок – прошла в миллиметре от лица.
Надо собраться.
– Мужик, не бей! – примиряюще выставил вперёд ладони. – Ну, прости, брат… Давай замнём, лады?
Во время тирады, дружелюбно кивая, мне удалось сделать несколько мелких шагов в его сторону.
Мужичок пятился, выставив левую руку. Правую, с монтировкой, опустил и чуть отвёл назад. В какой-то миг он оглянулся по сторонам.
Я подал корпус вперёд.
Пять ударов основаниями ладоней в лицо. Один за другим. Монтировка упала мне под ноги.
Мужичок ошеломлённо затряс головой.
Я добавил ему в ухо и в корпус – уже кулаком, спьяну промахнулся, удары вышли скользящие. Однако хватило и этого. Мужичок побежал в сторону пятиэтажек. Из окон ближайшей что-то орали.
Поборов соблазн пуститься в погоню, я припустил в сторону рынка.
На пропечённой солнцем асфальтовой площади перед рынком начал обильно потеть. Пуловер прилипал к телу. Пот стекал по лбу и застревал в бровях.
Брови впитывали влагу, как губки, и тяжелели.
Надо было догнаться.
Стычка взбодрила ненадолго. Ноги сделались какими-то ватными, в рот словно запихнули рулон наждака. В ушах шумело и колотило.
В кафе у вьетнашек, ругая цены, я за пару минут выпил подряд три светлых «Балтики». Вьетнашки таращили глаза и что-то лопотали по-своему. Громко, не стесняясь, рыгнул. Закурил.
Гады все. Гады и гондоны, думал, разглядывая рыночных посетителей. Мало того, что поссать негде, так ещё за это голову разнести норовят.
Добавил сотку явно палёной «Гжелки». Докурил. Как-то отлегло немного. Хоть вы и гондоны, а день у меня сегодня особенный. Поэтому всех вас люблю.
Прихватив с собой ещё одну пива, благостный и расслабленный, отправился бродить по детским секциям.
Опьянение достигло стадии впадения в детство. Лицо отекло. Всё происходящее казалось сном. Я беспомощно, словно потерявшийся в толпе спиногрыз, толокся среди обстоятельных и деловых будущих и настоящих мамаш.
Долго рассматривал бельё для беременных.
Хотел угнать синюю, с хромированными колёсиками коляску, но продавец вежливо и настойчиво попросил меня уйти.
В крохотном закутке стояли две корзины, до отвалу заполненные мягкими игрушками. Я уже начал жалеть, что припёрся сюда. Но с пустыми руками уходить казалось глупым. Поэтому принялся рыться в корзинах. Тётенька-продавец за кассой недоверчиво меня разглядывала.
Где-то читал или слышал, что мягкие игрушки в Китае шьют заключённые. Оттого-то, мол, у всех этих зайчиков, мишек, обезьянок, жирафов и собачек такие грустные мордочки. Равнодушные и пустые глаза. Мягкие, безропотные и слабые, эти зверюшки совершенно безразличны к своей судьбе. Годами они кочуют со склада на склад, из магазина в магазин. Когда-нибудь кого-нибудь из них купят. Но шанс, что именно тебя – ничтожен. Трудолюбивые китаёзы нашили миллиарды зверушек.
Остаётся лишь грустно смотреть в никуда.
Хотел уже поделиться наблюдением с продавцом, но выудил со дна корзины маленького, не больше ладони, белого зверька с чёрными пятнами. Зверёк оказался пандой с умненькими, блестящими глазками.
Его мордочка улыбалась!
Светилась нахальством, довольством, любопытством.
Даже показалось, зверёк подмигнул мне!
То ли он был подтверждающим правило исключением, то ли я уже видел всё в изрядном преломлении. Но своей весёлостью китайский мишка мне понравился. Я заплатил. Выйдя из магазинчика, запихнул панду в передний карман джинсов. Голова не влезла и осталась торчать снаружи, разглядывая прохожих.
Откуда-то раздалась смутно знакомая мелодия.
Трам-пара-ра-рара-рам! Трам-пара-ра-рам!
Мелодия пиликала из другого кармана.
Julia – сообщил дисплей вытащенного Siemens-a.
– Привет, зая! – я готов был расцеловать округлую жопку телефона. – Как там наша дочка? Ты сама как?
Голос ужены был бодрее, чем утром:
– Да мы-то в порядке. То есть, Катьку сразу забрали, ещё пока не приносили. А я лежу, анестетиками обкололи всю. Пока терпимо. Нас тут двое в палате. У соседки мальчик. Никак не зовут ещё. Всё с мужем не могут решить, как назвать.
– Да чёрт с ними, ты-то как? Надо чего привезти? Я тут тебе подарок купил… – мне стало неловко перед самим собой. – То есть, не купил ещё, выбираю пока.
– Ты там, похоже, не скучаешь, – заметила жена. – Деньги смотри, не все спусти. Ещё ж на выписку надо дать. – Малыш, ты ведь знаешь, я аккуратно, – в этот момент я сам себе поверил.
– В том-то и дело, что знаю, – Юлька усмехнулась в трубку.
– Ой, обход идёт! Всё, пока! Позвоню потом.
Связь отрубилась. Не сразу я понял, кто такой обход и куда он идёт. «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои…» – запрыгали в голове дурацкие по июньской жаре строчки.
Я направился к выходу.
Попетляв по лабиринту торговых рядов, почти добрался до распахнутых настежь дверей, как вдруг остановился у здоровенной витрины секции игрушек.
Прямо на меня смотрела только что купленная панда. Только огромная, почти в человеческий рост. Точная копия моей крошки. Я даже вытащил из кармана свою покупку, чтобы убедиться в идентичности.
Перевёл взгляд на витрину и вздрогнул.
Большая панда шевелилась!
Я был пьян, но не настолько же! Панда тяжело ворочалась в тесном пространстве витрины. Пыталась вылезти оттуда и побежать ко мне. Вернее, к увиденному в моих руках детёнышу.
Я кинулся к ней навстречу.
Сверхъестественное закончилось, как только вбежал в магазин.
Продавец – миниатюрная девушка в бриджах и топике стягивала, пыхтя и дуя на чёлку, панду с витрины.
Покупатели – колхозного вида мужик и грушеподобная тётка в цветастом сарафане – молча наблюдали за её действиями. – Последняя. Витринный экземпляр. Так что со скидкой могу вам уступить, – продавец стянула, наконец, панду с полки. Колхозник и колхозница хищно набросились на добычу. Грубо мяли, тискали, ворочали и даже пытались подбросить вверх. Лица их плотоядно исказились.
Умоляюще жалобно насилуемый зверь смотрел на меня. Я стыдливо опустил глаза. В моей руке по-прежнему был зажат её детёныш.
Торопясь и сбиваясь, оттого ещё более заплетаясь языком, я начал что-то говорить. Стесняясь говорить правду про мать и дитя, понёс околесицу о больной племяннице и ещё бог знает о чём, периодически делая попытки завладеть пандой. Колхозники молча буравили меня недобрыми глазками. Отрицательно мотали головами и прятали добычу за спины.
От их неприступности я впал в отчаяние. Клянчил и умолял. На лицах моих врагов отражалась смесь отвращения с наслаждением.
Наконец, я был снисходительно послан проспаться.
Панду расторопная продавщица уже успела завернуть в полиэтилен.
– Заплачу на пятьсот больше, чем они! – зажав детёныша панды под мышкой, я принялся рыться по карманам.
Задыхающегося в прозрачной обёртке зверя колхозник выносил из магазина.
Всё было кончено.
Самец макаки-резуса в подобной ситуации оскаливает ужасающие клыки и, подрагивая дрожащим кончиком хвоста, бросается на обидчика. Я же, никчёмный homo sapiens, покинув рынок, горестно пил пиво у трамвайной остановки. Детёныш плакал в моём кармане. Бутылка «Клинского» казалась липкой. Само пиво было тёплым и мерзким.
Хотелось поскорее убраться отсюда.
Домой.
Нужной мне «трёшки», как назло, всё не было. Пиво не лезло в горло, зато активно просилось наружу снизу.
Решил поймать тачку. Уже было поднял руку, как тут же опустил, не поверив своим глазам.
В десятке метров от меня та самая пара колхозников, сгрудив у бордюра кучу сумок и пакетов и отклячив необъятные задницы, торговалась с водителем «Жигулей». Моя панда ничком лежала поверх пакетов.
Я побежал. Как в замедленной съёмке видел лицо согласно кивающего водилы, видел, как разворачивают корпуса гости столицы, как раскрываются их рты, когда я на полном ходу подхватил радостно взмахнувшего лапами зверя.
Панда, несмотря на размер, оказалась совсем не тяжёлой, и мне удалось даже добавить ходу, преодолев небольшой подъём по Варшавке. Сзади что-то кричали, но я слышал лишь собственные топот и дыхание.
Панду обеими руками прижимал клевому боку. Лёгкие мои хрипели и выворачивались. С трудом выбрасывая вперёд свинцовые ноги, добежал до железнодорожного моста.
Понял, что окончательно сдох, и остановился. Погони не было. Удивительно, но сзади, погромыхивая, подгребала к остановке «трёшка». Ещё мелькнула мысль, а не настигли ли меня колхозники на трамвае. Но «трёха» была забита почти под завязку, я смело и настырно ввинтился в пассажиров.
В квартире с наслаждением облегчился. Насвистывая, освободил панду из целлофанового плена. Усадил её на диван. Между больших чёрных лап поместил детёныша. Отошёл на шаг и полюбовался.
Зверята благодарно улыбались.
Теперь можно ещё разок сходить к палатке, и на этом всё.
«Арсенальное светлое», по пять бутылок в каждой руке, еле доволок до дома. По дороге вспомнился анекдот. Девочка лет десяти покупает восемь бутылок портвейна. Продавец интересуется: «А ты унесёшь столько?». Девочка, задумчиво: «Вот и я думаю – может, пару штук прямо здесь засосать?..»
Дома я тупо сидел на диване и пил пиво – одно за другим. Всё.
Я разогнался. Надвигался запой, грозной и тревожной тучей наползал он на моё семейное счастье.
А ведь через несколько дней моих девчонок выпишут. Неужели в волнах перегара я появлюсь в роддоме опухший и стеклянный? Жена будет кусать губы и плакать. Дома, вместо посильной помощи, я буду отпиваться пивом, тяжело ворочаясь на диване…
Мне до того стало жаль себя, жену, дочку Катюху, до того неловко и стыдно сделалось мне, что я уткнулся в мягкий живот сидящей рядом панды и зарыдал.
Панда пахла складом и синтепоном. Мне было хорошо.
Умиротворённый, дотянулся до тумбочки и подцепил маникюрные ножницы. Распахнул их остренький клювик и ловко, по шву, распорол старшей панде низ живота. Показалась белая набивка. Я выстриг углубление длиной в ладонь между её задних лап. Комки синтепона разбросал по полу. Детёныша, по всем правилам, вниз головой, затылочное предлежание – поместил внутрь.
Зашивать было лень, да я и не знал, где у жены хранятся иголки и нитки.
Беременная панда.
Как моя Юлька ещё сегодня ночью.
Пива осталось три бутылки. К раковине я бегал теперь каждые пять минут.
Писая, держался за вешалку для полотенца.
Звонил телефон, определялись какие-то номера, но я уже плотно ушёл в сумеречную зону.
Я был горд своим одиночеством.
Если сегодня вынесу всё и не сдохну, всё будет хорошо. Да и права помирать у меня нет. Я молодой отец. И я выдержу свой первый день.
Сегодня он самый длинный. Завтра – по минуте, по две пойдёт на убыль. Так и лето пройдёт.
Чтобы не затосковать, решил подрочить.
Расстегнул джинсы и лёг поудобнее.
Член не хотел подниматься. Я пытался представить себе что-нибудь. Вспомнил, как за пару дней до роддома брил, присев на корточки в ванной, Юльке лобок. Смывая жиллетовскую пену с чёрными вкраплениями жёстких волосиков, я щекотал жену кончиком языка. Юлька забавно стеснялась. Над трогательной, по-детски припухлой щёлкой нависал огромный яйцевидный живот. От секса тогда осторожная жена отказалась.
Член слегка напрягся и опал снова. Потискав и помучив его несколько минут, понял, что нужна наглядность.
Пару кассет с порнухой я мог, в принципе, отыскать в завале своего стола. Но вялая она какая-то, неживая.
Случайно перевёл взгляд на примостившуюся рядышком беременную панду.
Приподнялся и раздвинул ей лапы. Показалась макушка детки.
Моё лицо приняло серьёзный врачебный вид.
Под плюшевый зад зверька я подложил подушку.
Я принимал роды.
Заставлял панду тужиться и правильно дышать. Уговаривал потерпеть.
Роды прошли успешно. Шлепнув детёныша по попке, положил его на живот разродившейся. Пожалел, что не догадался соорудить пуповину. Было бы достовернее.
Член мой неожиданно напрягся, подрагивая. Несколько раз я провел по нему ладонью. Отчётливо ощущал набухшие вены. Я навалился на панду всем телом и погрузил член в мягкое синтепоновое лоно. Головку непривычно щекотало. Уткнувшись в подбородок панды, я начал двигаться, убыстряясь и порыкивая.
Через пару минут взорвался горячим потоком.
Сотни, тысячи, миллионы и миллиарды белых брызжущих искр вспыхнули и угасли под закрытыми веками.
День всё не заканчивался никак.
Но мне было плевать.
Усталый, счастливый, опустошённый, я спал крепким сном. Сном молодого отца.
КУЛИЧИКИ
Чудесно лето. Чудесно небо – светлое, голубое, розовое – растёклось над Москвой, дразня вечерней прохладой.
Пятница.
Зашипела натруженной пневматикой престарелая электричка. Забубнил машинист привычной скороговоркой названия станций, что проследуют без остановки. Всхлипнув, сомкнулись обрезиненные двери.
Поехали.
«Он сказа-ал: «Пое-ехали!» – и махнул руко-оой…» – завертелась в голове строчка забытой песни.
Гагарин, забытый кумир забытого детства, летел к сияющим звёздам, помахивая рукой в толстой белой перчатке.
Егоров, лысеющий сразу в двух местах – прямо надо лбом и в районе макушки – менеджер «Седьмого континента» ехал на дачу, попивая прохладное «Клинское».
В синей сумке с удобным ремнём через плечо и боковым карманом на молнии – пара толстых батонов докторской, тушка липецкого цыплёнка охлаждённого, какое-то «Юбилейное» печенье и ещё уйма всего по списку, надиктованному женой на автоответчик.
К выпуклому боку сумки привалился пакет с ковбоем на лошади.
В пакете томились, исходя капельками влаги, тёмно-зелёные, обновлённого дизайна бутылки.
Под ними, в жёлтой капроновой сетке, подарок Антошке – лопатка, совочек с грабельками и целый набор трогательно-округлых, свежее пахнущих пластиком формочек. Бабочка, коровка, рыбка, лошадка и кто-то ещё, кого Егорову, сколько не теребил он в магазине сеточку, разглядеть не удалось.
Солнце, прыгая по ветвям проносящихся за окном деревьев, брызгало в глаза предзакатным золотом.
«Наверное, доеду когда, Тошка спать уже будет…» – Егоров сунул под скамью пустую бутылку и протянул руку к пакету. Ухватил за влажное горлышко новую, приладил под зубчики пробки торец зажигалки.
Умело, с негромким «чпоком» откупорил.
Смахнул пальцем выступившую пену и, слегка проливая на бородку, сделал несколько глотков.
Благодать, благодать, благодать!
Мелькали за окном дачные посёлки и проносились, пронзительно вскрикивая, встречные электрички. Змеились волнообразно толстые жгуты проводов.
Странное, светлое и спокойное чувство укутало Егорова, снисходительной радостью наполнило всего его существо. Блаженно щурясь, он принялся разглядывать попутчиков.
Напротив, сдвинув кустистые брови и прикрыв один глаз, восседал престарелым грифом типичный дачный дедулька, каких в каждом посёлке по нескольку штук – активисты правления и выживающие из ума садоводы. Вторым, открытым глазом, дедок недовольно поглядывал то в окно, то на Егорова.
Когда в вагон заходил с неизменным «Уважаемые пассажиры! Всем доброго пути и здоровья!..» очередной торговец, мятая кожа второго века приподнималась и, склонив голову на бок, гриф настороженно прислушивался к торопливым посулам душевного и физического комфорта, что легко могут приобрестись всего за десять рублей вместе с иголкой с самопродевающимся ушком.
Рядом с дедком, сгорбившись и сложив на колени крупные, со вздутыми венами кисти рук, сидел в грязноватом джинсовом костюме мужик-работяга с потухшим взглядом.
«Этот и не на дачу едет вовсе, – подумал Егоров. – Таких как он тысячи, со всего Подмосковья тянутся, на любую работу, нет ничего у них самих. Какая тут дача…»
У прохода, закинув ногу на ногу, подёргивал головой в такт дребезжанию из наушников плеера худющий паренёк лет шестнадцати. Острые коленки отчетливо проступали под тканью застиранных джинсов.
Лицо паренька, как у всех в этом возрасте, было нервное, напряжённое и глупое.
Егоров отогнал от себя мысль, что не успеешь оглянуться, и Антошка, этот славный белобрысый карапуз станет таким же вот прыщавым и угрюмым созданием.
«Да ладно, а то сам таким не был!» – усмехнулся про себя и, взглянув в окно, нагнулся к сумке и пакету, зашуршал, поправляя, разглаживая, чтобы поудобнее взяться.
Супружеская пара слева от Егорова, обоим за сорок, теребила страницы «Отдохни!» и билась над «так в старину назывались бродячие торговцы мелким товаром». Мужа, усатого, морщинистого дядьку, заклинило на коробейниках, но те были слишком длинны и не влезали в положенное число клеток.
Его жена, полнорукая, в цветастом платье, закатив глаза, занималась словотворчеством, пытаясь нащупать какое-то смутно знакомое ей слово.
– Олифа…
Со вздохом и покачиванием головы слово отметается:
– Нет, не то… Фалафель?.. Тоже нет, букв много.
– Ты ещё скажи – флейфе, – подёргал себя за кончик уса муж и как-то особенно страдальчески наморщил лоб. – Да ёшкин кот, что ж за слово-то? Пять букв… – дядька всерьёз разнервничался.
– А флейфе твоё – это что такое? – подсчитав, загибая пальцы, буквы в слове, жена вновь покачала головой. – Не подходит.
– Сам знаю! – муж отложил газету и уставился в окно.
Егоров встал и подхватил сумки. Дедок открыл второй глаз и поджал ноги, освобождая проход. Подросток, кинув равнодушный взгляд, ноги не убрал.
– Из кино это, женщина. Плохой человек – редиска. Хороший человек – флейфе. «Джентельмены удачи». Классика! – подмигнул Егоров толстушке. – Убери лапти, пасть порву, моргалы выколю! – это уже юному поколению, одновременно с толчком сумкой.
И взгляд – спокойный и прямой, в переносицу.
Юное поколение отвело глаза, засопело, заелозило, ноги из прохода убрало.
Только так с ними и надо.
Маленькая победа доставила удовольствие. Уже направляясь к тамбуру, Егоров обернулся и снисходительно обронил:
– Офеня. Офенями назывались они. Которые по вагонам теперь ходят.
Усач собрал на лбу глубокие волнистые складки и схватился за газету.
Постукивая и подрагивая, электричка подползала к платформе.
В тамбуре было накурено и душно.
Егоров с нетерпением побарабанил пальцами по мутному, исцарапанному матерщиной стеклу двери. «НЕ П ИС О ТЬСЯ» – прочитал подправленную кем-то надпись и вдруг почувствовал прилив раздражения.
Годы проходят, а люди всё те же. Как были козлами, так ими и остались. С детства, сколько себя не помнил Егоров, столько он и встречал это дурацкое и безграмотное «не писоться».
Егоров глубоко вздохнул и заставил себя успокоиться.
«Синк позитив», – учил их на курсах рыжий и долговязый психолог Стив. «Трай ту би э литл мо оупен ту лайф экспириэнс. Эни бэд сингс куд би э риали позитив экспириэнс фор ю».
Рыжий Стив снимал огромную квартиру на Тверской, куда и зашли однажды непрошенные посетители. Апологету позитивного мышления сломали несколько рёбер и изрядно подпортили труды его личного дантиста. Потом связали, заперли в ванной и приступили к работе.
Дело было в субботу утром. Хватились психолога к обеду в понедельник. Развязаться он за всё это время не сумел и даже говорить смог не сразу. Такой экспириэнс оказался Стиву не по уцелевшим зубам, и он спешно отбыл на свою позитивную родину.
Двери с шумом разошлись, и Егоров шагнул на платформу.
Темнело.
Воздух здесь был гуще, прохладнее, свежее, несмотря на примесь станционных запахов.
Егоров дождался отхода электрички, поставил сумки на край платформы, ловко спрыгнул вниз, подхватил синюю сумку за ремень, закинул на плечо, звякнул пакетом и зашагал по рельсам, чувствуя себя молодым и дерзким.
Остановился на минуту, достал предпоследнюю бутылку «Клинского». С громкимхлопком открыл её зажигалкой, сунул сигарету в рот, прикурил и, делая на ходу длинные глотки, направился в сторону шоссе.
Теперь уже скоро – за поворотом, минуя сельпо, налево, вдоль нового посёлка, потом через совхозное пастбище, а там и участки.
Удобно, когда от станции – пешком.
На асфальтовом пятачке у сельпо, которое и не сельпо уже давно, а обычный коммерческий магазин, было людно.
Из припаркованной у входа девятки через открытую водительскую дверь рвался на свободу «Владимирский централ».
Сам водитель, здоровенный, бритый наголо парень в поддельном адидасовском костюме, с достоинством грузил в багажник ящики «Бочкарёва». За ним с завистью наблюдали несколько совхозных ханыг, покуривая вонючие сигаретки.
На бетонных блоках, сваленных у магазина неизвестно кем и когда, расположилась местная молодёжь.
Внимательный к мелочам менеджер Егоров отметил, что лёгкие напитки, предпочитаемые подрастающей сменой, год от года крепчают. Этим летом поголовно в почёте девятая «Балтика» и очаковский джин-тоник, мерзкие пойла славных когда-то заводов…
– Женя?.. – вдруг вопросительно окликнули Егорова по имени. Пока пытался разобрать в полумраке, кто зовёт, голос радостно и утвердительно завопил: – Женька! Здорово, бля! Не узнаёшь, что ли?
Жизнерадостно дыша свежим перегаром, на Егорова надвинулась улыбающаяся физиономия Лёшки Завражинова, дачного друга детства с соседней улицы, озорника, хулигана, пьяницы и начальника пожарной службы.
Потряхивая остатками светлых кудрей на круглой и крепкой голове, Лёшка, сжимавший в каждой руке по бутылке водки, заграбастал Егорова в объятия и, не выпуская тару из рук, похлопал его по спине.
Поллитровки ощутимо ткнулись в спину Егорова.
– Тише ты, Леха! Полегче, полегче, – Егоров, руки которого тоже были заняты пакетом и «клинским», сжал Завражинова локтями, обозначая объятие.
Высвободившись, сбросил с плеча сумку, переложил бутылку в левую руку, обтёр правую о джинсы и протянул её другу:
– Ну, здорово! Как сам?
Завражинов поставил водку себе под ноги и, пожимая руку, улыбнулся во весь прокуренный рот:
– Да лучше всех! Вторую неделю в отпуске. Гуляю потихоньку тут. За добавкой, видишь, пришёл. Маринка только вот… – Завражинов скривился. – На выходные припрётся, всё настроение портит. Ходит и пиздит всё, пиздит… То не пей, то полей, то вскопай, то сарай… А ну её… Тут твою видел, со спиногрызом. Гуляла с ним у пруда. Ничего, хорош пацан получился, на тебя похож, только бороды нет, – вытаращив глаза и слегка разведя руки, Лёшка захохотал в своей обычной манере, с каким-то нутряным бульканьем.
– Лех, ты это… – Егоров автоматически провёл рукой по бородке. – Не надо так – «спиногрыз»… Ну, какой он спиногрыз? Он сын мой. Понимаешь – сын! Мы его семь лет с Наташкой ждали, думали, всё, не судьба… Так что не надо, ладно? Ты не обижайся, я тебе как другу, хорошо? Не надо.
– Говно вопрос! – и не подумал обижаться Завражинов. – Замётано! А и то – сын ведь, не то что эти… Хорошо, в лагерь сплавил на две смены, а то ведь как соберутся вместе, да ещё с тёщей в придачу. От баб одно зло. Ты уж мне поверь.
У Лёхи была пара дочек-школьниц, жена-следователь и тёща по имени Эльза Генриховна, из бывших.
«Главное, – жаловался как-то Лёха Егорову, – не выпить ни хрена из-за этих баб. Ну ладно, жена с этой, Адольфовной… С ними всё ясно. Так они и старшую, Ленку, подучили. Приду уставший, нет, чтоб помочь раздеться – сидят, морды воротят. И Ленка тут как тут, в пижаме, из детской выходит – опять, папа, водку свою пил? Нет, ты прикинь! А тут было как-то… Оставили меня, значит, с младшей сидеть, сами в садик Ленку устраивать пошли… Ну, я их выпроводил, погуляйте там, говорю, не спешите. Светка спит, считай, один дома почти. Я на кухню, из-за холодильника, там у меня нычка в стене, настоечку достал, бутербродик забацал, наливаю сто пятьдесят, только поднёс – орёт Светка из детской. Ну, я к ней, бутылочку там с молоком, соску-хуёску, покачал. Уснула. Я на кухню – выдыхается ведь. Только стакан тронул – орёт опять. Ничего, думаю, подождёшь. А вот, прикинь, не пьётся как-то, под вопли детские. Думаю, чего кайф портить, угомоню её, да и расслаблюсь. Час угоманивал, а там и эти вернулись. А на столе в кухне – стаканчик нетронутый, и в пузыре больше половины было. Всё в раковину вылили, бляди!.. И не поверили, что не пил, хоть и дышал им. Говорят, зажевал чем-то. Вот так-то, брат».
– Слушай, – Завражинов хлопнул Егорва по плечу, – а давай щас прямо ко мне, на полчасика, а? А чего, посидим чуток, закусь есть дома. К своим-то успеешь ещё.
– Не, Лёш, Наташка ждёт. И Антону подарок везу, формочки купил. Куличи лепить будем.
– Щас прямо? – искренне удивился Завражинов и даже огляделся по сторонам. Затем посмотрел на небо: – Поздновато будет. Спит твой наследник уже. А Натке позвони, скажи, ко мне зашёл, ненадолго. Есть мобильник? Или мой возьми, на вот.
– Да есть у меня. Ну, не знаю, Лёх…
– Жека, ну пойдём, посидим, а то одичал я тут уже. И моя при тебе пиздеть меньше будет.
– Так считаешь? – усмехнулся Егоров, допивая пиво. Кивнул на пакет: – Будешь? Нагрелось, правда, слегка.
– Не-е, – помотал головой Завражинов, – я от пива сплю плохо. Давай у меня, под салатик, по-беленькой дёрнем.
Водку пить Егорову совсем не хотелось.
– Лёх, давай так. Я сейчас возьму пивка ещё немного, для себя, ну, и ты если захочешь. Заскочим к тебе, но на полчаса всего, а то ждут ведь меня. А завтра вечерком тогда посидим уже по-нормальному. Идёт такой вариант?
– Давай, дуй за пивом, я тебя на воздухе подожду. Да сумку-то оставь, я же здесь…
… По дороге к дачам Завражинов, неся пакеты с водкой и пивом, без умолку жаловался на жену и тёщу. Егоров слушал в полуха, всё больше и больше сожалея, что согласился на посиделку, но утешал себя тем, что быстро слиняет.
Под ногами приятно шуршала щебёнка.
В прошлом году дорога была простая, просёлочная, а тут жильцы с новых дач, богатенькие буратины, скинулись на насыпную.
Сами новые дачи тянулись справа, светлыми пятнами трёхэтажных теремов выделяясь на фоне притулившейся за ними рощицы.
С другой стороны дороги разбегалось во все стороны пастбище, с роспуском совхоза запущенное и заросшее. Поговаривали, что и тут будут ставить участки.
Длинными чёрными мазками запрыгали, изламываясь в свете ударивших в спину лучей фар, их собственные тени. Приятели сместились вправо и пошли один за другим по обочине. Через минуту их нагнала знакомая «девятка».
– «А на сберкассу сно-ова-а лихой налёт, а до-о-ома мать-стару-ушка сыно-очка ждёт, а с неба сыплет до-ождик, я та-а-ак продрог, я до-олго дома не был, мой вы-ышел срок», – под неизменные и залихватские три аккорда нарочито блатоватым голосом выкрикивал неизвестный шансонье из колонок машины.
Громкость была такая, что на новых дачах залаяли собаки. Покачивая габаритными огнями, «девятка» ушла вперёд.
– Ну что за херню поют! – Завражинов вновь поравнялся с Егоровым. – Ну, Круг, упокой его душу, хотя бы тексты нормальные давал, и пел нормально тоже. А эти, новые…
Леха сплюнул в темноту.
– Ну, так вот, – снова заговорил он, возвращаясь, очевидно, к рассказу, начало которого Егоров прослушал. – Устроила такие вопли, хоть вешайся. И ни хера я не делаю, и я такой, и я сякой…
Ну, как обычно. И что участок запустил, копать ей не помогаю, и не посажено мной тут ничего, а жрать я горазд. Ну, ты её знаешь… Главное, на моей же даче, и пиздит, а!..
А я всосал к тому времени уже литруху, сижу так, улыбаюсь, а её это прямо бесит. Или, говорит, участком займёшься, или сиди в Москве, не мешайся тут. Ага, это с Адольфой Гестаповной-то, в Москве сидеть. И потом… – Завражинов неожиданно посерьёзнел. – Мне без свежего воздуха нельзя, у меня работа вредная. Ну, так вот, слушай дальше! Ах, так, думаю, копать тебе и сеять надо, ну хорошо, бля… Взял лопату, и во двор. А поздно уже, двенадцатый час. Куда? – орёт. Да пошла ты!.. Веришь, Жек, часа три копал, по темноте, свет только на веранде врубил, чтоб не ошибиться. Все её посадки перелопатил. Все эти сраные её гладиолусы с астрами-хуястрами. Пол-участка перерыл, как экскаватор, даже не устал, такая злость была. Потом взял на кухни несколько пачек макарон, «Макфа» эти, знаешь… И посеял их везде, где вскопал. Вот шёл, и сеял их, как сеятель – вших-х! Вши-и-х-х!
Завражинов, взглянув на занятые пакетами руки, помотал головой, изображая движения сеятеля.
– Вот, говорю, зашумит тут макароновая роща – и полезно, и красиво будет. Поливай только почаще.
Егоров хмыкнул. Лёшка в своём репертуаре.
– А Маринка чего?
Завражинов ответил не сразу, с неохотой словно:
– Да чего… Не сказала ничего. Присмирела. Только… Понимаешь, жалко её вдруг стало. Села у цветочков выкорчеванных своих, и плачет, без звука так, знаешь… Бабы… – удручённо звякнул пакетами Завражинов. – Кто их разберёт. Ну, пришли, считай.
Впереди возвышалась чёрная туша водонапорной башни. Начинались участки садово-огородного товарищества «Факел», о чём извещали плохо различимые жестяные буквы на грубо сработанных из арматуры воротах.
Неутомимые шутники успели потрудиться и здесь, оторвав от названия товарищества две последние буквы.
Сколько раз проходивший до этого мимо и практически не замечавший модификации названия родного дачного посёлка, Егоров вдруг снова разозлился, как и в тамбуре недавно.
Нет, чтобы полезное что-нибудь сделать, так вот ведь – или в подъезде нассут, или с буковками упражняются…
Стоп, стоп. Что это со мной?
Устал я, вот что со мной. Невроз это называется. И старость подкрадывается.
– Да ну на хуй, какая старость?! – возмутился Завражинов. – А неврозы лечить надо. Вот сейчас по паре капель и примем, для релаксации и душевного равновесия.
На этот раз пакетами он звякнул весело, предвкушая.
Егоров вздрогнул от неожиданности. Оказывается, думал вслух…
Надо и в самом деле чуток расслабиться, а то приду весь на иголках, злой и дёрганый. Наташка-то с Тошкой не виноваты. Полчаса. Полчаса.
– А твоя точно ничего? – спросил Егоров, сворачивая за другом детства на его улицу.
– Собака лает, караван идёт! – хмыкнул склонный к изысканности и витиеватости друг. – Но на всякий случай давай лучше не в дом, а в гараж ко мне. Там у меня всё. Как у фюрера в бункере…
* * *
…То, что он, Евгений Валерьевич Егоров, тридцативосьмилетний менеджер, заботливый отец и внимательный муж, единственный сын своих родителей и просто хороший человек, вот так вот взял и умер…
В это не верилось.
Фактически это ещё не была смерть – он что-то чувствовал. Холодную неподвижность свою. Запах – ни с чем не спутать – тяжёлый, сырой запах разрытой земли. Тело его при опускании в могилу перевернулось в гробу на бок, и лицо Егорова прижалось к гладкой, явно не деревянной стенке.
Цинк.
Слово это, холодное, жёсткое и колючее, крошками льда рассыпалось по непослушному более телу. Силясь открыть рот, Егоров зашёлся в отчаянном сиплом вое.
Летаргический сон. Заживо погребённый. Когда-то, при жизни ещё, он читал о подобном. Все эти мрачно-красивые названия хороши лишь в книжках. Теперь же в голове крутилось лишь одно название всему…
Пиздец.
Пиздец… пиздец… пиздец…
По крышке гроба постучали.
– Ты здесь, что ль? – хрипло поинтересовался смутно знакомый голос. – Бля, нуты даёшь!..
Крышку откинули, и Егоров зажмурился от резанувшего глаза света.
Спасён. Живой.
Не веря случившемуся, хватаясь скрюченными пальцами за мокрую траву, пополз, волоча отнявшиеся ноги, прочь от страшного места.
Быстро обессилев, уткнулся лицом в землю и громко, в голос зарыдал.
– Не, ну, бля, хорош… Ты чего, в самом деле? – вновь раздался над ним хрипатый голос. – Не, ну у меня тоже бывает, заклинит иногда. Но ты уж совсем даёшь!..
Егоров с усилием перевернулся на спину и, прикрывая руками глаза, сквозь пальцы взглянул на говорящего.
Завражинов возвышался над ним классическим дачным исполином. Резиновые сапоги, невероятных размеров синие семейные трусы и майка-тельняшка. На плечи исполин накинул старый ватник с оторванным воротником. Во рту, как отстрелявшее орудие, змеилась дымком папироса.
Над головой демиурга нимбообразно светило солнце.
– Ты, Жень, отпуск у себя там попроси. Нервишки у тебя, того…
– папироса ожила, запрыгала в губах Завражинова. – Фуфайку вот зачем-то испортил, – друг детства погладил отсутствующий воротник.
Махнул рукой:
– Да и хер с ней, на выброс давно пора. Нет, а мою ты классно вчера послал! Когда припёрлась в гараж к нам, помнишь?!. Вот уж загнул ты ей, в семь этажей, бля!
Завражинов развёл руки в стороны и слегка присев, захохотал, ухая и булькая, по своему обыкновению. Неожиданно он смолк и, посуровев, добавил:
– А вот последние полпузыря ты напрасно об стенку-то… На утро ни хера не осталось. Маринка деньги забрала все, когда второй раз со станции вернулись. У тебя, может, есть что? До субботы следующей?
Егоров, морщась, приподнялся на локте.
В тело начала возвращаться жизнь, не в лучшем своём проявлении.
Нестерпимо болела голова, спины не чувствовалось, шея не двигалась, ноги подёргивались от покалывания прихлынувшей к ним крови.
В нескольких метрах от себя Егоров заметил лежащее на боку огромное оцинкованное корыто.
– Я что… – с трудом сглотнул Егоров, не отводя глаз от корыта.
– Там, что ли?..
Завражинов хмыкнул:
– Главное, ложись, говорю, на верстак хотя бы, телагой укроешься, раз в дом идти не хочешь. А лучше к своим, ждут ведь… Так упёрся, выполз в сад, всё бродил туда-сюда по грядкам. Ха! Не везёт Маринке!.. Корыто вот увидал. Вылил все удобрения, улёгся. Слышь, накрылся и бубнил ещё, что как черепаха теперь. Как уместился-то, не понимаю? По-пьяни чего только не бывает, ха!.. Не помнишь, что ль, ничего?
– Какие ещё удобрения? – страдальчески промямлил Егоров, вяло пытаясь сообразить, который теперь час.
– Дерьмо куриное, разведённое. Да ладно, постираешься потом, делов-то… Ты лучше скажи, у тебя башлей никаких не осталось от вчерашнего? – Завражинов нагнулся и с надеждой заглянул в глаза друга. – Нет?
Егоров ощупал влажные карманы. Вывернул один из них и на траву выпали смятые комочки десятирублёвок.
Завражиновские пальцы хищно склевали добычу.
– Не густо, – хмуро обронил друг детства, разглаживая в ладонях замызганные купюры. – На пару пива, только если. Хотя можно и на «Завалинку» наскрести… Ты как?
Егоров попробовал подвигать шеей, обозначая отказ. Вышло плохо, но Завражинов понял, и даже слегка обрадовался:
– Слышь, Жек, ну, тогда ты, это… Я тогда пойду, схожу что ли… А ты это… Не в обиду… Твои ждут ведь… Ты, как помиришься со своей, заходи… Расскажешь, как и что…
Егоров вновь потрогал карманы.
– Ты если мобилу ищешь, так она в сарае, точнее, по всему сараю… И кактелефон свой расхерачил, не помнишь, что ли? Бля, тебе пить вредно, – суровым докторским голосом заключил Завражинов.
– Зачем же я?.. – Егоров подтянул к себе колени и обхватил их руками. Джинсовая ткань нестерпимо воняла. – Ну, зачем?
Егоров с ненавистью взглянул на друга детства.
Тот пожал плечами:
– Ну, с Наташкой повздорил, вот и… А чего она названивала весь вечер-то? Общаться мешала.
– Да пошёл ты…
Подняться на ноги Егорову удалось лишь с третьей попытки, но распрямиться он не смог – в виски будто ткнули работающей дрелью, к горлу подступила тошнота, и его вывернуло прямо на чёрные и блестящие сапоги Завражинова.
– Нет, ну ты вообще уже, что ли! – вытаращил глаза хозяин сапог. – Стой здесь, никуда не уходи. Вещи твои принесу.
Завражинов, брезгливо морщась и балансируя руками, стряхнул с ног сапоги. Один из них отлетел далеко в сторону и гулко ударился о борт корыта. Мягко ступая босыми ногами по траве, Завражинов направился в сторону гаража.
Плотно сжав губы, Егоров заставил себя распрямиться.
Охнул и застонал от боли.
В виски уже не дрель тыкалась, а долбили ломом.
Дри-ка-ка! дри-ка-ка! дри-ка-ка-ка! – противно орала над самой головой Егорова неизвестная птица, ловко скача по ветвям яблони.
«Лучше бы я умер», – пришла неизбежная, банальная, но единственно верная мысль.
Постанывая при каждом шаге, Егоров, не разбирая дороги, побрёл прямо по клубничным посадкам к калитке.
– На, держи! – Завражинов, успевший переобуться в пластиковые шлёпанцы, нагнал его у забора.
Всучив другу пакет и сумку, хозяин дачи похлопал его по плечу и, шаркая по линолеуму дорожки, поспешил удалиться.
Поднимаясь вверх, обходя угловой участок и плетясь вниз уже по своей улице, с каждым нетвёрдым шагом приближая неизбежное, Егоров думал лишь о том, не испортились ли продукты, а если испортились, то насколько.
Особенно жаль было колбасу и цыплёнка…
Калитка оказалась запертой на ключ изнутри, и Егорову пришлось звать жену. Перелезть через забор он был не в состоянии.
Минут пять никто не отзывался, и Егоров подумал, было, зайти к соседям – внутренний забор между участками больше условный, невысокая изгородь скорее, как вдруг занавеска окна дёрнулась, скрипнула входная дверь и на крыльце появилась Наташа, в синем байковом халате и с чашкой в руках.
– Нат, привет! – Егоров неловко, по-брежневски, помахал рукой. – Откроешь?
Жена, поставив чашку на перила, молча спустилась с крыльца. Придерживая длинные полы халата, прошла по чуть заросшей тропинке к калитке. Не глядя на Егорова, дважды провернула ключ и, развернувшись, пошла в дом.
– Я тут продукты… и куличики… Формочки, то есть… Привёз… вот…
Язык плохо ворочался в пересохшем рту.
Жена не обернулась.
Постояв немного, Егоров отёр со лба едкий похмельный пот, поднял сумку с пакетом и потянул на себя калитку…
Попав на участок, почти подбежал к крану у кухни, отвернул его до отказа, нагнулся и сунул голову под ледяную струю.
Фыркая, подставлял то затылок, то лицо, ловя губами упругий, чуть отдающий железным привкусом водяной жгутик.
Немного ожив, растёр руками лицо. Вытащил из пакета жёлтую капроновую сеточку и положил её у борта песочницы.
Оглядел себя и скривился.
Наскоро переодевшись на веранде в линялый спортивный костюм, Егоров постучал в комнату:
– Наташ, я тут Антошке подарок привёз.
Постучал ещё и, смущённо кашлянув, приоткрыл дверь.
Жена только что закончила обувать сына. Круглая головка в панамке повернулась на скрип, и Антошка залопотал, улыбаясь и болтая ногами. Перевернулся на живот, сполз с дивана на пол и, переваливаясь с боку на бок, немного кренясь вправо, подбежал к Егорову.
Егоров подхватил сына на руки. Ткнулся носом в пухлую щёчку.
– Наташ, мы пойдём в песочницу, ага? Завтракали уже?
Тон получался фальшивый, деланно-бодрый до противного.
Временное облегчение от водной процедуры заканчивалось.
Начало снова мутить. Голова, тяжелея с каждой секундой, валилась с шеи.
Наташа села на диван спиной к двери. Молча отпила из чашки.
Лучше не связываться, решил Егоров и осторожно прикрыл дверь.
Собрав остатки воли в кулак, вынес сына из дома и осторожно поставил на дорожку. Антошка с интересом огляделся.
– Ты стой здесь, а я сейчас…
Егоров отошёл на несколько шагов к песочнице. В ушах звенело. Присел на корточки (в голове будто лопнула лампочка), надорвал сетку и заставил себя улыбнуться:
– Ну-ка, беги сюда! Что тут тебе папа привёз?
Смешно переставляя широко расставленные ножки и размахивая руками, Антошка подбежал к протянутой сетке. Вытаращил изумлённо голубые глаза и со второй попытки, радостно гукая, выхватил из сетки красную черепашку.
Так вот кто там был ещё! – Егоров вспомнил, как крутил в руках сетку, пытаясь разобрать, что именно находится внутри. Черепашка!
На глаза навернулись похмельные слёзы.
«Черепашка».
Слово-то какое…
Представил себя ночующим на завражиновском участке, укрытым чудовищным и вонючим корытом.
Бубнил ещё, что как черепаха теперь…
«Ничего, ничего, это пройдёт, ещё смеяться потом буду», – утешил себя Егоров.
– Ну, Антош, давай куличик сделаем из формочки! – Егоров протянул руку к черепашке, но Антоша завизжал и спрятал её за спину.
Тонкие свёрла завращались и вонзились в виски.
Егоров поморщился.
– Сынуль, дай сюда черепашку. Вот видишь, лопатка. А вот песочек. Надо насыпать в формочку, постучать сверху…
«Тук-тук-тук!» – некстати совсем вспомнился сегодняшний стук по крышке «гроба».
– Да… постучать… давай покажу! Да не суй ты её в рот, грязная ведь!
Антошка отступил на шаг и с ещё большим усердием принялся грызть черепашью лапу.
Егоров махнул рукой и вытащил из сетки лошадку и бабочку.
– Ну ладно. Вот, смотри, как это делается.
Песок оказался суховат, и Егоров не поленился сходить за лейкой.
– Вот видишь, папа польёт немного, чтоб куличики лучше вышли. И сейчас снова сделаем. Будут крепкие и красивые.
Антошка, с размаху плюхнувшись на попу, с интересом наблюдал за действом.
– Нравится? – подмигнул ему Егоров, осторожно приподнимая формочки. – Смотри, как красиво получилось!..
Отдуваясь, Егоров поднялся с корточек, отряхнул руки и смахнул со лба обильно выступивший пот. Жара и похмелье – хуже не придумаешь.
Сейчас бы «Клинского»… Всего лишь одну. Или парочку.
И часика два, а то и три поспать.
К вечеру как огурчик был бы.
«Сказать Наташке, что за продуктами на станцию схожу…» – Егоров сам подивился нелепой мысли, пришедшей в больную голову.
Не стоит нарываться сегодня.
А не разговаривает – так вечно не будет же, завтра отойдёт…
– Ты что же делаешь? – почти крикнул Егоров, взглянув под ноги.
Воспользовавшись его минутным размышлением, сынуля подполз к бортику песочницы и начисто смёл все отцовские труды и старания.
– Антоша, так не надо делать. Надо учиться строить, созидать что-нибудь, а не ломать, – Егоров снова присел и тяжело вздохнул: – Давай возьмём теперь лопаточку и вот в рыбку песочку насыплем…
Антошка цепко ухватил лопатку, ткнул ей в песок и взметнул вверх целый веер песка.
Егоров отряхнул голову и плечи сынишки. Тот радостно заливался, показывая реденькие зубы.
– Нет, так не надо. Вот тебе формо…
Второй песчаный веер угодил Егорову в лицо.
– Ты, блядь, паскудник, что ж творишь?! – прижав кулаки к зажмуренным и саднящим глазам, почти взвыл Егоров.
Ослеплённым зверем он заметался вокруг песочницы, дважды едва не наступив на испугано заоравшего сынулю.
Под ногами хрустнула одна из формочек.
Звук этот неожиданно взорвал Егорова и он в ярости, несколькими ударами ног разметал хлипкие борта песочницы.
– Вот тебе! Вот тебе! – орал он каким-то визгливым дискантом, правым, менее ослеплённым глазом отмечая бегущую к ним из дома Наташу. – Вот тебе! Хуй тебе, а не куличики! Сука, бля! Бестолочь криворукая! И ты тоже сука! Молчишь всё, паскуда! Душу всю, падла, извела…
* * *
…Наташа с Антоном уехали тем же утром.
Егоров, заняв у соседей денег, отправился в сельпо. До обеда отпивался возле бетонных блоков пивом, заводя знакомства с местными обитателями. Там же повстречался снова с Завражиновым и долго рыдал, обнимая закадычного друга. Друг сурово и солидарно хмурился.
Взяли на всё, что имелось, и вернулись к Егорову. Врубили на полную громкость Круга и задушевно орали, подпевая.
Завражинов ушёл ночью, шатаясь, падая и вытирая разбитое лицо.
Егоров долго колотил по окну соседской веранды, угрожая спалить весь посёлок, если не одолжат ещё.
Ни в воскресенье вечером, ни в понедельник утром он в Москву не поехал.
В конце августа его, худющего и лохматого, ещё видели у пристанционного магазина.
С дождями он пропал вовсе.
ДВАДЦАТЬ ТРИ КОРОТКИХ РАССКАЗА
* * *
Высоко-высоко, далеко-далеко – небесная синева.
Бабушка что-то говорит. Подняв руку, трясёт пушистую ветку. Бабушка улыбается.
Он лежит в коляске и улыбается сразу всем – небу, бабушке, сирени и гремучим цветным лошадкам на резинке…
Позже он прочитал, что воспоминания детства не могут быть такими ранними.
Но он помнит.
* * *
Дача.
Из тарелки с манной кашей сыто смотрит жёлтый глаз масла. Над входом в кухню колышется тюль.
Тикают ходики на стене – одна гирька свисает почти до полу. Синие обои и деревянный, в овальных разводах сучков, потолок. Зеленоватая муха, похожая на обточенную волной крошку бутылочного стекла – он находил такие среди серой гальки на море – стучит крепкой головой в стекло и сердито жужжит.
Лето.
Ещё живой отец машет ему рукой – окно выходит в сад. На отце выгоревшая футболка и кепка с нерусской надписью «Tallinn».
* * *
За кирпичной стеной беседки – заросли крапивы.
– Не бойся, она не кусачая! – смеётся Ленка. Поправляет застёжку на сандалике.
Шепчет ему на ухо:
– Хочешь, г л у п о с т и тебе покажу?
Он молча кивает. В животе ёкает.
Ленка закусывает губу и оглядывается. Задирает подол цветастого платья, прижимает его подбородком к груди и стягивает с себя трусы.
– Вот.
Он присаживается на корточки, чтобы лучше разглядеть.
«Это не г л у п о с т и», – по-взрослому думает он. «Это – п е р с и к».
По Ленкиной руке ползёт крохотная рыжая божья коровка.
* * *
Длинные пики гладиолусов обёрнуты газетой.
Утро. Солнце. Чуть влажный после ночного дождя асфальт. Золотая стружка березовых листьев – повсюду.
Из динамиков у школы – хриплая музыка.
За спиной коричневый скрипучий ранец.
Мама гладит его по голове. Целует в макушку.
Ему стыдно за это перед всеми.
Он проводит рукой по волосам и отпихивает маму.
* * *
– Хуй сосёшь – губой трясёшь? – кричит ему в лицо Князев.
Класс смеётся.
Анна Сергеевна заболела, нет урока.
Князев – толстый, крутолобый, раз за разом повторяет вопрос-дразнилку.
В раскрытом пенале лежит циркуль «козья ножка». Без карандаша. Матово-тёмный, со светлым жалом острия.
Взять его и ударить Князева в глаз или щёку он не решается.
* * *
В нелепой болоньевой куртке и вязаном «петушке» он стоит у метро в чужом районе.
«Суки! – думает он. – Суки, всех порву. Тока тронь, суки…» Темно. По-мартовски сыро. Двери вестибюля мотает ветер. Когда они распахиваются, оттуда тянет опилками и влажным теплом. «Как в цирке», – думает он.
В руке шелестит целлофан букета.
Ему страшно. Он впервые в этом районе.
В кармане отвёртка.
«Только тронь, суки» – твердит он своё заклинание поздним прохожим.
Она не приехала.
* * *
Второй взвод, увязая сапогами в рыжей грязи, забегает на печально известную Ебун-гору.
С обеих сторон разбитой тропы, почти касаясь мокрых голов, свисают тяжелые лапы елей.
Дождь, хлеставший еще минуту назад, неожиданно прекращается. Взвод забегает на гору уже в четвёртый раз.
Хрип перекошенных ртов. Мат сержанта Зарубина. Пятна лиц. Белки глаз. Мельтешение рук. Чавканье сапог.
Виновник сегодняшней беготни, он на полном ходу летит лицом в грязь. Не переворачиваясь, поджимает ноги к животу. Кто-то пробегает по его спине. Лежать хорошо – темно и прохладно. Его пытаются выдернуть за ремень, но бросают и бьют сапогом в бок. Становится совсем темно.
– Притомился? – участливо спрашивает Зарубин.
Он видит близко-близко у своего лица грязный, с налипшей травой, сапог.
– Сам встанешь, или…
Его рвёт прямо на сапоги сержанта.
* * *
На КПП пришли местные бляди.
Простые и удобные. То, что и нужно солдатской душе.
Облупленный лак на коротких ногтях. Туфли-лодочки и спортивная куртка. Трещинки пудры-штукатурки, крошки туши под глазами – он видит всё это, когда склоняется над Лариской, пьяный, под тусклым светом плафона в комнате для свиданий на КПП. Она хрипло ржёт, и ему, выпившему фурик «Огней Москвы», все равно кажется стрёмным её дыхание. Гондонов нет и в помине. Он снимает с неё мини-юбку. Толстые колготы. Под ними – не трусы даже – трусняки. Чёрные, плотные – как от купальника. Он пыхтит, стягивая их, старается не смотреть на след от резинки на её животе – точь в точь похож на… Как там? Стругуляционная, или хер её знает, какая борозда. Короче, та самая, что у бойца из второй роты, которого сняли с батареи в сортире…
Попахивает селедкой. Он знает, что на ужин была мойва, Лариска вообще пришла часа два назад, и пока он не стянул с неё трусы, селёдкой не пахло. А ведь его девки раньше пахли кто мылом, кто духами, а кто просто свежим арбузом. Но никак – не селёдкой. И сам он мылся каждый день, а не по субботам, носил носки и кроссовки, и даже – страшно сказать – брился когда хотел…
Свет уже выключен. На окнах – одеяла.
Вот он – момент истины. Цена вопроса. То, о чём грезил во сне и в укромных уголках – лежит перед тобой. Суетился и волновался, подгадывал дежурство на КПП, узнавал, кто заступит старшим, и кто будет д/ч, чтоб не парили мозги проверкой.
А, ладно… Привет, простейшие. Добро пожаловать.
Обидно – едва успел всунуть, как тут же заелозил носками сапогов по линолеуму – пошла волна, кончил. Мышцы лица отекают, в ушах шумит. Он пытается застегнуть ширинку. В руках – слабость, в душе – омерзение. В сортире, на полке, кружка с ядреным раствором марганцовки. Мимолетное раздумье – кто уже мочил в ней свой член и надо ли совать туда свой.
* * *
В плацкартном купе с ним вместе ехал мужик, съевший подряд восемь варёных яиц. Скорлупу мужик чистил смуглыми от грязи пальцами и целиком засовывал яйцо в рот.
Мужик рассказал ему, что в стране большие дела, и даже по телику есть новый канал, музыкальный. Называется «Дважды два».
Водка в заляпаном стакане чуть подрагивает. Он выпивает её, тёплую, залпом. Бежит в тамбур, дёргает дверь, одну, другую. Едва удерживая равновесие в грохочущем пространстве, блюёт на горбатый железный пол.
Два года жизни ушли в никуда.
Это тоже ясно. Как дважды два.
* * *
Мёрзлые свиные туши – половинками, вдоль хребта. Бежево-жёлтые, в бледных треугольных штампах.
Холод. Изо рта бригадира – клочки пара. Мат-перемат. Что-то сердито кричит по трансляции диспетчер – эхо летит над рельсами, бьётся о тёмные бока вагонов… Слов не разобрать.
Рукавицы просалены до негнутости. Хватаешь тушу за ноги и взваливаешь на плечо. Когда идёшь к фуре, наклоняешь голову – глаза слепят прожекторы. Возвращаешься – перед тобой пляшут, ломаются, скачут длинные тени.
Он долгожитель тут – третий год.
Бригадиром так и не стал.
«В пизду такую работу» – пришла, наконец, предельно ясная мысль.
* * *
Утро.
Толстый грузин, хозяин палатки, тычет пальцами в золотых печатках ему в лицо:
– Ты, бляд, охранник сраный, каво охранять должен, а? Жопа своя или палатка, бляд?
На коротких пальцах грузина торчат чёрные волоски. Такие же выглядывают из его носа, похожего на сломанный топор.
Стекло палатки разбито.
Он молчит. Отворачивается в сторону.
У круглого бока станции метро стоят целых три ментовских «уаза». Менты хмурые, с автоматами и в армейских касках.
Над убогими коробами палаток замерла в своём вечном полёте знакомая с детства ракета на крутом постаменте-горке.
Вдали – острие телебашни.
Вечером и ночью там стреляли.
Осень. Четвёртый день октября.
* * *
Окна комнаты выходят на гремящую трамваями улицу и соседний дом.
Кровати у них нет. Спят на соседском матрасе.
В скважину замка за ними иногда подглядывают армянские дети – их в коммуналке несколько штук.
Он склоняется над раздетой девушкой и целует её в живот. Ложится щекой на выбритый лобок и улыбается всплывшему из глубин памяти слову.
Г л у п о с т и.
Армянские дети тоже так считают – ему кажется, он слышит тихое хихиканье за дверью. Надо в следующий раз на ручку двери повесить рубашку. Впрочем, во время любви детей не слышно. А после – плевать.
Окна комнаты распахнуты – возню у скважины заглушает улица. Катятся, будто чугунные ядра по булыжникам, хрипло тренькают трамваи. В доме напротив второй день кроют крышу новыми, сверкающими на солнце листами.
* * *
Жена сидит на низкой кушетке в полутёмном холле. По углам стоят четырёхугольные кадки с какими-то растениями. Одно похоже на «дерево» из «Джентельменов удачи». Другое – похоже на фикус.
За широкими окнами вечер и дождь.
Он присаживается на казённый дерматин рядом с женой.
По коридору шелестят тапочками и кутаются в домашние халаты женщины-тени.
– Как ты? – спрашивает жена.
Он начинает жаловаться на погоду. Потом на неработающий эскалатор на «Дмитровской» и говорит, что пришлось подниматься пешком. Спохватывается:
– А ты как?
Жена отворачивается.
Отделение патологии. Третий выкидыш.
* * *
От подзатыльника голова дочки дёргается вперёд и бьётся о край стола. Выставив острые локотки, дочь двумя руками зажимает нос, но на тетрадь всё равно падает несколько тёмных капель.
– Вырви лист и пиши заново!
Уже на кухне, закуривая у тянущей холодом форточки, добавляет:
– Бестолочь, блядь…
Уже когда дочь засыпает в своей комнате, он плачет на кухне. Пьяно клянётся обварить руку кипятком, если ударит ещё хоть раз.
* * *
Анталия не понравилась.
Крикливые и наглые турки с тёмными, нехорошими глазами. Сально-мясное роскошество пляжа. Мерзкая «ракы», взятая на пробу. Белеет, когда разводишь водой. Вспомнил одеколон в армии и едва сдержал тошноту.
Из окна гостиницы мечети похожи на окаменевших черепах, лапы которых прибиты к каменистой земле кольями-минаретами. Остаток отпуска на пляж не ходил. Шёл сразу в бар.
С минарета ближайшей мечети кричали азан. «Нет бога, кроме Аллаха» – утверждал невидимый мусульманин.
– Бога нет вообще! – орал ему в ответ, стоя на балконе с бутылкой джина. – Есть только джин! Джииин!
Нравилась игра слов.
На рейс его едва допустили. Жена сидела молча, глядя в спинку кресла напротив. Дочка уткнулась в иллюминатор.
Впрочем, он не помнил ничего этого.
* * *
– Ты любишь меня?
– Да, – честно соврал он.
* * *
Из приёмника на кухонном столе слышится задорное детское пение:
- – Хорошо бы сделать так! Фьють!
- Срезать все кудряшки!
- На макушке – красный мак,
- А вокруг – ромашки!
Ему хочется ударить по приёмнику кулаком. Но лень. Замахивает рюмку и тянется пальцами к кружкам колбасы.
Он давно придумал, как сделать.
Растянуть на стене хороший холст. Льняной дублировочный будет самое оно. Прочный, плотный – как раз для его картины. Тексами прибить холст к стене. Грунтовку приготовить самому – как учили. Пузырь осетра сварить с мёдом. Развести мел. Немного толчёного кирпича – для красноватости фона.
Нанести слоя четыре.
Пока готовится, раздобыть техсредства. Это сложнее – охотничьего билета у него нет. Но решаемо.
Встать к холсту спиной. Ствол прижать к подбородку. Получится феерично.
Дыра посередине. Серые галактики из мозговых брызг. Бурые солнца кровяных сгустков и аппликация рельефных вкраплений кости.
Как заключительный штрих – неровный пастозный мазок. Лёгкий зигзаг разнесённого в крошево и ползущего вниз затылка.
* * *
Жара.
Пыльная дорога через бывшее пастбище. За «отрезком» – так местные называют лесополосу у оврага – горбатые крыши деревни.
Сухо шелестят кузнечики.
Высоко в небе, едва различимая в солнечном мареве, ползёт стрелка инверсионного следа.
Полдень. Похмелье.
В отрезке прохладней. Пляшут пятна света. На деревянном мосту с бурыми от ржавчины перилами пара местных пацанов. Один постарше, лет двенадцати. Другой – малец совсем, не больше шести. Старший подбрасывает вверх тёмный комок. Тот тяжело и мокро шлёпается на серые доски моста.
Лягушка.
Волоча ноги, пытается уползти.
Выменял у пацанов лягушку на пачку сигарет.
Отнёс к деревенскому пруду и положил у воды.
* * *
– Если ребёнок плачет, – зашептала, подавшись вперёд, сумасшедшая, – по ночам если плачет – поставь церковные свечки в каждом углу. На три дня. Она уйдёт. Но может вернуться опять. Тогда ребеночек уже умрёт.
За расцарапанным окном электрички ползли огороды дачных участков.
Проехали переезд. Неразборчиво протрещал динамик.
Ему пора выходить.
Он снял с полки рюкзак, закинул на плечо.
– Кто «она»-то? – спросил без любопытства.
Сумасшедшая взглянула на него снизу вверх.
– А та, что ребенка твоего по ночам мучит. Вот и плачет она, девочка твоя.
Сел на скамью.
– Откуда знаешь, что дочка?
Сумасшедшая подвязала платок, подергав кончики-ушки. Узел у неё находился на затылке.
Зажмурилась, расколов лицо сотней морщин. Выдохнула:
– А вот знаю!
Засмеялась с подвизгом, неприятно. На них начали оглядываться.
– Плачут дети потому, что их колет спицей старуха. Её люди видеть не могут. А я видела, когда маленькой была… – мелко закивала головой сумасшедшая. – Старуха ночью к кроватке приходит. Спицу достанет, и колет ребёночка. Больно-больно, чтобы он плакал. Надоест – уйдёт другого колоть. Или заколет до смерти. Захочешь прогнать – делай, как я сказала. Свечечки церковные – она их боится. Не всегда, правда. Вернётся если – беде быть…
Потряс головой и пошёл в тамбур курить.
Возвращался пешком со следующей станции.
Шагал вдоль сверкающих солнцем рельсов, прислушиваясь к шороху щебня под ногами.
Бред. Бред, конечно.
Какие, на хер, свечки…
* * *
Зелёные, белые поверху стены. Нежилой, неживой запах.
Низкая табуретка. Кровать. Дочь разглядывает принесённую книжку.
Платок надевать не хочет – чтоб не быть «как старуха».
Из солидарности он обрился наголо.
Это всё, что мог сделать для неё.
* * *
Игрушки и вещи раздавали, куда могли. Лишь бы не выбрасывать. Только бы не сминали их ногами в контейнере таджики-дворники. Не завалили бы мусорной дрянью жильцы.
Но и дома держать их не могли.
Вещи прятались по квартире. Спустя год, а то и два, появлялись. Выкатился из-за холодильника каучуковый шарик.
* * *
Грязь на кладбище была удивительно похожа на ту, рыжую, с Ебун-горы. Захотелось упасть и вжаться в неё лицом.
* * *
Запойным он себя не считал. Никогда не пил больше недели. Не чаще раза-другого в месяц.
Когда обрывки потных кошмаров отступили и шорохи за дверью перестали нагонять ужас, он включил телефон.
Тот сразу зазвонил. Словно ждал этого.
– Хы-э… – выдохнул в трубку.
– Привет, – буднично сказала мембрана.
Голосом б ы в ш е й.
– Ах-м…
– С тобой всё в порядке?
– Сейчас почти да… – вернулась, наконец, речь. – Как ты? Молчание.
– У меня всё нормально.
Опять молчание.
Неожиданно вспомнил – остро, выпукло – распахнутое окно и рабочих на крыше. Грохот листов, молотков, трамваев…
– Десять лет прошло.
– Двенадцать, – сказала она.
Никаких шорохов и тресков в телефонной трубке. Почему о них так любят писать в книжках?
Ничего. Тишина. И голос.
– Я замужем. Детей нет.
Вытянул из мятой пачки сигарету. Пачка упала на пол, оскалилась жёлтыми фильтрами. Похожа на лошадиный череп.
– Ты счастлива?
Тишина.
– Благополучна. А ты?
Прикурил. Кашлянул.
– Нет.
В трубке тихо.
Никаких помех.
МАШЕНЬКА
Паутина была почти незаметна. Хитрый Валидол сплёл свою сеть в тёмном и сыром углу между крыльцом и верандой, где никто – ни бабушка Оля, ни деда Саша, ни злющая зеленоглазая Кыска – не могли его потревожить. О Валидоле знала лишь Машенька, но они были друзьями, и не собирались причинять друг другу вреда.
Несколько раз в день – обязательно утром, перед завтраком, потом после гуляния с дедушкой в лесу и после короткого дневного сна – Машенька кормила паука муравьями. Иногда пауку доставались маленькие, чёрные и противные гусеницы, их Машенька находила на нижней, бледной стороне смородиновых («самородина» – смешно говорила бабушка) листьев.
Пыльных и сухих мух, рассыпанных по подоконникам во всех комнатах, Валидол есть отказывался и выбрасывал их из паутины, залатывая прореху.
Муравьёв Машенька ловила на садовой дорожке пальцами. Сначала боялась, что укусят, но муравьи почему-то не кусались, а лишь отчаянно пытались вырваться из цепкой щепотки. Это им никогда не удавалось.
Гусеницы – Машенька выяснила у деда – кусаться не умели, но на всякий случай Машенька снимала их с листьев надломленной и согнутой пополам палочкой. Зажав в подобии пинцета извивающееся мохнатое тельце, бежала к растянутой над фундаментом дома паутине.
Первоначально паука звали Димедрол. Маленький, едва различимый приплюснутый шарик на крохотных крючочках-ножках по размеру сильно походил на бабушкино лекарство.
С лекарствами играть не разрешалось. Но пару раз, тайком от всех, когда мама была в Москве, бабушка на кухне готовила обед, а деда копал огород или уходил к соседу дяде Коле, Машенька доставала из тумбочки под телевизором небольшую пластмассовую коробку. Подцепляла пальцем тугую крышку, открывала, вдыхая аптечные запахи. Устроившись перед диваном, увлечённо раскладывала на нём яркие и блестящие коробочки, пузырьки и тюбики.
Машенька играла в аптеку. Читать она ещё не умела, но произнесённое дедой или бабушкой название запоминалось без труда. Это дедушкин валидол, это хорошо знакомые зелёнка и йод, это противный аспирин, вот димедрол и ношка, этот тюбик аксалин, а этот забыла как, вот валакардион…
Перекладывая лекарства, Машенька шептала диковинные слова, удивлялась их непонятности. Затем, прислушиваясь к звукам в саду и доме, со вздохом собирала всё в коробку и ставила на место.
* * *
Паука она обнаружила в первое же утро, уронив с крыльца Тинки-Винки. Мягкое фиолетовое тельце шлёпнулось в мокрые от росы листья одуванчика. Машенька, спустившись по широким ступеням, обогнула крыльцо, высоко поднимая ноги, чтобы не промочить сандалии.
Подняв и отряхнув лупоглазого друга, Машенька почти распрямилась, как вдруг замерла.
Перед глазами висела паутина – густо облепленная мельчайшими капельками росы, похожая на хрустальную снежинку.
Восхищение сменилось брезгливостью – там живёт противный злой паук! Машенька уже огляделась по сторонам в поисках какой-нибудь палки, как услышала с кухни зовущий голос бабушки.
Махнув на паутину рукой, побежала в дом.
Завтракали на террасе.
У тарелки с сырниками стояла любимая кружка Машеньки – с Винни-Пухом и Пятачком по бокам. Над сырниками вился пар.
Устроившись поудобнее на стуле, Машенька заглянула в кружку.
– «Несквик»? – подняла глаза на бабушку.
Бабушка развязала фартук, села рядом.
– «Несквик», «несквик». Мама три пачки в сумку уложила. Куда столько? Вот после обеда к Салтыковым сходим, помнишь, у них ещё собака чёрная живёт, и козочки две. Насчёт молока договоримся с ними, будешь по утрам козочкино пить. Оно-то получше твоего «несквика» будет, полезнее…
– А «несквик» всё равно вкуснее! Я молоко не буду, оно гадкое! Пусть его Кыска пьёт, – тряхнула головой Машенька, накалывая сырник на вилку.
– Много ты понимаешь! Это в Москве оно гадкое, а здесь – сплошное здоровье. А Кыске-то больно жирно будет – по 30 рублей литр. Ты сырник-то в варенье обмакни, клубничное, вот… – бабушка придвинула к внучке блюдце. – Спорщица ты моя ненаглядная! – улыбнулась она, глядя на Машеньку. – Ешь, ешь, радость моя!
Привлечённые запахом варенья, на террасу прилетели несколько ос. Беспокойно звеня, принялись вычерчивать зигзаги над столом. Машенька втянула голову в плечи и спрятала руки под стол.
– Кыш! Кыш! Налетели, с утра пораньше! После завтрака тюль найти надо, повешу от них.
Бабушка встала, вооружилась сложенной в несколько раз газетой. Ловко, на лету, посшибала ос на пол и (Машенька отчётливо расслышала хруст) раздавила их тапком.
– Осы плохие? – спросила Машенька.
– Опасные. Ужалить могут, больно будет… – бабушка вымела трупики на крыльцо и прикрыла дверь. – Чтоб ещё не налетели.
– А пауки?
– Что – пауки?
– Плохие? Или опасные? Пауки кусаются?
– Пауки хорошие. Они мух ловят, комаров всяких. Пауков обижать и убивать нельзя, примета плохая. Если их не трогать, то и они тебя не тронут.
Машенька озадачилась.
– А как же Муха-Цокотуха? Ведь её паук схватил и хотел съесть. А Муха-Цокотуха-то – хорошая!
Бабушка тоже задумалась.
– Так ведь это сказка! В сказках мухи хорошие, а на даче – плохие. Одна зараза от них, да спать днём мешают… Ты ешь давай, вроде больше не летает никто.
– А где деда? – жуя сырник, поинтересовалась Машенька.
– Отец, иди завтракать! Стынет всё! – звонко крикнула бабушка, подняв лицо к деревянному, в тёмных пятнах от сучков, потолку.
Скрипя ступеньками – в одной руке очки, в другой толстая книга, страницы заложены пальцем, – спустился со второго этажа деда Саша в белой майке и синих штанах.
– Деда, опять ты позже всех! Тебе что, особое приглашение надо? – копируя строгую интонацию воспитательницы Ирины Васильевны, нахмурила брови Машенька.
Бабушка рассмеялась. Деда шутливо погрозил пальцем. Потрепав внучку по светлым и лёгким волосам, уселся на своё любимое место – спиной к окну и боком к выходу. Раскрыл книгу, надел на кончик носа очки, нащупал тарелку с сырниками, придвинул, пальцами вытянул один и, не отрываясь от книги, начал жевать, смешно шевеля усами.
– Деда, а сегодня – четверг? – не отнимая губ от чашки, спросила Машенька. Голос получился глухой и странный.
Дед взглянул поверх очков.
– Ну, какой же четверг? Мама когда приедет? Послезавтра, в пятницу. Значит, какой сегодня день получается?
Машенька скосила глаза на свои руки. Посмотрела на бабушку. В окно. Под стол. Поболтала ногами. Сморщила нос и, вздохнув, принялась загибать пальцы, шевеля губами. Бабушка и дедушка, переглянувшись, с интересом следили за внучкой.
– Получается среда, – наконец объявила Машенька.
Бабушка радостно хлопнула себя по коленям:
– Ай, молодец, моя умничка! Всё-то ведь знает, всё умеет!
Машенька допила какао.
Вся терраса была расцвечена яркими пятнами – солнце пробивалось сквозь листья яблонь.
– Жаркий день будет, – перевернув страницу, произнёс дед. – На речку сходим, что ли? Вода-то уж прогрелась, небось… А после обеда, жара спадёт когда, компост перекинуть надо…
Бабушка махнула рукой:
– Вы идите вдвоём, мне с обедом возни много – курицу пока разморожу, картошки начистить. К часу возвращайтесь, обедать будем. Обратно пойдёте, хлеба на станции купите.
Дед встал, потёр одной рукой живот, другой поясницу. Снял очки, заложил ими книгу и посмотрел на внучку:
– Ну, пойду, плед возьму, а ты собери, чем играть будешь. На речку сходим. На тот берег со мной поплывёшь?
Машенька помотала головой:
– Я боюсь.
– Ну, как хочешь. Будешь, значит, на берегу сидеть, на солнце жариться, пока я купаться буду.
Дед поднялся на второй этаж.
Бабушка собирала со стола посуду.
Машенька, оттопырив губу, поджала левую ногу и пропрыгала к двери. Толкнула ее с усилием и выскочила на крыльцо. В четыре прыжка спустилась по ступенькам.
На светлом линолеуме дорожки увидела скрюченную, слабо шевелящую лапами и крыльями осу.
Присев на корточки, Машенька с минуту разглядывала раненое насекомое. Сорвала травинку, потыкала твердым концом в мелко дрожащее черно-желтое брюшко. Кусачки на крепкой и плоской голове осы быстро задвигались. Машенька покачала головой. Осторожно подпихнула осу травинкой на лист подорожника. Затаив дыхание, понесла на вытянутых руках.
Паутина успела высохнуть. Машенька подумала, что ажурная сеть куда-то исчезла насовсем. Приглядевшись, улыбнулась и стряхнула осу с подорожника, целясь в центр сплетённых прозрачных нитей.
Паутина дрогнула и прогнулась под тяжестью насекомого.
Машенька села на перевёрнутое садовое ведро и принялась ждать.
Оса, словно предчувствуя свой последний час, отчаянно завозилась, но крыльями и спинкой плотно прилипла к нитям, прекусить которые ей не удавалось – жвала беспомощно задрались вверх и кромсали пустой воздух.
В тот миг и появился паук.
Он вылез откуда-то из щели между досками крыльца.
Машенька испуганно расширила глаза.
Ловко перебирая лапками, паук добрался по длинной и толстой нити до края паутины. Настороженно замер.
Оса дёрнулась сильнее.
Паутина качнулась. Её хозяин двумя короткими рывками подбежал к окончательно увязшей жертве. Снова замер. И вдруг засуетился, забегал вокруг притихшей осы, сдвинулся чуть вбок и начал вращать лапками угодившую к нему добычу, окутывая ее клейкой блестящей нитью.
Через несколько минут на месте осы образовался серый, неправильной формы кокон. Паук, уже успевший получить имя Димедрол, неспешно уполз вверх по нитям обратно в щель.
– Ну и паучок! – удивленно округлив губы, прошептала Машенька, поднимаясь с ведра и отряхивая платье.
Сверху, с крыльца, послышался голос деда:
