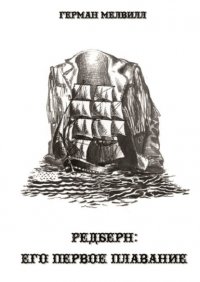
Читать онлайн Редберн: его первое плавание бесплатно
- Все книги автора: Герман Мелвилл
Переводчик Роман Каменский
Корректор Яна Веретнова
Дизайнер обложки Егор Лаптарев
© Герман Мелвилл, 2021
© Роман Каменский, перевод, 2021
© Егор Лаптарев, дизайн обложки, 2021
ISBN 978-5-0053-9906-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
К 200-летию Германа Мелвилла
Глава I
Как у Веллингборо Редберна зародилась любовь к морю и как она развивалась
«Веллингборо! Узнав, что ты идёшь в море, предлагаю тебе взять с собой мою охотничью куртку, она простая, бери её, она убережёт от других расходов. Смотри, она довольно тёплая, прекрасные длинные поля, крепкие роговые пуговицы и множество карманов».
Так говорил мне мой старший брат по простоте и широте своего сердца в канун моего отъезда в морской порт.
«И ещё, Веллингборо, – добавил он, – так как у нас обоих денег немного и тебе нужно снаряжение, а мне дать нечего, то ты можешь взять с собой моё охотничье ружье и продать его в Нью-Йорке, чтобы после купить всё необходимое. Ну же, возьми его, оно мне теперь не нужно, я не могу найти ему пороха».
Я был тогда мальчишкой. Незадолго до этого моя мать переселилась из Нью-Йорка в прелестную деревушку на реке Гудзон, где мы и жили в тиши в небольшом доме. Я был, к сожалению, разочарован несколькими планами своей будущей жизни, наброски которых уже имелись; необходимость сделать что-нибудь для самого себя, объединившись с природным стремлением к странствиям, теперь сговорились со мной, для того чтобы послать меня в море в качестве матроса.
За много месяцев до этого я детально изучал старые ньюйоркские бумаги, восхищённо просматривая длинные колонки
рекламных объявлений о судах, и во всех видел странное романтическое очарование. Много раз я пожирал глазами такие объявления, как это:
«На Бремен».
«Обитый опаянными медными листами бриг „Леда“, почти закончивший свою погрузку, отплывает в вышеупомянутый порт во вторник двадцатого мая. Обращаться по вопросам фрахта или пассажирских мест со стороны улицы Кунтис-Слип».
Перед моим молодым внутренним воображением каждое слово в такой рекламе представало в объёмной реальности.
«Бриг!» Само это слово вызывало в уме образ чёрного, несомого морем судна с высокими, удобными бортами и распущенными мачтами и тросами.
«Обитый опаянными медными листами!» Они точно пахли солёной водой! Как же должны были отличаться такие суда от деревянных одномачтовых зелёных и белых шлюпов, что прежде ходили вверх и вниз по реке мимо нашего дома на берегу.
«Почти закончивший свою погрузку!» Какое важное объявление, почти предположение о наличии пыльных товаров и коробок с шелками и атласами в сравнении с тем, что заполняло презренные палубы – мерзким грузом из сена и древесины, с которым я был знаком по своему речному опыту.
«Отплывает во вторник двадцатого мая» – и газетная сухость датируется пятым числом месяца! Целых пятнадцать дней впереди, подумайте об этом; это важное путешествие, и потому время отбытия парусного судна было установлено настолько рано – об отбытии речных шлюпов анонсы не печатались.
«Для фрахта или пассажирских мест!»
Подумайте об обитом опаянными медными листами бриге и приёме пассажиров на Бремен! И кто мог идти в Бремен? Никто, кроме, несомненно, иностранцев, темнолицых мужчин с чёрными, как уголь, бакенбардами, говорящих по-французски.
«Кунтис-Слип».
Сколько ещё бригов и сколько ещё судов должны стоять там! Кунтис-Слип должна была располагаться где-нибудь поблизости от мрачных складских фасадов с ржавыми железными дверями и ставнями и крытыми черепицей крышами, и наваленными старыми якорями и якорными цепями. Также в том районе было очень много старомодных кафе с загорелыми морскими капитанами, входящими туда и выходящими, курящими сигары и говорившими о Гаване, Лондоне и Калькутте.
Всему этому моему воображению заметно помогли неопределённые тёмные воспоминания о причалах, и складах, и погрузке, которыми снабдила меня моя жизнь в морском порту в раннем детстве.
Особенно помню, как я стоял с моим отцом на причале, когда большое судно, идя полным ходом, огибало оконечность пирса. Я помнил эти тяжкие «хо!» от матросов, как только поверх высоких бортов показывались их шерстяные шапки. Я помнил, как размышлял о том, как они пересекали великий океан, и о том, что то же самое судно и те же самые матросы, тогда так близко стоящие от меня, через некоторое время уже фактически окажутся в Европе.
Добавлю к этим воспоминаниям образ моего отца, ныне покойного, несколько раз пересекавшего Атлантику по коммерческим делам, поскольку он был импортёром с Брод-стрит. И зимними вечерами в Нью-Йорке под хорошо памятный горящий морской уголь на старой Гринвич-стрит он рассказывал моему брату и мне о чудовищных, высоких, как горы, морских волнах, о мачтах, сгибающихся, как ветки, и многое о Гавре и Ливерпуле, о вырастающем шарообразном куполе Святого Павла в Лондоне. Действительно, во времена моей молодости мои мысли о море по большей части были связаны с землёй, а именно – со старыми прекрасными землями, наполненными заросшими соборами и церквями и длинными, узкими, кривыми улицами без тротуаров с обрамляющими их необычными домами. И особенно я старался представить, как такие места должны выглядеть в дождливые дни и субботние, и действительно ли у них там есть дождливые дни и дни субботние, как у нас здесь; и действительно ли там мальчики ходят в школу и изучают географию и носят свои вывернутые наизнанку воротники рубашки, а в знак траура – чёрные ленты, и позволяют ли им их папы носить ботинки вместо той обуви, которую я так не любил из-за любви к ботинкам, которые выглядят более мужественно.
Когда я стал старше, мои мысли взлетели выше, и я часто впадал в долгие мечты о дальних путешествиях и странствиях и обладании знаниями, позволяющими говорить о дальних и варварских странах; с каким почтением и удивлением отнеслись бы ко мне люди, если бы я только что вернулся с побережья Африки или Новой Зеландии, и как романтично и томно выглядели бы мои загорелые щёки, и как я пришёл бы домой в иностранной одежде из дорогой и роскошной ткани и ходил бы в ней вверх и вниз по улице, и как мальчишки-бакалейщики поворачивали бы головы и смотрели бы на меня, когда я проходил мимо. Ведь я очень хорошо помнил, как сам когда-то уставился на человека, на которого однажды в воскресенье в церкви указала мне моя тётя как на человека, который был в Каменной Аравии и испытал там удивительные приключения, обо всех них я прочитал своими собственными глазами в книге, которую он написал, тонкой книжечке в бледно-жёлтом переплёте.
«Посмотри, какие большие у него глаза, – шептала моя тётя, – они стали такими крупными, потому что когда он почти умер от голода в пустыне, то внезапно заметил финиковую пальму с висящими на ней созревшими плодами».
Из-за этих слов я уставился на него, пока не решил, что его глаза имели действительно необычный размер и выпирали из его головы, как глаза омара. Я верю, что мои собственные глаза, должно быть, тоже увеличились, пока я смотрел на него. Когда служба закончилась, я потребовал от моей тёти, чтобы она взяла меня с собой и последовала за путешественником домой. Но она попросила констеблей задержать нас, чтобы мы не делали этого, и поэтому я больше никогда не видел этого замечательного аравийского путешественника. Но он долго преследовал меня, и некоторое время я грезил им и решил, что его большие глаза изначально были большими и круглыми; и ещё у меня было видение финиковой пальмы.
С течением времени я все более и более обращал внимание на иностранные вещи и тысячью способами стремился удовлетворить свой вкус. У нас в доме было несколько предметов мебели, которые были привезены из Европы. Я исследовал их снова и снова, задавшись вопросом, где вырос лес, живы ли рабочие, которые сделали эту мебель, и чем они могли теперь заниматься.
Затем у нас было несколько картин и редких старых гравюр моего отца, которые он сам купил в Париже и повесил в столовой.
Две из них были морскими пейзажами. Каждый представлял широкое прокопчённое рыболовецкое судно с тремя бакенбардоносцами в красных шапочках, просматривающих свернувшийся под ногами вытянутый невод. Там виднелся высокий, похожий на французский берег в одном углу и полуразрушенный серый маяк, венчающий его. Волны были коричневые, как будто жареные, и вся картина выглядела подержанной и старой. Я отваживался думать, что часть её могла бы иметь приятный вкус.
Другая представляла три старинных французских военных корабля с высокими, как пагоды, зам́ ками по борту и по корме, такими же, что можно увидеть во Фруассаре, и аккуратными небольшими башенками по верху мачт, наполненными маленькими людьми с чем-то неопределённым в их руках. Вся троица плыла по яркому синему морю, синему, как небеса Сицилии, наклонившись на бок под опасным углом; и они, должно быть, шли очень быстро, судя по белым брызгам по бортам, как в метель.
Ещё у нас было два больших зелёных французских портфеля с цветными репродукциями, настолько тяжёлых, что мне в том возрасте невозможно было их приподнять. Каждую субботу мои братья и сёстры вытаскивали их из угла, где они хранились, и раскладывали на полу, рассматривая внимательно и с неподдельным восхищением.
Они были всевозможными. Некоторые изображали Версаль, маскарады, его гостиные, его фонтаны, и корты, и сады с длинными рядами густых участков листвы с фантастическими дверями и окнами, и башенками, и пиками. Другие были сельскими сценами, наполненные прекрасными небесами, задумчивыми коровами, стоящими по колено в воде, и мальчиками-пастухами, и домами в дали, наполовину скрытыми в виноградниках и виноградных лозах.
Были и другие картины по естествознанию, представлявшие носорогов, слонов и охотящихся тигров, и, прежде всего, была картина с огромным китом, столь же большим, как судно, удерживаемым множеством гарпунов и тремя лодками, плывущими за ним с такой скоростью, что казалось, будто они летели.
Затем у нас был большой книжный шкаф, что стоял в зале, старый коричневый книжный шкаф, высокий, как небольшой дом; у него имелся своего рода подвал с большими дверцами, замком и ключом; выше были расположены стеклянные дверцы, через которые можно было заметить длинные ряды старинных книг, отпечатанных в Париже, Лондоне и Лейпциге. Была прекрасная библиотека журнала «Зритель» в шести больших томах с позолоченными корешками, и много раз я пристально глядел на слово «Лондон» на титульном листе. И там была копия Д’Аламбера на французском языке, и я задался вопросом, что я был бы великим человеком, если бы в зарубежном путешествии был бы всегда в состоянии прочитать прямо и без остановки из той книги, которая теперь была загадкой для всех в доме, кроме моего отца, разговор которого с нашим слугой на французском языке, что он иногда вёл, мне так нравилось слушать.
На этого слугу я раньше смотрел пристально и с удивлением, поскольку в ответ на мои недоверчивые перекрёстные вопросы он много раз уверял меня, что действительно родился в Париже. Но этому я никогда до конца не верил, поскольку казалось непреодолимым постигнуть, что человек, который родился за рубежом, мог жить под одной со мной крышей в нашем доме в Америке.
С годами это непрерывное влияние иностранных ассоциаций породило во мне неопределённую пророческую мысль, что я был обречён сегодня или завтра, но стать великим путешественником и вслед за моим отцом, развлекавшим незнакомых господ и угощавшим их выпивкой после ужина, мог бы рассказывать о своих собственных приключениях нетерпеливому слушателю. И я не сомневался в том, что это предчувствие в каком-то отношении и привело меня к последующим странствиям.
Но тем, что, возможно, больше, чем любая другая вещь, преобразовало мои туманные грёзы и тоску в чёткую цель искать своё счастье на море, стало старинное стеклянное судно французского производства, приблизительно восемнадцати дюймов длиной, которое мой отец приблизительно тридцать лет назад привёз домой из Гамбурга в подарок моему двоюродному деду сенатору Веллингборо, ныне покойному, члену Конгресса в эпоху старой конституции, в честь которого после его смерти я и был назван. После смерти сенатора судно было возвращено дарителю.
Оно хранилось в квадратной витрине, которая регулярно чистилась одной из моих сестёр каждое утро и стояла на небольшом голландском чайном столике с ножками в одном из углов гостиной. Это судно, вызывавшее восхищение посетителей моего отца в столице, удивляло и восхищало всех людей деревни, где мы теперь проживали, многие из которых раньше просили мою мать ни о чём ином, кроме как увидеть судно. И хорошо оплачивали это зрелище, по своей привычке, долгими и любопытными экспертизами.
Во-первых, все его части его были стеклянными, и это сильно удивляло потому, что мачты, палубы и тросы были сделаны так, чтобы точно воспроизвести соответствующие части реального судна, которое могло выйти в море. Оно несло два ряда чёрных орудий по всему периметру обеих палуб, и раньше я часто пытался заглянуть в иллюминаторы, чтобы увидеть то, что находилось внутри; но отверстия были настолько маленькими, и внутренности выглядели настолько тёмными, что я смог обнаружить очень немногое или вовсе ничего; хотя, когда я был очень мал, то, если бы смог хоть однажды открыть корпус и разбить все стекло на части, определённо открыл бы что-то замечательное, возможно, некие золотые гинеи, в которых, с тех пор как себя помню, всегда испытывал недостаток. Я и раньше часто чувствовал своеобразное безумное желание стать причиной гибели стеклянного судна, шкафа и всего того, что называется добычей, и однажды подал некий намёк моим сёстрам, отчего они с шумом побежали к моей матери, а после судно на какое-то время было поставлено на каминную доску вне моей досягаемости, до тех пор пока ему не перестала угрожать такая опасность.
Я не знаю, как объяснить моё временное безумие, если не сказать иначе, из-за прочитанного сборника рассказов о судне капитане Кида, которое лежит где-то в устье Гудзона около Гор, полное золота, как и положено; и как компания людей пыталась нырнуть вниз и вытащить спрятанное сокровище, о совершении чего ни у кого прежде не было и мысли, хотя оно там пролежало почти сто лет.
Нельзя не сказать о высоких мачтах и палубах и оснащении этого известного судна, среди лабиринтов стеклянной пряжи которого я раньше бродил в воображении, пока не начиналось головокружение от переутомления, но я только упомяну про людей на его борту. Все они также были из стекла, эти красивые маленькие стеклянные матросы, совсем как любые другие живые люди, которых вы видите, со шляпами и обувью, надетыми на них, и в любопытных синих жакетах со своеобразными складками вокруг оснований. Четверо или пятеро из этих матросов были очень ловкими маленькими парнями и поднимались по оснастке очень широкими шагами; но для зрителей они никогда не сдвигались за год и на дюйм, о чем я могу заявить под присягой.
Другой матрос сидел верхом на бизань-гике, с руками, поднятыми над головой, но я никак не мог узнать, для чего это было нужно; второй находился на вершине фок-мачты с катушкой из стеклянных снастей за плечами; кок стеклянным топором рубил дерево возле переднего люка, стюард в стеклянном переднике спешил в каюту с пластиной стеклянного пудинга, и стеклянная собака с красным ртом лаяла на него, пока капитан в стеклянной кепке курил стеклянную сигару на квартердеке. Он прислонился к фальшборту, одной рукой держась за голову, возможно, он был нездоров, поскольку глаза его глядели совсем безжизненно.
Название этого любопытного судна было «La Reine», или «Королева», и было подрисовано со стороны кормы, где любой мог бы прочитать его среди стай стеклянных дельфинов и морских коньков, вырезанных там своеобразным полукругом. И поскольку эта «Королева» парила, как бесспорная хозяйка гладкого зелёного моря, часть волн которого дико рассекались её носом, я могу сказать вам, что меня и раньше каждый раз бросало в волнах, как и её, из-за потерь и провалов, пока я не стал старше и не почувствовал, что ей в мире ни малейшая опасность не угрожала.
За много лет в витрину, в которой хранилось судно, через щели, что имелись внизу, проникло множество пыли и ворса, покрыв всё море лёгким белым рисунком, улучшающим общее впечатление от любой вещи, поскольку он был похож на пену, поднятую ужасной бурей, которой противостояла славная «Королева».
Поэтому я так много рассказал про «Ла Рейн». У нас она всё так же стоит в доме, но многие из её стеклянных штанг и снастей теперь, к прискорбию, сломаны и порваны – но я не буду их чинить; и её номинальный Глава, галантный воин в треуголке, упал за борт вниз головой, прямо в котловину погибельного моря под носом корабля – но я не сделаю так, чтобы он поставил свои ноги назад, пока не сделаю этого сам; ведь между ним и мной есть тайная симпатия; и мои сёстры сказали мне, все разом, что он упал со своего места в тот самый день, когда я покинул дом, чтобы выйти в море в своё первое путешествие.
Глава II
Отъезд Редберна из дома
Из-за тяжести на сердце и из-за переполненных слезами глаз моя бедная мать поссорилась со мной; скорее всего, она решила, что я допускаю своевольную ошибку, что, возможно, и было, но если и так, то это был жестокий мир, и тяжёлые времена сделали меня таким. К тому времени у меня уже было много горьких мыслей, все мои юношеские высокие мечты о славе оставили меня, и в своём раннем возрасте я был так же лишён честолюбия, как шестидесятилетний.
Да, я пойду в море, оставив моих добрых дядей и тёток и симпатию покровителей, и покину их без тяжестей в сердце, кроме тех, что остались в моём собственном доме, и я не возьму с собой ни одной, кроме той, что болит в моей груди. Холодным, холодней, чем мороз в декабре, и суровым, как его порывы, казался мне тогда мир; нет большего мизантропа, как ещё не разочаровавшийся мальчик; и таков был я, с горячностью растративший силы, оказавшись в тяжёлом положении. Но эти мысли довольно горьки даже сейчас, поскольку они ещё полностью не ушли, и по своему духу они должны быть чужды читателю, поэтому хватит об этом, и позвольте мне продолжить мою историю.
«Да, я напишу тебе, дорогая мама, как только смогу», – пробормотал я, как только она в сотый раз обвинила меня в том, что я не сообщу ей о моем безопасном прибытии в Нью-Йорк. И вот уже Мэри, Марта и Джейн расцеловывают меня всего, дорогие мои сёстры, и затем я удаляюсь: «Я вернусь через четыре месяца – тогда уже будет осень, и, как только созреют орехи, мы пойдём в лес, и я расскажу вам всем о Европе. До свидания! до свидания!»
Так я высвободился из их рук и, не смея оглядываться, побежал вперёд с той скоростью, на какую был способен, пока не добрался до угла, где ждал меня мой брат. Он сопровождал меня до того места, откуда пароход должен был идти в Нью-Йорк, передавая с высоты своего возраста множество мудрых советов, хотя он был всего лишь восемью годами меня старше, наказывая мне снова и снова заботиться о себе, и я торжественно пообещал всё выполнять: это как если потерпевший кораблекрушение не начнёт заботиться о себе, то он увидит, что, если он сам чего-то для себя не сделает, то и никто другой не сделает это за него.
Мы шли в тишине, пока я не увидел, что его покидает сила – он был тогда слаб здоровьем, и с немым рукопожатием и с громким ударом в сердце мы разошлись.
Было раннее туманное холодное утро в конце весны, и мир лежал передо мной, вдаль протянулась длинная грязная дорога вровень с уютными зданиями, обитатели которых были заняты своим предрассветным сном, не обращая внимания на проходящего странника. Холодные капли дождя просочились через мою кожаную кепку и смешались с несколькими горячими слезами на моих щеках.
Вся дорога принадлежала мне, меня ничего не волновало, и я шёл ленивой уверенной походкой. Серая охотничья куртка прикрывала мою спину, и с конца винтовки моего брата свешивался маленький узелок с моей одеждой. Мои пальцы лениво держались то за ложе винтовки, то за спусковой механизм, и я решил, что это действительно был способ начать жизнь с оружием в руке!
Не говорите о горечи среднего возраста и последующей жизни, мальчик может чувствовать всё, и даже намного больше, когда на его молодой душе зацветает плесень, и фрукт, который вместе с другими только что разорвался от зрелости, был зажат, будучи ещё цветком и бутоном. И такая травма никогда не проходит бесследно, эти раны слишком глубоки и оставляют такие шрамы, что воздух Рая не может их стереть. И они – тяготы и жестокости ранней юности – существуют для того, чтобы заранее испытать муки, которые ждут нас в мужественной зрелости, когда хрящ становится костью, и мы встаём и преодолеваем наши судьбы, как испытания, которые уже познали и предопределили; поэтому мы теперь – ветераны, привыкшие к осадам и сражениям, а не зелёные новички, отскакивающие при первом шоке от столкновения.
Наконец, когда корабль заполнился, мы отчалили, и дальше двинулись вниз по Гудзону. На борту было немного пассажиров, день был весьма неприятный, и они, главным образом, собрались в каюте вокруг печей. После завтрака некоторые из них погрузились в чтение, другие задремали на диванах, а следующие сидели тихими кружками, несомненно, размышляя относительно того, кем является тот или иной пассажир.
Они, конечно, были унылым сборищем, и все они с каменными взглядами и бессердечием взирали на меня. Я не мог сочувствовать им, я почти ненавидел их и, чтобы их избегнуть, пошёл на палубу, но шторм с дождём и снегом спровадили меня обратно вниз. В последний момент я вспомнил, что не обзавёлся билетом, и пошёл в офис капитана, чтобы оплатить его и получить, и был поражён ужасной новостью, что в тот день цена этого обрывка бумаги была внезапно поднята, ввиду того что другие корабли остались стоять, поэтому у меня не оказалось достаточно денег, чтобы заплатить за свой проезд. Я предположил, что это будет всего лишь доллар и только доллар, который у меня и был, тогда как нужно было два. Ну что тут делать? Корабль уже отчалил, и уже не было никакого пути назад, а потому я решил никому ничего не говорить и, нахмурившись, ждал, когда с меня потребуют плату за проезд.
Долгий утомительный день подошёл к середине, лишь непрерывный шторм бушевал на палубе, но после ужина несколько пассажиров, согретых ростбифом и бараниной, стали немного более общительными. Но не со мной – из-за аромата и печати бедности, несомых мной, все они бросали на меня свои дурные и холодные подозрительные взгляды, а потому я сидел обособленно, хотя и среди них. Я чувствовал отчаяние и безрассудство бедности, которые можно осознать только глядя на заплату из ткани, аккуратно пришитую моей матерью, но всё же очень заметную и привлекающую взгляд. Этот участок я до настоящего времени пытался тщательно скрыть вполне достаточными полями моей охотничьей куртки, но затем я смело вытянул ногу и выставил заплату прямо под их носом и взглянул на них так, что скоро они стали смотреть вдаль, несмотря на то что я был совсем молод. Возможно, оружие, которое я сжимал, напугало их до появления уважения, или в моем взгляде, возможно, было что-то уродливое, или мои зубы были белыми, а мои челюсти были сжаты. В течение нескольких часов я сидел, пристально глядя на весёлую вечеринку, устроенную за столом из красного дерева, с крекерами и сыром, и вином, и сигарами. Их лица зарумянились после доброго обеда, а я почувствовал себя бледным и бледнеющим от долгого поста. Если бы я принял участие в одной из этих вечеринок, если бы я рассказал им о моей ситуации и попросил бы чем-нибудь освежить меня, то весьма вероятно, что они велели бы официантам вывести меня из своеобразного полого кольца их смеха и из каюты, как попрошайку, поскольку у них не было желания позволить мне самому согреться возле их печи. И из-за этого оскорбления и всего лишь из-за тщеславия, я сидел и пристально смотрел на них, не прося ничего у их процветающего облика. Вся моя душа словно прокисла во мне, и когда, наконец, помощник капитана, стройный молодой человек, одетый по высокой моде, с золотой часовой цепочкой и брошью, пришёл собирать деньги за билеты, я застегнул своё пальто до горла, сжал своё оружие, надел свою кожаную кепку и натянул её как следует, встав перед ним как часовой. Он протянул руку, считая любое замечание излишним, поскольку стоящий перед ним объект, очевидно, находился в замешательстве. Но я стоял неподвижно и тихо, и через мгновение он увидел, что я собой представляю. Я должен был сообщить ему о своей ситуации в простых, общепринятых словах и предложить свой доллар, а затем начать ждать дальнейших событий. Но я слишком разозлился. Он не стал долго ждать, но для начала заговорил сам, и грубым голосом, очень отличавшимся от его учтивого тона, обращённого в сторону вина и сигар, потребовал у меня билет. Я ответил, что у меня его нет. Тогда он потребовал деньги, и на мой ответ, что у меня их нет, совсем негромким сердитым голосом, который привлёк взгляды всех присутствующих, велел мне выйти из каюты под шторм. Тогда Дьявол пророс из моей души и разошёлся по моему телу, пока не стало покалывать в кончиках пальцев, и я пробормотал своё решение, что останусь там, где стою, да так, что билетёр отшатнулся назад. «Для вас есть доллар», – добавил я, предложив его.
«Мне нужно два», – сказал он.
«Либо возьмите его, либо ничего, – ответил я, – это всё, что у меня есть».
Я подумал, что он ударит меня. Но, принимая деньги, он удовлетворился каким-то высказыванием об охотниках, идущих на охоту и не имеющих денег, чтобы оплатить свои расходы, и намекнул, что таким парням лучше отложить в сторону свои охотничьи ружья, взять доллар и заняться наблюдением. Затем он прошёл дальше, и каждая пара глаз взяла меня на прицел.
Я оставался предметом их внимания в течение некоторого времени, но, наконец, не смог дальше терпеть их взгляды. Я занял своё место прямо перед самым наглым наблюдателем, невысоким толстым человеком с пышным шейным платком вокруг шеи и, зафиксировав на нем свой пристальный взгляд, вернул ему больше пристальных взглядов, чем он послал мне. Это несколько смутило его, и он оглянулся по сторонам в поисках кого-нибудь, чтобы схватить меня; но никого не нашлось, и он сделал вид, что, якобы, очень занят, считая позолоченные деревянные лучи наверху. Тогда я переключился на следующего наблюдателя и сжал оружейный затвор, сознательно демонстрируя ему эту часть винтовки.
Под этим воздействием он покинул своё место со стремлением убраться из моего поля зрения, поскольку я рассматривал его в упор, левым глазом; несколько человек поднялись со своих мест, воскликнув, что я, должно быть, сумасшедший. Таким я был в то время, и так и не знаю, как объяснить свою бесноватость, которой я позже стыдился от всего сердца, что, пожалуй, и следовало делать, и стыдился намного больше, чем тогда. Затем я оторвал пятки и, взвалив на себя своё охотничье ружье и узелок, прошёлся по палубе и принялся шагать под унылый шторм, пока не промок из-за него, а судно не коснулось причала в Нью-Йорке.
Таково отрочество.
Глава III
Он оказывается в городе
Я соскочил на берег с носа корабля ещё до того, как корабль пришвартовался, и, внимая указаниям моего брата, прошёл через город к парку Святого Иоанна, к дому, где жил приятель брата по колледжу, к которому у меня было письмо.
Это была долгая прогулка, и я зашёл, чтобы попить воды, в своеобразную бакалейную лавку, где приблизительно шесть или восемь грубых на вид приятелей играли на прилавке в домино, усевшись на ящики из-под сыра. Они подмигнули мне и спросили, на кого я охочусь в такой дождливый день, но я только проглотил свою воду и последовал дальше.
Мокрый, как тюлень, я, наконец, опустился наземь возле двери дома друга моего брата, позвонил в звонок и спросил о нём.
«Что тебе нужно?» – спросил слуга, разглядывая меня, как будто я был взломщик.
«Я хочу увидеть вашего господина и хозяина, проведите меня в гостиную».
При этих словах мой хозяин появился сам и, увидев, кто я такой, сразу открыл мне своё сердце и объятия и повёл меня к своему домашнему очагу; он получил письмо от моего брата и ждал меня в этот день.
Семья чаёвничала, душистая трава заполнила комнату ароматом, поджаренный тост благоухал, и всё было приятным и очаровывающим. После того как я согрелся, мне показали комнату, где я переоделся, вернулся к столу и обнаружил, что эта пауза была использована моей хозяйкой: еда для путешественника была выставлена, и я усердно приналёг на неё. Каждый глоток выдавливал и всё дальше и дальше гнал от меня дьявола, который мучал меня весь день, пока я полностью не изгнал его тремя поочерёдно выпитыми чашами бохейского чая.
Магия добрых слов, добрых дел и хорошего чая! Той ночью я пошёл в кровать, думая, что мир, в конце концов, довольно терпим, и я едва ли мог понять, каким я в действительности был тем утром, поскольку сейчас пребывал в естественном лёгком и сдержанном состоянии; хотя, когда давешнее состояние на время возвращалось ко мне, оно, возможно, оказывалось опасней каннибала.
На следующий день друг моего брата, которого я решил называть г-ном Джонсом, сопроводил меня вниз к разгружаемым в доках кораблям для того, чтобы я добрался до нужного места. После долгих поисков мы нашли судно на Ливерпуль и застали в каюте капитана, который оказался очень солидным и вполне гармонировал с обивкой из красного дерева и клёна; и стюард, изящный с виду мулат в великолепном тюрбане, устанавливал в своеобразный буфет некий столовый сервиз, который был похож на серебряный, но это было всего лишь хорошо отполированное изделие из Британии.
Как только я открыл глаза и взглянул на капитана, то решил для себя, что он был бы самым подходящим капитаном. Он был приятным с виду человеком, приблизительно сорока лет, блестяще одетым, с очень чёрными бакенбардами и очень белыми зубами, и – что я свободно принял – с откровенным взглядом больших карих глаз. Мне он невероятно понравился. Когда мы вошли, он прогуливался вверх и вниз по каюте, напевая самому себе некий живой мотивчик.
«Доброе утро, сэр», – сказал мой друг.
«Доброе утро, доброе утро, сэр, – сказал капитан. – Стюард, стулья для господ».
«О! Неважно, сэр, – сказал г-н Джонс, скорее озадаченный его ответной любезностью. – Я просто сказал, что хотел бы знать, нужен ли вам прекрасный юноша для выхода в море вместе с вами. Он здесь, он давно хотел стать матросом, и его друзья, наконец, решили позволить ему пуститься в путешествие и поглядеть, насколько оно ему понравится».
«Ах! Действительно! – вежливо сказал капитан и поглядел на меня. – Он – прекрасный парень, он мне нравится. Итак, ты хочешь быть матросом, мой мальчик, не правда ли? – добавил он, нежно погладив мою голову. – Мы – тверды, хотя жизнь тяжела».
Но когда я оглядел его удобную и почти роскошную каюту и затем его красивое, беззаботное лицо, то решил, что он только попытался напугать меня, и ответил: «Ну, сэр, я готов попробовать».
«Я надеюсь, что он – парень из этой страны, сэр, – сказал капитан моему другу, – иногда у городских мальчиков бывают твёрдые шкуры».
«О, да, он из этой страны, – прозвучал ответ, – и семья весьма почтенная, его двоюродный дед умер сенатором».
«А не хочет ли его двоюродный дед тоже выйти в море?» – сказал капитан с весёлым взглядом.
«О, нет, о, нет! Ха-ха!»
«Ха-ха!» – отозвался эхом капитан.
Прекрасный весёлый джентльмен, подумал я, немного чудной, однако по своему легкомыслию он будет отпускать свои шутки относительно моего двоюродного деда всё путешествие, и потому, когда я позже рассказал об этом на борту одному из вантовых, он бросил на меня такой взгляд, что чуть не разбил им мою голову.
«Ну, мой мальчик, – сказал капитан, – я предполагаю, вы знаете, что у нас на борту нет пастбищ и коров, ты не сможешь получить в море молока, так и знай».
«О! Я всё это знаю, сэр, мой отец пересекал океан, насколько мне известно».
«Да, – вскричал мой друг, – его отец, джентльмен из одной из пионерских семей, несколько раз пересёк Атлантику по важному делу».
«Чрезвычайным послом?» – сказал капитан, снова весело глядя.
«О, нет, он был богатым торговцем».
«Ах! Действительно, – сказал капитан, снова глядя серьёзно и мягко, – тогда этот прекрасный парень – сын джентльмена?»
«Конечно, – сказал мой друг, – и он идёт в море только ради забавы, его хотят послать в путешествие с наставником, но он выйдет в море как матрос».
Факт состоял в том, что мой молодой друг (поскольку ему было приблизительно только двадцать пять лет от роду), был не очень мудрым, и эти слова были большой выдумкой, которую от доброты своего сердца он высказал ради моей поддержки и в целях создания чувства глубокого уважения ко мне в глазах моего будущего господина.
Уже узнав, что я преднамеренно воздержался от длительного путешествия с наставником ради того, чтобы засунуть свою руку в ведро со смолой, солидный капитан стал выглядеть в десять раз более весёлым, чем ранее, и сказал, что сам стал бы моим наставником и принял бы участие в моих путешествиях, заплатив за эту привилегию.
«Ах! – сказал мой друг. – Это напоминает мне о деле. Простите, уточните, сколько именно вы обычно платите такому красивому молодому человеку, как этот?»
«Хорошо, – сказал капитан, глядя серьёзно и вдумчиво, – мы не столь смыслим в красоте и никогда не даём больше, чем три доллара, такому зелёному парню, как присутствующий здесь Веллингборо – это твоё имя, мой мальчик? Веллингборо Редберн! Прими, Господи, мою душу, прекрасное, звучное имя».
«Да ведь, капитан, – сказал г-н Джонс, быстро прервав его, – это даже не будет платой за его одежду».
«Но вы же знаете, что его очень респектабельные и богатые родственники будут, несомненно, рады видеть его здесь», – ответил капитан, и снова с весёлым взглядом.
«О, да, я забыл, – сказал г-н Джонс, выглядя довольно глупым. – Его друзья, конечно же, обрадуются».
«Конечно», – сказал капитан, улыбаясь.
«Конечно», – повторил г-н Джонс, с сожалением глядя на заплату на моих штанах, которую именно в этот момент я пытался скрыть полой своей охотничьей куртки.
«Ты – настоящий охотник, как я вижу», – сказал капитан, разглядывая большие пуговицы на моем пальто, на каждой из которой была выгравирована лиса.
При этой одобрительной фразе мой друг решил, что тут появилась хорошая возможность оказать мне поддержку.
«Да, он – настоящий охотник, – сказал он, – у него дома есть очень ценное охотничье ружье, возможно, вы хотели бы купить его, капитан, чтобы стрелять чаек в море? Это недорого».
«О, нет, он должен оставить его у своих близких, – сказал капитан, – так, чтоб можно было отправиться на охоту снова, когда он вернётся из Англии».
«Да, возможно, в конце концов, так будет лучше, – сказал мой друг, притворно впав в глубокое размышление, привлекая все стороны к рассматриваемому вопросу. – Ну, тогда, капитан, вы можете дать мальчику хотя бы три доллара в месяц, как вы говорите?»
«Только три доллара в месяц», – сказал капитан.
«И я верю, – сказал мой друг, – что вы обычно даёте что-нибудь в виде аванса, разве не так?»
«Да, кое-где есть такой обычай в судоходных офисах, – сказал капитан с поклоном, – но поскольку у мальчика есть богатые родственники, то в этом случае, как вы понимаете, такой потребности нет».
И, таким образом, его опрометчивые, но действующие из лучших побуждений намёки относительно респектабельности моего отцовства и огромного богатства моих родственников, сделанные моим чистосердечным, но действительно глупым другом, заранее уберегли меня от получения трёх долларов, в которых я весьма нуждался. Однако я ничего не сказал, хотя и о многом подумал, и особенно о том, что было бы намного лучше для меня выбрать что-то одно и привлечь капитана на свою сторону, сказав ему простую правду. Бедные люди поступают весьма неправильно, когда пытаются казаться богатыми. Заключив соглашение, мы распрощались с капитаном, и когда мы покидали каюту, он снова улыбнулся и сказал: «Ну, Редберн, мой мальчик, ты не станешь тосковать по дому, прежде чем приплывёшь, потому что когда мы выйдем в море, ты не будешь страдать от морской болезни».
И с этими словами он очень мило улыбнулся, поклонился два или три раза и велел стюарду открыть дверь каюты, что стюард и сделал с характерной усмешкой на лице, покосившись на мою охотничью куртку. И затем мы ушли.
Глава IV
Как он избавился от своего охотничьего ружья
На следующий день я в одиночку пошёл в судоходный офис, чтобы подписать статьи договора, и встретил там большую толпу матросов, которые, обнаружив, что я встал за ними, начали перемигиваться в своём кругу, и я услышал, как человек в большой колыхающейся зюйдвестке сказал другому просмолённому старику в короткой шершавой куртке: «Глянь на его куртку – как видишь такие пуговицы, становится понятно – этот парень не идёт в море на торговом судне, он собирается забивать китов. Я спрашиваю, приятель, гляди сюда – им такие большие пуговицы продают на вес?»
«Дашь нам одну вместо блюдца, почему нет?» – сказал другой.
«Это только для юношей, – сказал третий. – Когда ты направился сюда, мой маленький мальчик, твоя мама дала тебе в море хоть немного конфет?»
Все они – остроумные собаки, подумал я про себя, пытаясь держаться как можно уверенней, чтобы было видно, что у меня нет негодования на сказанное, они не смогли бы нанести вреда, хотя, конечно, были очень нахальны; я пробовал отбиться смехом от их шуток, но если б только смог, то скрыл бы своё имя и протрубил отступление.
На следующий день о судне было объявлено, что оно отплывает. Поэтому остальную часть этого дня я потратил на приготовления. После бесплодной попытки продать моё охотничье ружьё за справедливую цену случайным покупателям я пошёл с ним по Чатем-стрит, когда курчавый маленький человек с тёмным жирным лицом и крючковатым носом, как у Иуды Искариота на картине, окликнул меня из странного с виду магазина с тремя позолоченными окантованными брёвнами, нависающими над ним.
Со специфическим акцентом, как будто сам он объелся индийским пудингом или неким другим шикарным блюдом, этот маленький курчавый человек очень вежливо пригласил меня в свой магазин и, отвесив вежливый поклон и пожелав мне множество ненужных добрых утр и замечаний относительно хорошей погоды, попросил меня позволить ему посмотреть моё охотничье ружьё. Я вручил его незамедлительно, радуясь возможности избавления от ружья, и сказал, сколько хотел бы за него получить.
«Ах! – снова сказал он со своим акцентом индийского болванчика, которому я не пытался подражать, дабы уменьшить его рвение. – Я думал, что оно будет получше, а это очень старое».
«Нет, – сказал я, привстав от удивления, – его использовали не больше чем три сезона, что вы дадите за него?»
«Мы здесь вещи не покупаем, – сказал он, взглянув внезапно и очень равнодушно, – это место, где люди вещи закладывают». Слово «закладывать» было словом, которого я никогда не слышал прежде, и я спросил его, что оно означает, тогда он ответил, что когда людям нужны какие-либо деньги, то они приходят к нему со своими охотничьими ружьями и получают одну треть от их стоимости, затем оставляют тут охотничьи ружья до тех пор, пока не смогут заплатить деньги. Какой, должно быть, доброжелательный маленький старик, подумал я, и какой обязательный.
«И умоляю, – сказал я, – сколько вы позволите мне получить за моё оружие, если его заложить?»
«Ну, я предполагаю, что оно стоит шесть долларов, и, отмечая то, что вы – мальчик, я позволю вам получить за него три доллара».
«Нет, – воскликнул я, схватив охотничье ружье, – оно стоит в пять раз дороже, я пойду куда-нибудь в другое место».
«Тогда доброго вам утра, – сказал он. – Я надеюсь, что вы добьётесь большего успеха». – И он поклонился мне, как будто снова и довольно скоро ожидал меня увидеть.
Я не очень далеко отошёл, когда столкнулся с ещё одним магазином с тремя шарами на верху входа. Войдя, я увидел длинный прилавок у своеобразного частокола, протянувшийся от одного его конца до другого, и три небольших проёма с тремя маленькими старичками, стоящими в них, подобно заключённым, выглядывающим из окон тюрьмы. За прилавком были видны разнообразные вещи, сложенные и маркированные. Шляпы и кепки, пальто и оружие, мечи и трости, и сундуки, и карты, и книги, и письменные столы, и всё остальное. В витрине было много часов и перстней с печатками, цепей, и колец, и брошей, и всевозможных безделушек. У одного из этих проёмов стояла худая женщина в изношенном шёлковом платье и платке, держащая за руку маленькую бледную девочку, и доверительно разговаривала с одним из мужчин с ястребиным носом. Как только я приблизился, она заговорила тихим шёпотом, человек покачал головой и поглядел раздражённо и грубо, затем ещё несколько слов изменили картину, небольшие деньги были переданы через отверстие, и женщина с ребёнком отступила за дверь.
Я не продам своё оружие этому человеку, подумал я, перешёл к следующему отверстию и стал там ждать, когда меня обслужат, стоя за пожилым человеком в сюртуке с высокой талией, совавшем серебряную табакерку, молодым человеком в ситцевой рубашке и солнечном пальто с бархатным воротником, предлагавшем серебряные часы, робким мальчиком в плаще, вынувшем сковороду, и другим маленьким мальчиком с Библией, и все эти вещи протягивали человеку с ястребиным носом, который, казалось, готов был вцепиться в любую вещь, которая представала перед ним; поэтому я не сомневался, что он с удовольствием затянет моё оружие за широко расставленный прилавок, похожий на большой невод, который способен поймать любую рыбу.
Наконец, я воспользовался возможностью и протиснулся в отверстие, и, чтобы опередить крупного человека, который именно тогда вошёл, я яростно просунул внутрь своё оружие, отчего человек с ястребиным носом закричал, решив, что я собрался в него выстрелить. Но, наконец, он взял оружие, повернул его одним и другим концом, три раза щёлкнул спусковым механизмом и затем сказал: «Один доллар».
«Что там касательно одного доллара?» – спросил я.
«Это – всё, что я дам», – ответил он.
«Ну, что вы хотите?» – И он повернулся к следующему человеку. Это был молодой человек в захудалом красном шейном платке и с прыщавым лицом, который выглядел так, как будто пришёл с аналогичной просьбой, и который таинственно тыкал в карман своего жилета и разными намёками важно показывал наличие чего-то конфиденциального, стремясь относительно этого и пообщаться.
Но человек с ястребиным носом высказался очень громко и сказал: «Ничего подобного, выньте их. Получили украденные часы? Мы не имеем дел с такими вещами».
От этого молодой человек вспыхнул всем своим лицом и оглянулся, чтобы увидеть тех, кто услышал ростовщика; тогда он вынул что-то очень маленькое из своего кармана и, скрывая его под своей ладонью, просунул в отверстие.
«Где вы взяли это кольцо?» – спросил ростовщик.
«Я хочу заложить его», – прошептал другой, краснея снова и снова.
«Как вас зовут?» – сказал ростовщик, говоря очень громко.
«Сколько вы дадите?» – прошептал другой в ответ, наклонившись и глядя так, как будто он хотел заставить ростовщика замолчать.
Наконец, сумма была согласована, затем человек за прилавком взял маленький билет и, привязав к нему кольцо, начал писать на билете; внезапно он спросил молодого человека, где он живёт, что того очень смутило, но, наконец, он пробормотал определённый номер на Бродвее.
«Это отель „Сити“: вы там не живёте», – сказал человек, безжалостно разглядывая потёртое пальто посетителя.
«О! Хорошо, – запнулся другой, густо покраснев, – я думал, что это была всего лишь своего рода формальность, мне не нравится говорить, где я действительно живу, поскольку не имею привычки ходить к ростовщикам».
«Вы украли это кольцо, и вы это знаете, – проревел человек с ястребиным носом, рассердившись на такое неуважение к его запросу и теперь ради своей жизни, по-видимому, стремясь опозорить личность молодого человека. – По мне, так лучше вызвать констебля, мы здесь не берём украденные товары, вам же сказано».
Взгляды всех присутствующих теперь с подозрением уставились на этого измученного молодого человека, от чего рассматриваемый был готов провалиться сквозь землю, и бедная женщина в ночном колпаке с какой-то детской одеждой в руке жутким взглядом посмотрела на ростовщика, как будто боясь столкнуться с таким ужасным образцом честности. Наконец, молодой человек убыл со своими деньгами, и, выглянув из окна, я увидел, что он повернул за угол настолько резко, что ударился своим локтем о стену.
Я прождал немного дольше и увидел несколько больше и отметил, что люди с ястребиными носами неизменно устанавливали свою собственную цену на каждую вещь, и если им отказывали, советовали человеку действовать самостоятельно; я пришёл к заключению, что будет бесполезно пытаться получить от них больше, чем они предлагали, особенно когда увидел, что у них было великое множество охотничьих ружей, висящих наверху, и не было особой нужды в моём, и более того: они, вероятно, были весьма независимы и богаты, для того чтобы так высокомерно относиться к людям.
Мой лучший план тогда состоял в том, чтобы сразу вернуться к курчавому ростовщику и согласиться с его первым предложением. Но когда я вернулся, курчавый человек был чем-то очень занят и долгое время продержал меня в ожидании; наконец, я получил возможность сказать ему, что возьму три доллара, которые он предложил.
«Нужно было взять их тогда, когда вы могли их получить, – ответил он. – Теперь я не могу дать за него больше двух с половиной долларов».
Напрасно я убеждал – он не уступал, поэтому я положил в карман деньги и отбыл.
Глава V
Он покупает себе морской гардероб и в мрачный дождливый день устраивается на полном пансионе вдоль причалов
Первая вещь, которую я тогда сделал, состояла в том, чтобы купить немного канцелярской бумаги и сдержать данное моей матери обещание сочинять ей письма, а также написать своему брату, сообщив ему о путешествии, которое стало моей целью, когда я предавался неким романтичным и мизантропическим представлениям о жизни, к чему множество мальчишек при моих обстоятельствах и было приучено.
Остальную часть от двух с половиной долларов я выложил тем же самым утром, купив красную шерстяную рубашку возле Кэтрин-маркет, брезентовую шляпу, благодаря которой я достиг сходства с персонажем наружной вывески около парома «Пек Слип», пояс, складной нож и два или три пустяка. После этих покупок у меня в запасе остался только один пенс, поэтому я, дойдя до конца пирса, бросил пенс в воду. Причина, почему я сделал это, состояла в том, что я почему-то снова почти впал в отчаяние и не заботился о том, что произойдёт со мной. Но если б сумма пенсов равнялась бы доллару, то я бы их сберёг.
Я пошёл домой на ужин к господам Джонс, и они приветствовали меня очень любезно, и г-жа Джонс во время ужина всё время поддерживала мою тарелку полной, да так, что я не имел никакого шанса освободить её. Она, казалось, видела, что я плохо себя чувствовал, и решила, что много пудинга могло бы помочь мне. Во всяком случае, я никогда не чувствовал себя так плохо, но я мог съесть хороший ужин. И однажды, годы спустя, каждодневно пребывая в ожидании быть убитым, я вспомнил, каким острым был мой аппетит, и сказал себе: «Ешь, Веллингборо, возможно, это твой самый последний ужин».
После ужина я вошёл в свою комнату, тщательно закрыл дверь и так повесил на дверной рукояти полотенце, чтобы никто не мог заглянуть через замочную скважину, а затем постарался примерить мою красную шерстяную рубашку перед стеклом, чтобы увидеть, какой вид будет у матроса, которым я собирался стать. Как только я надел рубашку, то начал чувствовать тепло и красноту на лице, что, по-моему, было следствием отражения окрашенной шерсти на моей коже. После этого я взял ножницы и начал подстригать свои волосы, которые были очень длинными. Я решил, что каждый из них немного помог моей лёгкой руке бежать вверх.
Следующим утром я попрощался со своим добрым хозяином и хозяйкой и покинул дом с узелком, снова почему-то ощущая себя нелюдимым и отчаянным.
Прежде чем я достиг судна, начал лить сильный дождь, и как только я достиг причала, стало ясно, что в этот день не будет никакого выхода в море.
Это оказалось большим разочарованием для меня, поскольку я не хотел снова возвращаться к г-ну Джонсу после прощания: это было бы как-то неловко. Я решил взойти на борт корабля, чтобы представиться.
Когда я добрался до палубы, то не увидел никого, кроме крупного мужчины в большой промокшей тужурке, который подковывал низы у главных люков.
«Что тебе нужно, бедолага?» – сказал он.
«Я отправляюсь в плавание на этом судне», – ответил я, приняв немного достойный вид, чтобы осадить его фамильярность.
«Кем? Портным?» – сказал он, глядя на мой охотничий жакет.
Я ответил, что иду как юнга, поскольку так именовался в статьях.
«Хорошо, – сказал он, – у тебя есть свои ловушки для крыс на борту?»
Я сказал ему, что не знал, что на судне есть какие-то крысы, и не захватил какой-либо ловушки.
На сказанное мною он громко расхохотался и сказал, что, судя по моей причёске, я – деревенщина.
Это меня взбесило, но, подумав, что он должен быть одним из матросов и членом экипажа, я решил, что неумно будет делать из него врага, поэтому лишь спросил его, где спят на судне люди, поскольку хотел убрать свою одежду.
«Где твоя одежда?» – сказал он.
«Здесь в моем узелке», – сказал я, держа его.
«Хорошо, если это – всё, что у тебя есть, – крикнул он. – Ты должен перебросить его за борт. Но двигайся, двигайся к баку, вот тут на борту ты и будешь жить».
И с этими словами он указал мне на специальное отверстие на палубе судна, но, поглядев вниз и увидев, насколько темно там было, я попросил него посветить.
«Закрой оба глаза и открой один, – сказал он, – у нас здесь нет никакого огня». Таким образом, я нащупал себе путь на бак, который источал настолько скверный аромат старых верёвок и смолы, что этот запах едва не вызвал у меня отвращение. После терпеливого ожидания я начал немного видеть и, оглядевшись, наконец, различил, что оказался в закопчённом месте с двенадцатью деревянными ящиками, закреплёнными по бокам. У некоторых из этих ящиков была большая вместимость, и они, как я сразу предположил, принадлежали матросам, которые, должно быть, завели обычай присваивать себе «стволы» – как я позже узнал, назывались эти ящики. Так и оказалось.
После их обследования, занявшего некоторое время, я выбрал пустой ящик и положил свой узелок прямо в его середину так, чтобы не могло бы быть никакого недоразумения из-за истребования моего места, особенно потому что узелок был весьма невелик.
Сделав это, я был рад выйти на палубу и, уверенно осознав, что судно не уплывёт до следующего дня, решил сойти на берег и походить до темноты, а затем, когда на улице будет ночь, вернуться и заснуть уже на баке. Итак, я прошёл повсюду, пока не утомился, и вошёл в скромную ликёрную лавку, чтобы отдохнуть; из-за того, что брезент на мне выглядел не очень благородно, я побоялся войти в какое-либо место получше из страха быть изгнанным. Здесь я и уселся, пока не начал чувствовать голод, и, увидев несколько пончиков на прилавке, начал думать, что свалял дурака, выбросив свой последний пенс, поскольку пончики были всего лишь по пенсу за штуку и выглядели очень пухлыми, толстыми и круглыми. Никогда пончики не казались мне настолько соблазнительными, особенно когда вошёл негр и съел один из них прямо на моих глазах. Наконец, я решил, что добьюсь некоторого насыщения, выпив стакан воды, прочитав где-то, что было бы хорошо воспользоваться таким подарком. Я не чувствовал жажды, а только голод, и ещё чувствовал большое беспокойство из-за употребления воды, поскольку она была тёплой, и у стакана был противный запах: незадолго до этого негр пил из него какое-то спиртное.
Я снова вышел, время от времени останавливаясь ещё, чтобы взять немного воды и очень боясь шагнуть в тот же самый магазин дважды, пока не наступила ночь, и пока не обнаружил, что промок, поскольку дождь лил больше или меньше, но весь день. Когда я взошёл на судно, то не мог не размышлять о том, насколько одиноко было бы провести целую ночь в этом сыром и тёмном баке без света или огня и каких-либо постельных принадлежностей, уложенных на голые доски моей койки. Однако все эти мысли утопил другой проглоченный мною стакан воды – хотя к этому времени я уже был довольно мокрым снаружи, – и, попытавшись изобразить смелый взгляд, как будто у только что от души поевшего человека, я ступил на борт судна.
Человека в большой тужурке я не заметил, но, пройдя дальше, неожиданно обнаружил там молодого парня, как раз моего возраста, и как только он открыл рот, я понял, что он не был американцем. Он говорил на таком любопытном языке, наполовину состоящем из английского и наполовину из неизвестной мне тарабарщины, что я не знал, что с ним делать, и был немного удивлён, когда он сказал мне, что он молодой англичанин из Ланкашира.
Как оказалось, он приплыл из Ливерпуля на этом самом судне в его последнее путешествие, как пассажир третьего класса, но обнаружил, что должен будет много работать, поскольку иначе очень трудно прожить в Америке, и, тоскуя по дому, заключил сделку, в которой договорился с капитаном отработать свой обратный проезд.
Я был рад заиметь некую компанию и попытался разговориться с ним, но обнаружил, что он был самым глупым и неосведомлённым парнем, с которым я когда-либо встречался. Я спросил его что-то о реке Темзе, тогда он сказал, что не ездил по Америке и не знал ничего о здешних реках. И когда я сказал ему, что река Темза течёт в Англии, он не выказал ни удивления, ни позора от своего невежества, а только поглядел в десять раз более глупо, чем прежде.
Наконец мы спустились на бак и оба улеглись на койку, устроенную нами на досках, и я изо всех сил старался уснуть. Но хотя мой компаньон скоро начал очень громко храпеть, я же не мог забыться из-за неприятного запаха в этом месте и из-за того, что был совсем мокрым, холодным и голодным, и, помимо всего этого, сердцем чувствовал влагу и холод. Я поворачивался раз за разом, слушая храп ланкаширца, пока наконец не почувствовал, что должен буду выйти на палубу, где и бродил там до утра, которое, как думалось, никогда не наступит.
Как только я узнал, что бакалейная лавка на причале будет открыта, я сошёл с судна и пошёл готовить себе завтрак из другого стакана воды. Но от сделанного стал испытывать сильные угрызения совести и скоро почувствовал себя больным как смерть; моя голова кружилась, и я шёл, шатаясь, вдоль дороги, почти ослепший. Наконец, я плюхнулся на якорную цепь, сложенную в кучу, и тяжело закрыл свои глаза, прилагая все усилия, чтобы самому сосредоточиться на деле, в котором достаточно преуспел, вместо того чтобы, наконец, встать и уйти. Тогда я подумал, что поступил неправильно, когда накануне не вернулся в дом своего друга, и пошёл бы туда теперь, как и раньше, только тут было по крайней мере три мили по городу: слишком далеко для меня, чтобы идти в таком состоянии, и у меня не было шестипенсовика, чтобы проехать в омнибусе.
Глава VI
Он начинает с вычищения свинарника и смазки топ-мачты
К тому времени, как я вернулся к судну, здесь уже всё шумело. Человек в тужурке отдавал приказы множеству людей, занятых оснасткой, и те загружали цыплят, свиней, говядину и овощи, лежавшие на берегу. Вскоре после этого другой человек в полосатой набивной ситцевой рубашке, коротком синем жакете и бобровой шляпе, придававшими ему солидный вид, пришёл отдавать указания человеку в большой тужурке, и, наконец, со стороны подошёл капитан и начал приказывать им обоим. Первые двое, как оказалось, были первым и вторым помощниками капитана.
Решив подружиться со вторым помощником, я вынул старую черепаховую табакерку моего отца, в которую я положил немного плиточного табака, чтобы выглядеть похожим на матроса, и очень вежливо предложил ему коробочку. Он на какое-то мгновенье уставился на меня и затем воскликнул: «Ты думаешь, мальчик, что мы здесь на борту нюхаем табак? Нет, в море совсем нет времени взять понюшку, не позволяй старику увидеть эту табакерку, послушайся моего совета и быстро, как только сможешь, отправь её за борт».
Я сказал ему, что это была не понюшка, а табак, тогда он сказал, что у него много собственного табака, и он никогда не носит при себе такой ерунды, как табакерка. С этими словами он ушёл по своим делам и оставил меня с ощущением того, что я оказался в глупом положении. Но у меня была причина радоваться, что он поступил так, поскольку, если у него табакерки не было, то я решил, что должен предложить свою коробочку помощнику капитана, который вследствие этого, как я позже решил, не будет меня унижать и не сделает что-то подобное.
Пока я стоял, оглядываясь вокруг, в великой спешке из-за чего-то приблизился старший помощник и, увидев меня на своём пути, выкрикнул: «Эй, ты, молодой бездельник на берегу! Здесь нечего воровать, вали, говорю тебе, со своей охотничьей курткой!»
При этих словах я отошёл, сказав, что я иду на судне как матрос.
«Матрос! – закричал он. – Помощник парикмахера, ты хочешь сказать; ты идёшь на судне? Что, в этом жакете? Повесьте меня, я надеюсь, что старик больше не отправит таких новичков, как ты, – это приведёт к кораблекрушению. Но таковы современные нравы: сэкономить несколько долларов на жаловании моряков, которые совсем не смыслят в морской жизни, – всех эти фермеров, деревенских мужланов и мальчишек. Как зовут тебя, бедолага?»
«Редберн1», – сказал я.
«Прекрасное приложение к человеку, опалит любого, как дотронется. Нет ли у тебя другого имени?»
«Веллингборо», – сказал я.
«Ещё хуже. Кто крестил тебя? Почему они не назвали тебя Джеком, или Джиллом, или как-нибудь ещё короче и удобней? Но я окрещу тебя заново. Слушайте, сэр, впредь ваше имя – Пуговка. И теперь иди, Пуговка, и вычисти вон тот свинарник в баркасе, его не вычищали с последнего путешествия. И послушай, приложи старание к этому, есть свиньи, которые ждут этого места, – теперь иди, позаботься о нём».
Это теперь, значит, начало моей морской карьеры? Задание вычистить свинарник, самое первое дело?
Я решил, что лучше всего ничего не говорить, я обязал самого себя повиноваться приказам, и было слишком поздно, чтобы отступать. Поэтому я лишь попросил совок, или лопату, или что-то ещё для работы.
«Мы здесь не сады сажаем, – был ответ, – копай своими зубами!»
После, оглядевшись, я нашёл палку и пошёл почистить рукоять, которая была довольно неудобна для работы, к другой лодке, называемой четырёхвесельным ялом, которая была вверх дном уложена прямо на баркас, державший обе лодки, ими же вместе почти полностью и закрываемый. Обе эти лодки стояли посреди палубы. Мне удалось заползти в баркас, и после сопротивления сидений моим голеням и многократных ударов головой я добрался до кормы, где находился свинарник.
Пока я был поглощён работой, заглянул пьяный матрос и крикнул своим товарищам: «Посмотрите сюда, мои парни, как вы назовёте эту свинью? Привет! Эй, внутри! Кто там? Пытаешься подальше спрятаться, чтобы украдкой попасть в Ливерпуль? Вон отсюда! Вон отсюда, я сказал». Но именно в тот момент пришёл помощник капитана и приказал пьяному мошеннику отправиться на берег.
Когда я вычистил свинарник, мне поручили забрать часть стружки, которая лежала на палубе и осталась от работы плотников на борту. Помощник приказал мне бросить эту стружку в баркас в особом месте между двумя банками. Но поскольку я обнаружил, что протолкнуть стружку в это место это тяжёлая работа, и, так как место выглядело сырым, я решил, что как для меня самого, так и для стружки будет лучше протолкнуть её туда, где место более открытое и сухое. Пока я был занят, помощник, наблюдающий за мной, воскликнул, как проклятие: «Разве я не приказал тебе уложить эту стружку где-нибудь в другом месте? Делай, что я тебе сказал, Пуговка, или берегись!»
Подавление своего собственного негодования от его грубости, на которую я к этому времени нарвался, было моим единственным планом, и я ответил, что это не столь удобное место для стружки, в отличие от того, что я сам выбрал, и попросил сказать мне, почему он хочет, чтобы я поместил её в то место, которое он назначил. Из-за этого он рассердился и без объяснений повторил свой приказ, словно удар грома.
Это было моим первым уроком морской дисциплины, и я никогда не забуду его. С того времени я узнал, что морские офицеры никогда не приводят причин для своих приказов. Достаточно того, что они командуют, поэтому их девизом было: «Повинуйся приказам, пока не сломаешься».
Я уже начал чувствовать себя очень усталым и больным и жаждал момента, когда судно покинет док, а потому у меня тогда не возникало сомнения, что мы скоро получим что-нибудь в качестве еды. Но пока ещё я не видел на борту ни одного матроса, а что касается мужчин, работавших с оснасткой, то разузнал, что они были «такелажниками», то есть людьми, живущими на берегу и работавшими подённо на подготовке судна к выходу в море, и об этом мне рассказал в придачу к уступке своей цены из-за льстивых речей один из этих же такелажников, который обменялся со мной складным ножом, более дешёвым, поскольку я попытался заполучить друга среди матросов на время путешествия. Наконец, я улучил момент, и в то время, пока люди стояли ко мне спиной, прихватил морковь из нескольких разложенных на палубе связок и, захлопнув её под полами моей охотничьей куртки, отошёл, чтобы её съесть, ведь я часто ел сырую морковь, которая по вкусу напоминает каштаны. Эта морковь очень взбодрила меня, хотя и за счёт небольшой боли в животе. Едва я избавился от неё, как я услышал голос старшего помощника, не способного жить без «Пуговки». Я побежал за ним и получил приказ подняться и «зашугать низ грот-стеньги».
Это было для меня совсем греческим языком, и после получения приказа я стоял в изумлении, задаваясь вопросом, что нужно делать. Но помощник развернулся на своих пятках и не дал никаких объяснений. Я тут же последовал за ним и спросил, что же я должен выполнить.
«Разве я не велел тебе зашугать низ грот-стеньги?» – закричал он.
«Сказали, – ответил я, – но я не знаю, что это означает».
«Зелен, как трава! Типичный капустный кочан! – сказал он самому себе. – Прекрасные дни на борту будут у меня с таким новичком. Посмотри, мальчик. Посмотри туда, на вершину этого длинного столба – видишь его? Вон на ту часть дерева там, ты, башка дубовая, так вот – бери это ведро и поднимись по оснастке – вон там верёвочная лестница – ты понимаешь? – и покрой этой смазкой мачту по всей длине, и ответишь головой, если хоть одна капля упадёт на палубу. Теперь пошёл прочь, Пуговка».
Богатый событиями час пробил, впервые в своей жизни я поднимался на судовую мачту. Если бы я хорошо и крепко стоял на ногах, то, возможно, что мне стало бы немного не по себе от этой мысли, но поскольку я тогда ослаб и был близок к обмороку, эта простая мысль ужаснула меня.
Но идти назад не было никакого резона, это было бы похоже на трусость, и я не мог признаться, что страдал от отсутствия еды, поэтому, снова напрягшись, я поднял ведро.
Это было тяжёлое ведро, с мощными железными обручами, и, возможно, вмещало два галлона. Но оно только наполовину было заполнено особым перетёртым густым соусом, который, как я позже узнал, был сварен из солёной говядины, используемой матросами. После того как я полез по снастям, я понял, что это была совсем не лёгкая работа – нести это тяжёлое ведро. Верёвочная ручка ведра была настолько скользкой от жира, что когда я даже несколько раз обернул её вокруг своего запястья, она всё ещё вращалась во все стороны и норовила слететь прочь. Несмотря на злость, мне, однако, удалось подняться до «вершины», пока неуклюжее ведро половину времени раскачивалось и вертелось между моим ногами с риском мгновенного опрокидывания. Достигнув «вершины», я дошёл до мёртвой точки и взглянул вверх. Как мне преодолеть это нависающее препятствие – эта мысль полностью поглотила меня в течение какого-то времени. Но, наконец, с большим напряжением я ухитрился поставить своё ведро на «вершину» и затем, доверившись провидению, сам забрался вслед за ним. Остальная часть пути прошла сравнительно легко, хотя каждый раз, когда я неосторожно смотрел вниз на палубу, моя голова так кружилась от слабости, что я был вынужден закрывать свои глаза, чтобы опомниться. Я плохо помню, что было дальше. Только вспоминаю своё безопасное возвращение на палубу.
В скором времени суматоха на судне усилилась, пространство кают заполнили пассажиры и сундуки и коробки пассажиров третьего класса, помимо корзин с вином и фруктами для капитана.
Наконец, мы отдали швартовы, и отошли на рейд, где бросили якорь и подняли сигнал к отплытию. Любая вещь, казалось, была на борту, кроме команды, её члены через несколько часов после этого оторвались от берега, один за другим, в белодонных лодках, выгнувшись дугой, откинувшись назад и приосанившись, как лорды, явно демонстрируя большое самодовольство, они чувствовали, что заставили ждать целое судно ради их светлостей.
«Да, да, – бормотал старший помощник, пока они выбирались из лодок и расхаживали на палубе, – сейчас – ваша очередь, но в ближайшее время будет моя. Отклоняйтесь от курса, пока можете, мои сердечные, я же совершу отклонение от курса после подъёма якоря».
Некоторые из матросов были очень пьяны, и один из них, не воспринимающий своего начальника, был ими унесён вниз и свален на койку. И два других матроса, как только появились, так же немедленно спустились вниз, чтобы, выспавшись, избавиться от паров своего напитка.
Наконец, всей команде, что была на борту от носа до кормы, было приказано идти ужинать – приказ, от которого моё сердце с восхищением подпрыгнуло из-за того, что в данный момент мой долгий пост будет прерван. Но, впрочем, матросы, с избытком вкусившие на берегу еды и выпивки, на сей раз не прикоснулись к солёной говядине и картофелю, которые темнокожий повар передал на бак, и хотя всё это было пре доставлено мне, я, к своему удивлению, обнаружил, что смог съесть немного или совсем ничего: в тот момент я чувствовал себя лишь смертельно уставшим, но не голодным.
Глава VII
Он выходит в море
и чувствует себя очень плохо
Всё, наконец, было готово, штурман попал на борт, и всё вокруг взывало к поднятию якоря. Пока я делал свою работу, я не мог не заметить, как выглядели измученные матросы и как они страдали от этого силового упражнения после потрясающего разгула, в котором они участвовали на берегу. Но скоро я узнал, что матросы не сожалели о таких вещах, но прилагали максимум усилий, чтобы казаться всем живыми и сердечными, хотя для многих из них это было довольно тяжело.
Якорь был поднят, паровой буксир с внушительным именем «Геркулес» подхватил нас, и мы пошли вдоль длинной погрузочной линии, причалов и складов, округлого зелёного южного мыса острова, где находилась Батарея, прошли Губернаторский остров и встали справа по направлению к теснине. Моё сердце будто стало свинцовым, и лишь Богу было известно, насколько плохо я себя чувствовал, но тогда у меня было много работы, которая удерживала мои мысли от появления у меня чего-то худшего.
И я всё это время пытался думать, что иду в Англию, и что за грядущие долгие месяцы я должен буду реально побывать там и вернуться домой, рассказав о моих приключениях моим братьям и сёстрам, и с каким восхищением они будут слушать, и как потом они будут смотреть на меня и с почтением внимать моим рассказам, и что даже мой старший брат будет вынужден смотреть на меня с большим интересом, как на пересёкшего Атлантический океан, чего он никогда не делал, и не было никакой вероятности, что сделал бы.
С такими мыслями, как эти, я пытался отвлечься от своей печали, но это вообще не получалось, поскольку шёл всего лишь первый день путешествия, и много недель, нет, целых несколько месяцев должны были пройти, прежде чем путешествие подошло бы к концу; и кто мог сказать, что может произойти со мной, ведь когда я смотрел на высокие, головокружительные мачты, то думал о том, как часто я должен лазить по ним вверх и вниз, и думал, конечно же, о том, что в тот или иной некий несчастливый день я, конечно же, упаду за борт и утону. И затем я подумал о том, как лягу на морском дне, совершенно один, под большими волнами, катящимися надо мной, и никто во всем мире не узнает, где я лежу. И я подумал о том, насколько лучше и слаще быть похороненным под красивой оградой, которая отделяла южную солнечную сторону нашего деревенского кладбища, где каждое воскресенье я привык бродить днём после обедни; и мне было почти жаль, что я не лежал там сейчас, да, мёртвым и похороненным на том кладбище. Всё время мои глаза были переполнены слезами, и я продолжал задерживать дыхание, с трудом проглатывая рыдания, поскольку действительно не мог сдержать чувств, которыми был охвачен, и, несомненно, любой мальчишка в мире чувствовал бы себя так же, как и я тогда.
А пока пароход тянул нас дальше и дальше вниз к заливу, и мы прошли мимо стоящих на якоре судов с людьми, пристально смотрящими на нас и машущими своими шляпами, и мимо маленьких лодок с сидящими в них леди, машущими своими носовыми платками; и, пройдя зелёный берег Стейтен-Айленда, мы увидели множество красивых домов, целиком увитых виноградными лозами, стоящих на красивых свежих замшелых склонах; о, тогда я отдал бы что угодно за то, чтобы вместо этого отплытия из залива мы бы уже входили в него; о, если бы мы пересекли океан и вернулись, ушли и вернулись; и моё сердце подскочило внутри меня, как что-то живое, когда я подумал о реальном входе в этот залив в конце путешествия. Но это было пока настолько далеко, что мне казалось, будто этого никогда не случится. Нет, никогда, никогда не увидеть мне Нью-Йорка снова.
И что ещё потрясло меня больше, чем что-либо, так это то, что я услышал от некоторых матросов, пока они наматывали тросы: они говорили о пансионах, в которые они вернутся по возвращении, и ещё о том, что некоторые из их друзей обещали быть на причале, когда судно вернётся, чтобы взять их и их багаж прямо до Франклин-сквера, где они будут жить, и о том, что их будет ждать хороший обед и много сигар и алкоголя прямо на балконе. Я сказал, что этот земной разговор потряс меня, поскольку они, казалось, не учитывали, как это делал я, тот факт, что прежде чем какое-либо упомянутое событие смогло бы произойти, мы должны были пересечь великий Атлантический океан от Америки до Европы и обратно, многие тысячи миль бурного океана.
В то время я не знал, что делать с этими матросами; я очень много думал о том, что, будучи мальчишками, они никогда, возможно, не ходили в воскресную школу, поскольку ругались так, что заставляли мои уши покалывать, и использовали такие слова, которые я никогда не мог слышать без сильного отвращения.
И это люди, думал я про себя, с которым я должен буду так долго жить? Это люди, рядом с которыми я должен есть и спать всё это время? И, кроме того, я теперь начал видеть, что они не собирались быть очень любезными, но я расскажу всё об этом, когда настанет подходящее время.
Сейчас вам не стоит думать, как все эти мысли проходили через мой ум, и что я ничего не мог с ними поделать, а сидел без движения и думал, нет, нет, я был поглощён работой: всё время, пока пароход тянул нас, мы были очень заняты, постоянно сматывали верёвки и тросы и укладывали по порядку на палубе, отчего всё пространство от одного конца до другого было заставлено этими предметами, и их пришлось убирать прочь.
Наконец, мы добрались до устья, которое всем известно как вход в нью-йоркскую Гавань с моря, его можно назвать Тесниной, поскольку, когда вы входите туда или выходите оттуда, оно походит на вход или на дверной проем, и, когда вы выходите из Теснины при таком долгом путешествии, как моё, то это походит на выезд на широкое шоссе, где не видно ни души. Повсюду протянулся великий Атлантический океан, и все, что вы видите вне его, – это место, где небо сходится с водой. Оно выглядит одиноко и довольно пустынно, и я едва мог поверить, когда пристально посмотрел вокруг себя, что может существовать какая-либо земля вообще или какое-либо место, как Европа, или Англия, или Ливерпуль в огромном широком мире. Это казалось слишком странным, и замечательным, и в целом невероятным, что там действительно могли быть города и посёлки, и деревни, и зелёные поля, и ограды, и фермерские дворы и сады вдали за этой широкой гладью моря и вдали от того места, где небо сходилось с водой. И думать о движении среди этих волн, и об исчезновении яркой земли позади, и о приближении мрака ночи тоже казалось диким и безрассудным, и я глядел со своеобразным страхом на матросов, стоящих возле меня, которые были так спокойны в тот момент. Но когда я вспомнил, как мой собственный отец говорил, что пересёк океан, то тогда я, никогда не помышлявший о сомнении относительно его рассказа, поскольку всегда считал его существом чудесным, бесконечно более чистым и большим, чем я сам, – я счёл, что он не имел никакой возможности поступить несправедливо или сказать неправду. И как теперь мог я не поверить в то, что он, мой собственный отец, которого я так хорошо помнил, когда-то пересёк под парусом эту Теснину, проплыл прямо через границу неба и воды и увидел Англию и Францию, Ливерпуль и Марсель. Это казалось слишком удивительным, чтобы в это поверить.
Теперь, по правую руку, если выходить из Теснины, берег становится довольно высок, и на вершине прекрасного утёса стоит большой замок или форт, весь в руинах, с деревьями, растущими вокруг него. Он был построен губернатором Томпкинсом во время последней войны с Англией, но никогда не использовался, что верно, и потому был заброшен. Я посетил однажды это место, когда мы жили в Нью-Йорке, почти так же давно, как себя помню, с моим отцом и моим дядей, старым морским капитаном с седыми волосами, который раньше ходил к месту под названием Архангельск в России и который тогда рассказывал мне, что он был с капитаном Лэнгсдорффом, когда капитан Лэнгсдорфф пересёк сушу от Охотского моря в Азии до Санкт-Петербурга в санях, запряжённых большими собаками. Я упоминаю этого своего дядю потому, что он был самым первым морским капитаном, которого я когда-либо видел, и его белые волосы и прекрасное красивое красное лицо произвели на меня настолько сильное впечатлением, что я никогда не забывал его, хотя и видел только лишь во время этого визита в Нью-Йорк. Он пропал в Белом море несколько лет спустя.
Но я хотел рассказать о форте. Это было красивое место, как помню, весьма примечательное и романтичное, такое же, каким оно показалось мне, когда я пришёл туда с моим дядей. На удалённой от воды стороне находилась зелёная роща из очень толстых и тенистых деревьев, и вы проходите через эту рощу словно в сумерках через арку в стене форта, тёмную как ночь, и, войдя, вы нащупываете длинный подвал с ответвлениями и поворотами со всех сторон, пока, наконец, не улавливаете взглядом зелёную траву и солнечный свет, и внезапно не выходите на открытое пространство посреди замка. И там вы видите коров, спокойно пасущихся или размышляющих под тенью молодых деревьев, и, возможно, прыгающего телёнка, пытающегося поймать свой собственный хвост, и овец, карабкающихся среди замшелых руин и небольших подрезанных пучков травы, вырастающей со стороны амбразур для орудий. И однажды я увидел чёрного козла с длинной бородой и кривыми рогами, высоко приподнявшегося на своих передних ногах на самый верхний парапет и смотрящего на море, как будто он наблюдал за судном, которое ввозило в страну его кузину. Даже сейчас я вижу его, и, хотя я изменился с тех пор, чёрный козел смотрит всё так же, и поэтому я предполагаю, что он продолжал бы смотреть, если б я жил столько же, сколько Мафусаил, и имел бы столь же хорошую память, какая, должно быть, была у него. Да, форт был красивым, тихим, очаровательным местом. Я хотел бы построить маленький дом посреди него и жить там всю свою жизнь. Стоял полдень, когда я был там, месяц июнь, и дул слабый ветер, неспособный пошевелить деревья, и каждая вещь смотрелась так, как будто ждала чего-то, и небо сверху было синим, как глаза моей матери, и я был тогда очень рад и счастлив. Но не стоит думать о тех восхитительных днях, перед тем как мой отец стал банкротом и умер, и мы удалились из города; когда я думаю о них, что-то поднимается в моём горле и едва не душит меня.
Теперь, когда мы проплыли через устье, я заметил этот красивый форт на утёсе и не мог удержаться от сопоставления моего настоящего положения с тем, что было когда-то, когда давным-давно мы с моим отцом и дядей ходили туда. Тогда я никогда не думал о работе ради своего существования и никогда не знал, что в мире существуют жестокие сердца, и видел так мало денег, что когда я купил леденец на палочке и выложил шестипенсовик, то подумал, что кондитер даст сдачи пять центов только для того, чтобы у меня были деньги для покупки чего-то ещё, и не потому что пенсы были моей сдачей, а потому что это было справедливо. Насколько же по-другому я думал о деньгах сейчас!
Тогда я был школьником и думал о своевременном поступлении в колледж и имел неопределённое желание стать великим оратором, как Патрик Генри, чьи речи я раньше произносил на выступлении, но теперь я был одинокими бедным мальчиком, находящимся вдали от своего дома и добровольно ставшим несчастным матросом ради средств к существованию. И наиболее горько мне было думать, как хорошо было моим кузенам, которые были счастливы и богаты и жили дома с моими дядями и тётями без мысли о выходе в море ради куска хлеба. Я попытался думать, что это всё было мечтой, что я нахожусь не там, где я был, не на борту судна, а что я снова дома в городе с моим живым отцом и моей матерью, умной и счастливой, какой она и должна была быть. Но всё было не так. Я был действительно там, где и следовало быть, и здесь было судно, и здесь был форт. Поэтому, бросив последний взгляд на нескольких мальчишек, стоявших на парапете и пристально смотрящих на море, я отвернулся и с ещё большим упорством решил больше не смотреть на землю.
На закате мы уже были далеко «снаружи», и это слово имеет глубокий смысл, поскольку я почувствовал себя выдернутым из мира. Затем начал дуть бриз, и паруса были распущены и подняты, и через некоторое время после ухода парохода я впервые почувствовал, что судно как бы покатилось, довольно странное чувство, как будто оно было большой бочкой в воде. Вскоре после я заметил быструю небольшую шхуну, идущую наперерез нашему кораблю, и пересекающую наш путь снова и снова, и пока я задавался вопросом, что это значит, она внезапно спустила свои паруса, и двое матросов ухватили маленькую шлюпку с её палубы и спустили за борт, как будто это была щепка. Тогда я заметил, что наш штурман, краснолицый человек в грубом синем пальто, который, к моему удивлению, всё это время отдавал приказы вместо капитана, начал застёгивать своё пальто до подбородка, как благоразумный человек перед ночным отъездом к себе домой из домика, стоящего в уединённом месте, оставил указания старшему помощнику, отдельно поговорил с капитаном и, сунув руку в свой карман, извлёк и передал ему несколько газет.
И через несколько минут, когда мы остановили своё движение и позволили маленькой лодке подойти к нам, он обменялся рукопожатием с капитаном и офицерами и сказал им «до свидания», не произнося слов прощания мне и матросам. Затем он пошёл, смеясь, вдоль борта и сел в шлюпку, и она доставила его к шхуне, а потом шхуна расправила парус и проплыла под нашей кормой, и её матросы встали и замахали своими шляпами, приветствуя нас, и это было последнее, что мы видели в Америке.
Глава VIII
Он зачислен в вахту по левому борту, страдает от морской болезни и рассказывает о некоторых других своих испытаниях
Уже стемнело, когда внезапно матросам приказали явиться на квартердек, и я, конечно, пошёл с ними.
Что-то должно произойти, подумал я, и скоро узнал, что именно. Оказалось, что нас решили развести по вахтам. Старший помощник начал с того, что выбрал крепкого красивого матроса для своей вахты, а затем подошла очередь второго помощника выбирать, и он так же выбрал крепкого красивого матроса. Но им был не я, нет, и я заметил, что пока оба помощника продолжали выбирать одного за другим, регулярно меняясь, они даже ни разу не посмотрели на меня, а продолжали отбор среди остальных, всматриваясь в их лица, а из-за того что были сумерки, рекомендовали им не прятаться в своих жакетах. Но матросы, особенно красивые и крепкие, казалось, сочли для себя обязательным лениво бродить из стороны в сторону, как только получится, и надвигать свои шляпы на глаза, и хотя это, возможно, было только моим воображением, я, конечно, решил, что они напустили на себя вид барственного безразличия относительно вахт, в которые их собирались зачислить, и не думали, что стоит как-либо беспокоиться по этому вопросу. И те же самые люди, которые за несколько минут до этого показали, по большей части, живость и быстроту в лазании по снастям и выбегании наверх по команде, теперь бездельничали напротив борта и смотрелись весьма ленивыми, как будто они были совершенно уверены, что к этому времени офицеры уже знают, кто лучше, и ценили себя настолько высоко, что желали предоставить офицерам задачу найти их, ведь если они чего-то стоили, то их стоило поискать.
Наконец, были отобраны все, кроме меня, и настала очередь выбирать старшему помощнику, впрочем, выбор в моём случае, поскольку я оказался тринадцатым, был небогат, и пришла пора перейти к следующей колонне, но моя странная фигура вынесла меня вперёд для окончательного решения задачи.
«Ну, Пуговка, – сказал старший помощник, – я думал, что избавился от тебя. Итак, г-н Ригс, – добавил он, обращаясь ко второму помощнику, – я полагаю, что вы должны взять его в свою вахту, – здесь я отдам его вам, и тогда вы станете более сильным, чем я».
«Нет, благодарю вас», – сказал г-н Ригс.
«У вас есть лучшее, – сказал старший помощник – видите, он с виду неплохой парень – он немного зелен, что и говорить, но вы сами были когда-то таким же, вы это знаете, Ригс».
«Нет, благодарю вас, – повторил второй помощник. – Возьмите его сами – он ваш по праву, я не хочу его». И затем они отдали меня помощнику начальника вахты левого борта. Пока происходила эта сцена, я чувствовал себя довольно неприятно, я стоял там просто как глупая овца, по которой заключают сделку два мясника. Ничего более, чем эта сцена, не напомнило мне о том, где я был, и куда я пришёл. Я был очень рад, когда они послали нас снова вперёд.
Пока мы шли, второй помощник окликнул одного из матросов по имени: «Это ты, Билл?» – и Билл ответил «Сэр?» точно так же, как если бы второй помощник был урождённым джентльменом. Меня немало удивило, когда я увидел, что к человеку в таком потёртом, ворсистом старом жакете обращались так почтительно, но я был так же весьма удивлён, когда я услышал, что старший помощник называл его г-ном Ригсом во время сцены на квартердеке, как будто этот г-н Ригс был великим торговцем, живущим в мраморном доме на площади Лафайета. Но до меня не очень долго доходило, что в море все офицеры – господа, и они приняли бы за оскорбление, если бы какой-нибудь моряк предложил опустить такое их наименование. И это тоже одно из их прав и привилегий, согласно которым их называют сэрами при обращении – да, сэр; нет, сэр; да, да, сэр; и они столь же беспокоятся об этом, как появившиеся на свет рыцарями и баронетами, пусть даже их титулы не наследственные, как это имеет место с сэром Джонсом и сэром Джошуасом в Англии. Но поскольку второй помощник в этом заинтересован, то его несёт поток достоинств, которыми он наслаждается, из-за этого в целом он олицетворяет молодой задор, который свойственен команде. Его никогда не считают компанией для капитана, как иногда старшего помощника, по крайней мере в палубной компании, не смотрящей на кают-компанию; и, помимо этого, второй помощник должен завтракать, обедать, ужинать и вкушать с остатков стола в каюте, и даже стюард, кто не ответствен ни перед кем, кроме капитана, иногда имеет дело с его высокомерием; и он должен бежать наверх, когда топсели зарифлены, и попадать своей рукой прямо вниз в ведро со смолой, и держать ключ от боцманского шкафчика, и подниматься и нести шары от марлиня и бензельные тросы для матросов, когда те работают с оснасткой, помимо выполнения множества других вещей, на которых в любом случае урождённый баронет закончился бы и отбросил бы свой титул, нежели продолжал стоять на пьедестале.
После разделения на вахты нас послали ужинать, но я не смог съесть ничего, кроме небольшой булочки, хотя мне хотелось испить немного хорошего чая, но поскольку у меня совсем не было чашки, чтобы налить его, то я был скорее озабочен тем, чтобы попросить грубых матросов позволить мне пить из их чашек, и был вынужден обойтись без живительного глотка. Я надумал подойти к темнокожему повару и спросить оловянную чашку, но тут он глянул так дерзко и угрожающе, что его вид почти заставил меня отказаться от этой затеи.
Когда ужин был закончен, из-за того что никто не попросил чаю на борту судна, вахту, к которой я принадлежал, вызвали на палубу и сказали, что это делается ради нас, чтобы мы выдержали первые ночные часы, то есть от восьми часов до полуночи.
Затем я начал ощущать себя расстроенным и почувствовал боль в животе, как будто там переворачивались все вопросы, и чувствовал себя странно, и голова кружилась, и потому я не сомневался, что это было началом ужасной вещи, морской болезни. Чувствуя себя всё хуже и хуже, я сказал одному из матросов, что происходит со мной и попросил его очень вежливо передать мои оправдания старшему помощнику, поскольку я решил спуститься и пролежать ночь на своей койке. Но он только посмеялся надо мной и сказал что-то о моей матери, не сознавая моих чувств, что привело меня в немалую ярость, поскольку человек, которого я слышал, ругался так ужасно, что не должен был сметь произносить такое святое имя своими устами. Это казалось каким-то богохульством и извлечением самых трогательных и заветных тайн моей души, поскольку в то время имя матери было центром всего моего самого прекрасного сердечного чувства, которое я научился держать в секрете в глубине своей души.
Но внешне я не стал негодовать на слова матроса, поскольку это могло принести мне вред.
Этот человек был гренландцем по происхождению с очень белой кожей в тех местах тела, где солнце её не сожгло, и красивыми голубыми глазами, обособленно и широко расставленными на его голове, широким добродушным лицом и множеством льняных вьющихся волос. Он был не очень высок, но чрезвычайно крепко сложен, несмотря на свою подвижность, и его спина была так же широка, как щит, и между его плечами была широкая ложбина. Он, казалось, был своего рода леди среди матросов, поскольку на своём жаргонном английском всегда говорил о приятных леди, с которыми знался в Стокгольме и Копенгагене и в месте, называемом им Хук, которое сначала я представлял себе местом, где живут люди с ястребиными носами, которые охотятся с охотничьими ружьями на любую добычу, что попадётся. Он был одет весьма со вкусом, так, как будто бы знал, что был красавцем. У него была новая синяя шерстяная тельняшка из Гавра и новый шёлковый платок вокруг шеи, который пронзала позвоночная акулья кость, тщательно вырезанная и отполированная. Его штаны были цвета чистой белой утки, и он носил красивые туфли и брезентовую шляпу, блестящую, как зеркало, с длинной чёрной лентой, вьющейся позади и время от времени запутывавшейся в снастях, и у него были золотые якоря в ушах и серебряное кольцо на одном из пальцев, очень потёртое и погнутое из-за натягивания верёвок и другой работы на борту судна. Я решил, что ему, возможно, лучше было бы оставлять свои драгоценности дома.
Прошло много времени, прежде чем я мог воспринять, что этот человек был действительно из Гренландии, хотя он тогда для меня выглядел достаточно странно, как прилетевший с Луны, и у него было много историй об этой далёкой стране: как они проводили там зимы, и как стоял сильный мороз, и как он раньше ложился спать и спал двенадцать часов и вставал снова, и бегал, и ложился спать снова, и вставал снова – не имея никакого понятия о времени, ведь постоянно стояла ночь; из-за зимы в его стране, говорил он, ночи длились столько недель, что иногда ребёнку в Гренландии уже исполнялось три месяца, прежде чем можно было сказать, что прошёл день. Я прежде видел упоминания об этом в книгах о путешествиях, но то было только чтением о них, как чтение «Арабских ночей», которым никто никогда не верит, но, так или иначе, когда я читал об этих замечательных странах, то действительно никогда раньше не верил тому, что я прочитал, а только понимал, что всё это очень странно, весьма странно, чтобы быть правдой, хотя я никогда не думал, что люди, которые написали означенную книгу, говорили неправду. И пусть я не знаю точно, как объяснить то, что я имею в виду, но скажу больше: я никогда не верил в Гренландию, пока не увидел этого гренландца. И вначале, слыша, что он говорит о Гренландии, я становился ещё более недоверчивым. Что за дело было у человека из Гренландии в моей компании? Почему он не был дома среди айсбергов, и как он мог выдержать тёплое летнее солнце и не растаять? Кроме того, у него вместо сосулек были серьги, свисавшие с ушей, и он не носил медвежьи шкуры и не держал свои руки в огромной муфте, предмете, который не мог помочь связать его с Гренландией и всеми гренландцами. Но я говорил о том, что я страдал морской болезнью и желал удалиться на ночлег. Этот гренландец, увидев, что я болен, добровольно предложил обратиться к доктору и выле чить меня, поэтому, спустившись в бак, он вернулся с коричневым кувшином, вроде кувшина для патоки, и небольшой оловянной кружечкой, и, как только коричневый кувшин оказался возле моего носа, мне уже не нужно было сообщать, что в нём было, из-за того что чувствовался запах винокурни, конечно же, наполненной ямайским спиртом.
«Теперь, Пуговка, – сказал он, – одна небольшая доза этого будет тебе полезней, чем целая сонная ночь, вот, прими это сейчас и затем съешь семь или восемь булочек и будешь чувствовать себя таким же крепким, как грот-мачта».
Но я чувствовал, что этого очень мало, поскольку у меня были некоторые сомнения в отношении выпитого спиртного, и скажу простую правду, поскольку я не стыжусь её: ведь в деревне, где жила моя мать, я был членом общества, называемого Всеобщей юношеской ассоциацией трезвости, в котором мой друг Том Легейр состоял президентом, секретарём и казначеем и держал казну в небольшом кошельке, связанным для него его кузеном. Я верю, что у него было три и шесть пенсов под рукой в последний раз, когда он производил ревизию казны Первого мая и когда у нас была встреча в роще на берегу реки. Том был очень честным казначеем и никогда не тратил деньги общества на арахис и, помимо всего, был прекрасным, щедрым мальчиком, которого я очень любил. Но сейчас не стоит говорить о Томе.
Когда Гренландец пришёл ко мне со своим медицинским кувшином, я поблагодарил его, как смог, как раз тогда я отвернул свой рот в сторону, чувствуя, что готов умереть, но мне удалось сказать ему, что нахожусь под контролем торжественного обязательства никогда не пить алкоголь безотносительно к обстоятельствам; впрочем, поскольку у меня появилось своего рода предчувствие, что на сей раз алкоголь принесёт мне пользу, я начал чувствовать себя виноватым от того, что когда я подписался соблюдать трезвость, то не позаботился вписать маленький пункт, позволяющий мне выпить алкоголь в случае морской болезни. И я советовал бы людям умеренным проявлять внимание к этому вопросу в будущем, и тогда, если они решат выйти в море, то не будет никакой потребности в нарушении их обещания, что имело место со мной, о чём мне действительно неприятно говорить. И нужно было твёрдо держать обет, прежде чем его нарушить, тем более что «Ямайка» подвергала бы любого неприятному испытанию и действительно сожгла мой рот так, что я не смог смаковать свою еду в течение некоторого последующего времени. Даже когда я снова стал вполне здоров и силен, то задавался вопросом, откуда у матросов взялось такое лекарство, но у многих из них, помимо Гренландца, были кувшины с ним, которые они взяли с собой в море, чтобы расслабляться, как они это называли. Но это расслабление длилось не очень долго, поскольку «Ямайка» полностью вышла на второй день, и кувшины были выброшены за борт. Интересно, где они теперь?
Но, по правде говоря, я обнаружил, что, несмотря на его острый вкус, алкоголь, выпитый мною, был простой вещью, в которой я нуждался, но я предполагаю, что если бы я получил чашку хорошего горячего кофе, то она дала бы подобный результат и, возможно, намного лучший. Но его не могло быть в тот ночной час и воистину в любое другое время; напитком, называемым кофе, который нам давали каждое утро на завтрак, было весьма любопытное на вкус пойло, которое я когда-либо пил, и на вкус так же мало напоминало кофе, как и лимонад, хотя, что и говорить, он был обычно так же холоден, как лимонад, и я тогда решил, что у повара был лед́́ ник, и он клал лёд в этот кофе. Но, что было ещё более любопытным, он каждое утро был разным по качеству и вкусу. Иногда вкус кофе был подозрительным, подобно отвару от голландских сельдей, и также был очень солёным, как будто в нём была сварена некая старая лошадь или морская говядина, и затем снова появлялся вкус сыра, как будто капитан послал ему для изготовления кофе сырные обрезки, а в другое время имел такой скверный аромат, что я почти решил, будто в нем варились какие-то старые каблуки. Сколько их было сделано под небесами, сколько было разных плохих ароматов, всегда оставалось в тайне – работая по своему призванию, наш старый повар лично держал их под замком в своём камбузе, небольшой кухне, и никогда не выдавал ни одной из своих тайн.
Он и был для всех нас по характеру очень серьёзным, как я расскажу после, и, возможно, по аналогичной причине очень подозрительным с виду поваром, относительно которого трудно было поверить, что он когда-то преуспевал по части кулинарии в Делмонико в Нью-Йорке. Для повара было удачей, что он был темнокожим, поскольку я не сомневаюсь, что цвет его кожи мешал нам увидеть его грязное лицо! Я никогда не видел его моющимся, кроме одного раза, и это происходило в одной из его собственных суповых кастрюль в одну из тёмных ночей, когда он думал, что никто не видит его. Что тогда побудило его помыть лицо, я так и не узнал, но я предположил, что он, должно быть, внезапно проснулся, после того как увидел во сне реальное состояние своих щёк. Что касается его кофе, то, несмотря на непривлекательность его аромата, меня тогда каждое утро охватывало странное желание узнать, каким окажется новый вкус, и, без сомнения, я никогда не избегал возможности сделать новое открытие и, ощущая очередной вкус своим небом, никогда не находил какого-либо изменения во вредоносности напитка, который всегда казался столь же уважаемым, как и прежде.
Из этого следует вывод, что когда я страдал от морской болезни, чашка того кофе, что варил наш старый повар, не принесла бы мне ничего хорошего, если только не прикончила бы меня. И плохо было то, что его никак не могло быть в тот ночной час, о чём я говорил прежде, и я думаю, что меня можно простить за принятие чего-то ещё вместо кофе, что я и сделал, и при этих обстоятельствах было бы некрасиво для моих товарищей по Обществу трезвости упрекать меня за нарушение моего обещания, которого я никогда не совершил бы, кроме как по необходимости. Но тогда злостное нарушение обещания, как и в любом случае вообще, было засвидетельствовано, поскольку оно коварно открывало путь к его последующему нарушению, которое, пусть и очень небольшое, всё же не оправдывает меня перед ними.
Глава IX
Матросы становятся немного общительнее, и Редберн разговаривает с ними
Последняя часть этих первых долгих часов нашей вахты, которую мы стояли, была очень приятной, насколько это касалось погоды. После довольно облачной погоды появился мягкий лунный свет и выглянули звезды, запросто выстроившись одна за другой, подул прекрасный устойчивый бриз, и стало не очень холодно, и мы пошли по воде, почти столь же гладкой, как санный путь по склону холма. И что ещё было хорошо, так это то, что ветер держался столь устойчиво, что у нас было меньше беготни наверх, меньше натягиваний тросов и меньше каких-либо других неприятных занятий.
Старший помощник продолжал ходить вверх и вниз по квартердеку с горящей сигарой во рту наподобие факела и говорил, но немногословно, с нами целые часы. Он, должно быть, много размышлял о проявлении внимания, что и вправду имело место в случае с большинством моряков в первую ночь в порту, особенно когда они выбросили свои деньги на пустое расслабление и заключили сделку. Ведь находясь на берегу многие из этих морских офицеров, по сути, бывают так же дики и беззаботны, как и матросы, которыми они командуют. В то время, пока я следил за красным концом сигары, гуляющим вверх и вниз, помощник внезапно остановился и отдал приказ, и матросы подпрыгнули, повинуясь ему. Это не было чем-то очень важным, а только что-то о небольшом подъёме одного из парусов на мачте. Матросы ухватили трос и начали тянуть его, старший матрос при этом затянул песню без слов, только странную музыку из поднимающихся и падающих нот. Тёмной ночью, в одиночестве и далёком море она показалась довольно дикой и заставила меня почувствовать то, что я иногда чувствовал от игры на фортепиано моего кузена, закрывавшего глаза в сумеречной комнате ради некой старинной немецкой атмосферы. Я оглядел почти всё вокруг в поисках гоблинов, и мне стало немного страшно. Но скоро я привык к этому пению, поскольку без него матросы никогда не касались верёвки. Иногда, если никто, как оказывалось, не начинал петь, и натяжение, пусть и независимо от этого, но оказывалось слабым, помощник капитана всегда говорил: «Ну, мужики, хоть один из вас может петь? Спойте-ка сейчас и поднимите мёртвых». И затем кто-то из них начинал, и, если руки каждого, как мои, становились уверенней от песни и он мог тянуть намного лучше, как и я, под такой аккомпанемент, то я верю, что хорошая песня стоила дыхания, израсходованного на неё. Это важное умение для матроса – хорошо петь, поскольку он получает хороший отзыв от офицеров и большую популярность среди своих товарищей по плаванию. Некоторые морские капитаны, прежде чем взять человека, всегда спрашивают его, может ли он петь, подтягивая трос.
По большей части времени матросы сидели на брашпиле и рассказывали длинные истории о своих морских и земных приключениях и говорили о Гибралтаре и Кантоне, о Вальпараисо и Бомбее точно так же, как вы или я об улицах Пек-Слип или Боуэри. У каждого из них было почти сполна путешествий и плаваний вокруг света. И что наиболее поразило меня, так это то, что, как и книги о путешествиях, они часто противоречили друг другу и впадали в долгие и тяжёлые споры о том, кто держал таверну «Заросший Якорь» в Портсмуте в такое-то время, жил или нет кантонский царь в Персии, или же какие глаза – чёрные или голубые – были у буфетчицы в особом доме в Гамбурге и многие другие выставленные на обсуждение подобные темы.
Наконец один из них спустился вниз и принёс коробку сигар из своего багажа, ведь некоторые матросы всегда запасаются подобными деликатесами, чтобы смягчить первоначальный шок от солёной воды после лежачего безделья на суше, а также для расслабления, о котором я только что упомянул. Но я задавался вопросом, почему они никогда не брали с собой в море пироги и торты вместо алкоголя и сигар.
Нед, таково было имя этого человека, взломал коробку ударом своего кулака и затем передал её вдоль брашпиля, и все, будто участники вечеринки, обслуживали сами себя. Но я был членом Антитабачного общества, которое было организовано в нашей деревне руководителем воскресной школы вместе с Ассоциацией Трезвости. Поэтому я тогда ничего не курил, хотя делал это позже в путешествии, о чём мне горько говорить. Несмотря на это, я согласился, поддерживая отказ от ненужной клятвы, Нед уверил меня, что сигары были подлинными из Гаваны, поскольку он, как рассказал, был в Гаване, и их там сделали под его собственным присмотром. Согласно своему характеру он весьма своеобразно относился к своим сигарам и другим вещам и никогда не занимался каким-либо импортом, поскольку это было небезопасно, но всегда самостоятельно совершал путешествия прямо к тому месту, где находилась какая-либо востребованная им иностранная вещь. Он ездил в Гавр за шерстяными рубашками, в Панаму за шляпой, в Китай за шёлковыми носовыми платками и прямо в Калькутту за сигарами; и этот великий шутник нашёл время сказать, что, несомненно, у него не будет повода поехать в Россию, кроме как под угрозой повешения; острота этого высказывания, как предполагали, состояла в том факте, что российская конопля для верёвки самая лучшая, впрочем, это не та острота, которая нуждается в пояснении.
Посредством алкоголя, который, помимо поддержания моих слабеющих сил, соединённого с прохладным воздухом моря, вызывающего у меня аппетит при нашем чёрством хлебе, а также посредством оживлённой ходьбы вверх и вниз по палубе до брашпиля я уже по большей части оправился от своей болезни и нашёл всех матросов очень приятными и общительными, по крайней мере со своей точки зрения, и усаживался курить вместе с ними, как со старыми закадычными друзьями; и что бы на земле ни происходило, просидев часы, я начал думать, что они были довольно неплохими ребятами, в конце концов, если исключить их ругательства и другие уродливые речевые обороты; и я решил, что неверно понял их истинную суть, поскольку вначале считал их этаким сборищем злых жестоких мошенников и полагал серьёзным несчастьем стать их партнёром.
Да, я теперь начал относиться к ним со своеобразной разгорающейся любовью, но, скорее, глядя с жалостью и состраданием, как на людей изначально нежных и добрых, которые из-за того лишь, что претерпели лишения, пренебрежение и грубое обращение, стали изгоями приличного общества, и не как на злодеев, которые любили зло за его выгоду, а оставили бы злобу, тем более в раю, если бы они когда-либо оказались там. И я вспомнил о проповеди, которую когда-то услышал в матросской церкви, когда проповедник назвал их заблудшими агнцами из-за сложившихся жизненных обстоятельств и сравнил их с бедными потерянными детьми, младенцами в лесу, сиротами без отцов или матерей.
И я вспомнил, что прочитал в «Матросском журнале» в синей, как море, обложке с судном, нарисованном на его обороте, о набожных моряках, которые никогда не ругались и отдавали всё своё жалование бедным язычникам в Индии, и про то, что когда они стали слишком стары, чтобы выходить на море, эти набожные старые матросы нашли прекрасный приют для жизни в Госпитале, где им нечего было делать, кроме как готовиться к своему концу. И я задался вопросом, были ли такие хорошие матросы среди моих товарищей по плаванию, и заметил, что один из них лежал на палубе обособленно от остальных, и решил, что он, вернее всего, должен быть одним из них: и поэтому я не беспокоился за его преданность, но позже был потрясён, обнаружив его крепко спящим рядом с одним из коричневых кувшинов.
Я забыл упомянуть, между прочим, что время от времени матросы заходили в один из уголков, где старший помощник не видел их, чтобы пропустить, как они называли его, «большой глоток в фалах», и это потягивание в фалах позволяло им красиво «расслабиться», и нет сомнения, что это также имело некоторое отношение к созданию их шутливости и общительности той ночью, поскольку позже они редко бывали так же приятны в общении и никогда не относились ко мне столь же любезно, как тогда. Всё же это, возможно, было следствием того, что тогда я был для них кем-то вроде незнакомца и потому что мы только что вышли из порта. Но той же самой ночью они изменились и преподавали мне горький урок, но всему своё время.
Я сказал, что, увидев, сколь приятны они были и как дружелюбно было их поведение, начал испытывать своеобразное сострадание к ним, основанное на их печальном статусе дружелюбных изгоев, почувствовал весьма горячий интерес к ним, исполнился сочувствия и действительно настроился в их пользу в меру своих слабых сил, поскольку знал, что они действительно были слишком бедны. Поэтому я осмелился спросить одного из них, имеет ли он привычку иногда ходить в церковь, когда бывает на берегу, или заглядывать в плавучую часовню, которую я видел стоящей в доке в Ист-Ривер в Нью-Йорке, и не сочтёт ли он меня слишком бестактным, если я спрошу его, есть ли у него какие-либо хорошие книги в его багаже. Он сначала немного привстал, но, отметив, какой красивый слог я использовал, и видя моё сочувственное отношение к нему, казалось, на мгновение исполнился определённым невольным уважением ко мне и ответил, что однажды он был в церкви приблизительно десять или двенадцать лет назад в Лондоне и за рабочий день помог переместить плавучую часовню вокруг Батареи от Северной реки, и это был единственный раз, когда он видел её. Про свои книги он сказал, что не знает, что я подразумеваю под хорошими книгами, но если я потребую «Ньюгейтский календарь» или
«Настоящего пирата», то он может мне их предоставить.
Когда я услышал, в какой манере говорил этот бедный матрос, столь явно показывая своё невежество и отсутствие надлежащих представлений о религии, я начал жалеть его всё больше и больше и, сопоставляя моё собственное положение с его положением, обрадовался, что отличался от него; и я подумал, насколько приятно было чувствовать себя мудрее и лучше, чем это мог чувствовать он, хотя я был готов признаться самому себе в том, что это были не целиком мои собственные благие усилия, так как своё образование я получил от других людей, и оно сделало из меня прямодушного и разумного мальчика, каким я и думал стать в своё время. И вот теперь я начал ощущать высоту самодовольства и удовлетворения своим собственным характером; всё из-за того, что перед этим в очень разных обстоятельствах я преимущественно связывался с людьми там, где было мало возможности оказаться выше в сравнении с моими соседями.
Подумав, что моё моральное превосходство могло бы вселить тревогу в этого матроса, я решил замять этот вопрос, дав ему шанс показать мне его собственное превосходство в незначительных вещах; ведь я был далёк от того, чтобы стать глупым и тщеславным.
Заметив, что в определённые периоды рулевой звонил в небольшой колокол на квартердеке, и, едва услышав звон, кто-то из матросов затем ударял в большой колокол, который находился на баке и, заметив, что сколько раз каким-либо способом человек на корме звонил в свой колокол, столько же раз человек на баке ударял в свой – точь-в-точь, поэтому я спросил матроса из плавучей часовни, зачем предназначен весь этот перезвон, поскольку большой колокол висел прямо на пути, ведущем вниз, где спали вахты; и каждый такой звон в это время немного, но имел тенденцию тревожить их и порождать неприятные видения; и, интересуясь этим вопросом, я отдельно обратился к нему, вежливо и снисходительно, чтобы весьма явно показать, что не считаю себя самого лучше, чем он, то есть собрав всё вместе и не вдаваясь в подробности. Но, к моему большому удивлению и унижению, он в самой грубой манере рассмеялся мне в лицо и назвал меня Джимми Даком2 – хотя это не было моим настоящим именем и не должно было стать им, и он знал это, – а также сыном фермера, хотя, как я ранее говорил, мой отец был крупным торговым французским импортёром с Брод-стрит в Нью-Йорке. И затем он начал смеяться и шутить насчёт меня с другими матросами, пока они все не обошли меня, и если бы я не чувствовал себя ужасно сердитым, то должен был, конечно, почувствовать, что оказался в дураках. Но то, что я был так сердит, препятствовало тому, чтобы я почувствовал себя глупым, что весьма неплохо для пристрастных людей.
Глава X
Он очень напуган, матросы оскорбляют его, и он чувствует себя всё несчастней и несчастней
Пока продолжалась описанная в последний раз сцена, все мы были удивлены неприятным стоном внизу на баке, и внезапно кто-то в своей рубашке проскочил мимо, что-то сжимая в руке и с такой ужасной дрожью и воплем, что я подумал, будто убили одного из находящихся внизу матросов.
Но через мгновение всё это кончилось, и пока мы стояли с ошеломлённым видом и, прежде чем мы почти осознали, что случилось, вопящий человек выпрыгнул за борт в море, и больше мы его не видели. Тогда начался великий шум, матросы побежали по палубе, и прибежал старший помощник, за которым уже послали, и, узнав, что произошло, начал выкрикивать приказы о парусах и палубах; и все мы побежали натягивать и носить тросы, пока, наконец, судно не остановилось на воде. Затем мы спустили лодку, которая больше часа ходила вокруг судна, но человека так и не обнаружили. Оказалось, что это был один из матросов, которого принесли на борт мертвецки пьяным и уложили на его собственную койку, где он и лежал до настоящего времени. Он, видимо, был внезапно разбужен, как я предполагаю, разбушевался в безумии белой горячки, как охарактеризовал это старший помощник, и, обнаружив себя в странном тихом месте, не понимая, как он там оказался, помчался по палубе и таким образом в припадке безумства нашёл свой конец.
Это событие, произошедшее в мёртвой ночи, серьёзно изумило и почти ужаснуло меня. Я отдал бы целый мир и солнце, и луну, и все звёзды на небесах, если бы они были моими, за то, чтоб оказаться опять в безопасности у м-ра Джонса, или, что ещё лучше, в моём доме на Гудзоне. Я решил, что это путешествие зловещее и протестовал против безумия, отправившего меня в море вопреки совету моих лучших друзей, среди которых стоит упомянуть мою мать и сестёр.
Увы! Бедный Веллингборо, думал я, ты больше никогда не увидишь свой дом. И в этом печальном настроении я ушёл вниз, когда истекли вахтенные часы, последовавшие за происшествием. Но к своему ужасу я обнаружил, что самоубийца занял ту самую койку, которую я приспособил для себя, и у меня не было никакого другого места для сна. Мысль расположиться теперь там казалась мне слишком ужасной, и, что было ещё хуже, так это тональность, с которой матросы говорили про то, как я напуган. И они воспользовался этой возможностью, чтобы сказать мне, что я вношу несчастье и зло, и поскольку такие вещи часто происходят в море, то они к этому привыкли. Но я не верил этому, поскольку, когда самоубийца помчался, вопя на бегу, они выглядели столь же напуганными, как и я, и с другой стороны, о том, что они были напуганными, говорил ещё более простой факт: если бы у них было какое-либо присутствие духа, они, возможно, предотвратили бы его падение за борт, так как он чесал прямо на них. Однако они лежали на койках, курили и продолжали некоторое время говорить столь же напряжённо, уведомив меня, чтобы по возвращении домой я прижал свои уши, дабы сразу же не ловить ими ветер, и уматывал в глубь страны и никогда не останавливался в глубине кустарника вдали от медленно бегущего ручья, не глядя даже на самую мелкую и маленькую лужицу с дождевой водой.
От этого разговора на моих глазах выступили слёзы, поскольку всё было весьма отчётливо и реально, и матросы, которые говорили это, казались лживыми и неискренними; но это чувство, несмотря на боль в моём сердце, сделало меня безумным и скоро ужалило мыслью, что они будут говорить обо мне как о бедном дрожащем трусе, который никогда не сможет вынести трудностей матросской жизни; ведь я чувствовал, что дрожал, и довольно хорошо знал, что тогда я был всего лишь трусом и без их упоминаний об этом. И они не говорили, что я был трусом, не потому что они чувствовали его во мне, а потому что они просто предположили, что я заслуживал такой оценки, несомненно, исходя из их собственных тайных мыслей о себе самих, поскольку я верил, что самоубийство ужасно их напугало. И, наконец, из-за отчаяния от их колкости я высказал им всё в лицо, но лучше бы я хранил молчание, поскольку они тогда все объединялись ради того, чтобы оскорбить меня. Они спросили меня, какого черта такой мальчик, как я, должен был пойти в море и отнимать хлеб у честных матросов и занимать место хорошего моряка; и спросили меня, мечтаю ли я когда-нибудь стать капитаном, как джентльмен с белыми руками; и если я когда-нибудь им стану, они не пожелали бы ничего лучшего, кроме как оказаться на борту моего судна и поднять мятеж. И один из них, по фамилии Джексон, о котором я вскоре расскажу больше, сказал, что я должен избегать его с этих пор, поскольку если я когда-нибудь окажусь у него на пути или пойду с ним одной дорогой, он станет моей смертью, и если я когда-нибудь споткнусь возле него об оснастку, то ему ничего не будет стоить отправить меня за борт, в чём он и поклялся. Сначала всё это почти ошеломило меня, так это было непредвиденно, и тогда я не мог поверить, что они имели в виду именно то, о чем они говорили, или что они могли быть настолько жестокими и злобными. Но всё это помогло мне увидеть, что люди, которые могли так говорить с бедным, одиноким мальчиком в самую первую ночь его морского путешествия, должно быть, способны на почти любой чудовищный поступок. Я не любил, не терпел и ненавидел их вместе со всем, что разрывало моё сердце и душу, и потому решил, что сам я самый отвергнутый и скверный негодяй, который когда-либо жил и дышал. Могу ли я стать мужчиной, думал я, если уже мальчиком стал таким негодяем? И я стенал и плакал, и моё сердце разрывалось внутри меня, но я всё время сквозь зубы бросал им вызов и дерзил им, чтоб одержать над ними верх.
Наконец они прекратили говорить, развалились на койках и крепко заснули, оставив меня неспящим, сидящим на вещах со склонённым на коленях лицом, зажавшим голову руками. И я сидел там под долгое унылое биение волн о борт судна, пока тишина вокруг не успокоила меня, и я не заснул сидя.
Глава XI
Он помогает драить палубы и затем идёт завтракать
Следующей вещью, которую я познал, как только снова пробили часы, был ужасный грохот на палубе со стороны гандшпуга. Было четыре часа утра, и когда мы вышли на палубу, первые признаки дня уже сияли на востоке. Матросы были очень сонными, молча уселись на брашпиль, и некоторые из них клевали и клевали головами, пока, наконец, не скукожились, как маленькие мальчики в церкви во время сонливой проповеди. Наконец, рассвело, и прозвучал приказ драить палубы. Матросы вытащили большую ванну из шкафута, и затем один из них перешёл к цепи и, устроившись позади группы, привязавшись тросом к кожуху и наклонившись, начал кидать в море ведро на длинной верёвке, и при таком высоком мастерстве и ловкости рук ему удалось заполнить ванну за очень короткое время. Затем вода начала плескаться на всей палубе, и я решил, что, конечно же, намочу ноги и найду себе смерть от холода. Поэтому я подошёл к старшему помощнику и сказал, что не сделаю и шага вниз, пока эта несчастная помывка не будет закончена, ведь у меня нет непромокаемых ботинок, и из-за этого моя тётя умерла от чахотки. Но он только взревел на меня, приказав взять метлу и идти драить и пригрозив мне в противном случае показать нечто похуже того, что случилось с моей бедной тётей. Поэтому я вычистил пространство от носа до кормы, пока моя спина почти не сломалась, поскольку у мётел были необычно короткие ручки, а нам было велено вычищать тщательно.
Когда мытьё подошло к концу, помощник велел вытянуть по ведру с водой, чтобы помыть каждую вычищаемую вещь окончательно. Он, должно быть, считал это прекрасным развлечением, подобно тому, как капитаны пожарных карет любят указывать на что-то при помощи трубы от шланга; он заставил меня бегать за ним с полным ведром воды, а иногда искать небольшую щепку по всей палубе, и долго смывать её, пока, наконец, не подходил момент запускать воду через шпигат из моря; и если бы он только дал мне разрешение, я, возможно, мигом бы взял его и пропустил за борт, не говоря ни слова и не тратя впустую такого большого количества воды. Но он сказал, что в океане много воды и с запасом, что было довольно верно, но тогда у меня, обязанного нести позади него ведро, больше не было ног и рук для моего личного пользования.
Я считал это мытьё палубы самым глупым в мире занятием и, помимо того, самым неприятным. Оно было хуже, чем уборка в доме моей матери, которую я и прежде ненавидел.
В восемь часов раздался звон рынды, и мы пошли завтракать. И тут у меня появилось несколько серьёзных проблем. У меня не было друга, способного рассказать о том, что мне будет необходимо в море, и я не предоставлял себе, как нужно справляться с очень многими вещами, окружающими матроса, и с моей стороны никогда не приходило в голову, что у матросов не было стола, чтобы за ним сидеть, никакой скатерти, или салфеток, или стаканов, и я должен был заботиться о каждой вещи самостоятельно. Но именно так оно и было.
Первое, что они делали, состояло в следующем. Каждый матрос входил в камбуз со своей оловянной кружкой и наполнял её кофе, но, конечно, ввиду отсутствия у меня кружки мне никакого кофе положено не было. И после этого своеобразную небольшую лохань, называемую «малышкой», передавали на бак, заполняя чем-то, что они называли «бурго» (густой овсянкой). Оно походило на месиво, сделанное из маиса, муки и воды. Вместе с «малышкой» в маленькой оловянной кружечке передавалась и патока. Затем Джексон, о котором я говорил прежде, размещал «малышку» между своими коленями и начинал вливать патоку точно так же, как старый лендлорд смешивал бы пунш на вечеринке. Он выкапывал небольшое отверстие в середине месива, чтобы удерживать в нем патоку, и оно казалось всему миру маленьким чёрным водяным полем в Мрачном Болоте в Вирджинии.
Затем все они вставали вокруг «малышки» и один за другим, со строгой очерёдностью опускали свои ложки в месиво и после, размешав их небольшими кругами в бассейне из патоки, наполняли этой едой рот и причмокивали губами, как будто на вкус блюдо было очень хорошим, причём я не сомневаюсь, что так оно и было, но, не имея никакой ложки, я не был в этом уверен.
Я сидел некоторое время, глядя на этот процесс и задаваясь вопросом, почему они были так вежливы друг с другом и почему здесь, несмотря на то что было очень много ложек для одного только блюда, они никогда не путались. Наконец, увидев, что месиво оказывалось всё жиже и жиже, и что уровень его становился всё ниже и ниже, и патоки в лохани становится меньше, я выбежал на палубу и после поисков возвратился с небольшой палочкой, и, думая, что я имею полное право, как любой другой на месиво и патоку, проложил себе путь в круг, намереваясь занять одно из мест. Далее я воткнул мою палку и после её вращения запросто сумел бы донести немного бурго до своего рта, который, будучи открытым, был готов в течение некоторого времени принять её, как один из матросов, осознав, что я делаю, выбил палку из моих рук, и спросил меня, где я приобрёл свои манеры, и разве именно так господа едят в моей стране? Разве они едят свою пищу древесными щепками, и почему столь богатый джентльмен, как мой отец, не смог купить своему благородному сыну ложку?
Все остальные присоединились и объявили меня неотёсанным, грубым и невоспитанным мальчиком, который, если ему разрешить продолжать так себя вести, развратит целую команду и превратит их в свиней, а то и того хуже.
Так как я чувствовал, что палка действительно была вещью, очень неподходящей для трапезы, то не стал об этом много говорить, хотя мне это сильно досаждало; но, вспомнив, что я видел одного из пассажиров третьего класса с кастрюлей и ложкой в руке, поедавшего свой завтрак на переднем люке, я сейчас же снова выбежал на палубу, и к моей большой радости преуспел в том, чтобы одолжить его ложку, вследствие чего он оставил свою еду, и сбежал вниз, и пришёл снова, пусть и в одиннадцатом часу, и предстал уже фигурой большей, чем соискатель.
Но увы! Даже вдали от меня оставалось уже немного Мрачного Болота, и когда я потянулся к противоположному концу «малышки», то получил лёгкий удар по руке, сжимавшей лож ку, и услыхал, что я должен кушать со своего краю, поскольку есть такое правило. Но моя сторона лохани была совершенно чистая, поэтому до бурго я тем утром так и не добрался.
Но я возместил потерю, съев немного солёной говядины и булочку, которые постоянно сопровождали каждую трапезу; матросы со скрещёнными ногами кружком усаживались на своих вещах и очень дружелюбно ломали твёрдые булочки о головы друг друга, что было действительно очень удобно, но вызвало у меня головную боль, по крайней мере на первые четыре или пять дней, пока я не привык к этому; а затем я не очень беспокоился об этом, разве что мои волосы оставались полными крошек, и так как я забыл взять с собой частый гребень и щётку, то каждый вечер вычёсывал свои волосы при помощи встречного ветра, дувшего над фальшбортом.
Глава XII
Он выдаёт определённую характеристику одному из своих товарищей по плаванию по фамилии Джексон
Пока мы сидели, поедая нашу говядину и булочки, двое из матросов заспорили о том, чьё плавание было длиннее, тогда Джексон, который смешивал бурго, призвал их громким голосом прекратить их спор, поскольку он решит вопрос за них. Об этом матросе я расскажу кое-что побольше в продолжении своего рассказа, а здесь пока попытаюсь его немного описать.
Вы когда-нибудь видели человека с обритой головой или просто выздоравливающего после жёлтой лихорадки? Ну, вот так и выглядел этот матрос. Он был таким же жёлтым, как гуммигут – жёлтый сок тропических растений, не имея ни волосинки на своей щеке, как у меня на локтях. Его волосы выпали, и он остался почти лысым, кроме затылка и шеи, где только позади ушей уцелели короткие небольшие пучки, похожие на старую щётку для обуви. Его нос был сломан посередине, и он смотрел искоса одним глазом, да и тот глядел не совсем прямо в отличие от другого глаза. Он одевался совсем как мальчик с плантации: презирая обычную матросскую робу, носил пару больших широких синих штанов, державшихся на подтяжках, и три красные шерстяные рубашки, одну на другой, поскольку страдал от ревматизма и не обладал хорошим здоровьем, как он объяснял, и ещё у него была большая белая шерстяная шляпа с широким закатывающимся краем. Он был уроженцем Нью-Йорка и имел привычку говорить о горцах и буянах, которых он считал годными только для виселицы, но я думаю, что сам он выглядел, как горец.
Его фамилия, как я говорил, была Джексон, и он рассказывал нам, что состоял в родстве с генералом Джексоном из Нового Орлеана и ужасно ругался, если кто-либо рисковал подвергнуть сомнению его утверждения на эту тему. Фактически это был великий хулиган и лучший моряк на борту, и очень властный, отчего все матросы боялись его и не смели ему противоречить, или по какой-либо причине оказываться у него на пути. И самое замечательное состояло в том, что в физическом плане он был слабейшим человеком среди всей команды, и не сомневаюсь, что я, даже такой молодой и маленький, каким я был тогда, по сравнению с тем, каков я теперь, возможно, взял бы над ним верх. Но у него имелось такое особенное свойство вызывать благоговение, такое сочетание низости и наглости, такое неустрашимое лицо и, кроме того, такой смертельно опасный облик, что сам Сатана убежал бы от него. И помимо всего того, что было довольно очевидно, от природы это был удивительно умный, хитрый человек, хоть и без образования, понимающий странности человеческой натуры и хорошо знавший, с кем он имеет дело; и, кроме того, взгляд одного его глаза, смотрящего искоса, был так же силен, как сокрушительный удар, и был самым глубоким, тонким и адски проницательным из тех взглядов, что когда-либо исходил от человека. Я полагаю, что он по праву мог бы принадлежать волку или голодному тигру, во всяком случае, я бы поспорил с любым окулистом, что глаз мог оказаться стеклянным, почти столь же холодным, змеевидным и смертельно опасным. Это было ужасно, и я отдал бы многое, чтобы забыть, что я его когда-то видел, поскольку он и по сей день преследует меня.
Невозможно было сказать, какого возраста был этот Джексон, поскольку у него не было бороды и никаких морщин, кроме маленьких гусиных лапок возле глаз. Ему вполне могло бы быть тридцать, а возможно, и пятьдесят лет. Но, согласно его собственному счёту, он оказался в море, как только ему исполнилось восемь лет. Тогда он сначала пошёл юнгой на чайный клипер и сбежал оттуда в Калькутте. И так же согласно его собственному мнению, он прошёл через все испытания и заключения в самых ужасных местах мира. Он служил португальским работорговцам на побережье Африки и в дьявольской манере не преминул рассказать о Срединном пути, где рабов укладывали пятками в одном направлении, как брёвна; и задохнувшиеся, и мёртвые были в наручниках, и мёртвых отделяли от живых каждое утро перед мойкой палубы; как он работал, как раб, на шхуне, которая, преследуемая английским крейсером от Кабо-Верде, получила три попадания в свой корпус, отчего погиб целый отряд рабов, скованных цепью.
Он рассказывал о положении в Батавии во время лихорадки, когда его судно теряло по человеку каждые несколько дней, и как они шли с телом по берегу, раскачиваясь, становясь ещё более опьянёнными вследствие действия противочумного препарата. Он рассказывал, как нашёл очковую кобру, или змею с капюшоном, под своей подушкой в Индии, когда спал там на берегу. Он рассказывал о матросах, отравленных в Кантоне наркотическим «шампунем» ради их денег, и малайских бандитах, которые останавливали суда в проливах Каспара, и всегда до последнего берегли капитана, чтобы тот указал, где хранились самые ценные товары.
Все его разговоры касались этих земель, кишевших пиратством, эпидемиями и отравлениями. И часто он пересказывал множество пассажей о своём собственном участии, что было почти невероятно, если учитывать, что немногие люди, возможно, погружались в такие отвратительные пороки и цеплялись за них так долго, не платя за них смертью.
Но, по правде говоря, следы этих событий и отметину ужасного конца он носил на себе почти под рукой, подобно королю Сирии Антиоху, который умер ужасной смертью, как заявляет история, ужаленный осами и шершнями всего мира. Ничего не осталось от этого Джексона, кроме грязных остатков и человеческой мути: он был худым, как тень, лишь кожа и кости, и иногда он жаловался, что ему причиняет боль сидение на твёрдом ящике. И иногда я представлял себе, что это было осознание его несчастного, разбитого состояния и перспектива скорой смерти, вроде собачьей, за те его грехи, что заставляли этого несчастного негодяя всегда следить за мной с той недоброжелательностью, с какой он это делал. Ведь я был молод и красив – так, по крайней мере, считала моя мать, – и как только я стал немного привыкать к морю, и падение моего духа прекратилось, и щёки мои начали восстанавливать свой прежний цвет, то, злясь от неудачи, я взывал к доброте и сердечности; он же был снедаем неизлечимой болезнью, поглощающей наиболее важные части его тела и делающей его более пригодным для больницы, нежели для судна.
Поскольку я иногда по своей природе не против побаловаться догадкой о мыслях, возникающих у людей, с которыми я встречаюсь, относительно меня самого – особенно если у меня есть причина думать, что я им не нравлюсь, то поэтому я не буду наверняка отрицать, что действительно догадывался, какие именно мысли обо мне имеются у этого Джексона. Но я лишь высказываю своё честное мнение и говорю о том, как эта мысль пришла мне в голову в тот момент, и даже сейчас я думаю, что был прав. И действительно, если это было не так, то как тогда расценить дрожь, которая пробегала по мне, когда я ловил взгляд этого человека, пристально смотрящего на меня, как часто случалось, ведь он старался быть немым время от времени и сидел со своим застывшим взглядом и оскалом, как человек с безумными капризами.
Я хорошо помню первый раз, когда я увидел его, и как я был поражён его взглядом, уже тогда остановившемся на мне. Он стоял у судового руля, будучи первым человеком, который подоспел к рулю, когда рулевого отозвал штурман, ведь этот Джексон был всегда начеку в поисках лёгких занятий и объяснял причиной стремления к ним своё слабое здоровье, хотя я раньше думал, что для человека со слабым здоровьем он был очень скор на ноги, по крайней мере, когда хорошее место должно было подвернуться; впрочем, возможно, это было только своеобразное судорожное напряжение при сильных стимулах, не чуждое, как известно, самым великим калекам. И пусть матросы были всегда очень недовольны любым проявлением дедовщины, как они называли это, – то есть любой вещи, которая дарила усладу избавиться от совсем тяжёлой работы, – всё же я наблюдал, что хотя этот Джексон был печально известным старым «дедом» всё путешествие (я имею в виду, что он не выполнял никакой опасной работы, от которой он был далёк, как от виселицы), он и вправду был великим ветераном в этом рейсе и тем человеком, кто, должно быть, прошёл невредимым через многие кампании; всё же они никогда не предполагали называть его так в любом случае и не позволяли ему узнать, что они думают о его поведении. Но я часто слышал, что они весьма жёстко отзывались о нем за глаза и, представая перед ним, тут же ласково спрашивали о его здоровье. Все они стояли в смертном страхе перед ним, и съёживались, и подлизывались к нему, как стая спаниелей, и использовались, для того чтобы потереть его спину, после того как его раздевали и укладывали на койку; и для того чтобы выйти на палубу и в камбуз немного подогреть для него холодный кофе; и для того чтобы набить его трубку и дать ему жевательного табаку; и подлатать его жакеты и штаны; и для того чтобы следить, и склоняться, и нянчить его всю дорогу. И он всё время сидел, хмурясь на них, и находил ошибки в том, что они делали; и я заметил, что те, кто делал больше всего для него, те больше всего перед ним и съёживались, и им он больше всех причинял обид, в то время как к двоим или троим, больше державшимся в стороне от других, он относился немного иначе. Не мне говорить, что заставляло команду целого судна так подчиняться прихотям одного бедного несчастного человека, каким был Джексон. Я только знаю, что так было, но я не сомневаюсь, что если бы у него в голове был голубой глаз или он имел бы лицо, отличное от того, что у него действительно было, они бы не пребывали в таком страхе от него. И ещё удивило меня, когда я увидел одного моряка, удивительно крепкого и добродушного молодого человека из Белфаста в Ирландии без какого-либо статуса или влияния среди команды, когда на него, наоборот, кричали, и подавляли его, и поддавали ему, и делали посмешищем; и больше всего это зло и унижение исходило от Джексона, который, казалось, ненавиделего всем сердцем из-за его большой силы и личной чистоты и особенно из-за его красных щёк.
Но тогда этот белфастец, хотя он и отправился в качестве матроса, матросом настоящим не был, и это всегда принижает человека в глазах команды судна, я имею в виду, что когда он отправился в качестве матроса, он не был способен выполнять все обязанности. Ведь матросы имеют три класса – матрос, младший матрос и юнга, и они получают разное жалованье согласно их разряду. Обычно в команде судна из двенадцати человек есть только пять или шесть матросов, которые, если они докажут понимание своих ежедневных обязанностей (и это тоже немаловажный вопрос, как я потом, возможно, покажу), присматривают и думают о большинстве младших матросов и юнг, которые почитают свои важные тужурки и придерживают свои слова в своих сердцах.
Но из-за этого вам не стоит думать, что юнгами на борту торговых судов называют всю молодёжь, хотя, будьте уверены, я сам был назван юнгой и юнгой же и был. Нет. В торговых судах под юнгой подразумевают новичка, человека сухопутного, отправившегося в своё первое путешествие. И не берите в голову, вполне ли он стар, чтобы быть дедушкой, когда все продолжают называть его юнгой и на нём лежит мальчишеская работа.
Но я отклоняюсь в сторону от того, что собирался сказать о Джексоне, прекратившем спор между этими двумя матросами на баке после завтрака. После того, как они некоторое время спорили о том, у кого из них было самое длинное плавание, Джексон велел им замолчать и затем предложил одному из них открыть свой рот, для чего сказал, что может назвать возраст матроса точно так же, как возраст лошади – по её зубам. Поэтому человек рассмеялся и открыл свой рот, и Джексон заставил его подойти к люку, через который лился свет с палубы, и затем велел закинуть ему голову назад, покуда изучал его и немного поковырял своим складным ножом, как бабуин, вглядывающийся в бутылку портера. Я переживал из-за бедняги точно так же, как если бы увидел его в руках сумасшедшего парикмахера, выражающего желание перерезать горло человеку, сидящему в шейных колодках под намыленной для бритья пеной. Ведь я следил за взглядом Джексона и видел, что он хватал, и приближался, и удалялся, и очень быстро, словно раздвоенный змеиный язык, и так или иначе, но я почувствовал, что он будто бы стремился убить человека, но, наконец, стал более сосредоточенным, сказав в заключение своей экспертизы, что первый человек был старейшим матросом из-за вершин его зубов, более высоких и более стёртых, что, в свою очередь, сказал он, явилось результатом поедания большого количества твёрдых галет, и это было причиной, по которой он смог назвать возраст матроса так же, как и возраст лошади.
При этой сцене все они повеселели и посмотрели друг на друга, как бы говоря: мальчики, давайте смеяться, и они действительно рассмеялись и приняли сказанное за удачную шутку.
Так всегда было с ними. Они считали обязательным для себя вскрикивать каждый раз, когда Джексон говорил что-либо с усмешкой, это показывало ему, что им смешно то же, что и сам он считал забавным, хотя я слышал много хороших шу ток от других людей, не встретивших и улыбки. И однажды сам Джексон рассказал действительно забавную историю (сказать по правде, он иногда шутил, что бывало, когда его спина не болела), но с серьёзным лицом, тогда, не понимая, что он имел в виду, ради ли смеха или ради чего-то другого, все они сидели, не двигаясь, ожидая дальнейших действий, и смотрели довольно озадаченно, пока, наконец, Джексон не заревел на них, как на кучку дураков и идиотов, и не сказал их бородам, в чём было дело: он намеренно принял серьёзный вид, чтобы увидеть, будут ли они выглядеть столь же серьёзно. Ведь даже когда он говорил что-то, то эти слова должны были создавать между людьми трещину. И оттого он презирал, и глумился над ними, и презрительно над ними всеми посмеивался, и вспыхивал в таком гневе, что его углы его губ начали слипаться вместе с настоящей белой пеной.
Он, казалось, был полон ненависти и злобы против каждой вещи и каждого человека в мире, как будто весь мир состоял из одного человека, нанёсшего ему некий ужасный вред, который терзал и гноил его сердце.
Иногда я думал, что он был действительно сумасшедшим, и часто чувствовал себя настолько напуганным им, что думал пойти к капитану по этому поводу и сообщить ему, что Джексон должен быть заключён под стражу, чтобы он напоследок не совершил некий ужасный поступок. Но после долгих размышлений я всегда отказывался от этого, капитан лишь назвал бы меня дураком и отослал бы меня опять назад.
Но не стоит думать, что все матросы были одинаковы в самоунижении перед этим человеком. Нет: было трое или четверо, кто привык иногда восставать против него, и когда он отсутствовал у руля, устраивали заговор против него среди других матросов и говорили им, что стыд и позор, если такой несчастный отверженный негодяй оказался таким тираном для намного лучших людей, чем он сам. И они просили и заклинали их, как мужчин, не терпеть его больше, и в следующий раз, когда Джексон станет играть диктатора, всем вместе противостоять ему и указать ему на его место. Два или три раза почти все согласились с этим, за исключением тех, кто раньше избегал таких обсуждений, и поклялись, что они не будут больше подчиняться диктату Джексона. Но когда приходило время проверить исполнение их клятвы, они снова становились бессловесными и позволяли всему идти прежним путём, поэтому те, кто поднимал людей против него, воспринимали весь главный удар гнева Джексона на самих себе. И хотя они в последний раз вроде бы оказались смелее и даже пробормотали что-то о борьбе с Джексоном, всё же, конце концов обнаружив отсутствие поддержки остальных, постепенно становились тихими и оставляли поле тирану, который тогда становился страшней, чем когда-либо, и причинял им больше вреда, и насмехался над ними, как над малодушными трусами с пустыми сердцами. В такие времена не было никаких границ его презрения, и действительно, в течение всего этого времени у него, казалось, было ещё больше этого презрения, чем ненависти к каждому человеку и каждой вещи.
Что касается меня, то я был всего лишь мальчиком, и в любое время на борту судна мальчиком, сохраняющим спокойствие, делавшим то, что должен, никогда не стремящимся вмешиваться и редко начинающим разговор, если с ним пока не заговаривают. Ведь матросы торгового флота обладают великой идеей собственного достоинства и превосходства над новичками и селянами, которые ничего не знают о судне, и они, кажется, думают, что матрос – великий человек, по крайней мере, намного более важный человек, чем маленький мальчик. И у матросов на «Горце» были столь глубокие понятия в своей морской практике, что я почти решил, что матросы получали дипломы, которые выдают в колледжах, о специальности морского офицера или магистра искусств.
Но хотя я сохранял молчание и мало что говорил, и хорошо понимал, что мой лучший план состоял в том, чтобы мирно ладить с каждым и действительно многое вынести прежде, чем начать борьбу, всё же я не смог избежать ни дурного глаза Джексона, ни спастись от его мучительной вражды. И, поскольку он был моим врагом, ему удалось восстановить многих матросов против меня, или, по крайней мере, они боялись высказаться в мою защиту перед Джексоном, да так, что я в конце концов оказался на судне своеобразным Измаилом без единого друга или компаньона и начал чувствовать растущую во мне ненависть ко всей команде, да так, что я проклинал её, но ненависть не смогла захватить моё сердце целиком и тем самым сделать из меня такого же злодея, каким был Джексон.
Глава XIII
Прекрасный день в море, которое он начинает любить, но передумывает
На второй день после выхода из порта, после мытья палуб и завтрака пришёл черёд нашей вахты, и помощник капитана загрузил нас работой.
Это был очень светлый день. У неба и воды оказались одинаково глубокие цвета, и в воздухе настолько ощущались тепло и солнце, что мы сбросили наши жакеты. Я едва ли мог предполагать, что плыл в том же самом судне, на котором пробыл всю ночь, когда всё было так одиноко и мрачно; и я мог едва предполагать, что океан оставался тем же самым океаном и настолько же красивым и синим, насколько во время ночных часов он казался чёрным и отталкивающим.
Небольшие следы солнечных облаков оставались повсюду на небе, как и небольшие остатки пены по всей поверхности моря, и судно создавало странный, музыкальный шум под своим носом, поскольку оно всё ещё скользило вперёд на своих парусах. В такое время работать не хотелось. О, если б мы снова могли всего лишь сидеть на брашпиле или если б мне позволили выйти на бушприт, улечься там между фалрепов, смотреть на рыб в воде и думать о доме, то я был бы какое-то время почти счастлив.
Я уже полностью оправился от своей морской болезни и чувствовал себя очень хорошо, испытывая лёгкость в своём теле, хотя состояние моего сердца было далеко от идеального, но теперь я мог оглядеть самого себя и произвести наблюдения.
И действительно, хотя мы были в море, было многое, что нужно было созерцать и задать вопрос самому себе, отправившемуся в своё первое путешествие. Что больше всего поразило меня, так это вид самого большого из океанов, ведь мы были вне видимости земли. Повсюду вокруг нас по обеим сторонам судна, с носу и с кормы, ничего не было видно, кроме воды, воды, воды, ни одного проблеска зелёного берега, ни малейшего островка или какого-либо пятнышка мха. Никогда я не понимал до сих пор, каков был океан: какой он великий и величественный, какой он уединённый и безграничный, и красивый, и синий, в течение дня не подававший признаков шквала или урагана, про которые я слышал от своего отца; и я не мог вообразить, как ранее окружавшее нас море, казавшееся таким игривым и спокойным, могло столь яростно мчаться и в терзающем стремлении катить пенные валы и огромные каскады волн, которые я увидел в конце пути.
Когда я смотрел на него, бывшего столь мирным и солнечным, то не мог сдержать воспоминаний о лице моего маленького брата, когда он спал младенцем в колыбели. У него был простой счастливый безмятежный невинный вид, и каждая счастливая маленькая волна казалась прыгающим в подобной же беспечности маленьким агнцем на пастбище и, казалось, заглядывала в ваше лицо, когда оказывалась рядом, как будто хотела быть похлопанной и обласканной. Они казались всем живыми существами с живыми сердцами, способными чувствовать; и я едва не горевал, когда мы проплывали по ним, рассекая их нашими широкими бортами на солнечные чешуйки, и проходили над ними подобно огромному слону среди стада ягнят. Но что из всего этого казалось, возможно, наиболее странным для меня, так это, несомненно, волшебное поднятие и опускание моря, я имею в виду не сами волны, а своего рода широкие вертикальные колебания, состоящие из вздутия и опадания всей поверхности океана. Это было что-то, что я не могу очень хорошо описать, но я очень хорошо знаю, что оно было, и как оно тронуло меня. Когда я смотрел на него, оно вызывало у меня почти головокружение, и все же я не мог не оторвать от него глаз, настолько оно казалось мне мимолётно странным и замечательным.
Я всё время как будто находился в мечте, и когда я оказался запертым на судне, то почти решил, что это некий новый, волшебный мир, и ожидал услышать, как он взывает ко мне из небесной синевы или из глубин синего моря. Но у меня не было в достатке свободного времени для того, чтобы баловаться такими мыслями, ведь матросы уже были собраны, некоторые хлопали парусами, готовясь поднять их наверх, поскольку ветер становился более постоянным и более попутным для нас, и эти оглушающие паруса из лёгкого холста разошлись со временем далеко за борт, где широко нависли над водой, как крылья огромной птицы.
Что касается меня, то я мог мало помочь остальным, не зная названий всех частей или найти надлежащее объяснение. Кроме того, я чувствовал себя очень мечтательным, как говорил прежде, и точно не знал, где я, и что со мной, ведь каждая вещь была настолько необычной и новой.
Пока хлопающие паруса лежали, все матросы высыпали на палубу и прикрепляли их к буму, готовясь поднять, помощник капитана приказал мне выполнить множество простых заданий, смысла ни одного из которых я не мог постигнуть вследствие наличия странных слов, которые он использовал; и затем, разглядывая меня, стоящего весьма озадаченным и запутавшимся, он заревел и обругал меня всеми словами из своего словаря, а матросы рассмеялись и перемигнулись друг с другом, но не смели идти дальше этого из-за страха перед помощником, кто в своём присутствии не позволил бы никакого смеха надо мной, кроме своего собственного.
Однако я, как только смог, попытался проснуться и удержаться от полноты сновидений своими открытыми глазами и быть, в общем, умным, способным парнем, наконец решившимся изучить то или иное так, чтобы не выглядеть одураченным новичком.
Люди, которые никогда не выходили в море в качестве матросов, не могут вообразить, насколько эта работа озадачивает и пугает. Она, должно быть, походит на приход в варварскую страну, где говорят на странном диалекте, одеваются в странную одежду и живут в странных домах. Ведь у матросов для всего есть свои собственные названия, даже для вещей, которые знакомы им на берегу, и если вы называете предмет его береговым названием, то вас осмеют как невежду и «сухопутного жителя». Я хочу рассказать, как в тот первый день помощник капитана приказал мне набрать немного воды. Я спросил его, где я можно получить ведро, тогда же я решил, что совершил некое ужасное преступление, поскольку тот пришёл в большое волнение и сказал, что у них в море никогда не было вёдер, а затем я узнал, что их тут всегда называют корзинами. И как только я сказал о том, что нужно забить небольшую деревянную пробку в ведро, чтобы остановить утечку, он налетел снова и сказал, что в море нет никаких пробок, только затычки. И именно так обстояло со всем остальным.
Но помимо всего, выучить столь бесконечное количество абсолютно новых названий новых вещей поначалу показалось мне невозможным. Если вы когда-либо видели судно, то вы, должно быть, заметили, какая там чащоба из верёвок. И что все они кажутся смешанными и спутанными вместе, как большой моток пряжи. Теперь же у самой малой из этих верёвок есть своё собственное имя, и многие из этих имён очень длинные, как имена молодых наследных принцев, такие как «отдел корпуса выше ватерлинии по правому борту» или «верхняя главная линия парусов по левому борту».
Я думаю, что было бы очень неплохо дать новое обозначение судовым тросам так же, как когда-то, как я читал, были упрощены классы растений в ботанике. Это действительно замечательно, что в мире существует столько названий. Нет счёта названиям, которые хирурги и анатомы дают различным частям человеческого тела, действительно являющегося неким подобием судна; стоячий такелаж – это его кости, сохраняющие форму корпуса, а сухожилия – тонкие подвижные тросы, при помощи которых управляют всеми движениями.
Интересно, могло бы человечество обойтись без всех этих имён, число которых продолжает увеличиваться каждый день, и час, и секунду, пока, наконец, весь воздух не будет наполнен ими и когда даже на Великой равнине люди будут дышать по-другому вследствие обширного множества слов, которое они используют и которое изведёт весь воздух так же, как ламповые горелки сжигают газ. Но люди, кажется, имеют большую любовь к именам, поскольку знание великого множества имён, кажется, походит на знание очень многих вещей, хотя я не удивлюсь, если в мире существует гораздо больше имён, чем вещей. Но я должен перестать отвлекаться и возвращаюсь к своей истории.
Наконец мы подняли хлопающие паруса повыше, и как только судно ощутило их, как лошадь чувствует сбрую, и из-за бриза, дующего всё сильнее, пошло, накренившись на нос, избавляясь от пены на своих бортах, как от пены, сбиваемой с уздечки. Каждая мачта и каждая доска, казалось, начала пульсировать в нём, радостно забившись вместе со мной, и я почувствовал дикое ликование в моём собственном сердце и понял, что был бы рад вот так же идти далее вокруг света.
Тогда же я начал испытывать замечательное чувство, которое стало ответом на все дикие потрясения от внешнего мира и привело меня к скачке вперёд и вперёд мимо планет на их орбитах, где я потерялся в единой безумной пульсации центра Вселенной. Дикое кипение и взрыв бушевали в моём сердце, подобно скрытой доселе весне, разлившейся в нём, и моя кровь заструилась по всему моему телу, как горные ручьи в весенних паводках.
Да, я согласен! Дайте мне эту великолепную океанскую жизнь, эту жизнь солёного моря, эту солёную, пенистую жизнь, когда морское ржание и фырканье и ваше дыхание столь же глубоки, как дыхание огромных китов! Позвольте мне катиться вокруг земного шара, позвольте мне качаться на море, позвольте мне мчаться и прожечь свою жизнь с вечным бризом с кормы и бесконечным морем впереди!
Но скоро эти восторги испарились, когда после краткого отдыха нас снова позвали на работу, и у меня появилась мерзкое задание – вычистить курятники и устроить в баркасе стойла для свиней.
Несчастная собачья жизнь – это море! Подчиняться, как раб, и работать как ишак! Вульгарные и звероподобные люди помыкают мной, как будто я негр в Алабаме. Да, да, дуйте на нас сильнее, ветры, и скорей положите конец этому отвратительному путешествию!
Глава XIV
Он собирается нанести светский визит капитану в его каюту
Если что и вспоминается мне как самая большая низость, так это сильно изменившееся отношение капитана ко мне.
Я думал, что он настоящий, весёлый джентльмен, полный радости, и хорошего настроения, и доброты к морякам, и такой, кто не делает различий между мной и грубыми матросами, среди которых я был оставлен. Действительно, я не сомневался, что он неким особым образом возьмёт меня под свою защиту и окажется в отношении меня добрым другом и благодетелем. Я как-то слышал, что некоторые морские капитаны – отцы своей команде, и, следовательно, они существуют; но такие отцы, подобно предписаниям Соломона, как правило, отцы строгие и жестокие, отцы, чувство долга которых превалирует над чувством любви, и они каждый день в какой-то степени играют роль Брута, который приказал отправить подальше своего сына, о чём я прочитал в книге Плутарха, нашей старой фамильной книге.
Да, я думал, что капитан Риг – ибо Риг была его фамилия – будет тактичным и внимательным ко мне и будет стремиться приободрить меня и поддержит меня в моем одиночестве. Я вообще даже не считал возможным, что он не пригласит меня вниз в каюту в одну прекрасную ночь, чтобы задать мне вопросы относительно моих родителей и жизненных перспектив и, кроме того, услышать от меня несколько анекдотов, касающихся моего двоюродного деда, прославленного сенатора, или даст мне мел и карандаш и научит меня сложностям навигации, или, возможно, предложит мне сыграть с ним в шахматы. Я даже решил, что он мог бы пригласить меня на ужин в солнечное воскресенье и помочь мне с питанием, как знающий, насколько поначалу неприятны солёная говядина и солёная свинина и твёрдая булочка с бака такому мальчику, как я, который всегда жил на берегу и в своём доме.
И я не мог сдержать относительно него особых эмоций, почти нежность и любовь, как последнюю видимую связь в цепи ассоциаций, которые связывали меня с моим домом. Ведь в то же самое время в порту я заметил его и г-на Джонса, друга моего брата, стоящих вместе и разговаривающих, а поэтому от капитана до моего брата был всего лишь один промежуточный шаг, и мой брат, и моя мать, и сёстры отстояли от него на один шаг.
И это напомнило мне, как раньше я часто проходил местами по палубе, где, как помнится, стоял г-н Джонс, когда мы в первый раз посетили судно, стоящее у причала, и как я попытался убедить себя, что это действительно так и было, что он стоял там, хотя теперь судно уже находилось далеко в широком Атлантическом океане, а он, возможно, спускался с Уолл-стрит или сидел в своей бухгалтерии, читая газету, в то время как я, бедняга, был занят совсем иным делом.
Так два или три дня прошли без капитана, не позвавшего меня ни разу и не пославшего мне на бак пожелания заскочить в его каюту, чтобы проявить своё уважение. Я начал думать, не я ли должен сделать первый шаг, и, действительно, не ожидает ли он этого от меня, так как я был всего лишь мальчиком, а он мужчиной, и что, возможно, была причина, почему он ещё не поговорил со мной, заключавшаяся в том, что для меня будет более почтительным обратиться к нему первым. Я думал, что он мог бы нарушить это правило, особенно если он был великодушным человеком с благородными чувствами. Таким образом, однажды вечером, незадолго до заката, во втором часу собачей вахты, когда больше не было работы, которую необходимо было выполнять, я решил увидеть его и обратиться к нему.
После употребления ведра воды и хорошего мытья, необходимого для удаления некоторых следов покраски курятника, я спустился на бак, чтобы одеться так аккуратно, как только смог. Я надел белую рубашку вместо своей красной, натянул пару суконных брюк вместо грубых и надел свои новые туфли, а затем тщательно почистил свою охотничью куртку. Я надел всё это, для того чтобы в целом иметь вполне благородный вид, по крайней мере для бака, хотя в гостиной я бы не смотрелся так же хорошо.
Когда матросы увидели меня в таком обличии, они не знали, что и подумать, и потребовали от меня сказать, оделся ли я для прибытия в порт, я сказал им нет, поскольку тогда мы не видели берега, а что я собираюсь нанести визит вежливости капитану. На что они все рассмеялись и раскричались, как будто я оказался простофилей, хотя нет ничего более простого, чем позвать на вечер приятеля. Тогда некоторые из них попробовали отговорить меня, сказав, что я зелен и неопытен, но Джексон, сидевший и глядевший на происходящее, выкрикнул с отвратительной усмешкой: «Пусть он идёт, пусть он идёт, мужики, он – хороший мальчик. Пусть он идёт, у капитана для него найдётся немного орехов и изюма». И так он продолжал бы в том же духе, если бы его не охватил один из сильных приступов кашля, и он едва не задохнулся.
Когда я покинул бак, то случайно посмотрел на свои руки и обнаружил, что вся их поверхность заляпана темно-жёлтыми пятнами из-за того, что тем утром помощник велел мне просмолить несколько полос холста для оснастки. Я понял, что в таком виде не стоит представать перед джентльменом, поэтому в отсутствие парней я надел пару шерстяных рукавиц, которые связала для меня моя мать, чтобы я носил их в плавании. Пока я надевал их, Джексон спросил меня, не стоит ли ему вызвать карету, а ещё кто-то предложил мне не забыть передать знак его уважение к шкиперу. Я оставил без внимания все их смешки и прошёл на палубу через камбуз, где старый повар окликнул меня, сказав, что я забыл свою трость.
Но я не обращал внимания на их наглость и пошёл прямо к двери каюты на квартердеке, когда меня встретил старший помощник. Я коснулся своей шляпы и прошёл было мимо, но тот уставился на меня, и раньше, чем я заметил, что глаза его вспыхнули, он внезапно поймал меня за воротник и громовым голосом потребовал сознаться, что это за такие уловки на борту судна, на котором он является помощником капитана. Я попросил его отпустить меня, а иначе пообещал пожаловаться моему другу капитану, которого я намеревался навестить этим вечером. В ответ на эти слова он так резко развернул меня кругом, что я решил, будто в моей голове Гольфстрим, а затем пихнул меня вперёд, проревев неизвестно что. Между тем все матросы встали вокруг брашпиля и, сильно возбуждённые, заглядывали в кормовую часть.
Видя, что я не смогу произвести эффект на мой объект этой ночью, я решил, что лучше всего его пока отсрочить, и, когда я вернулся к матросам, Джексон спросил меня, как я нашёл капитана и не возьму ли я с собой друга и не представлю ли я его в следующий раз.
Результат этого дела состоял в том, что прежде чем заснуть той ночью, я почувствовал себя весьма удовлетворённым, поскольку для матросов не было обычным делом общаться с капитаном в каюте, и у меня начало появляться подозрение, что я действовал, как дурак, но всё это явилось результатом моего незнания морских правил.
И здесь я также могу заявить, что никогда не видел внутреннюю часть каюты во время всего плавания, вплоть до возвращения нашего судна в Нью-Йорк, хотя раньше я часто заглядывал туда через небольшое оконное стекло, установленное в рубке на палубе, как раз перед рулём, где были подвешены часы для рулевого, чтобы тот ударял каждые полчаса в свой колокол в нактоузе, где находился компас. И для матросов, когда они стояли за штурвалом, было большим развлечением заглядывать через стекло и следить за происходящим в каюте, особенно когда стюард подавал на стол ужин или капитан бездельничал с графином вина за небольшим красным деревянным столиком либо играл в карточную игру, называемую пасьянс, по вечерам, из-за чего время от времени он бывал совсем наедине со своим достоинством; хотя, как будет скоро показано, у него обычно бывал один славный компаньон, в обществе которого ему было приятно.
В день, следующий после моей попытки заглянуть в каюту, я по случайности был занят вязкой узлов на квартердеке, когда внезапно появился капитан, прогуливаясь вверх и вниз и куря сигару. Он смотрел очень добродушно и любезно, и так как это происходило сразу после обеда, я решил, что это, что и говорить, будет просто тем самым шансом, которого я ждал.
Я ждал некоторое время, думая, что он сам заговорит со мной, но поскольку он этого не сделал, то подошёл к нему и начал разговор, сказав, что сегодня очень приятный день, и надеюсь, что он будет столь же хорош. Я никогда не видел, чтобы человек так рассердился, я решил, что он собирался сбить меня с ног, но после некоторого молчания он внезапно стащил кепку со своей головы и бросил её в мою сторону. Я не знаю, что побудило меня, но я побежал к подветренным шпигатам, где она упала, взял её и подал ему с поклоном, и тут же прибежал помощник и толчком отправил меня туда же, а после, загнав меня далеко за брашпиль, захотел узнать, сумасшедший я или нет, и если это так, то он сразу же закуёт меня в железо да так и оставит.
Но я уверил его, что нахожусь в здравом уме и отлично знаю, что я никак не грублю и никак не принижаю благородства его и капитана Рига. В ответ он горячо поклялся, что если я когда-нибудь повторю то, что сделал этим вечером, или когда-нибудь снова позволю себе нечто большее, чем просто снять шляпу перед капитаном, он свяжет меня снастями и будет держать меня там, пока я не выучусь хорошим манерам. «Ты очень зелен, – сказал он, – но ты у меня созреешь». Действительно этот старший помощник, казалось, оберегал достоинство капитана, и он в некотором роде оказался также лично удостоенным того, чтобы защищать это достоинство.
Я решил, что довольно странно делать выговор и впадать в грубость среди всеобщей любезности. Однако увидев, как обстоит дело, я решил зайти к капитану, если он окажется один, в будущем, особенно потому, что он повёл себя столь не соответствующим обычному воспитанному джентльмену образом. И я едва ли мог доверять ему, потому что он был тем же самым человеком, кто был столь общительным, и вежливым, и остроумным, которого когда-то г-н Джонс и я встретили в порту. Но моё удивление возросло, когда спустя несколько дней после этого события нас застиг шторм, и капитан помчался из каюты в своём ночном колпаке и более ни в чём, кроме своей рубашки, и, выскочив на корму, начал подпрыгивать, и проклинать, и клясться, и называть матросов, стоящих наверху, теми же словами, что называют всех уличных бездельников.
Помимо всего этого, я также заметил, что в то время, пока мы были в море, он носил только старую потёртую одежду, очень отличающуюся от блестящего костюма, в котором я видел его при нашей первой беседе и после, в нескольких шагах от отеля «Сити», где он всегда останавливался, когда бывал в Нью-Йорке. Теперь он носил только старомодные пальто табачного цвета, с высокими воротниками и короткой талией и линялые панталоны с короткими штанинами, очень обтянутыми на коленях, и жилеты, которые не закрывали его пояса, вследствие того что были очень короткими, в точности как у маленького мальчика. И все его шляпы были помятыми и побитыми, как будто их бросали в подвал, и его ботинки были донельзя залатаны. Воистину я начал думать, что он был всего лишь тёртый калач, в конце концов, особенно когда его бакенбарды потеряли свой блеск, и он ходил все дни напролёт небритым, и его волосы, почти чудесные, приобрели цвет перца и соли, который, возможно, он периодически был вынужден слегка закрашивать, пока находился в море. Он упал в моих глазах как своеобразный самозванец, в то время как на берегу оказался фальшивым джентльменом, поскольку никакой джентльмен не отнёсся бы к другому джентльмену так, как он отнёсся ко мне.
Да, капитан Риг, подумал я, вы не джентльмен, и вы это знаете!
Глава XV
Печальное состояние его гардероба
И теперь, когда я рассказал о старой одежде капитана, можно поведать о состоянии моего платья.
Наше плавание происходило в самом начале июня месяца, и я был весьма обрадован, что оно случилось именно в это время года, поскольку было тепло и океан был приветлив, как я тогда полагал, и моё путешествие походило на летнюю экскурсию к морскому берегу ради пользы солёной воды и перемены обстановки и общества.
Поэтому я не очень заботился по поводу того, что я должен носить, и считал совершенно ненужным обеспечивать себя большим запасом жакетов из толстого сукна и из чего-то ещё, и тельняшками с Гернси, и клеёнчатыми костюмами, и морскими ботинками, и многими другими вещами, в которые старые моряки облекают свои тела. Но главной причиной было то, что у меня не было денег, чтобы купить их, даже если б я и хотел. Таким образом, в дополнение к одежде, взятой мною из дома, я купил лишь красную рубашку, брезентовую шляпу и пояс с ножом, поскольку раньше я имел такое же отношение к морской экипировке, как и техасские смотрители, чья униформа, как говорят, состоит из рубашки с воротником и пары шпор.
Но прошло не так много дней, с тех пор как я оказался в море, когда обнаружил, что моя береговая одежда, или длиннополое одеяние», как матросы называют её, слишком плохо приспособлена к жизни, которую я теперь вёл. Когда я лез наверх по своей гимнастической нок-рее, мои панталоны всё время разрывались и разделялись во всех направлениях, особенно на седалище, вследствие того что их не переделали по матросской моде на низкий пояс и возможность носить их без подтяжек. Поэтому я часто оказывался в неприятных, затруднительных ситуациях, качаясь среди оснастки, иногда попадая в поле зрения кают с моим столовым бельём, выставляемым в большинстве случаев неэлегантно и не по-джентльменски.
И хуже всего было то, что это была моя лучшая пара панталон, и эта была пара, которой я больше всего гордился, очень заметная и замечательная пара.
Мне сделали её, заказав нашему деревенскому портному, маленькому толстому человечку с очень тонкими ногами, кто раньше рассказывал о том, что он выписывал последние модные журналы прямо из Парижа, хотя все картинки с модами в его магазине были очень грязны и засижены мухами.
Ну вот, этот портной делал панталоны, о которых я говорил, и пока они находились у него в руках, я вызывал и видел его по два или три раза в день, чтобы следить за этой работой и поторапливать его, поскольку он был стариком в больших круглых очках и видел не очень хорошо и совсем не имел помощника, кроме больной жены с пятью внуками, заботящейся о нем; и, помимо этого, он был таким страстным любителем нюхательного табака, что это мешало его ремеслу, ведь он брал по нескольку понюшек на каждый стежок и сидел, нюхая и сморкаясь над моими панталонами, пока я не почувствовал отвращение к нему. Тогда этот старый портной показал мне образец, который он взял за основу для изготовления моих панталон, но я улучшил его и предложил ему устроить разрез ниже каждого колена, по голени, чтобы застёгивать на шесть рядов медных звенящих пуговок – и это всё из-за моего взрослого кузена, который был великим охотником, носившим красивую пару панталон, сделанных точно таким же образом.
И они были той самой парой, что теперь была у меня в море, и матросы ради забавы договорились между собой все время обращаться друг к другу со словом «дружок» и просили меня предоставить им пуговицу-другую ради забавы и затем спрашивали меня, не был ли я солдатом. Это весьма явно показывало, что они понятия не имели, что мои панталоны были очень изысканными, сделанными по высокой охотничьей моде и скопированными с панталон моего кузена, который был молодым состоятельным человеком и владел экипажем. Когда мои панталоны разорвались и порвались, как уже было сказано, я приложил все усилия для их починки и исправления, но поскольку я не был великим швецом, то чем больше залатывал их, тем больше они расходились, ведь я надевал свои кусочки, не учитывая интересы ножных суставов, которые лишь ещё больше раздражали мои бедные штаны и выводили их из себя.
И при этом я не должен забывать про свои ботинки, которые были почти новыми, когда я уехал из дома. Это были мои воскресные ботинки, и они прекрасно мне подходили. У меня никогда не было пары ботинок, которую я любил бы больше; когда я шёл в них в ночное время, то снимал их с ног, если в тот момент никто меня не видел, и мне не хотелось думать о чём-либо ещё, я продолжал смотреть на них даже во время церковной службы и потому пропускал большую часть проповеди. Одним словом, это была красивая пара ботинок. Но всё это, как скоро я обнаружил, ещё больше делало их непригодными для морской службы. У них были очень высокие каблуки, которые всё время опрокидывали меня в оснастке и несколько раз угрожали столкнуть меня за борт, и солёная вода заставила их сжаться так, что они ужасно сжимали мою стопу при подъёме, и я был обязан нанести им безжалостную рану, которая вошла в само моё сердце. Голенища простирались довольно далеко к моим коленям и по краям были увенчаны красным сафьяном. Матросы дали им название «ботинки гафельного топселя». И иногда они называли меня Ботинком, а иногда Пуговкой – из-за украшений на моих панталонах и из-за охотничьей куртки.

