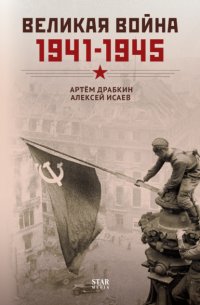Читать онлайн Мы дрались с «тиграми» бесплатно
- Все книги автора: Артем Драбкин, Петр Михин
© Драбкин А.В., 2020
© Михин П., 2020
© ООО «Яуза-каталог», 2020
Артем Драбкин
Я дрался с Панцерваффе
Алексей Исаев
Горячий снег «пакфронта»
Бойцам и командирам противотанковой артиллерии был посвящен один из самых сильных и правдивых фильмов о войне – «Горячий снег». Он был снят по одноименной повести Ю.В. Бондарева. Хотя он описывает действительно драматичный момент войны, отражение попытки прорваться извне к окруженной армии Паулюса в декабре 1942 года, такие эпизоды могли иметь место до самого конца войны.
Противотанкисты часто воевали при численном превосходстве противника, прикрывая фланги главной ударной группировки фронта или армии.
Противотанковая артиллерия появилась вскоре после выхода на поле боя танков. Сначала это были орудия полевой артиллерии, выделенные для стрельбы по танкам. В качестве бронебойного снаряда выступала шрапнель, поставленная на удар. После Первой мировой войны пришло время противотанковых орудий специальной разработки. Свежеиспеченная Рабочее-Крестьянская Красная армия не осталась в стороне от этого процесса. Протоколом заседания Революционного Военного совета Союза ССР от 22 мая 1929 года была утверждена «Система артиллерийского и пехотного вооружения РККА». Согласно этому документу в состав батальонной артиллерии вводилась 37-мм пехотная противотанковая пушка «для борьбы с бронированными машинами противника». Поскольку подходящего своего орудия в производстве не было, оно было закуплено за границей, у фирмы «Рейнметалл». Пушка была принята на вооружение под наименованием «37-мм противотанковая пушка обр. 1930 г.». Эволюция этого орудия в 1930-х годах привела к появлению 45-мм пушки 53-К, известной как «45-мм противотанковая пушка образца 1937 г.». Так появилась хорошо известная многим «сорокапятка». Производство пушки было налажено на заводе № 8 им. Калинина в подмосковных Подлипках.
Особенностью противотанкового орудия является необходимость высокого темпа стрельбы. Малокалиберные противотанковые пушки были эффективны на дальностях в несколько сотен метров, и у противотанкистов было очень мало времени на поражение до выхода танков на их позиции. Поэтому 45-мм противотанковая пушка была оснащена клиновым полуавтоматическим затвором. После выстрела тело орудия откатывалось назад, противооткатные устройства возвращали его в исходное положение. В конце цикла наката автоматика открывала затвор и выбрасывала стреляную гильзу. Затвор оставался открытым, и заряжающий мог, не тратя времени на открывание затвора, заряжать орудие. Досылаемый заряжающим унитарный выстрел сбивал затвор с лапок выбрасывателя гильзы, он закрывался, и наводчик снова мог послать снаряд в цель. Жизненно необходимыми для противотанкового орудия были раздвижные станины. Такая конструкция вместо однобрусного лафета позволяла иметь широкие углы горизонтальной наводки для переноса огня по разным целям. Поскольку танки могли использовать складки местности для обхода позиций противотанкистов или прорваться на участке соседнего подразделения, орудия должны были быть готовы менять направление огня. На легких малокалиберных орудиях такая манипуляция сложностей не представляла. На тяжелых противотанковых пушках (57-мм, 76-мм и выше) у каждой станины стоял номер расчета, готовый разворачивать орудие. «Сорокапятки» получили высокую оценку японцев, столкнувшихся с ними на Халхин-Голе – единственном конфликте с применением крупных масс танков обеими сторонами до начала Великой Отечественной войны, в котором участвовала Красная армия. Японцы говорили о высокой точности и эффективности советского орудия.
«Сорокапятка» была простым в производстве и недорогим (около 10 тыс. рублей) орудием. Это привело к быстрому насыщению частей и соединений РККА 45-мм орудиями. К 1941 году войска были полностью укомплектованы 45-мм пушками по требованиям мобилизационного плана (МП-41), и они даже были сняты с производства. Возобновление выпуска предполагалось только с началом войны для восполнения потерь в объемах, предусмотренных МП-41. Следует отметить, что противотанковые орудия были не единственным средством борьбы с танками. Бронебойные снаряды входили в боекомплект дивизионных 76-мм пушек, зенитных орудий и полковой артиллерии.
Организация частей противотанковой артиллерии Красной армии до войны не отличалась разнообразием. До осени 1940 года противотанковые орудия входили в состав стрелковых, горнострелковых, мотострелковых, моторизованных и кавалерийских батальонов, полков и дивизий. Противотанковые батареи, взводы и дивизионы были, таким образом, вкраплены в организационную структуру соединений, являясь их неотъемлемой частью. Стрелковый батальон стрелкового полка довоенного штата № 04/401 имел взвод 45-мм орудий (две пушки). Стрелковый полк штата № 04/401 и мотострелковый полк штата № 05/86 имели батарею 45-мм пушек (шесть орудий). В первом случае средством тяги были лошади, во втором – специализированные гусеничные бронированные тягачи «Комсомолец». В состав стрелковой дивизии штата № 04/400 и моторизованной дивизии штата № 05/70 входил отдельный противотанковый дивизион из восемнадцати 45-мм пушек. Что интересно, противотанковая часть дивизионного подчинения имела механическую тягу как в случае стрелковой, так и в случае моторизованной дивизии. Средством тяги были все те же «Комсомольцы». Моторизованная противотанковая часть должна была обеспечить командиру дивизии возможность быстро выдвигать средства борьбы с танками на опасное направление. Впервые противотанковый дивизион был введен в штат советской стрелковой дивизии в 1938 году.
Однако маневр противотанковыми орудиями был возможен в тот период только внутри дивизии, а не в масштабах корпуса или армии. Командование имело весьма ограниченные возможности по усилению противотанковой обороны на танкоопасных направлениях. Дивизия, занимающая фронт на танконедоступной местности, и дивизия на направлении вероятного удара танков противника имели одинаковое количество противотанковых орудий. В том и другом случае в распоряжении командира соединения были только 54 штатные 45-мм пушки. На танконедоступной местности они были избыточны, а на опасном участке – недостаточны. Усиление противотанковой обороны могло быть произведено за счет артиллерии, формально не являющейся противотанковой – зенитных и корпусных орудий. Характерной чертой предвоенной противотанковой артиллерии Красной армии также было отсутствие противотанковых орудий в танковой дивизии.
Первая попытка дать в руки командования средство качественного усиления противотанковой обороны последовала в 1940 году. Изучая опыт боевого применения танковых войск Германии в 1939–1940 годах, советские военные теоретики пришли к выводу о необходимости качественного и количественного усиления противотанковой обороны. Опытной организационной формой стал пушечный артполк резерва Главного командования, вооруженный 76-мм дивизионными пушками Ф-22 и 85-мм зенитными пушками. 14 октября 1940 года Нарком обороны СССР обратился в СНК СССР и ЦК ВКП (б) с предложением по новым организационным мероприятиям в Красной армии в первой половине 1941 года. В числе прочего предлагалось:
«Сформировать 20 пулеметно-артиллерийских моторизованных бригад, имеющих мощное пушечное и пулеметное вооружение, предназначенных для борьбы и противодействия танковым и механизированным войскам противника. Дислокацию бригад иметь:
а). ЛВО – 5 бригад,
б). ПрибОВО – 4 бригады,
в). ЗапОВО – 3 бригады,
г). КОВО – 5 бригад,
д). ЗабВО – 1 бригада,
е). ДВФ – 2 бригады…».
Предложение о формировании бригад было получено 4 ноября 1941 года. Предполагалось сформировать их к 1 января 1942 года. Наименование «пулеметно-артиллерийская» было при формировании опущено, и бригады формировались как моторизованные. Всего в бригаде предполагалось иметь: 6199 человек, 17 танков Т-26, 19 бронемашин, пушек: 45-мм противотанковых – 30, 76-мм Ф-22 – 42, 37-мм автоматических зенитных – 12, 76-мм или 85-мм зенитных – 36. Введение в штат бригады 17 Т-26 в каком-то смысле опережало время: возрастание роли танков как средства борьбы с себе подобными имело место уже к концу Второй мировой войны.
Однако первый опыт создания противотанкового соединения РГК был признан неудачным. В феврале – марте 1941 года два десятка бригад были расформированы. Последним перед войной мероприятием по формированию противотанковых бригад стало последовавшее 23 апреля 1941 года постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 1112-459сс «О новых формированиях в составе Красной армии». По этому постановлению к 1 июня 1941 года предполагалось сформировать десять противотанковых артиллерийских бригад РГК. По штату в каждой бригаде должно было быть сорок восемь 76-мм пушек, сорок восемь 85-мм зенитных пушек, двадцать четыре 107-мм пушки, шестнадцать 37-мм зенитных пушек. Штатная численность бригады составляла 5322 человека. К началу войны формирование бригад не было завершено. Большинство из них не имело положенных по штату автомашин, тягачей и другой техники. 107-мм орудия М-60 повсеместно заменялись на 85-мм зенитки. В мае 1941 года фактический статус противотанкового соединения получили неукомплектованные танками механизированные корпуса. Вместо танков они получали 76-мм дивизионные пушки и должны были стать подвижным средством борьбы с бронетехникой противника.
С началом Великой Отечественной войны противотанковые возможности советских войск подверглись жестоким испытаниям. Во-первых, чаще всего стрелковым дивизиям приходилось вести бой, занимая превышающий уставные нормативы фронт обороны. Во-вторых, советским войскам пришлось столкнуться с немецкой тактикой «танкового клина». Она заключалась в том, что танковый полк танковой дивизии Вермахта наносил удар на очень узком участке обороны. При этом плотность атакующих танков составляла 50–60 машин на километр фронта. Такое количество танков на узком фронте неизбежно насыщало противотанковую оборону. Значительно облегчалась задача насыщения советской ПТО ее линейностью, т. е. равномерным расположением орудий по фронту обороны. Свою роль также сыграли технические сложности: ряд партий 45-мм бронебойных снарядов был перекален. Термообработанные с нарушением технологии снаряды не пробивали немецкие танки даже на тех дистанциях, на которых должны были это делать по ТТХ. Спасением в условиях кризиса стали 76-мм дивизионные и полковые орудия. Короткоствольные 76-мм полковые пушки образца 1927 года были ближе всего по весу и габаритам к противотанковым пушкам. При этом их бронебойный или даже шрапнельный выстрел был достаточно эффективным против немецких танков 1941 года.
Организационные трудности и общий неблагоприятный ход боевых действий не позволили первым противотанковым бригадам реализовать свой потенциал. Однако уже в первых сражениях бригады продемонстрировали широкие возможности самостоятельного противотанкового соединения. Уже в конце июня было принято решение о формировании отдельных противотанковых артиллерийских полков РГК. Вооружались эти полки двадцатью 85-мм зенитными пушками. В июле – августе 1941 года сформировали 35 таких полков. В августе – октябре последовала вторая волна формирования противотанковых полков РГК. Эти полки вооружались восемью 37-мм и восемью 85-мм зенитными пушками. 37-мм зенитный автомат обр. 1939 года еще до войны создавался как противотанково-зенитный и имел отработанный бронебойный снаряд. Важным преимуществом зенитных орудий также был лафет, обеспечивающий круговое вращение орудия. Для защиты расчета переквалифицированные в противотанковые пушки зенитки оснащались противоосколочным щитом.
Большие потери противотанковых пушек в начале войны привели к снижению количества противотанковых орудий в стрелковой дивизии. Стрелковая дивизия штата № 4/600 от 29 июля 1941 года имела всего восемнадцать 45-мм противотанковых пушек вместо пятидесяти четырех по предвоенному штату. По июльскому штату были полностью исключены взвод 45-мм пушек из стрелкового батальона и отдельный противотанковый дивизион. Последний был восстановлен в штате стрелковой дивизии в декабре 1941 года. Кавалерийская дивизия нового штата 1941 года имела всего шесть 45-мм пушек вместо шестнадцати по предвоенному штату. Нехватку противотанковых пушек в какой-то мере восполняли недавно принятые на вооружение противотанковые ружья. В декабре 1941 года в стрелковой дивизии штата № 04/750 взвод ПТР был введен на полковом уровне. Всего в дивизии по штату было 89 ПТР.
Бронированные гусеничные тягачи «Комсомолец» были большей частью потеряны летом 1941 года, их производство было свернуто в пользу танков. Средством тяги 45-мм противотанковых пушек стали лошади и автомашины. Существенно улучшилась ситуация со средствами тяги противотанковой артиллерии с поступлением по ленд-лизу автомобилей повышенной проходимости. Знаменитые «Виллисы» были не только автомашинами командиров, но и тягачами для 45-мм пушек.
В области организации артиллерии общей тенденцией конца 1941 года было наращивание числа самостоятельных противотанковых частей. На 1 января 1942 года в действующей армии и резерве Ставки ВГК имелись: одна артиллерийская бригада (на Ленинградском фронте), 57 противотанковых артиллерийских полков и два отдельных противотанковых артиллерийских дивизиона. По итогам осенних боев пять артиллерийских полков ПТО получили звание гвардейских. Два из них получили гвардию за бои под Волоколамском – они поддерживали 316-ю стрелковую дивизию И.В. Панфилова. Зенитные орудия постепенно изымались из противотанковых полков и возвращались в систему ПВО. Все большую роль в советской противотанковой артиллерии стала играть 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3. Немцы называли советские 76-мм пушки «ратш-бум»: снаряд попадал в цель («ратш!») быстрее, чем долетал звук выстрела («бум!»).
1942 год стал периодом наращивания числа и укрупнения самостоятельных противотанковых подразделений. 3 апреля 1942 года последовало постановление Государственного Комитета Обороны о формировании истребительной бригады. По штату в бригаде было 1795 человек, двенадцать 45-мм пушек, шестнадцать 76-мм пушек, четыре 37-мм зенитные пушки, 144 противотанковых ружья. Следующим постановлением от 8 июня 1942 года двенадцать сформированных истребительных бригад были объединены в истребительные дивизии, по три бригады в каждой. Истребительные дивизии предполагалось использовать: 1-ю – на Юго-Западном, 2-ю – на Брянском, 3-ю – на Западном и 4-ю – на Калининском фронтах. Вскоре 1-я истребительная дивизия прошла крещение огнем под ударами операции «Блау».
Укрупнению подверглись даже подразделения противотанковых ружей. В апреле 1942 года было сформировано четыре отдельных батальона ПТР. Каждый состоял из трех-четырех рот по 27 противотанковых ружей в каждом. В целом 1942 год стал расцветом противотанковых ружей как средства борьбы с бронетехникой противника в Красной армии. По мартовскому штату стрелковой дивизии № 04/200 на уровне полка была рота ПТР (27 ружей), по роте ПТР получил также каждый из батальонов стрелкового полка (вместо довоенных 45-мм противотанковых пушек), еще одна рота ПТР была в противотанковом дивизионе. Всего штат предусматривал 279 ПТР в стрелковой дивизии. Эффективность ружей, конечно, оставляла желать лучшего, но их массированное применение давало определенные результаты. Кроме того, поток крупнокалиберных пуль заставлял командиров немецких танков отказываться от наблюдения через открытый люк командирской башенки и обозревать поле боя только через триплексы смотровых щелей. Ограничение обзора экипажа танка облегчало задачу противотанкистов, использовавших более эффективные 45-мм и 76-мм пушки.
Этапным для противотанковой артиллерии Красной армии стал приказ НКО СССР № 0528 за подписью И.В.Сталина, гласивший:
«В целях улучшения качества борьбы с танками противника, создания и накопления кадров артиллеристов-истребителей танков, повышения их квалификации и выделения противотанковых артиллерийских частей из других видов артиллерии приказываю:
1. Легкие и противотанковые артиллерийские полки РГК, противотанковые дивизионы стрелковых дивизий и батареи 45-мм пушек стрелковых полков переименовать в истребительно-противотанковые артиллерийские полки, дивизионы и батареи.
2. Установить начальствующему составу этих частей и подразделений полуторный, а младшему начальствующему и рядовому составу – двойной оклад содержания.
3. Весь начальствующий состав истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений, до командира дивизиона включительно, взять на особый учет и использовать только в указанных частях.
4. Командирам орудий и заместителям командиров орудий (наводчикам) этих частей присвоить военное звание «старший сержант» – «сержант» соответственно и ввести должность заместителя наводчика с присвоением ему военного звания «младший сержант».
5. Начальствующий, младший начальствующий и рядовой состав истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений, находящийся на излечении в госпиталях, после излечения направлять только в указанные части.
6. Установить для всего личного состава истребительно-противотанковых артиллерийских частей и подразделений специальный нарукавный знак, согласно прилагаемого описания, носимый на левом рукаве шинели и гимнастерки.
7. Установить премию за каждый подбитый танк в сумме: командиру орудия и наводчику – по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета – по 200 рублей.
8. Количество подбитых орудием танков отмечать цифрой на фигуре танка, нарисованной в правом верхнем углу внутренней стороны щита орудия. Фигуру танка рисовать черной, а цифру, показывающую число подбитых танков, – белой краской.
9. В целях использования истребительно-противотанковых артиллерийских частей для решения задач непосредственной поддержки пехоты личный состав этих частей обучать не только стрельбе по танкам прямой наводкой, но и стрельбе по другим целям с открытых и закрытых огневых позиций.
10. Пункт 2 настоящего приказа не распространяется на противотанковые артиллерийские части Дальневосточного, Забайкальского и Закавказского фронтов» (Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. – 1942 г. Т. 13 (2–2). – М.: ТЕРРА, 1997. С. 263–264).
Отличительным знаком противотанкистов стал нарукавный знак в виде черного ромба с красной окантовкой со скрещенными орудийными стволами. Повышению статуса противотанкистов сопутствовало формирование новых истребительно-противотанковых полков. Уже 16 июля 1942 года постановлением Государственного Комитета Обороны № 2055сс началось формирование при учебных артиллерийских центрах десяти легких артиллерийских (по двадцать 76-мм пушек) и пяти противотанковых артиллерийских полков (по двадцать 45-мм пушек) со сроком готовности 30 июля. 26 июля последовало постановление на формирование еще 35 полков – 20 по двадцать 76-мм пушек и 15 по двадцать 45-мм пушек. Полки были сформированы в короткие сроки и сразу же брошены в бой на угрожаемых участках фронта. В сентябре 1942 года постановлением Государственного Комитета Обороны № 2259сс формировались еще десять истребительно-противотанковых полков по двадцать 45-мм пушек. Также в сентябре 1942 года в наиболее отличившиеся полки была введена дополнительная батарея из четырех 76-мм орудий. В ноябре 1942 года часть истребительно-противотанковых полков была объединена в истребительные дивизии. К 1 января 1943 года в составе истребительнопротивотанковой артиллерии Красной армии насчитывалось 2 истребительные дивизии, 15 истребительных бригад, 2 тяжелых истребительно-противотанковых полка, 168 истребительно-противотанковых полков, 1 истребительно-противотанковый дивизион.
Усовершенствование системы советской противотанковой обороны было отмечено противником. По итогам зимней кампании 1942–1943 гг. командир 17-й танковой дивизии писал 24 апреля 1943 года: «Тактика танков, которая принесла огромные успехи в 1939, 1940 и 1941-м, может быть оценена как устаревшая. Если сейчас еще возможно прорывать противотанковую оборону концентрацией танковых сил в нескольких волнах, следующих одна за другой, мы можем полагать исходя из опыта, что это приводит к большим потерям, чтоуже не может быть переносимо ситуацией с производством. Эти действия, часто работавшие с успехом, приводят к быстрому уменьшению танковых сил» (Jentz T. Panzertruppen. The Complete Guide to the creation and Combat Employment of Germany's Tank Force. 1939–1942. Atlegen: Schiffer Military History. 1996, p. 43).
Усовершенствованная система противотанковой обороны Красной армии получила у немцев наименование «пакфронт» (Pakfront). PAK – это немецкая аббревиатура для обозначения противотанкового орудия – Panzerabwehrkannone. Вместо линейного расположения орудий по обороняемому фронту в начале войны они объединялись группами под единым управлением. Это позволяло концентрировать на одной цели огонь нескольких орудий. Основой противотанковой обороны являлись противотанковые районы. Каждый противотанковый район состоял из отдельных противотанковых опорных пунктов (ПТОПов), находящихся в огневой связи друг с другом. «Находиться в огневой связи друг с другом» – означает возможность ведения соседними ПТОПами огня по одной цели. ПТОП насыщался всеми видами огневых средств. Основой огневой системы ПТОПа являлись 45-мм орудия, 76-мм полковые орудия, частично пушечные батареи дивизионной артиллерии и истребительно-противотанковые артиллерийские части. Каждым ПТОПом руководил комендант, назначенный из числа командиров артиллерийских частей, входивший в его состав. Как правило, комендантом назначался командир истребительно-противотанкового полка или дивизионного артиллерийского полка (командир артиллерийского дивизиона).
Очередным этапом в развитии советской противотанковой артиллерии стало введение на вооружение снарядов нового типа. Первой новинкой стал подкалиберный снаряд. Он представлял собой твердосплавный сердечник, вставленный в поддон катушечной формы из мягкой стали. Для улучшения аэродинамики этой конструкции сверху поддон закрывался баллистическим наконечником. Принцип его действия заключался в увеличении начальной скорости (за счет легкого корпуса-катушки) и увеличении поперечной нагрузки пробивающего броню элемента. Сердечник 45-мм снаряда имел диаметр 20 мм, 57-мм снаряда – 25 мм и 76-мм снаряда – 28 мм. При попадании снаряда в броню ее пробивал сердечник, а легкий поддон оставался снаружи. Сердечник в силу своих малых размеров не мог нести разрывного заряда. Однако напряжения, возникавшие в сердечнике при пробитии брони, часто приводили к его разрушению за броней и дроблению на раскаленные осколки, поражавшие экипаж и внутреннее оборудование танка.
Первым был разработан 45-мм подкалиберный снаряд. Он был разработан в феврале – марте 1942 года группой инженеров под руководством военинженера 1-го ранга И. Бурмистрова. На вооружение новый боеприпас был принят постановлением Государственного Комитета Обороны от 2 апреля 1942 года. К созданию нового снаряда подоспела модернизация «сорокапятки». В январе – марте 1942 года ОКБ завода № 172 спроектировало 45-мм противотанковую пушку с удлиненным стволом. В августе – сентябре 1942 года опытный образец прошел испытания и с апреля 1943 года был запущен в массовое производство. При дальности стрельбы 300 и 500 метров и угле встречи с броней 90 градусов 45-мм подкалиберный снаряд, выпущенный из новой пушки, пробивал 95 мм и 80 мм брони соответственно. Основным недостатком новых боеприпасов была их дороговизна за счет использования для изготовления сердечника дефицитного вольфрама. Сердечник изготавливался методом порошковой металлургии путем спекания карбида вольфрама. В связи с этим пришлось даже закупать вольфрам за границей – около 4000 тонн было получено в 1942 году из Китая.
Следующим этапом совершенствования боеприпасов стала разработка 76-мм и 57-мм подкалиберных снарядов. Они также были разработаны группой Бурмистрова и приняты на вооружение постановлениями Государственного Комитета Обороны № 3187 от 15 апреля и № 3429с от 26 мая 1943 года соответственно. 57-мм подкалиберный снаряд при начальной скорости 1270 м/с пробивал на дистанции 300 м 165 мм брони, а на дистанции 500 м – 145 мм брони. Это позволяло ему эффективно бороться с появившимися у немцев тяжелыми танками до самого конца войны. 76-мм подкалиберный снаряд пробивал на дальности 300 м 105 мм брони, а на дальности 500 м—90-мм брони. Такие характеристики позволяли противотанковым частям бороться с появившимися в 1943 году на поле боя немецкими тяжелыми танками «тигр». В первую очередь подкалиберные снаряды поступали именно в истребительно-противотанковые части.
Одним из неприятных сюрпризов 1941 года стало применение немцами кумулятивных боеприпасов. На подбитых танках обнаруживались пробоины с оплавленными краями, поэтому снаряды получили название «бронепрожигающих». Теоретически такого эффекта можно было достичь высокотемпературными термитными смесями. Они на тот момент уже применялись, например, для сварки рельсов в полевых условиях. Но попытка летом 1941 года воспроизвести «бронепрожигающий» снаряд по описанию его действия провалилась. Прожигание брони термитными шлаками проходило слишком медленно и не достигало нужного эффекта.
Ситуация изменилась, когда были захвачены немецкие кумулятивные боеприпасы. Сам по себе кумулятивный эффект был известен давно. Отмечалось, что выемка в заряде взрывчатого вещества, обращенная к преграде, облегчает пробивание этой преграды. Однако практическое применение этого эффекта для пробивания брони поначалу столкнулось с рядом непреодолимых препятствий. Изюминка была в облицовке выемки и взрывателе мгновенного действия. 23 мая 1942 года на Софринском полигоне были проведены испытания кумулятивного снаряда к 76-мм полковой пушке, разработанного на основе трофейного немецкого снаряда. По результатам испытаний 27 мая 1942 года новый снаряд был принят на вооружение. В 1942 году также был создан 122-мм кумулятивный снаряд, принятый на вооружение 15 мая 1943 года. Кумулятивные боеприпасы были средством повышения возможностей артиллерии, изначально не предназначенной для борьбы с танками. Вследствие короткого ствола 76-мм полковой пушки разогнать в нем бронебойный снаряд до высокой скорости было затруднительно.
Спасением в этом случае был не зависящий от начальной скорости снаряда кумулятивный эффект. 122-мм кумулятивные снаряды были средством самообороны дивизионных гаубиц. Кумулятивный снаряд к 76-мм полковому орудию имел более широкое применение. Особенно эффективными были полковушки в городском бою. Кумулятивные боеприпасы делали их тактическим аналогом послевоенных станковых гранатометов.
Звездным часом истребительно-противотанковой артиллерии стало сражение на Курской дуге летом 1943 года. На тот момент 76-мм «ратш-бумы» были основным орудием истребительно-противотанковых частей и соединений. «Сорокапятки» составляли около трети общего числа противотанковых орудий на Курской дуге. Длительная пауза в боевых действиях на фронте позволила улучшить состояние частей и соединений за счет поступления техники от промышленности и доукомплектования противотанковых полков личным составом. Истребительно-противотанковые полки были укомплектованы материальной частью и личным составом почти полностью (по материальной части – 93 %, по личному составу – до 92 %). Недостаточно было средств тяги (по количеству моторов на орудие вместо штатных 3,5 показатель колебался от 1,5 до 2,9), причем главным образом эти средства были представлены грузовыми автомобилями грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн, а тягачей и автомобилей повышенной проходимости типа «Виллис», «Додж» и «ГАЗ-64» не хватало. Маршал артиллерии Н.Н. Воронов в своем докладе по итогам Курской битвы даже утверждал, что от 30 до 40 % истребительно-противотанковых полков и бригад имели лишь конную тягу.
На советскую противотанковую оборону под Курском обрушились массированные удары танков, артиллерии и авиации противника. За счет оголения остальных участков фронта немцы собрали на северном и южном фасах Курского выступа крупные силы авиации. Одним из важнейших средств борьбы, с помощью которого немцы стремились добиться успеха, стало массированное применение танков новых типов. На южном фасе дуги действовали 200 «Пантер», около 100 «Тигров», на северном – 90 «Фердинандов» и 40 «Тигров». Позиции советской противотанковой артиллерии на Центральном фронте подвергались даже атакам радиоуправляемых танкеток «Боргвард».
Маршал Воронов писал: «В ходе боев немецкие танковые части применили в ряде случаев новую тактику… Их танки поддержки пехоты, пользуясь большой дальностью прямого выстрела, часто действовали как самоходная артиллерия, обстреливая с места с расстояния 500–600 м обнаружившие себя позиции наших огневых точек, оставаясь за пределами дальности поражения нашей ПТА. Практически все новые немецкие танки не побиваются в лоб существующей батальонной, полковой, дивизионной противотанковой артиллерией калибра 45-мм и 76-мм на дистанции действительного огня. Тяжелые танки «Тигр» оказались неуязвимы для орудий указанных типов. Имеющиеся подкалиберные 76-мм и 45-мм снаряды могут быть эффективны только против бортовой брони танка «Тигр» и лобовой брони новых немецких средних танков Т-3 и Т-4 лишь с малых дистанций (не свыше 200 м)» (Макаров М. Пронин А. Противотанковая артиллерия Красной армии. 1941–1945 гг. М.: Стратегия КМ, 2003. С. 67).
Следует сказать, что Н.Н. Воронов в своем докладе несколько сгустил краски. Командующий артиллерией 1-й танковой армии И.Ф. Фролов по итогам сражения на Курской дуге писал: «45-мм орудия в борьбе с танками противника являются достаточно эффективным средством – благодаря большой скорострельности, маневренности и наличию подкалиберных снарядов. Имеется целый ряд фактов, когда эти системы успешно вели борьбу и уничтожали танки Т-6 [т. е. Pz.Kpfw.VI «Тигр» – А.И.] (35 и 538 ИПТАП-ы)» (ЦАМО РФ, Ф.1ТА, оп.3070, д.164, л.22).
Новая матчасть к сражению на Курской дуге, можно сказать, не успела. Производство 57-мм противотанковых пушек ЗИС-2, выпускавшихся с мая 1941 года, было свернуто в ноябре 1941 года в связи с их дороговизной и избыточной бронепробиваемостью для условий начального периода войны. Появление у немцев тяжелых танков заставило восстановить производство ЗИС-2. Орудие было вновь принято на вооружение постановлением Государственного Комитета Обороны от 15 июня 1943 года под наименованием «57-мм противотанковая пушка образца 1943 года ЗИС-2». К началу сражения на Воронежском фронте не было ни одной части с ЗИС-2, а на Центральном фронте было всего четыре истребительно-противотанковых полка, вооруженных новой материальной частью. Считалось, что немцы нанесут главный удар на северном фасе Курского выступа, и поэтому именно Центральный фронт под командованием К.К. Рокоссовского получил полки с новыми орудиями. При недостатке новых орудий задача борьбы с танками противника ложилась на новые самоходки. Так, СУ-152, разработанная как средство поддержки пехоты, стала «зверобоем» и применялась против новых немецких танков.
Последним этапом эволюции противотанковой артиллерии Красной армии стало укрупнение ее частей и появление в составе противотанковой артиллерии самоходных орудий. К началу 1944 года в истребительно-противотанковые бригады были переформированы все истребительные дивизии и отдельные истребительные бригады общевойскового типа. На 1 января 1944 года в истребительно-противотанковой артиллерии числились 50 истребительно-противотанковых бригад и 141 истребительно-противотанковый полк. Приказом НКО № 0032 от 2 августа 1944 года в состав пятнадцати истребительно-противотанковых бригад вводилось по одному полку СУ-85 (21 САУ). Реально самоходные орудия получили только восемь бригад. В начале 1944 года также был утвержден штат отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона стрелковой дивизии в составе трех батарей по четыре СУ-76 в каждой. В качестве штабной машины в дивизионах часто использовались танки Т-70. Дивизионы самоходок были включены в состав нескольких десятков стрелковых и воздушно-десантных дивизий вместо отдельных истребительно-противотанковых дивизионов с буксируемыми пушками. Дивизионы САУ даже получали по наследству номер истребительно-противотанкового дивизиона соединения, в которое они включались.
На 1 января 1945 года в составе истребительно-противотанковой артиллерии числилось 56 истребительно-противотанковых бригад и 97 истребительно-противотанковых полков.
Один из последних докладов немецких танковых частей, отчет I-го батальона 24-го танкового полка, датированный январем 1945 года, гласит: «Противотанковые пушки являются основным противником танков на восточном театре военных действий. Русские используют противотанковые орудия массово в обороне или продуманным подтягиванием их за атакующими, чтобы быстро ввести их в дело. Термин «Pakfront» не отражает полностью условия боя, с которыми столкнулся батальон, поскольку противник использовал это оружие сосредоточенным в так называемых Paknest (противотанковые гнезда. – А.И.) для достижения фланкирования на дальних дистанциях. Иногда Paknest состоял из 6–7 противотанковых пушек на окружности всего в 50–60 метров. Вследствие превосходной маскировки и использования местности – иногда колеса были сняты с орудий для уменьшения их высоты – русские легко добивались внезапного открытия огня на средних и коротких дистанциях. Пропуская двигающиеся в первом эшелоне танки, они старались открыть огонь нам во фланг» (Jentz T. Panzertruppen. The Complete Guide to the creation and Combat Employment of Germany's Tank Force. 1939–1942. Atlegen: Schiffer Military History. 1996, P.223).
Немецкие танки стали одним из главных символов побед Германии в Польше 1939 года, Франции 1940 года, СССР в 1941–1942 годах. Основную тяжесть борьбы с танками вынесла противотанковая артиллерия. На ее долю приходится почти три четверти потерь танков во Второй мировой войне. Авиация, ручное противотанковое оружие и мины ответственны за единицы процентов потерь бронетехники. Хребет покорившим пол-Европы танковым войскам Германии сломали советские противотанкисты.
Ульянов Виталий Андреевич
Перед войной, окончив 6 классов киевской средней школы, я работал на заводе «Арсенал», который производил 45-мм орудия. Их устанавливали в башни танков Т-70, на подводных лодках, а также на лафет для использования в роли противотанкового орудия. Летом 1941 года завод эвакуировался в Воткинск, а вместе с ним уехал и я. В 1942 году на заводе родилась идея создать воинское подразделение, вооружить его сорокапятками и отправить на фронт. Руководство написало письмо Сталину, а вскоре была получена телеграмма от его имени, которая и сейчас хранится в музее завода, разрешающая сформировать дивизион за счет орудий, произведенных сверх плана. Через некоторое временя таких орудий оказалось 12, хотя глубоко убежден, что сверх плана выпустить что-либо было невозможно. План был очень жесткий, за его выполнение боролись всеми силами, стараясь работать в соответствии с лозунгом: «Все для фронта! Все для победы!» Как бы то ни было, но 174-й Отдельный артиллерийский истребительно-противотанковый дивизион имени Комсомола был создан. Запись в этот дивизион шла на добровольных началах. Среди добровольцев был и я со своим двоюродным братом Вилом. Поскольку желающих было много, то отбор личного состава проходил в горкоме комсомола.
Вил вышел из комнаты, в которой заседала комиссия. Я спрашиваю: «Виля, как?» – «Зайдешь, узнаешь». Вошел и оказался в большой комнате, посредине которой стоял табурет. На таких же табуретках вдоль стен сидели члены бюро райкома. В углу комнаты на единственном стуле сидел председатель. Я уселся посреди комнаты и начался опрос: «Как зовут? Год рождения?» И вот тут я соврал: прибавив себе годик, сказал, что с 24-го, хотя сам родился в 25-м. Опрос продолжался: «Кто твои родители? Где они находятся?..» Мне приходилось крутиться на этой табуретке, поскольку вопросы сыпались из разных углов. И вдруг кто-то сзади спросил: «А ты маму на фронте не позовешь?» Такой вопрос, брошенный в спину, мог задать только трус, который побоялся спросить в лицо. Я обернулся в ту сторону, откуда исходил вопрос, – у всех сосредоточенные лица, у некоторых даже с печатью интеллекта – и сказал: «Я не позову! А ты?!» Этот ответ решил дело в мою пользу, и меня зачислили в дивизион.
Однако председатель заводского комитета комсомола, хорошо знавшая меня и мою бабушку (матери у меня не было, а отец был на фронте), случайно узнала от нее, что мне еще только будет семнадцать лет. Буквально на следующий день после собеседования я не нашел своей фамилии в списках личного состава дивизиона. Я пошел искать правду в комитет комсомола. Несмотря на посыпавшиеся на меня обвинения во вранье, я начал доказывать, что мое присутствие на фронте необходимо для Победы, ведь без меня там не справятся. Когда я понял, что их не прошибить, я выложил свой последний козырь – сказал, что все равно убегу на фронт, но так бы я поехал с братом, а так придется ехать одному. Сработало! Они решили не связываться со мной и отпустить вместе с братом. Вот так я попал в дивизион.
Дивизион был трехбатарейного состава. Каждая батарея состояла из двух огневых взводов по два орудия в каждом. Кроме расчетов в батарее было 24 лошади и 12 ездовых, а также одна полуторка, на которой возили продукты. Учили нас в Воткинске, для чего набрали солдат-запасников. Мы располагались в здании школы и ходили строем в столовую. Люди собирались на нас посмотреть, ведь в строю шли их дети, друзья, знакомые, а наш старшина думал, что это пришли смотреть, как он командует, и измывался над нами, как мог… Обучение было недолгим, мне присвоили звание младший сержант, и я стал наводчиком орудия. Я помню, что в Кубинке на полигоне нам дали первый раз выстрелить бронебойным снарядом по закопанному танку. Я попал и с трудом упросил сделать еще один выстрел. Вскоре мы уже ехали в эшелоне, который прибыл на Воронежский фронт. Форсировали Дон, воевали вместе с танкистами за Кантемировку.
Первый бой… Как в песне поется: «Последний бой, он трудный самый…» Неправда! Самый трудный – первый бой, потому что еще ничего не знаешь. Знаешь, как на фронте считалось? Если в первом бою живой остался – молодец! Во втором бою – фронтовик! А после третьего – бывалый солдат! Уже все знаешь, где присесть, где прилечь, где пробежать, что съесть, а что оставить. Последний бой – самый страшный, ведь не хочется умереть в последнем бою, домой хочется…
Так вот первый бой… Как я узнал уже после войны, нас бросили затыкать прорыв группы Манштейна, которая шла на выручку Паулюсу. Мы снялись с занимаемых нами позиций и, совершив марш, к вечеру подошли к населенному пункту, не помню сейчас его название, находившемуся на пригорке. На его дальней окраине шла перестрелка, в низинке, в которую спускалась центральная улочка, было тихо и темно, только скрипели полозья да пофыркивали лошади, тянувшие в горку наши орудия, рядом с которыми шли их расчеты. Стало как-то жутковато. На пригорке нас встретил командир взвода младший лейтенант Курбатов. Показал на хату, крытую соломой, в конце улицы и сказал, что с ее крыши бьют снайпер и автоматчик. Мы отцепили пушку с передка и, скатившись с дороги, установили орудие возле колодца. Это было большой ошибкой, поскольку пространство вокруг колодца было покрыто ледяной коркой, образованной расплесканной из ведер водой. Я установил прицел «на осколочный», навел, выстрелил. Снаряд попал в стропила (если бы он попал в солому, то просто пролетел бы насквозь) и разворотил крышу. Больше с нее никто не стрелял. Некоторое время мы просидели за щитом орудия, не видя других целей, как вдруг впереди раздалась очередь. Я выглянул поверх щита. Горело несколько домов, отбрасывая на дорогу желтоватые блики. В свете пожаров я увидел впереди, метрах в двадцати пяти, немца в белом маскхалате, державшего в руках наперевес пулемет. Видимо, он поднялся осмотреться. Пока я наводил орудие, он уже опустился. Почему я долго наводил? Да потому, что при переходе на зимнюю смазку мы схалтурили и остатки летней смазки замерзли. Но я по тому месту, где он был, сделал два-три выстрела. В это время командир взвода Курбатов подал команду отходить. Как же так? Мы еще не навоевались, только чуть-чуть стрельнули, и отходить! Сидя схватились за станины, на попе ерзаем, а сдвинуть пушку не можем – ноги проскальзывают на льду. И тогда я выскочил за щит, на сторону немцев, и толкнул орудие, сдвинув его с наледи на утоптанный снег дороги. Пулеметная очередь, простучав по щиту, разбила коробку, в которую укладывался прицел (я еще выругался, ведь в ней был ключ от прицела), но меня не зацепила. Не дожидаясь, пока немцы еще раз откроют огонь, я нырнул за щит и вместе, сидя и упираясь ногами, мы смогли оттащить орудие. Когда почувствовали, что вокруг стало стихать, развернули орудие и покатили его по улице. За спиной мы услышали шум танка – рев двигателя и клацанье гусениц. Кто-то крикнул: «Слышу шум мотора!» Справа, метрах в десяти, стоял сарай, но до него еще надо было добраться по слегка влажному снегу глубиной выше колена. Вспомнился фильм «Александр Невский» и врезавшаяся в память фраза: «Помирай, где стоишь». Я так и сказал. Слава богу, на меня никто не обратил внимание. Расчет подхватил орудие и покатил. Однако нижний щиток, расположенный между колесами, стал загребать снег, и через полтора метра толкать пушку вперед стало невозможно – она встала перед ею же образованным снежным валом. Матчасть я знал отлично, даром что работал в отделе технического контроля. У меня было личное клеймо номер 183, и на многих частях этого орудия стояло именно оно. Я говорю: «Стойте!» Нагнулся, снял защелку и поднял щиток. Пушка пошла, а я был реабилитирован за свою выходку. Мы подкатили ее к сараю, развернули в сторону танка, который не замедлил появиться. Чуть впереди нас стоял дом, к которому собирали раненых. Проходя мимо них, было слышно, как они шутили и смеялись – они уже отвоевались, знали, что скоро их отправят в тыл. Танк развернулся поперек дороги напротив этого дома и начал их расстреливать из пулемета. Я навел орудие, выстрелил. Снаряд пролетел сантиметров на пятнадцать выше башни. Позже, анализируя свой промах, я пришел к выводу, что, когда я стрелял по дому и фрицу с пулеметом, я установил прицел «на осколочный», а тут я стрелял бронебойным, у которого начальная скорость в два раза больше и траектория полета другая. Я не сообразил изменить прицел! После выстрела, так как сошняки были не подкопаны, пушка отскочила назад. Второй выстрел! Тоже мимо! Танк развернулся. Идет на нас. Стреляет из пулеметов, пули бьют по щиту. Выстрелил из пушки, но не точно – мы были в низинке, и снаряд пролетел выше. Меня же после второго выстрела, поскольку сошники не были подкопаны, левым колесом прижало к сараю. Пришлось переступить через станину и наводить орудие по стволу.
В общем, только пятым снарядом с расстояния в десять метров я в него попал, и он загорелся. Я вскочил, руками машу, кричу: «Танк горит!!!» В это время из-за танка выбежали немцы в белых халатах и рванулись в противоположную от нас сторону через дорогу, за дом, и оттуда начали поливать нас из автоматов. А поскольку нижний щиток был поднят, меня ранило в правую ступню, а заряжающего Толю Шумилова в колено. Командир орудия Дыдочкин, которого до этого я не видел, скомандовал: «Отходите во двор». Мы отошли во двор и вбежали в сарай. Двери в нем не было, и я сел у притолоки напротив дверного проема. За мной в сарай вбежал Шумилов, а бежавший за ним Голицын был убит автоматной очередью у самого порога.
В дверной проем мне был виден стоявший метрах в тридцати круглый, сплетенный из ивовых прутьев курятник. Из-за него высунулся немец, начал что-то кричать. Я взял карабин у Толи Шумилова, поскольку мой остался на передке. И хотя я знал, что стрелять нельзя, чтобы не обозначить себя, но он так нагло кричал, что я не выдержал, прицелился и выстрелил. Немец клюнул носом. Второй, не соображая, подскочил к нему, подставив под мой второй выстрел спину. Из-за курятника начали стрелять. Я спрятался за притолоку. В перестрелке уложил еще двоих. Начал перезаряжать карабин, патрон перекосился, и я, вместо того, чтобы вытащить его, загнал в ствол, таким образом приведя карабин в небоеспособное состояние. Когда я понял, что с карабином мне не справиться, я поднял голову и увидел, что ко мне бегут два немца. Вдруг справа выскочил командир нашего орудия Дыдочкин, остановился перед сараем, начал ковыряться, достал гранату РГД, встряхнул ее, как градусник, и бросил немцам под ноги. Один из них нагнулся, наверное, решив бросить ее обратно, но граната взорвалась у него в руках, и они развалились в разные стороны. А Дыдочкин, пробежав мимо двери, скрылся. Мы решили спрятаться в сарае за железной бочкой. Толя еще как-то за ней поместился, а я нет. Во дворе немцы, что-то кричат… Вдруг в дверях появляется здоровый немец с автоматом.
Спрашивает: «Рус, люди есть?» Я думаю, сейчас Шумилов застонет – он стонал до этого – немец полоснет, и все, и кончатся мои денечки в этом чертовом сарае, но тут последовала команда и немец исчез. Через некоторое время немцы во двор притащили своих раненых, которых вскоре увезли. Бой стал затихать. Я говорю: «Толя, надо уходить». – «Надо, Витя. Пошли?» – «Пошли». Лежим, проходит некоторое время. Я говорю: «Пошли?» – «Пошли». Мы опять лежим. Когда я ему в третий раз сказал: «Ну, пошли». Он меня спросил: «Витя, ты куда ранен?» – «В ногу». – «В одну?» – «В одну». – «А я в две. Так что тебе идти первому». – «Хорошо». Выполз я из сарая, а поскольку был в шинели (ситцевый белый маскхалат был страшно неудобный, и мы его не надевали), решил для маскировки обваляться в снегу. Покатался по снегу – бесполезно. Шинели были добротными – никакой снег не приставал. Поняв всю бессмысленность затеи, встал на коленки и побрел. Добрался до курятника, в сторону убитых старался не смотреть – страшно. Повернул левее в сторону кирпичного здания, возле которого виднелась копна сена. Подле этой копны, в свете горящих построек села, я увидел сидящего старика. Одна женщина сидела перед ним на коленях, а вторая как маятник ходила неподалеку и стонала. Я спросил, что произошло. Оказалось, что эта семья сидела в погребе. Какой-то немец, подняв крышку люка, спросил: «Рус, люди есть?» Они ему снизу отвечают: «Е. Тут мирные жители». Он взял и бросил туда гранату. Старуху убило. Деда сильно ранило, а женщине, что ходила, покалечило грудь. Только одна осталась невредимой, а может, просто не почувствовала еще, находясь в шоке. Я у них спрашиваю: «Немцы впереди есть?» – «Е». – «А слева?» – «Есть». – «А сзади?» – «Есть. Они всюду». Тогда я их попросил переодеть меня в гражданскую одежду и спрятать, пока придут наши. На что получил в ответ: «Какое нам дело до вас?» Ну, подумал я, надо уходить, иначе сдадут. Кстати, Толя, которого я потом встретил в госпитале, рассказал, что, выждав с полчаса, он пополз по моему следу, и эти люди переодели его и скрывали у себя двое суток. Видно, совесть у них проснулась. А я скатился по склону бугра в низину, встал на колени, сделал несколько шагов. И вдруг совсем рядом раздался выстрел. Я кожей почувствовал, как рядом с головой пролетела пуля. Я мгновенно упал на правый бок и затих. Снег был глубокий и сыроватый. Слышу звук шагов: «Хрып, хрып». Тишина. На поясе у меня финский нож с деревянной ручкой, но я лежу на правой руке, могу его взять только левой рукой. А что я могу ею сделать? Решил притвориться убитым и ударить врага ножом в лицо, когда он нагнется, прекрасно понимая, что в моем положении пробить шинель или любую другую верхнюю одежду не удастся. Затаил дыхание, чтобы не шел пар, но мне все время казалось, что сердце стучит так громко, что его слышно за несколько метров. Опять заскрипел снег под ногами и… тишина: «Ты же должен подойти и нагнуться. Тогда у меня будет один-единственный шанс…» Опять заскрипел снег. По звуку я понял, что человек стоит и качается справа налево, пытаясь рассмотреть меня. Вдруг шаги стали удаляться. Кто это был? Я не знаю до сих пор, но я думаю, что это был не немец. Это был наш, и когда он увидел, что убил своего солдата, подходить не стал и ушел. А я остался лежать. Мне уже стало тепло, уютно, и я понял, что замерзаю. Тогда я резко поднялся на колени. Думаю: «Пусть стреляет!» Но выстрела не последовало, а я боялся оглянуться. На четвереньках по небольшому кустарнику я взобрался на противоположный склон лощины, по краю которого проходила дорога. Слышу, что-то скрипит, смотрю, показалась упряжка, тянущая 45-ку. Ездовые ведут под уздцы лошадей. Двое рядом с пушкой, и один сзади. Очень дисциплинированно и строго. Все наше, но солдаты в касках, а мы, пижоны, каски не носили: «Мы же не пехота!» Такой у нас был дурацкий кураж. И командира на нас не было, который бы заставил. Проехали они мимо меня. Когда я понял, что еще немножко, и они уйдут, тогда я изо всех сил, которые у меня были, крикнул: «Товарищи!!!» А сам бросился вправо. Ну как бросился? Куда я мог, истекающий кровью, броситься по глубокому снегу?! Прополз я немного, наверное, метра два, а может быть, и меньше. Слышу окрик: «Кто там?» И когда я его услышал и понял: «НАШИ!», силы оставили меня. Я не мог не то что еще раз крикнуть – пошевелиться не мог. Они остановились, побежали, увидели кровавый след, тянувшийся за мной, и меня вытащили. Это был расчет из взвода лейтенанта Боу. Меня положили на станину и доставили в госпиталь.
За этот бой я, первым из дивизиона, был награжден медалью «За Отвагу».
После госпиталя меня направили в запасной полк. По дороге мы с товарищем решили, что нечего нам в этом полку делать, и пересели во встречный эшелон, шедший на фронт. Правда, старший нашей группы нам сказал: «Я вам документы не дам. Считайте, что вы дезертировали». Но нам было все равно – нам хотелось на фронт. По пути я своего приятеля как-то потерял. Ну а когда приехали под Воронеж, где формировалась часть, меня никто не спрашивал, как я оказался в эшелоне. Только спросили мою воинскую специальность и тут же определили наводчиком во взвод противотанковых пушек 1-го батальона 280-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии. Командиром моего орудия был старший сержант Коробейников – мужик, примерно вдвое старше меня. До войны он работал в МТС, прошел Сталинград. Подносчик Максим Строгов – москвич, жил на Стромынке, до войны был таксистом и, насколько я помню, успел отсидеть немножко за хулиганство. Заряжающим был мой погодок Юра Воробьев, так же как и я имевший опыт боев.
В апреле 1943 года нас перебросили в район Корочи. Разместились мы в небольшом лесу. Наметили и оборудовали на опушках огневые позиции. Через несколько дней поступил приказ – подготовить ломы, кирки, лопаты, промыть и наполнить свежей водой фляги. На следующий вечер наш взвод под командованием лейтенанта Сердюка, оставив на месте четырех часовых, выступил к месту проведения работ. Шли в темноте. Нас предупредили, чтобы мы не курили и громко не разговаривали. Через какое-то время (часов ни у кого не было) нас встретил офицер и повел за собой. Когда пришли на место, он показал на вбитые в землю колышки, трассировку и сказал:
– Это огневая позиция с укрытием для 45-мм орудия. Работы необходимо закончить до рассвета. Позицию замаскировать и ждать. За вами придут.
Как оборудовалась позиция для «сорокапятки»? Отрывался круг диаметром примерно метра три и глубиной 40–50 сантиметров, вокруг которого из выкопанной земли насыпался бруствер. Впереди позиции делалась ниша для орудия, перекрытая бревнами, в которую в случае обстрела или бомбежки закатывалось орудие. Слева от орудия отрывалась ячейка командира орудия, а чуть сзади ровик для снарядных ящиков. Справа от пушки отрывался ровик для орудийного расчета.
Работа была тяжелой. Землю мы долбили кирками (их было две) и подчищали лопатами. Перерывов не делали: только подменяли друг друга, чтобы передохнуть. К рассвету мы успели, и когда пришел офицер, мы уже покуривали, укрывшись плащ-палатками. Он осмотрел все, что мы сделали, сказал «молодцы» и показал, куда нам следовало идти. В указанном месте сбора нас проверили, и мы двинулись в обратный путь. К себе вернулись, когда солнце взошло. Получили завтрак и до обеда спали. С наступлением темноты – снова вперед. Так мы ходили неоднократно: готовили огневые позиции для противотанковой артиллерии, рыли окопы. Когда освоились, увидели, что на параллельных курсах туда и обратно движутся колонны по одному или два человека в ряд. В лунном свете поблескивали лопаты в положении «на плечо». Оказывается, подобных нам «землекопов» было предостаточно. Готовили вторую полосу обороны.
По окончании работ готовились сами: отрабатывали действия по приведению орудия к бою, производили выверку орудия. На стрельбы уходили подальше в тыл, в глубокие балки. Нашими целями были макеты немецких танков и самоходок. Кроме того, изучали по цветным памяткам, сложенным «гармошкой», уязвимые места немецкой бронетехники. Готовились хорошо.
В ночь на 5 июля, в той стороне, где находились Короча и Белгород, на небе заиграли сполохи зарниц, послышался гул, похожий то ли на гром, то ли на артиллерийскую стрельбу. Утром нам приказали готовиться к маршу, и вскоре мы уже стояли в колонне, прижавшись к опушке леса. Подъехали машины, из которых вышла группа людей. К нам приблизились два генерала в красивой форме и еще несколько военных. Они сказали, что началось сражение, что нам тоже придется принимать в нем участие. Потом они спросили нас:
– Знаете ли вы, что у немцев появились «тигры», «пантеры», «фердинанды»?
– Знаем! – ответили мы.
– А уязвимые места, куда их надо поражать?
– Тоже знаем!
Командующий армии и член военного совета (мы вычислили их статус из разговора генералов и офицеров между собой) выступили, выразили уверенность, что мы не дрогнем перед танками, уверяли нас, что мы на поле боя будем не одни.
Тут командир орудия Коробейников заявил:
– Когда пойдут танки, я сам встану за прицел.
Я парировал словами:
– Если во время боя кто-либо сунется к прицелу – застрелю! Один из генералов нас остановил:
– Ну зачем же так! Нужно доверять друг другу. А танков в бою на всех хватит.
Пожелав нам успеха, генералы уехали, а минут через 30–40 мы пошли и к рассвету уже устраивались на огневой позиции, может быть, даже на одной из тех, которые тогда ночью сами и оборудовали.
Мы расположились на северном скате большой лощины, обращенном к немцам. Внизу в лощине и на обращенном к нам, более низком, южном скате никого не было видно. Противоположный скат лощины плавно переходил в ровную, как стол, степь, просматривавшуюся на многие километры. На левом фланге, далеко в лощине, чернел лес. Перед ним, на опушке, была развернута батарея 76-мм пушек. Справа и сзади от нас находилась посадка, в которой расположились наши тыловые службы. Если говорить о нашей позиции, то она была неудачная. Конечно, заметить нас было сложно, поскольку позиции были хорошо замаскированы, но после открытия огня мы были лишены возможности маневрировать, так как катить орудие по склону на виду у противника было равноценно гибели. Готовясь к бою, мы расположились у своего орудия. Открыли крышки снарядных ящиков, протерли и уложили снаряды, в том числе и подкалиберные, поступившие к нам недавно. Завершив все приготовления, мы осмотрелись. Тогда-то я и увидел впервые бой, как говорят, со стороны. На батарею 76-мм пушек шло примерно двадцать немецких танков. Мое внимание привлекла вот какая деталь. Когда в идущий танк попадал снаряд, он останавливался. Но следовавший за ним танк тоже останавливался, не делая при этом никаких попыток объехать препятствие. Оба танка стояли как вкопанные! Еще одно наблюдение. Когда танк второго ряда загорался, он еще некоторое время продолжал двигаться, а потом вдруг рассыпался на глазах. И мы поняли, что немцы в целях устрашения пошли на хитрость. Они создавали видимость большого числа машин, прицепляя к настоящему танку еще и деревянный макет! Иначе мы никак не могли объяснить себе увиденные странности. Бой закончился тем, что немецкие танки отступили.
Ночью в лощине разгорелся бой, в котором участвовала наша пехота. Мы ничего не могли рассмотреть, потому что склон, на котором мы стояли, скрывал ближнюю к нам часть лощины. Когда рассвело, Отрогов и Воробьев сходили туда и потом рассказали, что там было несколько немецких автомашин. По-видимому, немцы шли без разведки и неожиданно напоролись на наших, которые, кстати, тоже не отличились особой бдительностью. Ребята принесли автомобильное сиденье, которое пристроил в свой окоп командир орудия Коробейников.
На рассвете приехала кухня, привезла завтрак. В термосе был гороховый суп с американской колбасой. Мы ели, сидя в укрытии для орудия, оставив Максима Строгова наверху в качестве наблюдателя. Вдруг он сказал:
– Танки появились!
– Ну, сколько?
Он начал считать:
– Один, два, три…
Мы поняли: раз он так считает, значит, на горизонте все время появляются новые бронемашины. Когда Максим дошел до тридцати, он выматерился и воскликнул:
– Да сколько их!
Мы высунулись из укрытия. Танки были видны как на ладони. Казалось, что ими был занят весь горизонт. Утро было солнечным, и над степью стояло марево. «Тигры» и «пантеры» беззвучно будто бы плыли в этом мареве: четко выделялись стволы, антенны. Между большими, похожими на корабли, танками сновали маленькие, по сравнению с ними, легкие танки. Вся эта армада перла на нас. Считать мы их не стали – это было бесполезно.
Мы ничего не говорили, и так было понятно, что будет жарко и вряд ли нам удастся уцелеть. Танки приблизились к нам метров на восемьсот. Коробейников приказал:
– Огонь!
Я говорю:
– Рано!
– Огонь!
– Рано!
Я знал, что мы им ничего не сделаем. Пушка была заряжена подкалиберным снарядом, который неэффективен на такой дистанции. Коробейников потянулся за автоматом, как бы напоминая, что может принять ко мне какие-то меры. И опять скомандовал:
– Прицел 5!
Это значит, что он определил расстояние в 500 метров. Я понимал, что если поспешить с открытием огня, то только обнаружишь себя раньше времени. И еще одна мысль промелькнула в тот момент. «Почему никто не стреляет? Что, никого нет? Когда начнут?» Мне пришлось подчиниться: навел и выстрелил. Снаряд попал в танк. В месте попадания поднялось облачко пыли. Коробейников скомандовал:
– Второй!
Я выпустил второй снаряд, тоже попал. Пятьсот метров – небольшое расстояние. Опять возникло облачко. Это уже я потом узнал, что немцы покрывали танки антимагнитным составом. А тогда я только удивился.
Танки огонь не открывали. Еще было тихо. Приблизившись к противоположному краю лощины, они не пошли на нас. Часть танков свернула вправо, а часть ушла в левую сторону, где была дорога. Возможно, немецкие танкисты оценили крутизну подъема, ведущего к нашей позиции, и поняли, что преодолеть его им не удастся. Поэтому начали расходиться веером в разные стороны. А потом, если бы они начали подниматься, они бы подставили нам днище. Они же не глупые были.
…И тут началось. Заработала артиллерия. Появились самолеты – наши и немецкие. Они летали над полем боя на невероятно малой высоте. Наши самолеты проносились над немецкими танками, расстреливая их огнем реактивных снарядов и сбрасывая небольшие бомбы. Немецкие же самолеты прижимали нас к земле пушечным и пулеметным огнем. Все грохотало, стреляло и взрывалось. Правильно говорят: «Земля встала дыбом». Танки, ведя огонь, обтекали нас справа и слева. Они преодолели лощину и скрылись за рощей – там, где раньше стояли кухни. Зайдя за рощу, они развернулись и пошли на нас справа. Видимо, решив незаметно выйти на нас сбоку на близком расстоянии. Если бы это у них получилось, то я не уверен, что мы смогли бы быстро развернуться и встретить их огнем. Но они немножко промахнулись. Это на учениях все экипажи действуют слаженно, все отработано до мелочей.
Я не помню, кто крикнул:
– Танки справа!
Я повернулся и увидел: ниже нас справа идут три «пантеры», с направленными вперед стволами. Нас они не видят, иначе бы развернулись для стрельбы. Они шли как бы уступом, один – впереди. Расстояние до них было метров 40–50, и я видел каждую заклепочку на их корпусах, каждый шов. Я был совершенно спокоен, как сейчас, когда мы с тобой сидим и разговариваем.
Первый танк, который шел впереди всех, вошел в поле зрения прицела башней, и как только он закрыл собой перекрестие, я выстрелил. Снаряд попал в башню. Я это видел четко. Танк не остановился. На той же скорости он продолжил движение влево по склону. Я понял, что броню его не пробил. Я посмотрел вправо. Шли еще два: один ближе, второй сзади и чуть ниже по склону. Я затаился за орудием, зная, что нужно навести в борт. И как только эта часть танка вошла в прицел, я выстрелил. Танк остановился не сразу. Немного прошел влево от нас и загорелся. Из его нутра пыхнуло огнем. Второй танк подошел поближе. От него пахнуло жаром. Я выстрелил ему в башню. Он дернулся и встал напротив нашего орудия. Я понял, что не пробил. Его башня стала медленно поворачиваться в нашу сторону. Я крикнул: «Юра, давай!» Лязгнул затвор. Надо опустить ствол орудия, а я не могу! Опять выстрелил в башню. Почему я так сделал? Не знаю… Наверное, потому, что она занимала все поле прицела. Я успел сделать несколько выстрелов: наводил и стрелял в башню автоматически. Я не мог заставить себя опустить ствол ниже, чтобы попасть в борт. Я еще раз повторяю, что страха в этот момент я не испытывал. Я был целиком поглощен задачей уничтожения этого танка. Танк выстрелил. Снаряд прошел над нами. Стрелял он бронебойным. Сзади нас были сложены термосы и шинели: все это полетело в воздух.
После первого выстрела немецкого танка мы забежали в ровик. А немец остался на месте. Через некоторое время мы подползли к пушке, зарядили ее. В прицел я видел боковую часть его ствола: «Раз вижу ствол, значит, снаряд пройдет мимо». Я опять выстрелил в башню танка и спрятался в ровик. Танк выстрелил – мимо. Так я успел сделать три выстрела. Когда снова вылез и посмотрел в прицел – боковой части ствола видно не было. Черное жерло уставилось прямо на меня. Я немного довел перекрестие прицела в это жерло – и выстрелил. Потом – провал. Когда я очнулся и привстал (а я лежал на спине), орудие мое было опрокинуто на бок, левого колеса не было. На том месте, где стоял я, лежали мой автомат, противотанковая и обычная гранаты, зияла воронка. Справа от меня в самых разных позах лежали Строгов и Воробьев. Слева в ровике, спиной кверху, затих командир орудия Коробейников. Голова его была повернута, и он будто бы смотрел на меня. Когда я пришел в себя, то понял, что вижу только правым глазом. Провел рукой по левому. Увидел на пальцах серое вещество – мозги. Боли я не чувствовал и ничего не соображал. Еще раз протер глаз. Он стал видеть. Я Коробейникову сказал: «Танки подбиты». А он молчит. Я его взял за плечо. А у него голова крутанулась и оторвалась от тела. Ровик, в котором он находился, из которого смотрел на поле боя и подавал команды «В укрытие!», «К орудию!», находился меньше чем в метре и точно напротив колеса. Болванка, которой стрелял немецкий танк, попала в коробку подрессоривания, отбила ее вместе с колесом и разметала все, что находилось рядом. Эти части орудия, мой автомат и две гранаты могли его смертельно ранить, снеся ему полчерепа.
Я выглянул с опаской. Первый танк, пройдя чуть левее по склону, стоял неподвижно. Кто его добил, я не знаю. Второй жарко горел, третий стоял с опущенным и развороченным стволом. Экипажа этого танка не было. Люк башни был открыт. Других немецких танков тоже не было, а бой шел уже позади нас.
Ребята начали приходить в себя. Юра был ранен в шею, с левой стороны, под левую подмышку и в левую ногу. Я всего себя ощупал, вроде не задело. Цел был и Максим Строгов. Надо было уходить.
Юра идти не мог. Я сказал:
– Я понесу тебя на себе.
Хоть и было жарко, но надел на себя шинель – не бросать же казенное имущество. Надели шинель и на Юру. Строгов сказал:
– Я уйду вправо. Там, знаю, могут быть наши санитары. Ияих найду и отправлю к вам.
Я встал на четвереньки, повесил на шею автомат. Юра с помощью Строгова взобрался на меня, и я на четвереньках начал с ним передвигаться. Передвигались медленно, шинель лезла под колени, мешала. Мы ползли напрямую по полю, через гребень. Юра помогал мне правой рукой. Вдруг слева появилась машина с немцами, которая шла в том же направлении, что и мы. Немцы нас заметили. Начали стрелять, но ни меня, ни Юру не зацепило. Пуля лишь пробила ремень автомата. Машина остановилась, и несколько немцев спрыгнули с нее и побежали в нашу сторону. Мы затаились. Вдруг раздался взрыв, послышались крики. Потом возникла какая-то суета. Видимо, немцы собирали своих раненых. Вскоре машина уехала. Когда я осмотрелся, то увидел табличку: «Мины». Оказывается, немцы напоролись на наше минное поле. Было ли заминировано все поле или только у дороги, я не знаю. Повезло, что немцам было не до нас. Теперь мы стали ползти осторожно, внимательно осматриваясь. Так мы переползли через гребень. Спустились вниз и забрались в какой-то блиндаж. Юра, поскольку идти не мог, попросил оставить его в блиндаже. Сам же я вышел на проходившую неподалеку дорогу. Пройдя немного по ней, я наткнулся на штаб батальона. Начальник штаба спросил:
– Где орудие?
– Орудие разбито, а Воробьева я оставил вон там. Строгов пошел к вам.
Мне сказали, что Строгов уже здесь был. Я хотел объяснить, как найти Воробьева, и показать место. Но мне сказали, что туда ходить не надо, так как за Воробьевым пошли. Потом мои родные, проживавшие в Воткинске, получили от Воробьева письмо, которое, к сожалению, было утеряно.
Мы начали отходить группой и видели, как по ходу нашего движения, в лощине слева, от танка пыталась уйти упряжка с 76-мм пушкой, однако была раздавлена вместе с расчетом. Нас накрыл огонь артиллерии, и снаряды начали рваться совсем близко. Был ранен начальник штаба батальона, и мы с шага перешли на бег, перемещаясь от укрытия к укрытию. Прятались за домами и деревьями, в кюветах вдоль дороги.
Я не стану перечислять всего, что видел. Но будучи потом еще в боях, говорю: отступление – тягостное и страшное дело. Люди становятся не похожи на людей, бегут, готовые растоптать, убить один другого. Лучше месяц наступать, чем вот так несколько часов бежать. А мы бежали километров 15–20. Потом остановились и вернулись обратно.
«Сорокапятки» не было. Командир орудия Коробейников убит. Раненого Юру Воробьева отправили в медсанбат. Мы с заряжающим Максимом Строговым на время прибились к минометчикам. В течение всего следующего дня я подносил мины на огневую позицию. А еще через день я уже командовал отделением во взводе разведки. Командиром взвода был младший лейтенант Беляев Лаврентий Семенович, 1911 года рождения, коммунист, храбрый человек и опытнейший разведчик, впоследствии Герой Советского Союза. У него было чему поучиться. Один раз я был с ним в разведывательном поиске. Ночью вышли на немецкий наблюдательный пункт, взяли документы, три пулемета, автоматы. Все доставили в штаб. Потерь с нашей стороны не было.
Вскоре я уже командовал, как мне кажется, остатками полка.
Случилось так, что после одного боя мы остановились на ночь в овраге. Нас было человек 60–70. В сумерках на этот овраг вышли немцы и сверху открыли огонь. Их было человек 15–20. Отстреливаясь, мы выскочили наверх. С криком: «За Родину! За Сталина!» и матом – бросились на немцев. Не ожидая, что в овраге окажется столько русских, они побежали. Мы гнались за ними, стреляя, что-то крича и ругаясь. В этом крике было все: и страх, который еще не прошел, и обида, и злость, и вина, что так получилось, что погибли товарищи, а мы, бежавшие, чудом остались живы.
Я тоже бежал с винтовкой – и не стрелял. Я хотел догнать хотя бы одного немца и ткнуть его штыком. Мне казалось, что если я его убью выстрелом, то это слишком малая плата за пережитое, за товарищей, погибших в овраге. Что это было, я не знаю. Гнали мы их недолго. Они добежали до своих окопов, из которых нас начали обстреливать находившиеся там немцы.
Мы остановились, легли на землю. Лопат не было, копать было нечем. Я залег в старую танковую колею и попытался спрятать в ней хотя бы голову. Это было инстинктивное желание. Я помню, что не боялся смерти. Страшно было то, что я перестану быть солдатом, бойцом. Еще я помню, боялся попасть в плен.
Итак, я залег в танковый след. Попытался спрятать голову. Достал из мешка баночку с американской колбасой. Открыл ее, вынул и во что-то завернул колбасу, а баночкой начал ковырять землю. Но она не ковырялась. До меня почему-то тогда не доходило, что земля уплотнена танком. Другие тоже нашли какие-то подручные средства: копали ножами, углубляли свои «укрытия».
Так мы «укреплялись», пока не стемнело. Когда стемнело, мне доложили, что есть несколько саперных лопат. Я приказал копать ячейки для стрельбы лежа, передавая лопатку соседу. На душе повеселело: окопаемся – выстоим. Немцы, понимая это, пошли в атаку. Их заметили на фоне чуть более светлого западного неба. Кто-то из солдат закричал:
– Немцы идут!
Поднялась стрельба. Стреляли все без какой-либо команды. Со стороны наступавших слышались крики и ругань на русском и немецком языках. Враг подошел к нам почти вплотную. Вот тут было страшно. Тем более что у нас частенько раздавались крики: «Командир! Винтовка не стреляет!» Многие наши солдаты, находившиеся в свежевыкопанных ячейках, побросали обоймы на землю, а потом пытались загнать в патронник патроны, перепачканные землей. Тем не менее хоть и с большим трудом, но мы отбили ту атаку. Что было делать? После боя я нашел у солдат масленку, индивидуальный пакет и обошел всех. Всем представился. Каждому давал кусочек бинта и ваты. И каждый при мне протирал и смазывал патронник маслом. Одновременно я потребовал подготовить место для патронов и гранат, выкопать для них ячейку, накрыть землю плащ-палаткой.
Нас было всего двадцать два человека. Мы были вооружены нашими винтовками, немецкими и нашими автоматами и патронами к ним, противотанковым ружьем с несколькими патронами, пулеметом Дегтярева. Немцы ходили в атаку, как по расписанию, – два раза в день: утром и вечером. Причем по тому, как они шли, было видно, что делали они это без особого энтузиазма, явно не надеясь на успех. Когда немецкие цепи появлялись вновь, мы все стреляли по ним из винтовок. Стреляли плохо и неэффективно. Когда немцы подходили ближе, я командовал:
– Автоматы, огонь!
Разница между одиночным и автоматным огнем огромна. Немцы тут же откатывались, а мы прекращали стрельбу: экономили патроны. К тому же не было продовольствия, и мне, как командиру, приходилось принимать нелегкие решения: «Кто пойдет за пищей, кого послать?» Время приезда кухни и немецкие атаки почти совпадали. Вот и думай, кого посылать на кухню, а кого оставить для боя. Нужно, чтобы бойцы и пищу принесли вовремя, и заняли свое место в окопе, если идет бой.
Иногда один или два солдата не выдерживали напора немецких атак и оставляли свои позиции. Приходилось стрелять им вслед, чтобы остановить. Один солдат не подчинился и ушел, но его остановили сзади нас в овраге и вернули на позиции. Тогда мы и узнали, что за нами все же кто-то есть.
На второй день поступило пополнение. Прислали девять человек – ездовых и поваров из хозяйственного взвода, неопытных, необстрелянных. Они принесли с собой банки с колбасой и всех подкормили. Но самое главное – они принесли лопаты. Я приказал отрывать окопы в полный рост, передавая лопаты друг другу, как эстафету.
Закончив рытье окопов, мы соединили их ходом сообщения – траншеей. У нас получилась оборудованная по всем пехотным правилам позиция. Я же остался в ячейке для стрельбы лежа, к которой с двух сторон подходил ход сообщения. Помочь мне не догадались, а заставить кого-то даже мысли не появилось.
Вскоре появился немецкий легкий танк и начал ходить перед нашими траншеями, пытаясь вызвать огонь на себя, обнаружить расположение наших пулеметов. Один из вновь прибывших выскочил из окопа. Снаряд малокалиберной танковой пушки попал ему в левую руку, перебив ее. Он достал нож, подошел к товарищу, попросил: «Подержи». Тот оттянул болтающуюся часть, этот перерезал сухожилие. На культю ему наложили жгут, обрубок он сунул за пазуху, со всеми попрощался и пошел в тыл, радостный, сияющий, довольный – жив остался! Не знаю, дошел он, не дошел – кровь из руки хлестала, – но он пошел радостный.
Помню, еще по вечерам как обстрел начинается, видно, как из окопов руки-ноги торчат. Многие надеялись таким образом уйти от войны. Конечно, не все, но не все и на амбразуру бросались, на таран шли. Люди есть люди. Вот, например, мой командир взвода «сорокапяток» младший лейтенант Сердюк. Где он во время того боя с «пантерами» был, я не знаю, но жив остался. В какой-то момент мы пошли вместе с ним на передовую, как простые пехотинцы, и он сбежал. Шли вдоль кукурузного поля. Стоял жуткий трупный запах. Он мне говорит: «Ты тут постой». – «Я подожду». Автомат на плечо и жду, а солнце печет. Простоял я несколько часов, но так его и не дождался. Прошло некоторое время, бои уже закончились. Меня как-то спрашивают: «А как ты остался жив? Твой взводный Сердюк сказал, что между вами разорвался снаряд, его контузило, а ты упал. Он не знает, ты жив или нет». Я говорю: «А где вы его видели?» – «Он пришел, весь трясется, контуженный. Его увезли в тыл, в госпиталь». Кончилась война, я уже стал комбатом. Однажды нас собрали у командира дивизии на совещание. Когда оно началось, пришел офицер и что-то сказал комдиву. Тот встал и говорит: «Товарищи, нас, меня и начальника политотдела, приглашают в горком партии по серьезному вопросу. Совещание продолжит командующий артиллерией дивизии полковник Сердюк». Встает высокий такой полковник и начинает говорить. Как только он начал говорить, я понял: «Боже мой, это же мой Сердюк, мой командир взвода!» Так глупо никто больше не мог говорить. Это же ужас был! Приехал с этого совещания, пошел к командиру полка и рассказал, что за птица этот Сердюк, как он сбежал, а сейчас у него на груди куча колодок, указания дает, здоровый такой, холеный. Попросил разобраться, посмотреть его личное дело, где он потом воевал. Прошло какое-то время я спрашиваю: «Ну что?» – «Разбираются». Прошло еще 10 дней. Я спрашиваю: «Ну что с Сердюком, разобрались?» – «А он уехал в Германию». Спрятали его. Вот и вся мораль… и вся честь.
Несколько дней мы держали свой рубеж. Однажды после отбитой атаки я заснул ночью в своей ячейке, не ужиная. Не знаю, отчего я проснулся, но, когда я увидел над собой несколько чужих человек, меня охватил ужас. Попался немцам или власовцам! Начал шарить в темноте, пытаясь найти оружие, но под рукой его не было. Но, слава богу, командир представился. Оказалось, это пришла смена – люди из подразделений 89-й дивизии. Он попросил обрисовать обстановку, что и как. Я все рассказал и показал тот рубеж, который мы занимали. Мне сказали:
– Строй своих и веди их вниз, в овраг. Там тебе скажут, куда идти.
Попросили меня оставить противотанковое ружье и пулемет. Я сказал, что патроны к ним почти закончились, но у них были свои, а вот оружия не хватало. Сначала я узнал, смогу ли отчитаться за оружие. Они успокоили, и мы отправились в тыл на перевооружение и отдых.
После летних боев 1943 года 1-й батальон 92-й Гвардейской стрелковой дивизии, 280-го Гвардейского стрелкового полка, в котором я служил, пополнили. В мой взвод, который в батальоне, видать, из-за моего норова, называли «дикая ПТО», пришли ребята из Барнаульского пехотного училища. С собой они принесли новую песню: «Я по свету немало хаживал…», которая нам очень понравилась. Когда полк в сентябре совершал марш от Харькова к Днепру, в первую же ночь мы ее запели. Мы шли и пели, а вернее орали. Что с нас взять? – молодые же были. К тому же мы чувствовали, что у нас здорово получается. Когда песня кончалась, мы запевали ее вновь, и буквально через двадцать минут наш взвод окружила толпа солдат. Народ все подходил, выравнивал свой шаг вровень с нашим и слушал песню, пока не вмешались командиры и не отправили всех в свои подразделения, установив, по сколько человек и в какое время могут идти с нами и петь. Вскоре песню перенял весь полк.
Почему я командовал взводом, не будучи офицером? Потому что я отказывался, я не хотел быть офицером. Я лежал в госпитале и видел такую картину. Раненого солдата или сержанта выписывают домой на шесть месяцев с перекомиссией. Он едет к себе домой, через шесть месяцев он должен прийти на комиссию, а там, может, его отправят в армию. Во-первых, он это время живет дома. Во-вторых, он может пойти на работу и получить бронь. А офицер в военкомат и в ОПРОС или еще куда-то в «пожарную команду». Офицеров домой не отпускали. Я что, храбрее других, что ли? Я тоже хотел, в случае ранения, уехать домой.
Марш к Днепру был очень тяжелым. Он начинался вечером, как только немного смеркалось, и продолжался до рассвета, а то и до середины дня. За ночь мы в своих ботинках с обмотками проходили по 40 километров. Мы шли по дороге, разбитой нашими ногами и конными повозками в мельчайшую пыль, оседавшую на одежде, мешавшую дышать. Через несколько дней пошли дожди, превратившие эту пыль в непролазную грязь, каждый шаг по которой давался с огромным трудом. На промокших, выбивающихся из сил лошадей и людей жалко было смотреть. Вскоре мы не только перестали петь, но нам запретили курить и громко разговаривать. Так мы и шли молча, только бряцали котелки и оружие. Кто-то в рукав курил самокрутку, на него шикали, ругались, что он демаскирует колонну. Грязь налипала на повозки, образуя огромные комья возле ступиц колес. Солдаты согнулись под тяжестью мокрых шинелей и амуниции. Я не представляю, как расчеты станковых пулеметов или 82-мм минометов могли нести не только личное оружие и вещи, но и тяжеленные плиты или стволы минометов, станки и тела пулеметов по этой грязи! Впрочем, и у нас, артиллеристов, даже мысли не возникало облегчить свою ношу и положить карабин или вещмешок на передок или станины орудий – лошадей было жалко. Я, помню, шел за орудием, сцепив пальцы рук над обрезом ствола орудия и положив на них подбородок, спал на ходу. Некоторые, уснув, сбивались с дороги и падали в придорожные кюветы. Упадет такой воин, вскочит и начинает метаться от страха, не понимая, что произошло, где его подразделение.
Кормили нас вечером и на рассвете. Вряд ли кто контролировал повара и ту бурду, которую он варил. Бывало, дадут чечевичный суп, а в котелке одна чечевица за другой летает – ни мяса, ничего. На орудие давали буханку хлеба, которую веревочкой старались разрезать на равные части, по числу человек. Один отворачивался, другой накрывал ладонью порцию и спрашивал: «Кому?», а отвернувшийся называл фамилию. А ты в это время глотаешь слюну и мечтаешь о том, чтобы тебе досталась горбушка – в ней больше хлеба. Правда, один раз нам сварили рисовую кашу с молоком. Если кому-то из фронтовиков сказать – не поверят. Я такой белой, вкусной каши никогда больше не ел. Как она пахла!
Днем устраивали привал в населенных пунктах или перелесках. Все спали мертвецким сном. Немцев поблизости не было, да и авиация их не появлялась. Только однажды утром, мы еще шли мимо каких-то садиков, низко над ним и вдоль нашей колонны пронесся, сверкая на солнце, двухмоторный самолет. Я разглядел нарисованного на носу дракона и летчика, грозившего нам кулаком. Мои солдаты говорят: «Командир, чего у тебя лицо белое?» – «Ничего. Рубанул бы он по нам, мы бы тут все легли». Повезло. Он прошелся, сделал вираж и ушел, ни разу не выстрелив. Может, патронов не было, а может, выполнял более важное задание. Стрелять из винтовок начали только ему вслед. Видать, не я один испугался…
Чем ближе подходили к Днепру, тем чаще встречали разрушенные села, поваленные деревья. Немцы старались оголить левый берег, чтобы подходящие к реке войска не могли укрыться.
Помню, как вышли к реке. Я сам киевлянин, и роднее реки, чем Днепр, для меня нет. В детстве я переплывал его, но только в определенных местах, где течение могло вынести тебя на отмель противоположного берега. А в этот раз переплывать мне его пришлось трижды. Не от храбрости и не по собственному желанию. Числа 10–12 сентября личный состав полка выстроился на косогоре. Было пасмурно, промозгло и сыро. Шел мелкий и нудный дождь. К месту построения все шли как-то тихо, понуро, не слышно было разговоров, шуток и почти никто втихаря не курил. Бойцы в набухших от влаги тяжелых шинелях скользят, обмотки разматываются. В последнее время заметно увеличилось число построений и количество выступающих на них. Появились какие-то новые ораторы, которых я раньше не видел. Но в этот раз оказалось, что новый командир полка Плутахин, заменивший погибшего в летних боях, приехал для вручения наград личному составу. Что-то он говорил, я почти не слышал. Вдруг меня толкают: «Иди, тебя». – «Чего?» И тут слышу: «Младший сержант Ульянов к ордену Отечественной войны первой степени». Я в мокрой шинели иду по косогору. Подхожу, докладываю, что прибыл для получения награды, а командир полка вытянул руку перед собой и крутит орден, разглядывая его: «Какой красивый!» Я его рукой хвать: «Служу Советскому Союзу!» Повернулся и пошел в строй. Ребята по плечам хлопают, просят орден показать. Радостно, конечно! Настроение стало отличным. Все было хорошо.
Ночью пошли на марш. Ребятам я разрешал идти по сухой обочине, а сам, как уже говорил, шел за орудием. Пойми, мне было восемнадцать, я был самым молодым командиром взвода, а управлять приходилось людьми и в два раза меня старше. Все, что происходит во взводе, все зависит от командира взвода. Надо себя так поставить, чтобы солдаты знали, что ты за хорошее похвалишь, за плохое взыщешь, что ты не поощряешь доносы и не любишь «сачков». Взвод надо было беречь, следить, чтобы личный состав всегда был сыт, чтобы всегда были снаряды и корм для лошадей. Надо правильно занять огневые позиции. На каждой остановке я заставлял выверять орудия, поэтому мы и стреляли хорошо. Все зависит от командира взвода! Был такой случай, когда я своему другу, Ване Фролову, как раз перед форсированием Днепра прострелил ногу. Получилось так, что меня вызвал к себе командир батальона. Надо сказать, комбат, Иван Аникеевич Звездин, был очень толковый мужик. Ходил слух, что он бывший полковник, разжалованный за амурные дела, потому что так командовать, так распоряжаться, пользоваться таким авторитетом, по нашему мнению, мог только полковник. На самом деле образования у него было всего 8 классов и курсы младших лейтенантов, но зато он имел опыт боев на Хасане и Финской, что, видимо, и позволяло ему грамотно управлять батальоном. Так вот я ушел, когда ребята начали готовить ужин. Возвращался я от него, когда батальон уже выходил на марш. Я подошел к нашей палатке. Мои бойцы сидят внутри, а перед ними на рогатинах висит эмалированное ведро, в котором варился борщ, распространяя сумасшедший запах. Я им крикнул: «Вы почему не собрались?» – «Командир, что ты шумишь? Садись, поешь. Смотри, какой борщ мы сварили!» Вот тут я психанул. Выхватил пистолет и выстрелил в этот борщ, решив продырявить ведро и показать, что дисциплина важнее. Получилось так, что пуля рикошетом попала Ивану в икру. Слава богу, кость была не задета, а ребята согласились дело замять, но я его еще несколько дней на пушке возил, поскольку ходить он не мог.
Так вот среди ночи по колонне разнеслось: «Командир полка, командир полка». Обернулся, справа за деревьями вижу два всадника на лошадях. Потом они куда-то исчезли. Дошли до привала. Дорога поворачивала над обрывом влево, образуя сухой выступ, на котором мы поставили пушку. Я спросил, что на ужин – перловая каша, а я ее и в мирное-то время не ел. «Все! – говорю. – Ребята, я сплю». Бросил на землю плащ-палатку, лег и тут же уснул. Вдруг слышу: «Встать, командир полка!» Я слышу, понимаю, что надо встать, но не могу. У меня нет сил встать. Вдруг я слышу: «Я командир полка». Я говорю: «Да пошел ты на…!» И с этими словами открыл глаза. Вижу – действительно стоит ординарец командира полка и сам командир, который пытается откинуть полу плащ-палатки, чтобы достать пистолет. Когда я это увидел, я потянулся и взял автомат, лежавший рядом. Он все понял, повернулся, и они ускакали. Ребята говорят: «Что ты наделал?» – «А что? Я же не знал, что это командир полка, думал вы разыгрываете». Марш продолжился. Под утро мы остановились у какой-то деревни. День выдался солнечным, мы развесили свое барахло подсушиться. Среди дня появились два подтянутых сержанта: «Кто Ульянов?» – «Я». – «Назови себя». – «Сержант Ульянов». – «Собирайся, пойдем». – «Что брать?» – «А что хочешь, можешь ничего не брать» – «А куда пойдем?» – «В штаб полка». Смотрю, лица у всех кислые. Я говорю: «Давайте, ребята, на всякий случай попрощаемся».
Привели в штаб, начальник которого знал меня еще по Сталинграду. Он меня спрашивает: «Ты чего здесь делаешь?» – «Вот привели». – «Так это ты вчера начудил?» – «Ничего я не чудил. Обознался просто спросонья». – «Ладно. Пойдем». Зашли во двор дома, посередине которого стоял стол, два стула и табуретка. На одном стуле висела гимнастерка и портупея, на другом сидел сам командир полка в нижней рубашке, в подтяжках и начищенных сапогах, попивая чай из стакана с подстаканником: «Товарищ подполковник, сержант Ульянов по вашему приказанию прибыл». Он задает мне вопрос: «Это ты меня вчера послал?» – Что я могу сказать? Ответил, что я. – «Я тебе орден вручил такой красивый, а ты меня на х… посылаешь?!» – «Орден я заслужил, когда вас в полку еще не было». Тогда он, обращаясь к начальнику штаба, говорит: «Отведи его». Меня отвели в соседний двор, где таких, как я, собралось сто четырнадцать человек. Кто-то сказал: «Мы штрафная рота». Суда не было, документы и ордена не отбирали. После войны в архиве я нашел документ, в котором мы были названы «добровольцами». Нам выдали гранаты, патроны и сказали: «Пойдете на тот берег и захватите плацдарм. Как только высадитесь, пойдут основные силы. На этом ваша задача будет выполнена». Поплыли ночью. Обошлось без стрельбы. Высадились. А что там делать? Перед нами стена правого берега, от которой до воды метров сорок. Вот и весь плацдарм. Немцы сверху стали нас поливать огнем, и к вечеру, когда пришел приказ возвращаться на левый берег, нас осталось не более десятка. Оставшихся в живых отпустили по своим подразделениям. Полк спустился вниз по течению и начал переправу.
Подошли к Днепру вечером. На противоположном берегу были видны церковь и колокольня. Комбат приказал мне открыть огонь по этой церкви, решив, что там наверняка сидит наблюдатель. Пушку мы скатили к воде. Я прекрасно понимал, что если я сделаю выстрел, то по мне сейчас же ударят как минимум из пулеметов. Чтобы замаскировать орудие, я приказал рубить прибрежные кусты и втыкать срубленные ветви в песок вокруг пушки. Когда орудие оказалось закрытым, я приказал натянуть над стволом плащ-палатку, чтобы закрыть от наблюдателей вспышку выстрела. Мы определили, что дистанция до колокольни превышает 700 метров, на которые был рассчитан прицел «сорокапятки». Зная, что один оборот подъемного механизма дает увеличение дистанции выстрела на 300 метров, я выставил 1400 метров. Выстрелил и впервые услышал шелест удаляющегося снаряда. В колокольню я не попал. Снаряд, не долетев до нее, разорвался, подняв белое облако пыли. Причем мы сначала увидели это облачко, а потом до нас донесся взрыв и крики немцев. На следующий день мне говорили побывавшие там разведчики, что у немцев под этой колокольней были выкопаны траншеи и стоял пулемет. Снаряд точно накрыл это пулеметное гнездо. Пушку мы выкатили обратно на дорогу и по грунтовой дороге, обрамленной посаженными ивами, пошли к месту переправы. Вскоре мы увидели предназначавшийся нам плот. Вообще-то это надо обладать фантазией, чтобы так назвать несколько связанных бревен, с настилом из досок размером примерно 3 на 3 метра. От воды нас отделяла полоса мокрого речного песка с рисунком волн на нем. Как только передок, на котором у нас всегда стояло 14–16 ящиков со снарядами, выехал на песок, его колеса проваливались почти по ступицу. Ездовые колошматили лошадей так, что металлические кольца, привязанные на концах их хлыстов, высекали искры, попадая по костям несчастных животных. Погрузка сопровождалась отборной бранью и криками ее руководителей: «Быстрее! Вперед!», взрывами немецких снарядов и мин. С огромным трудом удалось закатить передок и орудие на плот, поставить лошадей.
Оттолкнулись и поплыли… Тем, кто там не был, не понять, что такое «форсирование Днепра». Это надо видеть, в этой обстановке надо быть. Надо почувствовать хлипкий настил плота, шатающийся на волнах, поднятых взрывами снарядов, увидеть фонтаны воды, поднимающиеся вверх с обломками паромов или лодок, с человеческими телами и с шумом оседающие обратно. Надо услышать хрипы шарахающихся от каждого взрыва лошадей, которых держит под уздцы ездовой. Надо испытать сумасшедшее напряжение и страх ожидания «своего» снаряда, который ты не услышишь, поскольку те снаряды, что свистят и воют, они летят мимо, твой же прилетит бесшумно. И вот ты стоишь и примериваешься, за что схватиться, куда плыть – назад или вперед, сможешь ли ты барахтаться или так и пойдешь на дно в шинели, телогрейке и ватных брюках, которые не снял, спасаясь от осеннего холода.
И все же по нам не попали… Плот ткнулся в правый берег, и лошади вынесли ездовых на песок. Мы скатили пушку, передок, подогнали упряжку. Сверху по нам стреляли, но на пули особо никто внимание не обращал. С трудом по раскисшей дороге, поднимавшейся от реки на крутой берег Днепра, выбрались наверх. Каким-то чудом мы в этом хаосе, творившемся на берегу, нашли свой батальон. Комбат меня обнял, говорит: «Ну, все, сынок, теперь живем». Все же мы главная ударная сила батальона!
Ну а дальше пошли бои уже на правом берегу Днепра. Сбив оборонявшихся на берегу немцев, батальон вошел в преследование. В одном из боев я подбил немецкую самоходку «Артштурм». Позицию, правда, в этот раз я выбрал не очень удачную. Дорога шла по краю песчаного карьера, который образовывал как бы ступеньку перед спуском в низину. Я поставил оба орудия в карьер, на эту ступеньку. Таким образом вспышка выстрела камуфлировалась светлой песчаной стеной за нашими спинами, но в то же время мы были крайне стеснены в маневре. В лощине перед нами росли остатки сада, а чуть левее стоял танк Т-34, рядом с которым обосновался немецкий снайпер. По приказу комбата я сделал несколько выстрелов по этому танку, и снайпер замолчал. После боя я подошел посмотреть на этот танк – он стоял, полностью загруженный боеприпасами, внутри чистенький. Почему он там остановился?
Почему его бросил экипаж? Не знаю. Но после того, как я заставил замолчать снайпера, на нас с противоположного ската лощины пошли две самоходки. Не знаю, заметили ли они нас, но все же сделали по одному выстрелу, и осколком разорвавшегося снаряда был ранен в ягодицу подносчик Вася Лебедочкин. Надо сказать, что я хоть и командовал взводом, но так и не сдал никому должность командира первого орудия. Вторым орудием командовал Вася Фролов. Он мне кричит: «Витя, стреляй!», но я не спешил. Я был уверен, что, когда они спустятся в лощину, они не смогут по нам стрелять, а мы, опустив стволы орудий, расстреляем их сверху. Так и получилось. Я отчетливо видел в прицел сверху кормовую часть передней самоходки. Выстрел! Самоходка остановилась. К ней сзади подошло второе орудие. Мы не видели, но, видимо, немцы накинули трос и задним ходом потащили подбитый «Артштурм» на исходные позиции. Стрелять по ним уже не стал, ведь задача была выполнена, немцы не прошли.
Помню, был бой, мы наступали. В горячке, с парабеллумом в руке я вскочил в железнодорожную будку. Передо мной немец, я не растерялся, выстрелил, он свалился. В окно увидел, как один немец побежал от будки. Я бросился за ним. Он бежит, хромает, видно, был ранен, на ходу сбросил ранец, потом сбросил куртку. Вдруг сзади крики и выстрелы. Я остановился. Смотрю, два солдата направили на меня винтовки и кричат: «Куда ты, гад!» Они решили, что я убегаю к немцам. Я остановился: «Старший сержант, мы думали, что ты к ним бежишь». Я говорю: «Эх… немца упустили».
Свернув орудия в батальонной колонне, мы пошли дальше. Под вечер заняли оборону возле холма. Местность была сильнопересеченная – справа и слева от нас возвышались такие же холмы, впереди была небольшая равнина, а за ней опять возвышенности. Тут произошел курьезный эпизод. Мы стояли у нашего холма, возле которого шла дорога, вдруг видим, что к нам приближается немецкая плавающая машина. Она подошла практически вплотную к нам, развернулась. Немец, сидевший рядом с водителем, крикнул: «Русиш швайн». Начальник штаба выхватил противотанковую гранату, хотел бросить, но его остановили. Куда бы он ее бросил? Он бы не добросил до машины, только своих бы поранил. Вот так машина и уехала. Ночью немцы пускали ракеты, причем у меня создалось впечатление, что мы попали в окружение. Меня вызвал комбат: «Ну что?» – «Товарищ капитан, ракеты кругом». – «А ты что хотел? Мы в тылу у немцев. Что тут будет завтра, я не представляю, но готовься со своим взводом к бою».
За ночь мы отрыли позиции на обратном склоне холма, а утром с возвышенностей, что располагались перед нами, на нас пошел танк. Был он один, видимо, немцы отправили его на разведку. Комбат приказал выкатить орудие на открытое место, левее холма за цепочкой окопов и подбить этот танк. Глупость, конечно, этот танк разобьет мое орудие, не дав его даже к бою привести. Я приказал Ивану выкатить орудие правее холма и сделать несколько выстрелов по танку, отвлекая его от нас. Он еще спросил: «А если я попаду?» – «Так и надо. Ты попади». Пока Иван пару выстрелов сделал, мы успели выкатить и развернуть орудие. Выстрелил. Уж не знаю почему, но трассер улетел в кусты, а направляющее кольцо свалилось в окоп на голову к пехотинцам. Один солдат из окопа, что был рядом с орудием, побежал. Я выстрелил по нему из пистолета, но не попал. А через несколько минут, смотрю, он опять лежит в этой ячейке, винтовку вверх задрал и стреляет. Я говорю: «Ты чего вернулся? Ты же побежал, чего ты вернулся?!» – «Да там особисты. Предложили вернуться или расстреляют». После этого никто больше не бегал. Танк же этот особо не раздумывал. Выстрелил разок по холму и убрался восвояси. Пехота, говоришь, неустойчивая была? Ты что?! А кто же взял Берлин?! Пехота у нас хорошая была и орудие никогда не бросала.
В это время в полукилометре правее нашего холма мы заметили, что немцы стали готовиться к контратаке. Туда подошли несколько бронетранспортеров и автомашины, из которых, как саранча, стала выпрыгивать пехота. Мы выкатили орудия из-за холма и открыли огонь. Я крикнул: «Иван, бей по дальней стороне их сосредоточения и гони их к центру, а я буду по ближней». После каждого выстрела они сдвигались к центру. Потом мы переносили огонь на середину, они разбегались и все повторялось заново. В какой-то момент вышла машина с орудием. Они успели его отцепить, но я их опередил. Снаряд разорвался возле орудия. Я не буду говорить, что подбил орудие, но после моего выстрела они его бросили и машина ушла. В следующую машину я попал. Она, видимо, была со снарядами, потому что рванула очень хорошо. А потом на меня пошла самоходка. Это был не обычный «Артштурм», а тяжелое самоходное орудие. Я стреляю, а попасть не могу – руки трясутся, и снаряды проходят над ней. А она идет и скрипит, как дверь на ржавых петлях. Потом эта зараза остановилась и выстрелила в сторону второго орудия. Осколками снаряда был ранен Иван. И все же если не восьмым, то девятым снарядом я в нее попал. Она не загорелась, просто встала, а я продолжил колошматить немцев. Ствол орудия раскалился, и фактически оно уже просто плевалось снарядами. Я все боялся, что его заклинит, ведь за короткий промежуток времени я выпустил более 120 снарядов! Вот здесь был момент, когда я бегал между двумя орудиями, стреляя попеременно то из своего, то из Иванового. Вот так две «сорокапятки» фактически сорвали контратаку противника численностью до батальона.
Свой последний бой я принял 22 октября. За день до этого командир батальона собрал в маленьком овражке командиров рот. Вызвал он и меня. Я подошел к нему, он говорит: «Патроны есть?» Я говорю: «Есть» (а у меня чехол от фляги был набит автоматными патронами, которые также подходили и к пистолету ТТ). Комбат зарядил пистолет, сделал несколько выстрелов вверх и говорит: «Второй и третий батальон по приказу командира полка пошли чистить картошку нам на ужин. Вернемся из боя, будем кушать. А теперь за Родину, за Сталина надо взять вон ту деревню. Ну, сынок, выручай». Ротные побежали к своей пехоте, а я во взвод. Мы поднялись наверх из этой ложбинки, и я увидел деревню. В этот момент лошади рванули, я только успел встать на нижний щит и руками ухватиться за щиток орудия. Ездовые начали лупить лошадей, и они понесли с такой скоростью, что страшно стало. Мы промчались мимо большого сарая, стоявшего слева от дороги, потом я увидел, как из лопухов, росших чуть сбоку и прикрывавших погреб, высунулась женщина. Мы промчались прямо над ней. Влетели в это село. Немцев в нем не было. Следом за нами в него вошла пехота и тут же принялась шуровать в брошенной немецкой машине, стоявшей на улице. Постепенно все затихло, мы заняли позиции возле домов. Вдруг в нашем тылу раздались автоматные очереди. Я высунулся из-за дома и увидел, что идут немцы, поливая огнем пространство перед собой. Они прошли вдоль улицы, наткнулись на минометную батарею, уничтожили ее расчеты и ушли к своим. Оказалось, что перед отступлением немцы всех жителей согнали в тот сарай, который мы проскочили по дороге к селу, и сами же остались в нем. Когда они поняли, что мы успокоились, они решили прорываться к своим, что им в общем-то удалось.
Следующий день выдался солнечным. Я сидел в беседке и спокойно писал наградные документы на всех своих солдат, сержантов, в том числе и на Фролова, которого представлял к званию «Герой Советского Союза». И вдруг в деревне начали рваться снаряды. Я стремглав бросился к орудию, которое стояло между домами. И опять, как вчера пехота, из нашего тыла мимо нас пошли бронетранспортеры. Сектор обстрела у меня был очень узкий, и я решил перекатить орудие, но не успели мы свести станины, как прибежал комбат: «Не трогай орудие! Не трогай орудие! Иначе они побегут!» Я вправо посмотрел, увидел жидкую цепь лежащих солдат, стрелявших в просвет между домами, и понял, что они лежат и стреляют только потому, что стоит орудие, и если я начну его перекатывать, то они решат, что я отступаю, и побегут. Вот так и пришлось мне вести огонь с этой неудобной позиции. Но я успевал. С бронетранспортером разговор короткий – ему в борт дал, и его песня спета. Два или три я сжег. За ними шел танк, и его я тоже подбил, все же основные силы немцев прорвались и, не ввязываясь в бой, ушли.
Вскоре ко мне подбежал связной и сказал, что меня вызывает комбат. Я пошел к нему на НП, который располагался на окраине села в какой-то яме перед крайним домом. За этой ямой простиралось вспаханное поле, на краю которого виднелся немецкий дзот. Комбат говорит: «Видишь дзот?» – «Вижу». – «Это наблюдательный пункт. Его надо заткнуть. Ты сможешь попасть в амбразуру?» – «Бронебойным попаду». – «Неважно каким, ты попади в амбразуру, чтобы они ослепли. Мы сейчас пойдем в атаку, и если они будут отсюда корректировать огонь своей артиллерии, они всех нас побьют». Я ушел за орудием, привел его и с третьего снаряда попал в амбразуру. Вернулся к комбату доложить, что его приказание выполнено. В этот момент за домом разорвался снаряд, а затем последовал взрыв впереди воронки, в которой мы сидели. Комбат у меня спрашивает: «Ну что, бог войны? Что происходит?» Я ему говорю: «Что происходит? Нас в вилку берут. Сейчас снаряды будут здесь». В это время, по-моему, два снаряда разрываются рядом с воронкой. Я сначала даже не почувствовал, что ранен в левую руку, левую и правую ноги. Комбату говорю: «Вот паразиты, сапоги порвали». – «А ноги?» – «Ноги целы. Я пойду к орудию». – «Это неважно, сынок, были бы ноги целы, сапоги найдем». Я поднялся, вылез из ямы и чувствую, что падаю. Прислонился к дереву, потом оттолкнулся и пошел. Я слышал, как комбат сказал: «Вот пошел мой герой». И последнее, что осталось в памяти, это окоп, в котором сидели два ездовых моего взвода. Я их попросил помочь мне добраться до орудия, но им совершенно не хотелось вылезать из окопа под непрекращающийся обстрел, и они отказались… Очнулся я в каком-то окопе, передо мной сидел солдат. Я у него спросил: «Где наши?» – «Все ушли вперед». – «А комбат?» – «Все пошли. Ты остался и еще несколько человек, раненых». Потом я читал, что в этом бою комбат и многие ребята погибли.
Когда наступила ночь, за нами приехала повозка. Куда он нас повез, я не знаю, но вскоре мы услышали немецкую речь. Я зашипел на ездового: «Ты куда, гад, везешь?!» Мы развернулись и поехали обратно, а вскоре выехали к штабу полка. Нас остановили, спросили, кто едет. Я назвался и спросил, кто здесь старший. Мне ответили, что начальник штаба полка. Я попросил передать ему, чтобы он подошел. Он подходит: «Ну что? Зацепило тебя?» – «Зацепило». – «Ну ничего, поправишься – возвращайся». У меня за поясом была сумка, из которой я достал представления на ребят и попросил: «Товарищ майор, я вас прошу, представьте моих ребят к наградам. Вот здесь все описано, тут все правда». – «Все сделаем. Не волнуйся».
Потом нас отвезли в какую-то хату, положили на глиняный пол. Справа и слева лежали раненые. У того, что лежал слева, я увидел, как из-под повязки на руке вылезают черви. Я еще воскликнул: «Фу, черви!» – «Что ты боишься? Это не страшно, они гной едят». Я замолк. На другой день пришел генерал и два офицера. Генерал спросил: «Кто здесь сержант Ульянов?» – «Я». – «Сынок, поздравляю тебя с присвоением звания Героя Советского Союза». – «Служу Советскому Союзу!»
Потом уже я попал в санитарный поезд, который привез меня в Харьков. Пришел капитан, взял меня на руки и понес – я весил 47 килограммов. Принес он меня в баню. Там женщины говорят: «Раздевайся». Я стесняюсь. Капитан говорит: «Это наш герой». Одна из женщин говорит: «Он же дытына. Какой он герой?!» Меня помыли и отнесли в школу. Там в классе стояли кровати, на одну из которых меня положили. Несколько осколков застряло в районе коленного сустава. Врачи, осмотрев мою ногу, сказали, что ничего делать не будут, а отправят меня в эвакогоспиталь. Меня опять посадили в санитарный поезд. Он был свежевыкрашенный, чистый. Я лежал на нижней полке, но ни подушки, ни одеяла, ничего мне не дали. Поехали мы в Златоуст. У меня начала болеть и опухать правая нога. Я начал стучать. Пришла сестра. «Что ты стучишь?» – «Нога болит». – «Начальник поезда сейчас занят, он делает операцию». – «Мне не нужен начальник поезда, мне нужно, чтобы меня перевязали». Она посмотрела на ногу и ушла. Вскоре у меня поднялась температура. Тогда пришел хирург, начальник поезда. Принесли ванночки. Он говорит: «Ну что? Посмотрим, какой ты герой!» Вскрыли нарыв, как хлынули и кровь, и гной, черт знает что! Он говорит: «Ну легче?» – «Легче». – «Потерпи еще. Сейчас осколки вытащим». Он начал ковырять под коленом: «Больно?» – «Да». – «Тогда не будем их вытаскивать, ты все равно едешь в госпиталь. Там тебе все промоют, вычистят, перевяжут». Но в госпитале их вынимать не стали. Так с ними и хожу до сих пор, с этими осколками.
Марков Николай Дмитриевич
Родился я в Москве, 19 мая 1925 года.
Семья у нас была большая – семь человек детей. В 1941 году мой старший брат заканчивал десятый класс 605-й школы в Марьиной Роще, – а я учился в 8-м классе 241-й школы, находившейся рядом, на Шереметевской улице. Выпускной вечер у брата должен был состояться в ночь с 21 на 22 июня. А так как мы дружили с этими ребятами-десятиклассниками, то нас тоже пригласили к ним на праздник. Гуляли до шести утра – здорово было! Пришли домой, легли спать, нас будят: «Ребята, вставайте, война началась».
Что изменилось в Москве с началом войны? Все изменилось. Все продукты исчезли. Раньше в магазинах икра стояла в бочках, на полках были засиженные мухами крабовые консервы, хлеб – пожалуйста, мясо – тоже. Через месяц ничего не стало, ввели карточную систему. Цена буханки хлеба, как и бутылки водки на «черном рынке», дошла до 1000 рублей.
Когда начались налеты на город, нас, старшеклассников, заставляли лезть на крыши, сбрасывать зажигалки. Запомнилась, конечно, и паника 16 октября. Вся Москва не работала, все брошено, начали грабить мастерские, склады, магазины… помню еще кипы сброшенных немецких листовок, в которых они призывали сдаваться в плен…
Надо было как-то выживать, и я пошел на работу в прокуратуру СССР, рабочим. Грязную работу делать – таскать всякие грузы и прочее. Зато я получил рабочую карточку, на которую давали 800 граммов хлеба. Служащим на карточку – 600 граммов, а детям – 400. Зимой 1941/42 года голодно было. Все подтянулись, худые стали, суровые, но не озлобленные – понимали, что идет война. Тогда действительно был общий патриотический настрой у людей.
В конце октября, когда немец уже подходил к Москве, по линии домоуправления собрали всех подростков и направили на Северо-Западный фронт в район Дмитрова – строить заградительные противотанковые сооружения. Два месяца валили лес, делали противотанковые завалы. Фронт был недалеко: летали «Рамы», обстреливали нас, мы прятались. Условия, конечно, были дикие. С нашего Дзержинского района было тридцать человек, и мы все жили в школе. Снег рано выпал, в ноябре месяце уже морозы ударили. И вот, встав в пять часов утра, мы на лыжах семь километров шли на место работы. Суточная норма на бригаду из 5 человек (2 пилы и 1 топор) 125 корней, и чтобы корень был не меньше 25 сантиметров. Сделаешь – тогда пайку получишь. Никаких там обедов! Только хлеб давали черный, замерзший. Потом идешь обратно, возвращаешься в темноте. Вот так мы жили в этой школе: ни бани, ничего не было. Обовшивели все. А когда наши пошли в наступление, то примерно 10 декабря нас отпустили домой.
Меня призвали 2 января 1943 года. Сначала хотели направить в училище, но почему-то направили в учебное подразделение первой запасной горьковской стрелковой бригады. Погрузили примерно сорок человек москвичей в телячьи вагоны, которые не отапливались, ничего, и повезли. Эшелон от Москвы до Горького шел четверо суток. Проедем 100 километров, дров нет. Бригада в лес – чурбаки в тендер. В Горьком нас и еще примерно шестьдесят человек призывников из Ярославской области разместили в Красных казармах.
Я попал в учебную батарею 45-мм пушек. Занятия шли по 12 часов в сутки – давали общевойсковую, артиллерийскую, огневую подготовку… Зима 1943 года, январь месяц. Едем через Волгу на полигон в Бор. Командиром взвода у нас был лейтенант Притуляк – боевой офицер, комиссованный после ранения. Вот он нас гонял: «Танки справа, орудия к бою!» – развернулись. – «Отбой!» – проедем немного – «Танки справа!.. Танки с тыла!.. Танки слева!» Пока доедем до полигона – умаемся. А кормили! По третьей норме – 600 грамм хлеба, баланда, ведро мерзлой картошки на 16 человек… Хлеб веревочкой делили. Все хотели горбушку… Я за один месяц похудел сразу на 13 килограмм.
Однажды я был дежурным по батарее, сменился и отдыхал. Меня вызывает дежурный по части: «Товарищ Марков, вот вам тридцать два человека штрафников, которые судом осуждены в штрафные роты. Их требуется отвезти в Моховые Горы». А там, в Моховых Горах, были землянки, где штрафников собирали в маршевые роты и направляли на фронт. А я же пацан был, я не знал, что такое конвоирование: «А как?» – «Ты возьмешь своих солдат, вот вам винтовки, вот вам патроны. И ведите их туда». А ведь эта деревня была на другой стороне Волги, и, чтобы перебраться, надо было плыть на речном трамвайчике. В общем, взял я еще троих солдат, построил штрафников, положил в сумку их дела, скомандовал: «Шагом марш!» – и мы пошли. Один солдат идет впереди, два сбоку, и я сзади. Конвоировать так конвоировать! Пришли к реке – а там народу полно: бабки приехали в Горький с той стороны Бора на базар, что-то продать, что-то купить. Я вошел на дебаркадер: «Прошу всех покинуть дебаркадер, стрелять буду!» Подошел к капитану корабля, говорю: «Куда он идет? До Бора довезет?» – «Довезет». – «У меня 32 человека штрафников». – «Сажай их в трюм». Посадил их в трюм, поставил солдат на верхней палубе, бабки расселись – и поплыли мы.
Дошли мы до места, торговки вышли. Высадили мы наших подопечных. Один говорит: «Старшой, дай нам барахло, что на нас, продать. Нас все равно переоденут. Мы сейчас на свои вещи лепешек у бабок наменяем» – «Пожалуйста, но через 15 минут чтобы все стояли здесь». Им некуда бежать – место открытое, песок везде: с одной стороны Волга, вверху на обрыве сосны стоят. Они там с бабками поторговали, поторговали, те набрали кто пиджак, кто брюки, кто рубашку – все обменяли, потому что нечего было носить, это же было дикое время. «Становись! Пошли!» И мы 3 километра шли 3 часа! «Старшой, мы поссать хотим». – «Ну, поссыте, ребята». – «Кушать хотим». – «Давайте, кушайте». Что тут скажешь, – прикладом же бить не будешь. Они все мужики опытные, с 10-го, с 15-го годов, уже были на войне. Некоторые ведь по глупости попали в эту штрафную роту. Я же посмотрел их личные дела.
Отстал от поезда: суд решил – 10 лет с заменой на 3 месяца в штрафной роте. Вот так! Но были и те, кто был осужден за бандитизм, воровство и прочие преступления.
Привел я их туда, там стоит палатка, и дежурный у палатки: а остальное землянки. Пока я с дежурным разговаривал, они тут, – раз, разбежались, и нет моих солдат. Они растворились в этой массе, друзей-приятелей там встретили, – а там уже тысяча человек. «А где твои? Ну ладно, найдем…» Я отдал документы и уехал. Господи, вот наказание было!
В Горьком я познакомился с одним парнишкой из города Углич, Костей Конахистовым. Мы с ним спали на одной двухъярусной кровати. Все курсанты страдали недержанием мочи от недоедания. Поэтому менялись местами.
Из Горького, в июне месяце 1943 года, нас направили на Курскую дугу. Я попал в пехоту. В 5-й Гвардейский воздушно-десантный полк 2-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Так что воевать я начал пехотинцем. А командир взвода, Притуляк, взял Костю к себе на батарею 45-мм пушек. И вот на фронте Костя был в батарее, а я рядом в пехоте: «Костя, как дела?» – «Да нормально». Потом из одного боя выхожу, у ребят спрашиваю: «А где мой брат Костя?» – «Он ранен в живот» Я прихожу в роту, говорю:
«Ребята, Костю убили. Давай помянем его, выпьем по 100 грамм». Выпили мы по 100 грамм – и вперед, на Запад. Я уже и забыл о Косте. Война закончилась, прошло 35 лет, – и вот в сентябре 1978 года совершенно случайно мы встретились… Смотрю, – он седой. Мы обнялись, заплакали. Оказывается, его ранило, он попал в госпиталь, а в 1944 году его комиссовали.
Помню ли я свой первый бой? Помню, конечно. Это был ночной бой под Курском. Мы пошли в атаку, и немец положил нас огнем. Мы залегли, темнота кругом. Командир батальона кричит: «Вперед, вперед!» Пули свистят, трассирующие пули летят. Такое состояние было… Идти на огонь никто не хочет – все лежат, закопались. А у меня не было лопаты. Хоть носом копай землю! Я решил, что, коли жив останусь, лопату себе найду. Потом в одной деревне я нашел здоровую совковую лопату. Черенок пополам сломал и первое время так и носил совковую лопату, пока не нашел нормальную малую саперную. После этого я лопату никогда не бросал, потому что это была твоя жизнь – идешь, она у тебя к вещмешку прицеплена, как только остановились, так сразу окапывайся. Это закон.
Только так: у тебя должна быть лопатка, винтовка в порядке, и ты должен четко знать свою задачу, а остальное – судьба. Так вот, возвращаясь к первому бою, командир взвода говорит: «Марков, иди к командиру роты. Скажи, что мы не можем идти вперед, потому что немец накрыл нас огнем». Я ползу назад по-пластунски, смотрю – лежит солдат. В свете немецкой ракеты я вижу, что у него осколком всю грудь распороло. Он ничего не говорит, только мычит. Я его перебинтовал, а он так и лежит, ничего не говорит… Вообще, я крови боялся с детства. А в пехоте настолько привык… Там сидишь в окопе, кушаешь. Снаряд рядом разорвался, земля тебе в котелок – так ложкой откинул ее, и дальше ешь. Все грязное, руки помыть негде. Перевязываешь товарища – все в крови, сплошная антисанитария. По возможности мы, конечно, пытались содержать себя в чистоте, но не всегда удавалось.
Я выполнил задание, вернулся, и всю ночь мы пролежали под этим огнем. Кое-как окопались (мне дали лопату). Потом включилась артиллерия, побила их огневые точки, и мы пошли вперед.
Освободили Орел, Белгород, Курск, а потом вошли на Украину. В 43-м году воевать уже умели. Прежде чем послать пехоту вперед, сначала передний край обработают всеми видами оружия. И артиллерия, и авиация, и танки пойдут. Не то что 1941-й или 1942 годы, когда пехотой закрывали дырки! Да и пехота была уже подготовлена, уже научились командиры воевать. Если стояли долго в обороне, то делали так: вот наш передний край, а вот немецкий передний край. С помощью аэрофотосъемки, с помощью разведчиков определяли, где огневые точки, где минные поля и прочее. Подразделения, которые должны были прорывать оборону, отводили в тыл, создавали им примерно такую же обстановку, – и командиры на местности отрабатывали вопросы боя. Уже было не просто так: «Давай, вперед!» Хотя и самодуров, гнавших людей: «Давай, вперед, поднимайся!» – хватало…
Оружие какое у меня было? Сначала с винтовкой воевал, а потом был ППШ и пистолет ТТ. Как-то раз у меня автомат отказал, и я взял винтовку. Стреляю, а пуля клюет около носа. Что такое? Не пойму. Посмотрел в канал ствола, а он дугой. Я эту винтовку, конечно, выбросил, нашел новую. С этим проблем не было. Гранаты у нас были, но в основном мы ими рыбу глушили. Ведь что такое гранаты? Это тяжесть. Ночью, когда ты совершаешь 30-километровый марш, ты идешь и спишь. Остановилась колонна – ты падаешь. Для того, чтобы поднять солдат, командиры бегали, пинали их ногами: «Поднимайся!» На пределе возможностей люди воевали. Так что гранаты хороши в обороне, а так их таскать с собой не будешь – выкидывали их – у тебя ведь и так запас патронов, паек, запасное белье, котелок, лопата. Тяжело…
Если говорить, какое оружие мне нравилось, то, конечно, наша мосинская винтовка 1890/30. Она была безотказной. Если затвор в песке, его вытащил, прочистил и дальше стреляй. У нее пуля сохраняет убойную силу на 5 километров, а у ППШ, ППС – 400–500 метров, да и прицельная дальность – 150 метров. К тому же ППШ и ППС – это оружие очень капризное. Когда мы только ехали в эшелоне на фронт, мы потеряли двенадцать человек из-за неправильного обращения с оружием или случайных выстрелов.
Всего я участвовал в 13 атаках. Тогда как было? Немцы отступают, но в деревнях создают заслон. Чтобы выбить его, посылают роту или батальон. Мы наступаем, а он тебя сечет. Движение вперед и ведение огня было плохо организовано. Солдат бежал, «ура» кричал, но не стрелял. Вот это было плохо. Сколько мы людей-то потеряли! Пошли 50 человек, а вышло 20. Раненые, убитые… Война это… не спрашивай! К сентябрю в моем взводе не осталось тех, с кем я начинал. Все время шло обновление, ротация. И я не могу сказать, что была какая-то группа «долгожителей». Нет, не было.
Мы были в 30 километрах от Киева, в районе Бровары, когда я пошел в свою 13-ю атаку. В ней меня ранило. Пуля попала в пах слева. Я очутился в госпитале. Там меня подлечили и снова направили на фронт. Причем нас сначала направили на пересыльный пункт в районе Житомира в батальон выздоравливающих, и там еще лечили немножко (у кого рука не зажила, у кого нога, то-се, пятое-десятое)… Нас было сто сорок семь человек в батальоне выздоравливающих. Как-то мы сидели на пригорке. Рядом церковь. Солнце греет Видим – закончилась обедня, старушки все вышли, и выходит батюшка: «Во славу русского оружия я вам отслужу обедню». И мы зашли, все 147 человек, всех национальностей, – и узбеки, и грузины, и евреи. Поп как закатил нам проповедь! Вот это была действительно пропаганда! Никакого политработника не надо, а надо такого попа! Я до сих пор помню, как он выступал: «Этого супостата надо гнать! Он осквернил нашу землю!»
На этот пункт приехали «покупатели» из армии, говорят: «Нужны солдаты для пополнения полка». Я думаю: «Хватит. Я в пехоту не пойду, только в артиллерию». Почему? Потому что я потопал в пехоте от Курска и почти до Киева! Там было ясное ощущение, что тебя рано или поздно либо убьют, либо ранят. А потом… Ну невозможно уже было! Ноги все в крови. Все на себе тащишь. Палаток не было: дождик идет, мокрый, некуда спрятаться. Ты в поле, и никуда не уйдешь, а если уйдешь – дезертир. Это было очень тяжело. Зато все работали на пехоту: пехота – царица полей…
Мы в учебном полку прошли хорошую артиллерийскую подготовку, так что я знал и типы снарядов, и мог подготовить данные для стрельбы. И вот сидят два старших лейтенанта и капитан: «ВУС какой у тебя?» – «ВУС седьмой. Артиллерист». – «Отметка 28, где батарея?» – «Слева-спереди». – «Какие ты знаешь снаряды?» – «Бронебойный, осколочно-фугасный, подкалиберный». – «Хорошо, будешь служить в истребительно-противотанковом полку». Еп! Я думал хоть немного подальше от передовой повоевать…
Направили меня в 3-ю батарею 163-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского полка заряжающим орудия. Полк был разбит под Винницей, потерял всю материальную часть и почти 90 % личного состава. Ребята, что остались в живых и пришли на формирование, говорили, что там шли очень тяжелые бои. Переформировывались в Житомире. Получили личный состав, материальную часть (пушки ЗИС-3 и грузовики «Студебеккер») и вскоре своим ходом поехали на фронт. Двигались мы колонной. Впереди ехали разведчики и командир полка. Вдруг навстречу нам выбежал мужик. Колонна остановилась. Он представился как секретарь сарненского райкома: «Бандеровцы меня хотели поймать, но я убежал и три дня по болотам скитался. У них здесь в полутора километрах лагерь». Его задержали, командир полка приказал командиру батареи: «Капитан Басаргин, давай туда разведчиков, выясни, что там». Этот Басаргин был подполковником, командиром бронепоезда. Где-то он проштрафился, его разжаловали до капитана, направили в полк командиром батареи. Отчаянный мужик! Слышим: «Та-та-та» – наших обстреляли. Басаргин развернул батарею, пристрелял орудия и беглым огнем накрыл этот лагерь. Оказалось, что в нем находилось почти сто пятьдесят человек бандеровцев. Там у них были артиллерийские склады, жилые блиндажи, 37-мм и 45-мм пушки, продукты, спирт, – после боя мы всё это быстренько «приватизировали» и поехали дальше.
С февраля по июнь 44-го мы стояли в обороне под Ковелем. А в обороне что? Каждый день копай! Только заняли огневые позиции, сразу надо вырыть окоп для орудия – шесть кубометров, потом для себя окоп, для наводчика, для заряжающего, ход сообщения. Сколько мы земли перекидали! Под Ковелем к нам пришли ребята с Западной Украины. Помню, один из этих новобранцев, хороший такой украинец, высокого роста, симпатичный, лет тридцати пяти, нелепо погиб. Мы стояли у орудия. Слышим – мина летит. Крикнули: «Ложись!» А он побоялся испачкать шинель, – там такая грязь была… В последний момент он всё же стал падать, но осколок мины попал ему в грудь…
С этим пополнением пришел к нам солдат по имени Петр Андреевич Перетятько, 13-го года рождения с хутора Дубровка, Черниговской области. Перед войной он командовал батареей, прошел финскую и польскую кампании. В 1941 году он со своей батарей стоял на Буге. Их полк разбили, и они с одной пушкой стали выходить из окружения группой в 12 человек. Попали в плен. Сидел в Кошарах, в Польше. Бежал, но его поймали, повесили на дыбу, нарезали из кожи ремней и бросили. Военнопленные его выходили. Второй побег ему удался, и он сумел добраться до своего дома. Когда Черниговскую область освободили в 1943 году, он пришел к командиру полка и говорит: «Я такой-то, старший лейтенант, командир батареи. Был в плену, бежал». – «Ты знаешь что, пока некогда разбираться. Бери винтовку и становись в строй». Ему дали винтовку, он встал в строй и пошел в бой. После боя его вызвал командир полка и говорит: «Давай, подавай на восстановление звания». – «Я не хочу воевать офицером, хочу воевать рядовым!» Потом его ранило, и вот он после госпиталя попал к нам. Это был действительно вояка! Самый настоящий пушкарь! Он говорил мне: «Кацап ты! Я тебя научу, как воевать надо!» И он действительно нас, пацанов, учил, как надо воевать. Когда Петя вставал к панораме, то все – от нее он не отойдет, какой бы обстрел ни был. Мы все заберемся в окоп, а он стоит. Был такой случай. У Петрова, солдата из Горького, шустренького парнишки, сапоги посносились, а там немцев много побитых лежало. Он пошел и снял с убитого немца сапоги. Приходит и говорит: «Сапоги нашел!» Петя его спрашивает: «Где ты взял?» – «С немца снял». И тогда Петя направил на него автомат: «Где ты взял, туда положи. Ты знаешь, как это называется? Мародерство! Ходи босиком, но не бери». Вот такой был мужик! Петя был у нас негласный командир взвода. Официальным командиром взвода был «шестимесячный» младший лейтенант Мухин. Он ему говорил: «Муха, куда ты пушки поставил? Ты же задачу не выполнишь и людей погубишь. Надо одну пушку поставить здесь, а одну здесь. Понял?» – «Так точно». – «Так давай и делай!» Когда мы с ним воевали, у нас ни одной небоевой потери не было, а в других батареях были. Спали мы с ним вместе – шинель под себя, шинель на себя, вроде и не так холодно.
Как-то раз решили устроить баню. Заняли хату, воды нагрели. Гимнастерки на прожарку. Моемся, а тут налетают «мессера». И устроили нам… В соседнем доме размещался штаб полка. Как я понимаю, они по нему били. Мы голые повыскакивали и в разные стороны. Я забился в какой-то шалаш. Бомба попала в штаб полка, убила начальника связи полка, связистку и заместителя начальника штаба.
Там же, под Ковелем, у нас разбило пушку, и мы воевали как пулеметчики – у нас же каждому расчету полагался еще и пулемет «Максим». Как это произошло? Очень просто. Мы стоим на переднем крае в обороне, немец тоже в обороне. Стрелять нельзя, чтобы не раскрывать свои огневые позиции. Для того, чтобы нам дать немножко практики, нас вытащили стрелять с закрытых позиций километров за шесть от передовой. Командир батареи увидел готовую огневую позицию для 122-мм гаубиц. Четыре окопа, ходы сообщения – все было сделано капитально. Он решил на нее поставить батарею. Выслал на передний край взвод разведки с рациями: они нашли цель, подготовили данные. Все расчеты у своих пушек, но стреляет только первое орудие. После того как оно пристреляло цель, мы ввели на всех орудиях необходимые поправки и беглым огнем пять снарядов на орудие по цели выпустили. Попали там, не попали… Отдыхаем. Май месяц, хорошая погода. Мы ведь в тылу! Ходить в полный рост можно! Не стреляют! А то ведь все время ползком, под огнем… Сидим в блиндаже, накрытом соломой. Вдруг слышим, у немцев такой звук: «пок!» – потом шум снаряда, разрыв перед нашими позициями. Прошло какое-то время. Опять звук летящего снаряда – и взрыв за нашей огневой: «Ребята, вилка! Разбегайтесь!» Мы разбежались. Немец положил еще два снаряда точно по огневой, а потом их дивизион как ударил по нам! У нас никого не убило, никого не ранило, но две пушки вышли из строя. У нашего орудия взрывом снаряда, разорвавшегося между станин, разбило казенную часть. У другой пушки был разбит дульный тормоз. Только сделали перекличку – опять налет. То есть мы выбрали огневую позицию, которую немец уже пристрелял. Она стоила нам одной пушки: нашей, у которой была разбита казенная часть. С нее свернули дульный тормоз и поставили на другую пушку – она продолжала стрелять, а мы с пулеметом воевали.
Кормили нас там пшенкой и американской тушенкой. Утром и вечером кто-нибудь из расчета ходил на кухню – днем уже не вылезешь. Три месяца пшенка и тушенка!! Это кошмар какой-то. Уже выворачивало. Желудком мучались… По ночам вылезали на поля, собирали невыбранную с осени картошку. По весне спасались зеленью.
Меня как-то послали за кашей. Одному на кухню скучно идти – все же почти пять километров, и я зашел в соседний расчет, спросить, кто от них пойдет. Уже стало светать, я стоял на коленях и разговаривал со старшиной. Чуть-чуть приподнял голову, и тут как бревном удар по затылку. Я как стоял на коленях, так и упал. Слышу, старшина говорит: «Ну, готов». Я приподнялся. Оказалось, что снайперская пуля пробила бруствер окопа и плашмя ударила меня по голове. Старшина ее поднял, еще тепленькую: «На, тебе на память».
В июне началось наступление. Стало более-менее нормально с питанием – трофеями разнообразили. Правда, само население бедное было, да к тому же прижимистое. Поляки все время говорили: «Курва его мать! Герман вшиско забрал!» Иногда заезжаем в какое-нибудь село: «Пани, дай воды». – «Нема». – «Воды, что ли, нет?» – «Вшиско герман забрал, остальное солдаты растащили». Уже ребята стали смеяться над ними. «Пани, триппер маешь?» – «Цо? Трохи было, герман взял, остальное солдаты на самоходах растащили».
На станции города Окунь стояли три эшелона, и в том числе один с трофейной техникой. Мы смотрим – на платформе стоят наши ЗИС-3, только перекрашенные в желтый немецкий цвет. На колесе одной из них написано: «Х… писал пленный такой-то». Мы ее скатили с платформы, пристреляли и опять стали артиллеристами.
В одном из боев, когда мы поддерживали наступающую пехоту, нам приказали продвинуться вперед. Мы подцепили пушку к «студебеккеру», сами сели в кузов и поехали. Едем по открытой местности. Впереди деревня. Правее нас метров на сто идут два Т-34 и «студебеккер». Мы сидим в машине, пули посвистывают. До деревни оставалось метров 600, когда из нее вышел «фердинанд». Выстрел по Т-34 – факел! Второй выстрел – второй факел! Третий выстрел – от «студебеккера» только колеса вверх полетели. Все это на наших глазах. Понятно, что следующий выстрел по нам. Шофер развернул машину, мы соскочили, быстро отцепили пушку, два ящика снарядов выбросили, и «студебеккер» умчался. Расчет весь разбежался. Командир орудия сержант Нестеренко убежал метров за 100! Остались у орудия наводчик, я и Петя. Вот мы теперь цель для «фердинанда», и жить нам осталось дай бог несколько минут. Наводчиком был трусоватый Кузнецов, с 18-го года, из Свердловска. Он встал к панораме, а у него руки трясутся. Я спрашиваю: «Ты чего дрожишь-то?» А у него психоз – он чувствует, что сейчас нам дадут. Петька подошел к нему, говорит: «Иди отсюда!» Как дал ему в ухо, тот через станину перелетел. Мне говорит: «Коля, давай бронебойный!» Выстрел! Я смотрю, куда трасса пошла, и говорю: «Петя, прямо по направлению хорошо, но выше». Тогда он говорит: «Ну-ка дай подкалиберный». Я дал подкалиберный. Он раз, – и этот «фердинанд» загорелся! Мы с Петей сели на станину, смотрим друг на друга и молчим. Ведь мы знали, что сейчас нам капут будет! Вдруг кто-то спрашивает: «Кто стрелял?» Я поворачиваю голову, смотрю – майор, заместитель командира полка. Оказывается, он сидел рядом в окопе. Как он там оказался, я не знаю… фамилии его не знал, нам до начальства неинтересно было ходить, у нас свой коллектив. Я молчу, Петя тоже. И вдруг сбоку голос: «Расчет сержанта Нестеренко». – «Товарищ Нестеренко, я вас представляю к ордену Отечественной войны». Когда бои завершились, Нестеренко получил орден Отечественной войны, а нам дали на расчет тысячу рублей за подбитый танк. Но мы не получили эти деньги, а только расписались, что сдали их в Фонд обороны.
Больше за всю мою службу в ИПТАПе у меня встреч с танками не было. Нас все время гоняли по фронту 47-й армии. За эти восемь месяцев девяносто шесть огневых я выкопал, но стрелять по танкам не пришлось. Приходилось ли нам сопровождать пехоту «огнем и колесами»? Нет. Иногда, правда, стреляли по немецким огневым точкам, но редко. Мы были противотанковым резервом армии, нас ставили только на танкоопасных направлениях.
– Что тяжелее переносилось, участие в боях с его нервным напряжением или беспрерывный труд?
– Конечно, труд. Во-первых, при смене огневой позиции машину приходилось оставлять далеко от передовой, чтобы немец не обстрелял и потерь не было. Это значит, пушку весом больше тонны расчет ночью должен на лямках дотащить до будущей огневой. А потом на горбу еще и ящики со снарядами, каждый весом по 75 килограммов! Три человека копают окопы для пушки и расчета, трое эти ящики таскают, водитель с помощником в машине. А было, утром просыпаешься, смотришь – перед тобой стена кирпичного завода! Эти огневые позиции доставались кровью и потом.
– Сколько человек было в расчете орудия?
– Восемь: командир расчета, наводчик, заряжающий, первый станинный, второй станинный, подносчик, водитель, помощник водителя. Это была дружная семья. Копали мы как-то в Польше траншею и откопали железный ящик. Открыли его, а там 50 тысяч злотых 36-го, 37-го, 39-го годов. «Что делать, ребята?» Разделили поровну на каждого, и ну в карты играть в очко. Потом решили на все эти деньги купить самогон. Быстренько договорились, и на 50 тысяч купили 50 бутылок самогона. Это помогало нам после устатку. Когда я в пехоте воевал, нам давали водку. В артиллерии тоже давали, но очень редко. Здесь уже мы сами добывали самогонку.
– Командир расчета работает вместе со всеми или он занимается другими делами?
– Все зависит от человека. Конечно, командир и наводчик на кухню не ходят, но работают со всеми вместе. Не было такого, что ты, мол, выкопай мне окоп, а я постою, посмотрю. Если ты повел себя неправильно, тебя могут запросто застрелить. Нет командира – нет проблемы. Там были совершенно другие отношения. Перед боем человек искренний. Он выкладывается, он чистый душой. Там уже не обманешь. Это совершенно другая психология!
Вот, например, я должен был очищать снаряды ветошью от смазки, но если делать было нечего, то весь расчет мне помогал. Правда, к нам снаряды редко в смазке приходили. Обычно они были чистые – с конвейера прямо на фронт, я так думаю.
– В чем особенность работы заряжающего?
– Вовремя подать снаряд и зарядить. Надо знать типы снарядов и быстро выполнить необходимые действия. Помню, что боекомплект был 135 снарядов, а вот в какой пропорции какие снаряды были, не помню. Все зависит от того, как выдают… Нормативы есть, но кто знал эти нормативы? Наше дело было стоять у пушки!
– В чем заключалось обслуживание орудий?
– Чистка после каждого марша. После стрельбы – обязательная чистка. Выверкой прицельной линии «по кресту» занимался наводчик. В случае каких-то неисправностей на батарее было два оружейных мастера, которые их устраняли. Но неисправности редко случались – пушка была надежная.
– Какое расстояние между орудиями?
– В зависимости от местности примерно 50— 150 метров. Так – чтобы, как в кино, колесо к колесу стояли, такого не было. Так, может быть, только на салютах стреляют!
– Приметы или суеверия были?
– Я человек не суеверный, но в судьбу верю. Перед уходом на фронт мне отец сказал: «Сынок, запомни – не бери чужого, своего больше потеряешь». Я никогда ничего не брал. Вот лежит немец, у него часы на руке. Никогда не возьму! Эту заповедь я запомнил на всю жизнь.
Мой брат с 1923 года, он был стрелком-радистом на бомбардировщике. Он очень хорошо играл на баяне, и его заметил командир дивизии. И вот они должны были лететь бомбить Севастополь, уже все на местах, – вдруг «виллис». Адъютант командира дивизии: «Маркова с баяном в штаб дивизии». Вместо брата сел другой стрелок, а самолет не вернулся. Вот такие случаи были!
Еще помню, выбрались с передовой в тыл. Приходим, а у помощника водителя задница вся опухшая. Спрашиваем: «Что такое?» – «Фердинанд» болванкой по жопе влепил!» Оказалось, что он сидел на ведре, чистил картошку. Случайная болванка, на излете отрекошетировав от земли, долбанула его по заднице. Надо же, «господин случай» свел болванку с жопой!
– Какой был самый страшный эпизод на войне?
– Они все страшные, но самое страшное – это неизвестность. Вот тащишь ты ночью ящик со снарядами и не знаешь, где передний край, и не у немцев ли ты уже. Был еще страшный эпизод, когда мы налетели на минное поле. Ночью, повесив на спину простынь, чтобы водитель мог видеть, куда он едет, шли к передовой. За нами метрах в десяти ехал «студебеккер» с прицепленным к нему орудием. Вдруг «бабах!» – «студебеккер» наехал правым колесом на мину. Колесо вдрызг. В машине сидел и водитель и санинструктор. Последнему взрывом «отсушило» ногу. Он таким диким голосом орал, а ранения никакого нет! Потом опять небольшой взрыв, – и опять крик. Подошли, – что такое? Наш солдат, который с Западной Украины, пришел на пополнение… Ведь есть закон войны: прошла машина, иди в колее, – а он в сторону отошел и нарвался на мину. Все ребята шли за пушкой по колее, а он вышел справа от следа колеса, наступил на противопехотную мину, и ему перебило ногу. Вызвали саперов. Они столько мин вытащили, кошмар! Подошел еще один грузовик. Стали выезжать, и он подорвался. Второй раз прислали саперов, снова разминировали, опять мины вытащили. Потеряли две машины…
Страшно было, когда у «студебеккера», на котором мы ехали к фронту, поплавились подшипники. Полк ушел, а нас оставил в бандеровской деревне. Мы по двое круглосуточно по четыре часа стояли на посту, развернув пушку к бою, пока через несколько дней нам не прислали летучку, которая привела машину в порядок. Вот это было страшновато. Когда ты знаешь, что там впереди, это можно пережить, – кто кого. А когда ты не знаешь обстановку, неизвестность психологически напрягает…
– Какое было отношение к немцам?
– Нормальное отношение, как к врагу. Ненависти у меня лично не было. Не видел я и того, чтобы пленных расстреливали.
– Как на фронте с туалетной бумагой?
– Какая там туалетная бумага, если вообще бумаги не было?! Не на чем было писать, писали на газетах! Летом трава, зимой снег – вот и все.
– Политработники у вас появлялись?
– Я отдаю должное этим людям. Это были инженеры человеческих душ. На войне человеку тяжело, ему надо поговорить. Эти ребята были культурные, вежливые. Они выполняли свою функцию по воспитанию человеческой души. Я сам наблюдал, как перед боем в Польше пехотинцев агитировал полковник, замполит. Мы стояли рядом с пехотой. Ударили «катюши», и не по немцам, а по нам. И вот когда дали команду «вперед», – он первым поднялся и своим личным примером повел ребят в атаку. Это был пример, убеждение, это было то, что нужно. И когда я потом служил, то много сталкивался с политработниками. Это зависит от человека, но в принципе, это нормальные ребята. Они воспитывали правильное отношение человека к человеку.
С 163-м полком я дошел до варшавской Праги. Дело было в ноябре. Орудие мы поставили с западной стороны какого-то дома, а себе вырыли окоп с его восточной стороны, так, чтобы при обстреле стены его создавали мертвое пространство для падающих снарядов и мин. Помню, нас обстрелял немец из «Ванюши» – шестиствольного миномета. Я последним прыгал в окоп. Мина взорвалась на балконе. Черепками и осколками на мне посекло одежду, но самого не задело. Потом стало как-то тихо. Вдруг кричат: «Марков, к комбату!» Я пришел к нему: «Ты поедешь учиться на офицера». – «Я не хочу быть офицером. Я уже посмотрел на всю эту грязь войны, не хочу быть офицером». – «Ты знаешь закон военного времени?» – «Так точно, знаю». – «Вот тебе боевая характеристика. Давай, чеши в тыл, к старшине. Он знает, что делать». Я прихожу в расчет, говорю: «Петя, меня направляют в училище офицеров». – «Тебе же повезло. Пока еще до логова фашистов доберешься, знаешь, сколько еще будет боев? Сколько будет всяких испытаний? Поэтому ты бери все наши трофеи, все, что есть у нас, и чеши к старшине». А какие у нас были трофеи? Сало – вот и все трофеи. Чтобы добраться до старшины, нужно было пробежать по открытому месту метров пятьсот до нашего подбитого танка. Под ним был вырыт окоп, называвшийся «пересадка». В этом окопе переждать, пока немцы успокоятся и перестанут стрелять, и уже тогда пробежать еще метров триста до холмов, за которыми немцы ничего не видят. Я говорю: «Ребята, до свидания». Взял «сидор» и побежал. Слышу, стреляют, я под танк залез. Обстрел прекратился, я снова в рывок – и ушел. Вот так я закончил войну.
Борисов Михаил Федорович
Я родился на Алтае в поселке Михайловском Баевского района. Поселок был небольшой – домов 20, притаившихся под зелеными кронами берез. Возле нашего дома бил родничок, соловьи гнездились. Вокруг поселка были конопляные поля. Тогда никто не знал, что коноплю курить можно. Дед, старый семиреченский казак, старался воспитывать внука по-своему. В два или три года он посадил меня в седло. Когда мне исполнилось четыре года, отец поставил в комнате табуретку, на двери нарисовал мишень, зарядил берданку слабеньким зарядом. Я выстрелил, он сказал, что я попал. Не знаю, может, и обманул. Все это я рассказываю к тому, что с раннего детства меня готовили к воинской службе. Так было принято.
Потом мы переехали в город Каменьна-Оби. В школе у нас был хороший военрук, участник боев на Хасане, награжденный медалью «За боевые заслуги». Хоть и не очень грамотный мужик, он любил свое дело и нас, детей. Буквально дневал и ночевал с нами, а мы за ним толпой ходили – первого награжденного увидели. Короче говоря, я знал устройство винтовки, револьвера, пулемета.
В ночь на 22 июня мы с отцом рыбачили за городом. Домой вернулись после четырех пополудни. На нашей улице только у нас было радио. Когда передали, что будет правительственное сообщение, мама раскрыла окно и выставила репродуктор на подоконник. Вокруг толпились соседи, звучала речь Молотова. Помню, лица у всех были хмурые. Только недавно очухались от финской кампании, а тут снова… На следующее утро, еще до рассвета побежал в военкомат. Почти все мои одноклассники, которые были постарше меня, были там. Кого по повестке вызвали, кто сам пришел. Весь двор в военкомате был заполнен людьми! Там меня, естественно, завернули – мне только что исполнилось 17. Побежал в райком комсомола. Там тоже дали от ворот поворот – иди, мол, учись; надо будет – призовут. А мне не терпелось! Думали-то как? Два-три месяца, и война закончится! Я – снова в военкомат. Попал на прием к военкому, он – ни в какую. Я буквально со слезами на глазах умолял! Наконец он сказал: «Ладно, но на фронт я тебя не пошлю. Пойдешь в Томское артучилище». Обидно, конечно, но иного выхода не было. Пришлось согласиться, и уже в конце июня, начале июля я попал в юргинские лагеря. Там прошел мандатную комиссию, был зачислен в училище.
Помню первые стрельбы из 76-мм полковой пушки по движущейся мишени. Деревянный макет танка на длинном тросе тащила грузовая машина. Я с первого снаряда его разбил. Капитан Епифанов, командир батареи, говорит: «Не может быть. Давайте второй макет». Потащили. Я и его с первого снаряда разбил. Он матюгнулся: «Больше ему снарядов не давать, а то останемся без макетов». Удавались мне стрельбы и на винтполигоне. Что такое винтполигон? Это макетик местности, рядом с которым стояла 37-мм пушечка. В канал ствола вставлялся ружейный стволик и свинцовыми пульками мы учились поражать цель. Справедливости ради скажу, что ни тогда, ни после хорошо стрелять из пистолета и винтовки так и не научился. Из пушки получалось, а вот из личного оружия почему-то нет… Конечно, настроение у курсантов было паршивое. Мы не могли понять, почему наша армия отступает. Ведь перед войной трубили: «Малой кровью на чужой территории!» Некоторые говорили, что это стратегия такая. Но я тебе скажу, чтобы руководство или Сталина обвинять в этом? Нет! Упаси Бог!
Вот так четыре месяца проучились, а когда под Москвой сложилось тяжелое положение, меня и еще 150 курсантов погрузили в эшелоны и отправили на фронт. Приехали под Москву. Ребят «покупатели» сразу расхватали, а нас, человек 20–25, то ли самых молодых, то ли наиболее подготовленных, опять посадили в теплушки и отправили в Краснодар, в пехотное училище. Мы месяц были в дороге! Оборванные, грязные, те, кто постарше, заросли щетиной. Вид был, мягко говоря, непрезентабельный. Построились мы на плацу, вышел начальник училища, пожилой, высокий, худощавый, холеный генерал. Прошел вдоль нашего строя, осмотрел нас и резко бросил: «Мне таких курсантов не надо!» На другой день «покупатели» расхватали нас по разным частям, и я стал наводчиком 50-мм ротного миномета. Надо сказать, что участь наша незавидная – минометчик находится в порядках пехоты, но если пехотинец может за кочкой спрятаться, то ты вынужден работать на коленях. Мина летит всего на 400 метров, слабенькая.
Мы немного постояли на переформировке, потренировались в стрельбе, и в конце декабря пошли в Темрюк грузиться на рыбацкие сейнера. Керченский десант… Я еще с детства очень хотел служить на флоте. Почему хотел? Как я сейчас думаю, из-за брюк «клеш» и бескозырки. Но как же меня укачало, пока мы шли из Тюмрюка в Камыш-бурун! Матросы говорят: «Сынок, ты давай спирта глотни, селедкой закуси, легче будет». Я об этом и думать не мог! Сейнер и так пропах этой рыбой! Вылез на палубу, прислонился к мачте… Травил по-страшному. Тут налетели немецкие самолеты. Один сейнер ушел под воду, второй… всего девять сейнеров потопили. Я стоял и молил, чтобы бомба попала в мой, чтобы не мучиться, потому что казалось – страшнее морской болезни ничего в жизни нет…
Высадились очень удачно. Попрыгали в ледяную воду, вскарабкались на берег, по нам почти не стреляли. Керчь мы освободили буквально за несколько часов. Через пару дней в роте осталась примерно половина личного состава. Остальные были ранены или убиты. Минометы были разбиты. Двое суток мы были не у дел, а тут наши захватили три или четыре немецких орудия. Сколотили расчеты. Мы быстро разобрались в немецкой системе, развернули орудия в сторону немцев и несколько часов били по их позициям, благо проблем со снарядами не было – рядом высились штабеля с боеприпасами. Потом нас раскидали по разным частям. Я попал на недельку-две в разведку, но видно, не показался там. Что я? – зеленый юнец, 17 лет… Поставили меня наводчиком 82-мм миномета. Пробыл я там недолго, месяца два, наверное. 22 марта, в день моего восемнадцатилетия, меня тяжело ранило и контузило недалеко от Владиславовки. Лечился в госпитале, располагавшемся в Ессентуках. Оттуда в конце лета 1942 года меня направили в 36-й Гвардейский стрелковый полк 14-й Гвардейской стрелковой дивизии. Вот там я уже начал воевать по своей основной профессии – стал наводчиком «сорокапятки». Пехота, да и мы свои пушки называли «Прощай, Родина» или «Смерть расчета». За те четыре месяца, что я пробыл под Сталинградом, мой расчет 5 раз полностью сменился, а меня не задело ни осколком, ни пулей. Вот что значит судьба. Как на роду написано – так и будет.
Ну что сказать о боях под Сталинградом? Дивизия форсировала Дон севернее его и четыре месяца вела бои по расширению плацдарма, отвлекая немцев от города. 1 сентября, помню, стояли мы во втором эшелоне. Рано утром только встали, кто умывался, кто брился – видим, низко-низко, мимо нас летит немецкий биплан «Хеншель», как мы тогда их называли. Ну, все давай по нему палить. Он пошел на снижение и плюхнулся. Мы – к нему. Одна пуля в него попала и та прямо в сердце летчику! На втором сиденье съежился, как нам потом сказали, майор разведотдела какой-то немецкой части.
В ходе боев мы захватили часть села. Вроде называлось оно Осиновка, но точно я сейчас не помню. Дневали мы в подвале, а продукты нам привозили по ночам. Это был завтрак, обед и ужин. Днем никто не мог пробраться. Однажды нам привезли тушу барана. Ни хлеба, ничего не было – одно мясо. На нашей половине, метрах в 150 от подвала, где мы сидели, догорал дом. Я нарезал баранины в котелок и пошел пожарить ее на этом пепелище. Подхожу. Спокойно шел во весь рост, ни одного выстрела не было. Ставлю котелок на угольки, и в это время по ним пулеметная очередь – трах! Брызги огня во все стороны! Мой котелок падает набок, я отскакиваю метров на пять за кирпичную стенку. Мысль, что меня чуть не убили, не возникла, думал я в этот момент только о перевернутом котелке и вытекающем из него жире. Постоял-постоял, и пошел, пригнувшись, спасать еду. Только руку к котелку протянул – опять пулеметная очередь по углям! Я опять отскочил за стенку. Понятно, что если бы хотели убить – убили, а так просто развлекаются. Бог с ним, с котелком, решил вернуться к своим. Пошел, прячась за этой кирпичной стенкой. Сначала она была выше меня, потом в мой рост (я еще шел спокойно). Постепенно она сходила «на нет», а когда стала сантиметров 50, я вдоль нее пополз. Только стенка кончилась, гляжу, летит немецкий самолет. Не долетая до меня, сбрасывает бомбу. Я понимаю сейчас, что он не в меня бросал ее, а просто на нашу территорию. Но летела-то она прямо в меня! Не долетела метров 50, наверное… Огромный взрыв – облако пыли, дыма… Я, прикрываясь этим облаком, рванул к своему подвалу, до которого оставалось совсем немного, и нырнул головой вниз. Удачно – ничего не сломал, не повредил. После этого я уже днем жарить баранину не ходил.