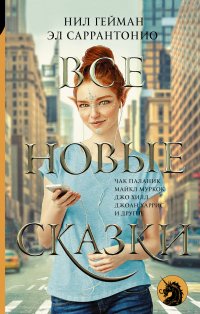Читать онлайн Девушка на качелях бесплатно
- Все книги автора: Ричард Адамс
Richard Adams
The Girl in a Swing
© Watership Down Enterprises Ltd., 1980
© А. Питчер, перевод, примечания, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Розамонде, с любовью
– Τί δὴ παθοῦσα ταῦτ’ ἔπραξ’ ἀμηχανῶ
– ’Αλλ’ ἕστ’ ἄμεμπτα πάντα τοῖς συνειδόσιν[1].
Предисловие автора
В этом романе столько всего намешано, что даже по здравом размышлении мне не удается отделить вымысел от реальности. Не имело смысла называть Брэдфилд-колледж вымышленным именем, поскольку общеизвестно, что именно там существует театр, где пьесы античных драматургов исполняются на древнегреческом, равно как и пытаться затушевать тот факт, что в 1958 году Дэвид Рейберн поставил там «Агамемнона». Однако же в постановке не принимали участия ни Алан Десленд, ни Кирстен, постольку они, как мистер и миссис Кук, а также директор Брэдфилд-колледжа и прочие упомянутые в романе ученики и преподаватели – вымышленные персонажи.
Описания Копенгагена и его окрестностей соответствуют действительности, а вот ресторана «Золотой фазан» не существует. Ярл и Ютте Борген и Пер Симонсен – реальные лица, а мистер Хансен и его сотрудники – вымышленные персонажи. Тони Редвуд и мистер Штейнберг вымышлены, тогда как Ли Дюбос – реальная личность. И так далее.
Ньюбери, как и многие английские города, сильно изменился за последние годы, но я описал его con amore[2], таким, каким помню, и, надеюсь, меня простят за некоторые анахронизмы, к примеру за упоминание здания, которого больше нет. В мое время на Нортбрук-стрит находился магазин фарфора, но следует отметить, что ни его владелец – мой давний приятель, – ни его сотрудники не имеют ничего общего с Аланом Деслендом, миссис Тасуэлл и Дейрдрой. История моих героев списана не с них.
Столь многие помогали мне при написании этого романа, что можно собрать целый синдикат. Я сердечно признателен всем, особенно моей дочери Розамонде, Алану Баррету, Ярлу и Ютте Борген, Джону Гесту, Барбаре Григгс, Хельге Йонссон, Дону Лайнбеку, Бобу Лэммингу, Джону Маллету, Дженет Морган, Клэр Ренч, Перу Симонсену, Реджинальду Хэггеру, Бобу Чемберсу и Роберту Эндрюсу.
Я также благодарен моей жене Элизабет за ее неоценимую помощь в истории фарфора и моему секретарю, Дженис Нил, за терпение и тщательность в перепечатке рукописей и во всем остальном.
Роберт Луис Стивенсон[3]
- Скажи, ты любишь с доской качелей
- Взлетать среди ветвей?
- Ах, я уверен, из всех веселий
- Это – всего милей!
- Взлечу высоко над оградой,
- Все разом огляну:
- Увижу речку, и лес, и стадо,
- И всю страну!
- Вот сад увижу внизу глубоко,
- И крыши, и карниз,
- На воздух вверх я лечу высоко,
- На воздух вверх и вниз!
1
День выдался ветреный – странная погода для конца июля; ветер взвихривал живые изгороди, будто невидимый прилив – водоросли, тянул их за собой, дергал в одну сторону, выпутывал заросли бузины и бирючины из цепких ветвей терновника, срывал со шпалер плети ломоноса и отрясал с дубов в дальнем конце сада мелкие веточки и листву.
Час назад ветер унесся прочь, но теперь, в вечерних сумерках, видно, как он ерошит деревья на вершине хребта, в четырех милях к югу. На фоне бледных небес сгибаются под его порывами буки на склонах холмов Коттингтон-Кламп, но здесь даже травинка не колыхнется; и тишина – умолкли дрозды, молчат кузнечики, в густых пожелтевших зарослях остролиста еще не проснулись сверчки. В сумерках цвета меняются. Головки огромных георгинов – «Черный монарх» и «Анна Бенедикт» – больше не сияют багрянцем, а покачиваются большими пепельными шарами, будто незажженные светильники, привязанные к шестам.
Леса придвинулись ближе – заросли можжевельника, буки и тисы видны так отчетливо, что кажется, будто брошенный из сада камень долетит до Коттингтон-Кламп. Тем не менее иллюзия приближения легко объясняется естественной причиной: все увеличивается, преломляясь в воздухе, отягощенном дождем. Дождь придет вслед за ветром, примерно к полуночи, щедро напоит мальвы и лилии, дубовые рощи, пшеницу и ячмень в полях, раскинувшихся за дорогой.
Карин, будто стрекоза, остро чувствовала предстоящие перемены погоды, ветер, дождь и солнце. Дождливыми вечерами она распахивала двери в сад, впускала в дом звуки и запахи свежих струй и тихонько наигрывала на фортепиано что-нибудь протяжное и печальное, под стать плачу серых туч, изливающих грусть на газоны и блестящие от воды ветви, так что когда я иду домой через сад, притихший под летним ливнем, то слышу и песню дрозда, и, вот как сейчас, прелюдию Шопена. А когда я входил в дом, Карин с улыбкой отрывалась от клавиш и распахивала руки величественным приветственным жестом, будто Гера или Деметра, словно бы одновременно благодаря меня за все окружавшие ее дары и приглашая – призывая – принять дар ее объятий. В такие вечера наши сплетенные тела погружались в медлительный, ровный поток наслаждения, неторопливо влекущий их к гавани, и едва ощутимо вздрагивали, одновременно и нежно касаясь берега; а потом возвращались и шорох дождя, и влажные запахи сада, и тени листвы, скользящие по стене, и быстрый серебристый промельк заката.
Как тут не рыдать?
Вчера мне снилось, что меня разбудил странный, еле слышный звук на первом этаже – какой-то звенящий шепот, будто ветер колыхал подвески из цветного стекла, которые в моем детстве развешивали в садах, чтобы отпугивать птиц яркими высверками и хрустальным перезвоном. Мне пригрезилось, что я спустился в гостиную. Дверцы сервантов были распахнуты, но все статуэтки стояли на своих местах: «Холостяцкая жизнь» и «Супружество» мануфактуры «Боу», «Времена года» фабрики Джеймса Нила, «Девушка с коровой» работы Питера Рейнике и она, та самая – «Девушка на качелях». Звук исходил от них. Они плакали, роняя хрустальные капельки слез. Полки, обитые темно-зеленым сукном, запорошил снег осколков, крошечных, как песчинки. Их острые края обдирали глазурь и роспись статуэток. Обезображенные фигурки были неузнаваемы. Коллекции больше не существовало. Я упал на колени, захлебнувшись криком, как ребенок: «Вернись! Умоляю, вернись!» – и проснулся с лицом, залитым слезами.
Я знал, конечно же, что с коллекцией ничего не случилось, но все равно спустился на первый этаж, будто желая доказать самому себе, что для меня на свете еще есть вещи, ради которых я готов среди ночи пройти двадцать ярдов. Я вытащил из серванта тарелку Копенгагенской королевской фарфоровой фабрики с подглазурным клеймом в виде трех синих волн и сидел, разглядывая волнистые ажурные края с позолотой и веточку французского шиповника, называемого еще «розой мира», нарисованную в те годы, когда Моцарту было чуть больше двадцати, а до того, как Наполеон отправил полумиллионную армию в русские снега, оставалось еще тридцать лет. Разумеется, хрупкая вещица не имела никакого отношения к разгрому наполеоновских войск, а теперь уцелела и в моей личной катастрофе. За этим занятием я провел примерно час и с первыми лучами солнца отправился спать.
Не могу сказать, что я всю жизнь любил фарфор и керамику, но даже в детстве, приходя в магазин, черпал бессознательное наслаждение в изобилии красивых ярких предметов, которые нравились мне больше игрушек: дамы, кавалеры и всевозможные звери, хрустальные графины и бокалы, столовые сервизы из сорока двух предметов – Сюзи Купер или веджвудовский «Строберри-хилл», хотя в то время я, конечно же, еще не знал этих имен. Скорее всего, думал я, корова с клеймом Госса или рокингемский олень сбежали с какого-то волшебного ковчега, полного чудесных фарфоровых зверей; помнится, однажды, после долгих бесплодных попыток его отыскать, я спросил старую мисс Ли, где его прячут.
– Ковчег больше не нужен, мастер Алан, – ответила она. – Потоп давно закончился, и Господь обещал, что такого больше не повторится. Никогда, вот увидишь.
– А ведь… – Я только хотел объяснить, что существуют игрушечные ковчеги для игрушечных, деревянных зверей, но мисс Ли велела мне вести себя примерно и ни к чему не прикасаться, а сама ушла обслуживать какого-то важного посетителя в меховой шубе.
Как я интуитивно сознавал, запрет «ни к чему не прикасайся» следовало соблюдать неукоснительно, однако же это не огорчало меня, а вызывало невольное восхищение, свидетельствуя о высокой ценности заманчивых вещиц. Я не раз слышал, как взрослых – настоящих покупателей – вежливо просили ничего не трогать, а однажды маменька едва не расплакалась, нечаянно отбив краешек цветка на крышке фарфоровой шкатулки со своего туалетного столика. «Ее наверняка можно починить, милый», – сказала маменька, хотя я ее ни о чем таком не спрашивал, а потом аккуратно собрала мельчайшие осколки в бумажный конверт. Вдобавок я так же неосознанно понимал, что мы живем на выручку от продажи этих драгоценных, хрупких предметов. В отличие от других магазинов и лавок, в нашем магазине витал чистый свежий аромат – запах деревянных упаковочных ящиков, стружки и опилок; здесь было тихо и светло, а по полу, выложенному керамической плиткой, звонко стучали каблуки – цок-цок, цок-цок, – когда мисс Ли или мисс Флиттер уверенно направлялись за каким-нибудь кувшином или чайником, точно зная, где его искать. «Прошу вас, пройдемте сюда, пожалуйста, по-моему, то, что вам нужно, есть у нас в пассаже». Пассаж – не просто проход или коридор – был частью магазина: под стеклянной крышей, разделенные панелями матового стекла, вдоль стен тянулись полки, в пять рядов, до самого потолка, а на них стояли чашки, блюдца, тарелки, кувшины, соусники, чайники и поилки для домашних животных, каждая строго на своем месте. Стену пассажа увивали стебли плюща, наполовину затенявшие крышу, в самом конце прохода был крошечный сад, где росли папоротники, а дальше, за зеленой дверью, начинался склад. Я смутно помню старомодный кассовый аппарат за стеклянной перегородкой, на тумбе красного дерева, но от него избавились, когда мне было года три или четыре.
Как мне сейчас представляется, я, особо не задумываясь, гордился магазином на Нортбрук-стрит за его необычность, чистоту и мириады тускло сверкающих предметов, которые полагал драгоценными просто потому, что они были невероятно хрупкими. Однако же магазин сформировал лишь малую толику моих детских впечатлений. Я приходил туда редко, потому что жили мы не «над лавкой», а в Уош-Коммон, тогда еще деревушке в миле к югу от Ньюбери, на склоне холма над городом и долиной реки Кеннет. Наш дом – фахверковый, с двускатной черепичной крышей – носил имя Булл-Бэнкс, данное ему первым владельцем, который был знаком с Беатрикс Поттер и питал к ней огромное уважение не только, как мне однажды объяснили, из-за ее литературных талантов, но и за то, что она являла собой редкий пример по-настоящему независимой женщины. В этом доме я провел все детство и другого не желал.
Теплыми ночами, когда настежь распахивали окна, я лежал без сна в постели, прислушиваясь к далеким гудкам паровозов, подъезжающих к железнодорожной станции Ньюбери, и к еле слышному звону часов на городской ратуше. В июне в спальню прокрадывались ароматы азалий и левкоя и, покружив по комнате, улетали прочь. Иногда залетный комар давал повод привлечь родительское внимание после того, как выключали свет: «Маменька, тут жужжака-кусака!» А можно было, презрев засилье назойливой мошкары, вылезти из кровати и высунуться в окно, разглядывая очертания холмов Коттингтон-Кламп на дальнем горизонте, или дождаться, когда у леса, над копнами сена на опушке беззвучно скользнет сова. В августе слева всходила огромная полная луна, затянутая туманной дымкой, желто-оранжевая, как головка глостерского сыра, выкатывалась из-за дубовой рощи, постепенно наливаясь серебром, и озаряла снопы на жнивье по ту сторону дороги.
Зелеными мартовскими вечерами с вершин белых берез на краю газона нестройно кричали дрозды. Отец часто их отчитывал: «Да слышу я вас, слышу! Фу, как некультурно, вам лишь бы глотки драть. Вот черные дрозды – те поют». Огромный заросший сад был полон птиц, за которыми отец следил круглый год. Летом он сидел на газоне в складном кресле, для виду раскрывал на коленях газету и с наслаждением смотрел и слушал. «Где-то там, в кустах, – пеночка-весничка, – говорил он, когда я приходил звать его на ужин. – Видеть – не вижу, а слышно хорошо». И учил меня, как отличать характерный нисходящий тон ее трелей. Биноклем он не пользовался, но иногда надевал очки и тихонько подкрадывался поближе, заметив поползня на стволе или пищуху в соснах за рододендронами. «Учись распознавать птиц по их повадкам, мальчик мой, потому что этих плутишек очень трудно рассмотреть, особенно когда глядишь против света». Он огорчался, заметив, что снегири выклевывают почки на старой сливе, но никогда не сгонял птиц с дерева.
Мы с сестрой – она на три года меня старше – развешивали на кустах косточки для синиц, разбрасывали хлебные корки и свиные шкурки для скворцов и трясогузок, которые после дождя прыгали среди луж на газоне. Однажды в застекленную раму на веранде врезался на лету малый пестрый дятел – очень редкая птица – и через минуту умер в ладонях отца. Пять лет я проучился в Брэдфилд-колледже и каждый год, в конце марта, получал открытку от отца с лаконичным извещением: «Сегодня слышал пеночку-теньковку».
По слухам – так, во всяком случае, утверждал Томас Хьюз, а за ним повторяют и другие, – чтобы выжить в английской частной школе, надо уметь за себя постоять, однако я ничего подобного не заметил. Оба директора Брэдфилд-колледжа (на втором году моего обучения директор сменился) были людьми гуманными и не полагались на строгую дисциплину, чем задавали тон и преподавателям, и ученикам. Впрочем, по-моему, мальчишкам свойственно уважать постоянство в отношениях, а вдобавок они обладают естественным умением подлаживаться под окружающих. Безусловно, дерзкий юнец с завышенным самомнением вынужден либо доказывать свое превосходство, либо смиряться со всеобщей неприязнью. А того, кто не выдвигает никаких претензий, считается с общепринятыми условностями и счастлив жить, ничем не выделяясь, оставляют в покое, и такому ученику не требуется иной защиты, кроме врожденного чувства собственного достоинства. Во всяком случае, именно так и было со мной. Я провел в школе пять спокойных, ничем не примечательных лет, обзавелся парой друзей, но не испытывал особого желания поддерживать с ними отношения после окончания учебы. Очевидно, они питали ко мне те же самые чувства. Сейчас я понимаю, что мне недоставало теплоты и умения задевать сердца других, да я и не стремился к этому, а просто принимал людей такими, какие они есть.
Во время летнего триместра Брэдфилд-колледж три раза в неделю предоставлял ученикам полдня свободного времени. По окончании второго года обучения игра в крикет была необязательной, что позволяло мне гулять по окрестностям, на велосипеде или пешком. Одинокие прогулки мне нравились, и, чтобы заручиться официальным одобрением преподавателей, я начал фотографировать цветы и птиц. Однажды мои работы удостоились приза ежегодной школьной выставки; помнится, удачный снимок цапли, подлетающей к гнезду, хвалили многие учителя. Я был равнодушен к атлетическим состязаниям и не испытывал особой склонности к спорту, однако получил знак отличия за фехтование. Сабля меня не прельщала, а вот рапира и шпага, требующие отточенной сноровки, доставляли огромное удовольствие. Противник, скрытый маской, не столько враждебный, сколько принимающий вызов, четверка бдительных арбитров, металлический шорох и звон клинков, внезапный резкий крик «Halte!»[4], за которым следует подробный разбор боя и его оценка, – все эти торжественные ритуалы заключали в себе все, чем для меня являлся истинный спорт.
Любил я и плавание, опять же не соревнования, а неспешные заплывы в одиночку, когда ритмичные движения в воде напоминают прогулочный шаг. Летом я часто вставал в шесть утра, гулял в пойме реки, а потом с удовольствием проплывал полмили в купальнях, где еще никого не было; к всплескам воды не примешивались никакие посторонние звуки, и ничто не мешало сосредоточенным гребкам и размеренному дыханию пловца. Выходя из воды, я иногда воображал, что сделал, точнее, сотворил заплыв, будто некий осязаемый предмет, сродни замысловатой резной безделушке или картине, и теперь он занимает место в моем личном пантеоне. Еще я научился неплохо играть в шахматы, а вот бридж меня совершенно не привлекал, будучи игрой интеллектуальной, но командной.
Иными словами, в Брэдфилд-колледже я усиленно постигал науку быть никем и не стремился, в силу природной застенчивости, как-то выделиться среди одноклассников. Более того, я отверг единственную возможность заявить о своем необычном таланте.
А случилось это так. К концу третьего года обучения, то есть когда мне исполнилось шестнадцать и я, сдав за год до того экзамены по курсу средней школы, начал углубленное изучение иностранных языков, один из младших преподавателей естествознания, некий мистер Кук, объявил, что набирает добровольцев для проведения ряда опытов, связанных с исследованиями паранормальных явлений и экстрасенсорного восприятия. Разумеется, желающих оказалось много, но мистер Кук почти всех забраковал – не столько подозревая в них обманщиков, сколько боясь, что излишний энтузиазм помешает проводить исследования строго научным путем. Он искал людей флегматичных и рассудительных, тех, кто не станет изображать из себя героя, если вдруг произойдет нечто необычное.
Хотя официально моим основным предметом теперь значились иностранные языки, в свободное время я по-прежнему увлекался естествознанием. Тем не менее мне не пришло в голову предложить свою кандидатуру для экспериментов мистера Кука. Он сам обратился ко мне после лабораторных занятий и, что называется, начал выкручивать мне руки. «Мне нужны спокойные, невозмутимые люди, – заявил он. – Вот такие, как вы, Десленд». Поскольку его предложение звучало вполне невинно и никаких подозрений не вызывало, я согласился, хотя и без особого энтузиазма.
Самих экспериментов – карточек с номерами, игральных костей и тому подобного – я почти не помню. По-моему, ничего путного из них не вышло. Кроме того, мистер Кук неохотно говорил о результатах, как врач, который внимательно выслушивает пациентов, дотошно расспрашивает их о симптомах заболевания, но не выказывает никакой реакции на их ответы. Может быть, директор школы просил его не поощрять излишних восторгов и прочих «глупостей». Как бы то ни было, все это мне вскоре прискучило, но однажды в пятницу мистер Кук пригласил меня и мальчика по фамилии Шарп, из соседнего корпуса, к себе домой, на субботний обед.
Молодая жена мистера Кука, очаровательная хлопотунья, предмет неустанного восхищения старшеклассников, вкусно накормила нас и всячески обхаживала. Пока она убирала со стола, мистер Кук поддерживал непринужденный разговор и, дождавшись, когда жена снова к нам присоединилась, объяснил, что позвал нас, чтобы провести несколько экспериментов особого рода.
– Не знаю, известно ли вам, но некоторые ученые считают, что существуют люди, способные к экстрасенсорному восприятию, пока не объясненному наукой, – пояснил он, – которое с особенной силой проявляется при взаимодействии с чем-то зловещим или опасным для жизни – иными словами, со злом. Своего рода ясновидение, как у шотландцев или валлийцев.
Он долго рассказывал нам, как в восемнадцатом веке некий «провидец убийств» помог властям задержать в Марселе двух злодеев, совершивших преступление в Париже. В сущности, это все, что я запомнил из рассказа мистера Кука, поскольку меня это совершенно не интересовало.
– Не волнуйтесь, я не собираюсь проверять, сможете ли вы «предугадать» убийцу, – с улыбкой заключил мистер Кук. – Я хочу провести абсолютно безопасный эксперимент. Десленд, подождите, пожалуйста, в соседней комнате, а мы поработаем с мастером Шарпом.
Минут через десять Шарп заглянул в дверь и сказал, что пришла моя очередь. Я вопросительно изогнул бровь, и он прошептал:
– Глупости все это. Зато поели вкусно. И с милашкой Кук повидались.
Мы вернулись в гостиную, где я сразу же заметил на столе пять одинаковых пробирок, до половины заполненных прозрачной жидкостью. Мистер Кук прочел ставшее привычным наставление о том, что надо подавить волю и ни о чем не думать и так далее, а потом сказал:
– Десленд, в четырех пробирках обычная вода, а в одной – серная кислота. Моя жена попробует жидкость из каждой пробирки по очереди. Ни ей, ни вам не известно, в какую пробирку что налито. Остановите ее, если почувствуете, что она берет пробирку с кислотой. Не бойтесь: если вы этого не сделаете, ее остановлю я.
В ходе эксперимента не произошло ничего необычного. У меня не возникло никаких предчувствий, я не воображал, как миссис Кук корчится в судорогах. Она налила в стакан жидкость из первой пробирки и выпила ее; когда она взялась за вторую, у меня появилось смутное, но неотвязное ощущение, что эту жидкость лучше не пить; примерно так же осознаешь, что лучше не открывать окно, если на улице хлещет дождь, или что лучше не ставить горячее блюдо на полированный стол. Я неуверенно помахал рукой и произнес:
– Э-э…
– Верно, – немедленно подтвердил мистер Кук. – А теперь скажите, Десленд, какие мысли у вас при этом возникли?
– Никаких, сэр, – ответил я. – Просто… ну, ничего. Честное слово.
– А там действительно серная кислота, сэр? – спросил Шарп.
Мистер Кук оторвал полоску синей лакмусовой бумаги и окунул ее в пробирку. Полоска сразу же покраснела.
– Давайте еще раз попробуем, Десленд? – предложил мистер Кук.
Случившееся не доставило мне ни радости, ни удовлетворения; я уже обдумывал, как убедить Шарпа не болтать об этом в школе. Отказываться было невежливо. Я снова вышел из гостиной, а мистер Кук занялся пробирками.
Повторять эксперимент было еще скучнее. Я сидел, ни о чем не думая, и любовался миссис Кук, которая то и дело наклонялась к пробиркам. Странным образом я вообще забыл, зачем мы все это затеяли, и вспомнил, в чем дело, только когда она отпила глоток жидкости из пятой, последней пробирки. Наверное, я заметно встревожился, потому что мистер Кук поспешно вскочил и положил мне руку на плечо.
– Ничего страшного, – сказал он. – На этот раз вода была во всех пробирках. Я тайком изменил условия эксперимента, но вас – или некое ваше чувство – обмануть не удалось. Очень любопытно, Десленд. А сейчас вы можете объяснить, какие мысли у вас возникли?
– Нет, не могу, сэр, – с нажимом ответил я; слова прозвучали слишком резко. – С вашего позволения, давайте на этом остановимся.
Я смутно ощутил, во-первых, необъяснимую тревогу, а во-вторых, то, что у мистера Кука не было, скажем так, морального права меня заставлять; сам того не подозревая, он действовал легкомысленно, из эгоистичных побуждений. Для него это был простой эксперимент. А мне, по какой-то непонятной причине, совершенно не хотелось принимать дальнейшего участия в происходящем.
Наступило неловкое молчание. Мистер Кук растерялся. Тогда миссис Кук решила взять дело в свои руки. Она встала, подошла ко мне и нежно потрогала мне лоб.
– Десленд, как вы себя чувствуете? – спросила она. – Не волнуйтесь, ничего страшного не случилось. Это достаточно распространенное явление, которое в один прекрасный день наука сможет объяснить. Не бойтесь.
Моей щеки коснулась мягкая упругая грудь (как сейчас помню, на миссис Кук был голубой джемпер из тонкого кашемира); я вдохнул теплый, женственный аромат – душистое мыло и еле заметный запах свежего пота – и, как любой мальчишка на моем месте, отреагировал спонтанной эрекцией. Сгорая от стыда, я вскочил со стула, закашлялся, торопливо сунул руку в карман, как мог привел себя в порядок, достал носовой платок и демонстративно высморкался.
Миссис Кук с улыбкой взглянула мне в глаза, словно мы с ней были наедине.
– Давайте проведем еще один эксперимент, а, Десленд? Ради меня? – попросила она. – Только не этот, а другой. Разумеется, я не настаиваю, но мне очень хотелось бы…
Тут я окончательно убедился, что движущей силой этой затеи была миссис Кук, а мистер Кук, которого паранормальное интересовало в меньшей мере, просто исполнял ее волю. Мне также стало ясно, хотя я и не мог облечь это в слова, что миссис Кук кокетничает со мной намеренно, чтобы добиться своего. Мне было очень неловко: с одной стороны, ее внимание льстило и возбуждало, поскольку ничего подобного мне прежде испытывать не доводилось, а с другой – меня терзало смутное подозрение, что, хотя ее интерес к паранормальному не выглядит ни легкомысленным, ни праздным, она все-таки не имеет права меня в это втягивать, поскольку ни она, ни я не имеем ни малейшего представления, к чему это может привести. Разница между нами заключалась лишь в том, что я нервничал и боялся, а она – нет. По привычке она вела себя как капризный ребенок или как восточная принцесса, которая для того, чтобы позабавиться, приказывает юному вельможе исполнить нечто опасное.
Разумеется, я согласился (ничего другого мне не оставалось), и она начала рассказывать мне о странном умении профессора Гилберта Мюррея – по словам миссис Кук, он прибегал к нему только для развлечения – определять предмет или идею, загаданную его родными или друзьями в его отсутствие. Естественно, такое занятие выглядело менее зловещим, чем глоток серной кислоты, и я в третий раз вышел из гостиной, чтобы остальные договорились о загаданном предмете.
Эксперимент проходил в леденящей атмосфере. Я понятия не имел, как надо выполнять поставленную передо мной задачу: то ли смотреть в глаза остальным, стараясь отыскать некое «послание», то ли уставиться в пол и ждать, пока меня озарит вдохновение; надо ли высказывать мысли вслух и, может быть, уловить какой-то намек, или лучше стоять безмолвно, словно бы погрузившись в транс, надеясь, что в сознании мелькнет нужный ответ. Ничего не вышло. Помнится, первым загаданным словом было «нарциссы»; второе слово улетучилось у меня из памяти. Я с немой мольбой взглянул на Шарпа, но тут миссис Кук предложила сделать еще одну, последнюю попытку.
На этот раз я вернулся в комнату, чувствуя себя полным дураком, но в общем успокоился и расслабился. Слава богу, глупая затея не удалась, и теперь меня оставят в покое. Наверное, я еще успею минут двадцать посидеть с удочкой на берегу речки Пэнг, а потом пойду на ужин в школьную столовую (общешкольные трапезы были обязательными, вне зависимости от приглашений отобедать или отужинать с одним из преподавателей). Усаживаясь на стул, я мельком взглянул в окно, где в недавно вскопанной прямоугольной клумбе торчала забытая садовая вилка. Непонятно почему, но я не мог оторвать от нее глаз. Сначала я рассматривал ее, будто щегла в зарослях дрока или жука на дерне, то есть вилка стала объектом, полностью поглотившим мое внимание, и я старался разглядеть ее в мельчайших подробностях. Затем меня обволокла липкая пелена отвращения и страха, обмотала плотным коконом, как складками рухнувшей палатки. Мои ощущения в этот момент были сродни тому, что во время войны ощущает женщина при виде почтальона с телеграммой: она провожает его вдоль улицы любопытным взглядом, но, как только он приближается к дому, внезапно осознает, что это означает. Мне казалось, что я остался один-одинешенек, а меня окружает безмолвие. Безобидная садовая вилка превратилась в нечто ужасное, тошнотворное, зловредное. Я совершенно точно знал, что в землю зарыты тела невинно убиенных жертв, и от этих злодеяний меркнет солнечный свет, чахнут цветы, рассыпается в прах миссис Кук с ее соблазнительной грудью и прохладными ладонями. Черви, алчные могильные черви, склизкие и верткие, набиваются мне в рот. Внезапно я четко и ясно увидел, что мир уныл и мрачен, что он – всего-навсего убогая, гадкая свалка и его обитатели обречены вечно мучить друг друга, беспричинно и бесцельно, ради того чтобы бессмысленно наслаждаться своей жестокостью. В этом порочном Эдеме обитало мерзкое подобие Адама, само имя которого было язвительной издевкой над Божественным целомудрием и милосердием. Только теперь мне стало ясно, что все эти воображаемые добродетели – ложь и обман, они нужны для того, чтобы завлечь наивных дев, таких как миссис Кук, а потом задушить, осквернить и зарыть в землю; имя этому мерзкому подобию…
Я упал на пол, и меня стошнило на ковер. Задыхаясь, я корчился в судорогах, выкрикивая:
– Кристи! Кристи!
Мистер Кук показал себя молодцом. Он тут же поднял меня и вывел на свежий воздух, утирая каким-то полотенцем или салфеткой, которую на ходу прихватил в коридоре.
– Десленд, возьмите себя в руки! – Он сорвал веточку крестовника и поднес растертые, остро пахнущие листья мне к носу. – Сколько там телеграфных проводов? Ну, считай вслух!
Меня бил озноб, зубы стучали, но я послушно сосчитал.
Когда мы вернулись в дом, Шарп уже ушел, а миссис Кук все прибрала. Заметно было, что она плакала.
– Простите, Десленд, – сказала она. – Простите меня, пожалуйста.
Я озадаченно посмотрел на нее, потому что, как свойственно шестнадцатилетним подросткам, сам чувствовал себя виноватым. Это я веселье прогнал и всех смутил расстройством странным. Ну, я попытался сказать что-то в этом роде, точнее не помню. Я прополоскал рот, умылся теплой водой с дезинфицирующим средством, и мы с мистером Куком отправились в школу.
Немного погодя я спросил:
– А это… ну, это то, о чем вы все думали, сэр?
– Да, – резко ответил мистер Кук, явно желая сменить тему. – Это я виноват.
(Как я хорошо знал, виноват был не он.)
Он сорвал колосок лисохвостника, с полминуты жевал кончик, а потом сказал:
– Десленд, судя по всему, вы наделены неким… даром, или умением, или чем-то в этом роде. Я вам очень советую о нем забыть. Ни в коем случае не пытайтесь им воспользоваться, понимаете? Послушайте, я должен попросить у вас прощения за то, что втянул вас в это дело. Шарп дал слово моей жене, что будет молчать, и вам хорошо бы последовать его примеру. И на этом закончим. Разумеется, от меня никто не узнает о случившемся.
Я был ему очень благодарен. Мне не приходило в голову, что если бы о происшедшем узнали мои родители и директор школы, то в первую очередь досталось бы мистеру Куку, а не мне. Не подозревал я и того, что могу весьма осложнить ему жизнь, поэтому с готовностью пообещал молчать.
Однако же полностью скрыть случившееся не удалось. Меня мутило, голова кружилась, озноб не прекращался. После ужина я пошел к медсестре, но, кроме пониженной температуры, никаких признаков недомогания не обнаружилось. Весь следующий день я провел в постели, а медсестра строго отчитала меня за то, что я промочил ноги на рыбалке. Это объяснение показалось мне очень удобным, и я повторял его тем своим одноклассникам, которые озаботились справиться о моем здоровье. Вскоре выяснилось, что Шарп все-таки проболтался, потому что через пару дней Мортон, староста соседнего корпуса (он со мной никогда прежде не заговаривал), остановил меня у столовой и спросил:
– Десленд, а что за истерику ты устроил у Кука в гостиной?
Я уже думал о случившемся как о неприятном и весьма прискорбном происшествии, о котором, к счастью, никто не знал – как если бы я взял без спросу и случайно сломал авторучку или теннисную ракетку, но ее хозяин по доброте душевной предпочел бы об этом не упоминать. Нужно было придумать для Мортона мало-мальски вменяемое объяснение (старосте корпуса не скажешь: «Отвали, не твое дело»), поэтому я с притворным удивлением произнес:
– Не понимаю, о чем ты.
– Еще как понимаешь, – не отставал он. – Давай рассказывай.
И тут меня осенило.
– Да Кук выдумывает какую-то чепуху. Ему очень хочется доказать, что все те, кто принимает участие в его экспериментах, либо экстрасенсы, либо телепаты, либо не пойми кто. Все это пустая трата времени.
– А обед с милашкой Кук – тоже пустая трата времени? – ухмыльнулся Мортон.
– Ну, для этого телепатии не требуется.
В голове Мортона хватало места только для одной мысли; ту, с которой он начал разговор, сменила другая – точнее, он и завел беседу с мыслью о миссис Кук, потому что о ней Шарп наверняка говорил больше, чем обо мне. Однако же школьному старосте не пристало обсуждать с каким-то там малолеткой предмет своих пылких страстей или делиться соображениями о том, чем Венера занималась с Марсом.
– Ха, у вас, мальцов, одни пошлости на уме, – фыркнул он и ушел в комнату отдыха.
А я остался размышлять над выражением «валить с больной головы на здоровую». Иными словами, палач негодный, придержи-ка руки кровавые…
Меня мучили стыд и угрызения совести, причем не только из-за позорного поведения в гостях у мистера Кука, но и из-за реакции на прикосновение миссис Кук. Мое брезгливое, пуританское отвращение к физиологическим аспектам всего, что связано с отношениями между полами, зародилось еще в детстве. Долгие годы во мне словно бы жил двойник, своего рода строгий и назидательный опекун (во всяком случае, так я воображал). Он убеждал меня, что внешне я непривлекателен, точнее, уродлив. Во всяком случае, именно так я и считал, находя подтверждение этому и в зеркале, и в словах окружающих. Лет в шесть жарким летним полднем я услышал под окном разговор двух старушек. «Жаль, что он такой невзрачный», – сокрушалась одна, а вторая тут же добавила: «Да, не в мать лицом пошел, она такая хорошенькая». А год спустя, играя с одноклассниками на детской площадке, я застенчиво угостил тянучкой Элейн Сомерс, капризную кудрявую девочку, которая считалась первой красавицей класса.
– Спасибо, хрюндель, – равнодушно сказала она и спрятала конфету в карман.
По ее тону было ясно, что меня давно наградили этим обидным прозвищем. Я ушел, не сказав ни слова.
Задолго до того, как мне стало понятно, что под этим подразумевается, я – личинка ручейника на речном дне – встроил в свой чехлик из кусочков коры и песка твердое убеждение, что для меня наряды шелковые навечно останутся лежать в сундуках. Я избегал объятий и поцелуев – даже материнских, хотя нежно любил маменьку, – и от ласки родственников цепенел, всем своим видом показывая, что это не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Проделывал я это с уязвленной гордостью, будто калека, отказывающийся от помощи. Такова моя участь, горько думал я, но раз уж карты так легли, решил выработать свой уникальный стиль общения, в котором не было места касаниям рук или губ. Задолго до того, как глубокой ночью в школьной спальне меня посетила первая, неожиданная в своей спонтанности юношеская поллюция, во мне прочно укоренилась неосознанная привычка к noli me tangere[5].
Красивые люди зачастую не подозревают о том, что владеют богатством слаще самого сладкого меда, и бродят вместе с себе подобными по шелковистым долам, пышноцветным лугам и трепетным лесам, беспечно полагая (если они, конечно, об этом задумываются), что сюда допускаются все, кроме уродов и калек. Не испытывать сомнений в своей внешней привлекательности, должно быть, очень странно – так же странно, как быть эскимосом. Однако же эскимос не считает себя странным. Там этого не заметят. Там все такие же сумасшедшие, как он сам. К шестнадцати годам я сжился со своим воображаемым увечьем, как с отсутствием музыкального слуха или боязнью высоты. В конце концов, оно практически не усложняет жизнь, в отличие от недержания мочи, диабета или эпилепсии.
Парадоксальным образом я, в отличие от всех остальных учеников Брэдфилд-колледжа, неожиданно для себя сблизился с девушкой, на несколько лет меня старше. В наших чисто платонических отношениях не было ничего скандального, однако же, когда они трагически прервались, особого горя я не испытал. Последний, летний триместр моего выпускного 1958 года я наслаждался относительной свободой, поскольку уже успешно прошел собеседование и был принят в Оксфордский университет, на факультет иностранных языков Уодхем-колледжа. Для приличия я по-прежнему посещал занятия, но особого прилежания от меня не требовали, и в свободное время я принимал участие в работе школьного театра, где в тот год мистер Дэвид Рейберн, преподаватель латыни и греческого, ставил трагедию Эсхила «Агамемнон». Брэдфилд-колледж по праву гордится своим уникальным древнегреческим театром, и, хотя меня никогда не тянуло на сцену, я с удовольствием выполнял всевозможные закулисные работы: рисовал декорации, мастерил оружие и шлемы, суфлировал и не гнушался при необходимости подстригать плющ или подметать ярусы театрона и скену.
Один из школьных преподавателей был женат на датчанке; у них гостила ее племянница, толстушка лет двадцати, которая приехала учить английский – точнее, оттачивать его, поскольку она и без того говорила по-английски бегло и выразительно. Ее прозвали «датской плюшкой», потому что красотой она не блистала – что, как я узнал впоследствии, нехарактерно для датчан. Будь она привлекательной, у меня не было бы никаких шансов, но в данном случае соперников не нашлось. Кирстен, очарованная древнегреческим театром, тоже присоединилась к постановочной группе. Она ловко обращалась с примусом, научилась прекрасно заваривать чай и, ко всеобщему удовольствию, весьма успешно обучала Клитемнестру и Кассандру женским манерам, походке и ужимкам. По мере подготовки спектакля Кирстен научилась читать (не вдаваясь в грамматические и синтаксические тонкости) по-древнегречески не хуже меня и на репетициях сидела на каменных сиденьях верхнего яруса театрона (толстый зад заменял ей подушку), чуть слышно повторяя греческие фразы вслед за актерами на скене. Я сидел рядом, сверялся с текстом и до сих пор помню, как Кирстен со сдержанным волнением начинала вслед за Стражем: «θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ ἀπαλλαγὴν πόνων»[6], раз за разом ступая в стилизованный, выверенный мир Эсхила. Я тоже бормотал бессмертные строки, а потом провожал Кирстен к дому ее тетушки, до самой садовой калитки. Мы не прикасались друг к другу, а наши разговоры можно было повторить в любой компании, ничуть не смущая нас обоих.
Помнится, мы спорили о Клитемнестре: какие чувства она испытывает после убийства Агамемнона – вину или страх? Кирстен считала ее самолюбивой безжалостной убийцей, которая пошла на преступление под защитой королевской власти и своего любовника Эгисфа. Усомнившись в такой интерпретации Эсхила, я прочитал (в переводе) вторую часть трилогии, «Плакальщицы», дошедшую до нас в неполном виде. Действие пьесы происходит спустя много лет после убийства, когда сын Клитемнестры, Орест, никем не узнанный, возвращается из дальних краев, чтобы убить мать, тем самым отомстив за смерть отца. Для меня это мало что прояснило, поэтому я спросил воспитателя нашего корпуса, узнаёт Клитемнестра сына или нет.
– Конечно узнаёт, – ответил он. – Незамедлительно. Она же долго этого ждала.
– А почему она ничего не говорит?
– Потому что она знает, что воли богов не избежать. Ей остается только с достоинством принять смерть.
Однако же Кирстен отказывалась принять на веру толкование, предполагавшее, что зритель должен сочувствовать жестокой и кровожадной Клитемнестре. Мы с Кирстен так и не пришли к единому мнению, но меня восхищала ее неколебимая позиция.
Сейчас мне ясно, что я интуитивно распознал в Кирстен родственную душу – вечного неудачника в лотерее Афродиты. Как ни удивительно, мы с ней прониклись теплыми чувствами друг к другу, хотя открыто их и не выражали. Как-то раз, подходя к столовой, я заметил группу своих одноклассников, которые ели мороженое на лужайке. Увидев меня, один из них, некий Хассел, завопил во весь голос: «О, а вот и пекарь! Как там плюшка?» Не раздумывая, я бросился на него, столкнул с крутого берега реки и ушел, не оглядываясь. Такое поведение было для меня совершенно не характерно, поэтому о нем быстро узнал наш воспитатель – человек опытный и понимающий; мы с ним всегда ладили. Спустя пару дней он встретил меня у ворот школы:
– Десленд, вы с вашей знакомой все так же трудитесь над греческой трагедией?
– Да, сэр, – ответил я.
– Главное, не перегибайте палку, – посоветовал он. – Не всякая насмешка требует решительных ответных мер.
Мы оба улыбнулись, и я сказал:
– Прошу прощения, сэр. Больше не повторится.
Кирстен часто рассказывала о Дании, да так увлеченно, что мне самому захотелось там побывать и увидеть все достопримечательности. Однажды, возвращаясь с воскресной репетиции, Кирстен робко пригласила меня приехать к ней в Орхус на летние каникулы в будущем году, когда она вернется домой.
– Там очень красивый кафедральный собор, – сказала она. – Между прочим, самый большой в Дании, построен в тринадцатом веке.
– С удовольствием, – ответил я. – Наверное, я смогу приехать уже в этом году – осенью или перед самым Рождеством.
– Ах, это было бы чудесно! Жаль, что меня там еще не будет.
– Как это не будет?
– Ну, я же остаюсь в гостях у тетушки до конца года.
– Но вы мне говорили… не помню когда, но говорили, что уезжаете в августе.
– Алан, я ничего подобного не говорила.
– Нет-нет, я точно знаю. Конечно же говорили.
– Может быть, вам кто-то другой сказал. Но это не так. Я пробуду здесь до конца года, как планировалось с самого начала.
Я хотел был возразить, но вовремя понял, что это бессмысленно, да и не нужно. Безусловно, Кирстен лучше знала о своих планах, но в то же время я был совершенно уверен, что в сентябре ее уже не будет в Брэдфилде. Но если она мне об этом не говорила, то откуда мне это известно? С ее дядей, воспитателем соседнего корпуса, мы не пересекались, с его женой – тем более. Несколько лет назад – мне тогда было одиннадцать – к нам в гости зашла приятельница маменьки, миссис Бест, и я сказал ей, что два дня назад, катаясь на велосипеде, я видел ее у гостиницы «Суон-инн» в Ньютауне. Она с улыбкой ответила, что я ошибся и что ее там не было. Я не унимался, потому что на самом деле ее видел. Маменька попросила меня нарвать петрушки в огороде, а потом встретила меня на веранде.
– Алан, не спорь с ней. Ты прав, но она явно не хочет этого подтверждать.
– Но почему, маменька?
– Не знаю. Лгать некрасиво и глупо, но давай лучше замнем.
Спустя полгода миссис Бест развелась и с любовником уехала из города. Разумеется, я лишь много позже сообразил, что к чему.
Но сейчас все было иначе. Кому взбредет в голову лгать мне о Кирстен? Более того, меня не отпускало странное чувство, как и с миссис Бест, что я абсолютно, совершенно прав. Однако же происшествие с миссис Бест меня кое-чему научило. Я извинился и сказал Кирстен, что обязательно приеду погостить в Данию на следующий год – летом.
Была и еще одна неосознанная причина молчать. Во всем этом мне чудилось что-то зловещее. Меня томили предчувствие беды и смутная, но отчетливая тревога, – так ребенок, столкнувшись с чем-то непонятным, инстинктивно определяет дурное, будь то супружеская неверность матери или симптом недомогания, о котором она не желает говорить. Вот и я, как дитя, пытался обойти беду стороной, забыть, что обнаружилось под камнем.
Премьера «Агамемнона» состоялась недель за шесть до конца триместра, и после спектакля мы с Кирстен стали видеться реже, на каникулах не переписывались и не уславливались о дальнейших встречах. Разумеется, просить о встрече следовало мне, но то ли это был классический случай, когда «душевное смятение пугает робкое сердце», то ли нежный цветок, лишенный «Агамемнона», увял на скудной почве. Как бы то ни было, по окончании летнего триместра я уехал в Испанию, где отдыхали родители, а в октябре мне предстояло начать учебу в Уодхем-колледже, и Кирстен, как и Брэдфилд-колледж, отошли на второй план.
В начале Михайлова триместра в Оксфордском университете мой брэдфилдский воспитатель прислал мне весточку с наилучшими пожеланиями и приглашение на торжественный ужин в ноябре. Я с радостью дал согласие, потому что все равно собирался в Лондон на спектакль с участием Алека Гиннесса, и в назначенный день пришел в банкетные залы Коннаут, где устраивали ужин. На встречу выпускников по традиции пригласили старосту выпускного класса; мы с ним были знакомы, поскольку он тоже изучал иностранные языки. После ужина мы разговорились.
– Какая жалость, Десленд, что с датчанкой приключилась такая беда, – сказал он. – Вы же дружили…
– С Кирстен? А что с ней? – спросил я.
– О господи, так вы не знаете?
– Нет, – ответил я. – Я ничего такого не слышал. Что с ней произошло?
– Она серьезно заболела. Говорят, лейкемия. Ее отправили домой, как только начались летние каникулы, а в первый день осеннего триместра мистер Теббит вызвал меня к себе и попросил известить учеников. Он очень расстроился, ну и милашка Теббит, понятное дело.
Больше я о Кирстен не слыхал, да и сейчас не знаю, что с ней стало.
Разумеется, не было никаких оснований (из тех, что можно назвать в какой-то степени убедительными) считать, что у меня был дар предвидения. Однако же ночью, лежа в постели без сна, я вспоминал Кирстен – ее рассеянное tak[7], когда я передавал ей пропитанную скипидаром ветошь, чтобы оттереть краску с рук, ее напряженно сжатые пальцы, когда третий хор умолкал, а из дворца раздавался жуткий предсмертный крик Агамемнона, – и беспрестанно возвращался к мысли, что подспудно так и не поверил ее словам о том, что она пробудет в Брэдфилде до конца года. Не признаваясь в этом ни ей, ни самому себе, я пребывал в твердом убеждении, что осенью ее в Брэдфилде не будет, хотя моя уверенность и не подкреплялась никакими фактами. Естественно, все это меня расстроило и, признаюсь, несколько напугало. А вдруг со мной снова произойдет нечто подобное? Пару дней я провел в тревоге, а потом поступил так же, как и в то воскресенье после репетиции (впрочем, такой же совет я получил бы от любого взрослого человека): начал думать о Кирстен как о той, с кем был когда-то знаком, но больше никогда не увижу (молодость не знает жалости, пока не хлебнет горя), отверг всяческие мысли о так называемой интуиции или чутье и радостно окунулся в новую, по-своему непростую жизнь.
2
В Оксфорде я продолжал заниматься французским и немецким, однако же нашел время и для знакомства с итальянским – языком благодатным и легким в изучении. Тогда же, на первом курсе, я решил, что не помешает и датский – и потому, что по-прежнему собирался съездить в Данию, но по большей части потому, что, ужаленный оводом чужих наречий, я, как девчушка, обожающая лошадей, не мог покинуть пятидесятническую конюшню языков. Я вступил в Скандинавское общество – в Оксфордском университете были, есть и будут общества всего на свете, включая пчеловодство и средневековый мистицизм, – и приобрел учебник грамматики и разговорный курс датского на пластинках фирмы «Парлофон». Надо сказать, это был не самый лучший выбор для затраты избыточной умственной энергии, потому что датский – язык сложный, говорит на нем мизерное число европейцев, а шедевров мировой литературы на датском практически не существует; вдобавок все датчане прекрасно знают английский. О причинах своего выбора я не задумывался, но, как сейчас понимаю, меня все-таки задела горькая участь Кирстен, и изучение датского я начал словно бы в ее честь. На середине второго курса датский пришлось забросить – нужно было готовиться к экзаменам, – но позже я снова к нему вернулся, на этот раз осознанно.
Как и для всех, студенческие годы были для меня счастливыми. Я обзавелся друзьями, познакомился с интересными людьми и, в общем, не сидел без дела. Поначалу я продолжал занятия фехтованием, но, когда выяснилось, что дух соревнования в Оксфорде очень силен, а для того, чтобы добиться успеха, не обойтись без серьезных тренировок, я решил не тратить на это время.
Другое дело – плавание. Для него не требовалось ни членство в плавательном клубе, ни борьба с соперниками. В Брэдфилде летом можно было купаться под открытым небом лишь на отведенном для этого пятидесятиярдовом участке купален, а вот оксфордские реки – извилистые водяные дорожки, по обочинам которых росли ивы, лютики и таволга, – предлагали куда больший выбор удовольствий. Нужны были только приятель с полотенцем и плоскодонка (или настоящая гребная лодка), куда можно было сложить одежду. Я совершал заплывы от паба «Герб Виктории» до университетских парков, от Пасторской отрады до Магдаленского моста, от моста Фолли до шлюза Иффли, от паба «Форель» вдоль пойменных лугов Порт-Медоу. Я даже хотел проплыть по ручью Трилл-милл, который течет по подземному туннелю от Парадайз-сквер до садов колледжа Крайст-Черч, но отказался от своего замысла – не выношу темных замкнутых пространств. Как ни странно, таких пловцов-любителей, как я, почти не было. Apparent rari nantes in gurgite vasto[8]. Несомненно, multi[9] предпочитали состязаться в хлорированных водах городского бассейна Каули.
К концу второго курса я начал задумываться над тем, что делать после окончания университета. Так или иначе, надо было самому зарабатывать себе на жизнь. Мой отец (к тому времени он разменял шестой десяток, и здоровье его пошатнулось) был человеком обеспеченным и делал все возможное, чтобы магазин фарфора в Ньюбери процветал, однако же, как и почти всем представителям среднего класса, в послевоенные годы ему жилось трудно. Он никогда об этом не упоминал, но мне было известно, что весь нажитый им капитал он вложил в образование детей. Моя старшая сестра Флоренс – мы звали ее Флик – окончила Мальвернский женский колледж и исторический факультет Даремского университета, получила достойный диплом и теперь преподавала в школе под Бристолем. Хотя формально она жила самостоятельно, на свое жалованье, я знал, что отец выплачивает ей небольшое пособие. Я ее этим не попрекал, потому что мы с Флик были очень близки (насколько мне известно, братья и сестры не всегда испытывают друг к другу теплые чувства) и я восхищался и гордился ею. Миловидная, общительная и доброжелательная, моя сестра гораздо легче меня сходилась с людьми. После окончания университета она сразу же поступила на службу, поэтому, учитывая пример сестры и финансовое положение семьи, мне оставалось только последовать примеру Флик, а не валандаться без дела пару лет, присматриваясь, чем бы заняться.
Вопреки общепринятому мнению, знание иностранных языков не приносит больших денег. Это ценное дополнительное умение само по себе значит мало. Меня не привлекала ни служба в государственном аппарате или в Министерстве иностранных дел, ни преподавательская деятельность, поскольку я не имел ни малейшей склонности общаться с подрастающим поколением и уж тем более что-либо ему объяснять. Итак, когда над головой задули ветра мира взрослых с его затратами и приобретениями, мне, как и многим в моем положении, скромные прелести уединенного уголка, которые я прежде отвергал, предстали в новом, весьма соблазнительном свете. Если существует успешное семейное дело, то почему бы им не заняться?
Однажды в августе, после ужина, когда мы с родителями и Флик пили кофе на веранде, откуда открывался вид на опаленные летним солнцем холмы, я объяснил свою задумку. Никаких возражений не последовало. Вопросы отца были связаны исключительно с его желанием убедиться, что я действительно этого хочу, а не поступаю так из чувства сыновьего долга, жертвуя возможной карьерой. Из последующего разговора мне самому стало ясно, что думал я не только о крыше над головой. Для начала, я прекрасно знал, что безбедное существование никому не гарантировано. Мне предстояло обучиться ведению дел, и лишь после этого, лет эдак через десять, я превращусь, по меткому выражению Джерома К. Джерома (а может, кого-то другого), «в капитана линкора „Ужасный“». Коммерческая конкуренция беспощадна, и, как за партией в нарды, с волею случая приходится мириться даже самым опытным и искушенным игрокам. Должен признать, что до сих пор я не зарекомендовал себя человеком, способным жить не по правилам. Смогу ли я продолжить семейное дело? Если нет, то это в первую очередь скажется на моих родных, а затем о нашем разорении узнает и весь круг наших давних друзей и знакомых.
С другой стороны, если моя попытка обернется успехом, то я буду не только сам себе хозяин, но и останусь в Ньюбери, в доме, где я родился и вырос. Если мое нежелание покинуть родное гнездо объясняется робостью и застенчивостью, то подобные недостатки характера следует считать достоинствами. В последние сто лет в больших городах стало неприятно жить и работать, а выражение «деревенская жизнь» утратило презрительный оттенок, поскольку железные дороги, автомобили, радио, телевидение, холодильники, современная медицина и прочие прелести цивилизации доступны повсюду; нынче те, кто переезжает в деревню, всеми силами оберегают свою загородную делянку от вторжения чужаков и благодарят провидение за то, что могут себе это позволить. Итак, я подробно излагал свою точку зрения, чрезмерно упирая на свою застенчивость и на тяготы жизни в большом городе, но тут меня прервал отец:
– Алан, может быть, тебе это покажется глупым, но позволь узнать, не раскаешься ли ты впоследствии в своем выборе? Торговое дело по-прежнему считается занятием вульгарным, или как там это теперь принято называть? Плебейским? Все-таки ты – выпускник Оксфордского университета. Ты уверен, что не пожалеешь о принятом решении?
– О господи, отец! Конечно уверен. Даже странно, что ты счел нужным об этом спрашивать.
– Может быть, я и сглупил, но мне стало любопытно: вдруг ты решил… ну, не знаю… Возродить былую славу семьи, вернуть ей заслуженное положение в обществе или что-нибудь в этом роде? Должен тебя разочаровать: все эти мысли можно смело выбросить из головы, потому что, насколько мне известно, никакого особого положения наша семья никогда не занимала.
– А откуда я тогда взял, что в восемнадцатом веке наши предки были поместными дворянами в Гиени?
– Да-да, я помню, пару лет назад ты упоминал что-то о «поместных дворянах», но я такого никогда не говорил, просто не счел нужным тебя поправлять.
– Но ведь родоначальник нашего семейства, Арманд Десланд, бежал в Англию во время Французской революции. Предположительно потому, что был дворянином, верно?
– Я этого не утверждал.
– Ну, я как-то так воспринял нашу беседу. Мне тогда было лет двенадцать. Честно говоря, с тех пор я об этом не задумывался.
– Что ж, я помню, как рассказывал тебе, двенадцатилетнему, историю нашей семьи. Должен признаться, я обрисовал ее в общих чертах и многое опустил. Однако же ни разу не называл наших предков «поместными дворянами».
– Значит, я сам это придумал. В двенадцать лет дважды два часто равно пяти. А что было опущено? Какой-то скандал? Если наш предок перебрался в Англию в начале девяностых годов восемнадцатого века, то почти наверняка из-за революции во Франции.
– И да и нет, если верить твоему прадедушке. Между прочим, мы с ним часто виделись. Он дожил до восьмидесяти пяти. Арманд Десланд умер в возрасте восьмидесяти двух лет, если не ошибаюсь, в тысяча восемьсот сорок первом, а твой прадедушка, его правнук, родился в тысяча восемьсот сорок пятом, а скончался в тысяча девятьсот тридцатом. Я приходил к нему в гости, читал ему газеты, рассказывал о делах в магазине. Как ни странно, но двести лет – не такой уж и долгий срок, правда? Кстати, торговать фарфором начал не твой прадед, а мой отец, в тысяча девятьсот седьмом году. Но дед вложил в дело свой капитал и получал с него немалые проценты.
– Ну а что за история с Армандом Десландом?
– Во-первых, никакой он не поместный дворянин. А во-вторых, из Франции он бежал не из-за революции. Точнее, не совсем из-за нее. Дедушка мне рассказывал, что Арманд был крестьянином, родился в Аквитании, в местечке Марманд и, по слухам, обладал способностью то ли предугадывать будущее, то ли еще что. И, как говорят, неплохо на этом зарабатывал – предсказывал погоду, урожай, удачные или неудачные браки и все такое. По словам дедушки, однажды Арманд обратился в полицию, потому что якобы этот самый дар ясновидения подсказал ему, где искать труп младенца, умерщвленного местной красоткой, некоей Жаннеттой Леклерк. Ничего хорошего из этого не вышло. На суде Жаннетта, прибегнув к своеобразной защите tu quoque[10], заявила, что, хотя Арманд и не отец ребенка, они были любовниками, только рассорились и теперь Арманд хочет ей отомстить.
– Правда, что ли? – спросила Флик.
Отец пожал плечами:
– Теперь уже ничего не докажешь. Разумеется, Арманду пришлось отпираться, и девицу оправдали: то ли судья пожалел красотку, то ли у нее оказался богатый покровитель. Тем не менее доброе имя она утратила, и в округе не нашлось желающих взять ее в жены, поэтому она уехала в Бордо, где вскоре стала известной кокоткой. Судя по отзывам современников, она действительно была очень красива – и развратна.
– А потом что?
– Дедушка утверждал, что Жаннетта всеми силами старалась отомстить Арманду. В тысяча семьсот девяносто втором она завела себе влиятельного любовника, кого-то из политических деятелей эпохи Французской революции… Ты лучше меня должен знать, как их называли.
– А, жирондисты? Местные, из департамента Жиронда. Видно, он и привез ее с собой в Париж.
– Вполне возможно. Как бы то ни было, к тому времени Арманда Десланда в округе невзлюбили, в частности из-за его так называемых сверхъестественных способностей. У него якобы были видения, он слышал потусторонние голоса – в общем, прямо как Жанна д’Арк. В конце концов из Парижа приехал следователь, обвинил Арманда в шарлатанстве и колдовстве. И тут оказалось, что бедняге Арманду совершенно не на кого положиться, кроме юной жены, простой крестьянки, с которой они сыграли свадьбу за пару месяцев до того. Она его не бросила.
– Молодец! – сказала Флик. – Значит, они сбежали. И что было дальше?
– Не знаю, дедушка об этом подробно не рассказывал. В общем, они добрались до Бордо, а оттуда переправились в Англию, и очень вовремя, потому что через месяц короля Франции казнили, а между Англией и Францией началась война. Арманд до конца жизни оставался крестьянином, хозяйствовал на ферме где-то в Суссексе, а его сын, который родился уже в Англии, пошел другим путем. Он сменил фамилию на Десленд, пошел во флот простым матросом и дослужился до помощника капитана. Так что, мальчик мой, вот какие мы поместные дворяне.
– Все равно очень интересно. Надо как-нибудь съездить в Марманд, – может быть, что-нибудь разузнаем. Кстати, я не считаю торговлю унизительным занятием и готов прямо на каникулах поработать в магазине. Если будет свободное время, конечно, мне же надо готовиться к экзаменам.
Год спустя, получив достойный диплом – так же как Флик, с хорошими оценками, но без особых отличий, – я съездил отдохнуть в Италию, а по возвращении стал партнером в магазине фарфора на Нортбрук-стрит.
3
Недель через шесть после того, как я начал осваивать семейный бизнес, мне стало ясно, что гончарное дело – единственное средство спасения всего сущего. Вначале прибыль меня не интересовала, что я полагал признаком истинного призвания. А еще я проникся убеждением, что весь мир существует лишь для того, чтобы добывать глину и обжигать ее в печах, а деревья, цветы, звери и птицы служат прекрасными моделями для восхитительных керамических изделий. Провидение даровало нам потребность в еде и питье, а потому нам необходимы тарелки, горшки, блюдца, чашки и плошки. Глазурь и эмалевое покрытие свидетельствуют о нашем превосходстве над всеми остальными живыми существами, поскольку, хотя многие твари и обретают наслаждение в мелодичных звуках, украшать предметы способен только человек.
Отцу пришлось несколько раз напоминать мне, что, невзирая на высокие моральные принципы и отсутствие стремления к наживе, достойные всяческой похвалы, Джозайя Веджвуд и Майлз Мейсон производили гончарную продукцию не только из эстетических соображений; что необходимо изучать и отслеживать то, что пользуется спросом, и запасаться соответствующим товаром и что именно керамика является тем видом искусства, где самый обычный предмет, не обладающий особой ценностью, например вустерское жаропрочное блюдо или чайник, покрытый коричневой глазурью, доставляет знатокам не меньшее наслаждение, чем самый редкий и дорогостоящий экземпляр.
Разумеется, поначалу моя личная коллекция была весьма скромной, потому что я был стеснен в средствах. До цяньлунского фарфора мне было как до звезды (хотя среди моих знакомых был один, в Уоллингфорде, у которого было цяньлунское блюдо – широкое, плоское, с низким бортиком и рельефным рисунком, холодящим кончики пальцев; оно сидело на подставке черного дерева, будто китайский крестьянин на лужайке перед особняком вельможи); точно такими же недосягаемыми были и предметы, изготовленные на фабриках в Мейсене, Челси или Боу. Для меня они, как и звезды, находились на расстоянии неисчислимых световых лет, а о космических полетах я не мечтал, поскольку и в моей узкой сфере мне еще предстояло учиться и учиться. Однажды я приобрел две якобы плимутские тарелки с изображениями нахохленных птиц, а потом и сам нахохлился, узнав, что они совсем не плимутские. В моей коллекции до сих пор хранится – исключительно из сентиментальной привязанности – статуэтка, изображающая фигуры с картины Ватто L’embarcation pour l’île de Cythère; несмотря на клеймо фабрики «Дерби», это подделка, произведенная мануфактурой Самсона (я тогда еще не уяснил разницы между твердым и мягким фарфором). Тем не менее я мало-помалу начинал разбираться, в чем заключается ценность английской керамики. А вскоре после того, как начался мой период ученичества, я вместе с отцом посетил аукцион Сотбис, где на торги выставили фарфоровые чайники, собранные преподобным Ч. Дж. Шарпом, и убедился, каких высот может достичь стоимость скромной коллекции по прошествии достаточного времени. Впрочем, финансовые спекуляции меня никогда не интересовали. Как дерево, впитывающее корнями живительную влагу для листвы, я осознавал простую истину, о которой более двух тысяч лет тому назад говорил Платон: «Качество, красота и правильность любой утвари, живого существа или действия соотносятся не с чем иным, как с тем применением, ради которого что-либо сделано или возникло от природы». Здесь, впрочем, надо отметить, что не всякое применение практично. К примеру, поначалу я увлекся стаффордширскими фигурками Нельсона.
Собрав девять штук, я переключился на статуэтки Гарибальди, но уже без особого энтузиазма. Я часто представлял себе глазурованные фигурки Нельсона в синем мундире на полках викторианских домов, безмолвно, но выразительно, как греческая ваза Китса, являющие миру, еще не изведавшему ужасов Ипра и Ютланда, всемирно признанный идеал неколебимой, доблестной отваги, к которой все должны стремиться и которая ни у кого не вызывает сомнений. По словам Генри Уиллета, знаменитого собирателя древностей, «почти вся история Англии отражена в ее керамике. Фигурки, украшающие каминные полки английских домов, неосознанно воплощают собой полузабытых ларов и пенатов Античности».
В гончарном искусстве, как в Бахе, заключено нечто большее, чем простые чувства. Во всяком случае, я так считал. По Божественному наущению Бах творил музыку небесных сфер, рассчитанную с такой же математической точностью, как приливы и отливы или орбита кометы Галлея. Чувства, вложенные в его композиции, выдержаны в строгих пропорциях и демонстрируют, что эмоциональность является неотъемлемой частью всех живых существ. В свое время Баха считали не гением, который безудержно, как Гоген, приносил себя в жертву на алтарь искусства, а честным, умелым ремесленником, таким же как его современники – стаффордширские гончары, к примеру Ральф Вуд или Джон Астбери, который, добавив порошок прокаленных кремней к местной глине, добился белизны фарфоровой массы и сумел на практике применить технологию производства фарфора, изобретенную Джоном Дуайтом, точно так же как Бах, вырабатывая свой стиль церковной музыки, опирался на творения Кайзера. Безусловно, керамикой невозможно не восхищаться. Как однажды заметил Марк Твен, со свойственной всем американцам склонностью преувеличивать, «какое-нибудь клеймо на глиняном черепке способно привести меня в состояние болтливого экстаза». (Хотел бы я на это посмотреть!) Впрочем, у меня самого дрожали руки, когда я касался уилдоновской чашки в абстрактных потеках марганцевой глазури, отливающей зеленью. Но, по моему мнению, точно так же как страсть Баха не затрагивала напрямую личные чувства слушателей, а обращалась к ним опосредованно, через общность (для него) христианских верований и Священного Писания, так и восхищение, вызываемое формами, глазурью и декоративной росписью керамических изделий, удерживалось в строгих рамках приличия не только насущной необходимостью сосредоточиться на практических аспектах гончарного ремесла, но и тем, что в ту эпоху мастера, даже самые изобретательные, не задавались целью поразить и взволновать, а, наоборот, стремились подчеркнуть и идеализировать установленный порядок вещей. Более того, наивное несовершенство придавало и придает дополнительное очарование керамике этого периода. Я не раз восхищался неуклюжей провинциальностью работ Феликса Пратта, Обадии Шерратта и других стаффордширских мастеров того времени. Именно безыскусность делает их привлекательными и превращает в выразительный символ человеческого удела – в буквальном смысле возиться в грязи, зарабатывая на жизнь созданием красоты по доступной цене.
В магазине на Нортбрук-стрит я трудился не покладая рук, не из чувства долга и не по отцовскому принуждению, а потому, что мне нравилось этим заниматься. Спустя год мы с отцом приезжали на службу каждый в своем автомобиле, потому что отец возвращался домой, где его ждали прохлада на веранде, бокал джина с лаймовым соком и программа новостей в шесть часов вечера, а я оставался в магазине, чтобы выставить в витрине новый фарфор фирмы «Ройял Далтон», написать письмо о закупке партии посуды фирмы «Споуд», а за ужином в ресторане при гостинице «Чекерс» обсудить дела с новым торговым агентом. Как оказалось – и я считаю это вторым признаком истинного призвания, – мне мало было просто делать то, что велено. Во всем остальном я был робок и застенчив, но, когда дело касалось торговли керамикой, я не боялся ошибиться и постоянно учился у других или размышлял о новых перспективах развития бизнеса, хотя этого, строго говоря, и не требовалось.
В свободное время я удил рыбу, пил пиво в пабах, гулял по окрестным холмам, полям и рощам Энборна и Хайклера, а иногда по субботам ездил в Брэдфилд – посмотреть на спортивные состязания. В Лондон я наведывался редко, чаще всего по торговым делам или на выставку.
Вскоре я стал ездить за границу, где мне очень пригодилось владение языками; поначалу я просто хотел расширить свои познания в керамике, но впоследствии завел множество полезных связей. Одно дело – приехать в Париж обычным туристом, и совсем другое – отправиться туда, чтобы посетить Севрский музей и встретиться с его кураторами. Побывал я и в Берлинском национальном музее, в замке Нимфенбург, где находится Мюнхенский музей фарфора, и в Баварском национальном музее в Мюнхене. Как ни странно, я без особых трудностей получил туристическую визу в Германскую Демократическую Республику и посетил не только берлинский Музей декоративных искусств, но и лейпцигский Музей прикладного искусства, и даже фарфоровый завод в Мейсене. За «железным занавесом» я не столкнулся с какими-либо осложнениями, – похоже, что любителям керамики, как и шахматистам, открыты все границы.
Я съездил в Стокгольм, в музей фарфоровой фабрики «Рерстранд», где у меня возникла мысль расширить семейное дело и наладить торговлю как антикварной, так и современной керамикой. Увидев в Стокгольме великолепные образцы современных керамических изделий, я навел справки, выяснил, что необходимо для импорта, и, как ни странно, совершенно не волновался, хотя понимал, что рискую, вкладывая деньги в непроверенное предприятие. Я был уверен, что затеял важное и нужное дело, а если беркширским обывателям мой товар придется не по нраву, это их проблемы, пусть сами в них разбираются. А я пойду на дно вместе с тонущим кораблем семейного бизнеса.
К счастью, корабль не затонул. Моя идея имела ошеломительный успех. Я счел необходимым расширить круг поставщиков скандинавской керамики. Так и случилось, что спустя десять лет после знакомства с Кирстен я наконец приехал в Копенгаген – «гавань торговцев» на берегу пролива Эресунн, город зеленых шпилей, опоясанный морем.
Я с первого взгляда понял, что для меня Копенгаген – идеал города. Нет, мне не захотелось немедленно сжечь Париж, Рим и Мадрид, но я полюбил Копенгаген всей душой и ни разу не пытался, из так называемого уважения к общепринятым ценностям, отказаться от этого всепоглощающего чувства. Le cœur a ses raisons que la raison de connaît point[11].
Париж, Флоренция, Венеция – все эти города сознают свою красоту, и любоваться ими приезжают толпы людей, но Копенгаген с его барочным великолепием дворцов и церквей обладает скромным достоинством и этим напоминает вежливого аристократа, которому правила приличия не позволяют привлекать внимание к своим знатности и богатству. По счастью, зодчие королевского дворца Амалиенборг не пытались соперничать с Версалем. Отличия в архитектурном подходе были заметны даже в восемнадцатом веке, по окончании постройки Амалиенборга, а в наши дни на тихой площади, где несут стражу королевские гвардейцы в черных кителях и синих брюках, разница видна еще больше. Петр Великий снова смог бы подняться верхом до самой вершины Круглой башни, но его уже давным-давно нет, а она – не такая жестокая, дерзкая и самоуверенная, как он, – по-прежнему стоит на своем месте. В любом другом городе зеленая витая башенка Вор-Фрельсерс-кирхе храма Спасителя выглядела бы забавной достопримечательностью, но в Копенгагене она выражает природную грацию и добросердечие датчан, для которых церкви – не повод для мрачной серьезности. А менее известные, укромные городские уголки – березовая роща у пруда в парке Королевской библиотеки, великолепная коллекция фарфора в Музее Давида – похожи на сокровища, о которых аристократ вежливо умалчивает, давая вам возможность отыскать их самостоятельно, потому что до ужина вы предоставлены самому себе и можете развлекаться, как вам будет угодно. В отличие от других городов, Копенгаген по натуре непритязателен и скромен, а потому располагает к себе и радует сердце. «Как прекрасны уединенные цветы!» – сказал Китс и был прав.
Если честно, то из всех существующих производителей керамики – «Мейсен», «Веджвуд» и прочие – самый интересный фарфор изготавливают в Копенгагене. Есть в этих изделиях некая кремовая гладкость и туманная нежность, от которой щемит сердце. Вскоре я стал частым гостем и на Королевской фарфоровой фабрике, и на мануфактуре «Бинг и Грёндаль», где управляющий, Пер Симонсен, показывал мне частную коллекцию фарфора: великолепные наборы шахматных фигур в виде крестоносцев и сарацинов, полный комплект рождественских тарелок и сервиз Пьетро Крона «Цапля» с синей подглазурной росписью и позолотой. Безусловно, торговцам фарфором совершенно не обязательно посещать фабрики и лично знакомиться с производителями, и по большей части они этого никогда не делают. Как правило, коммерсанты связываются с торговым агентом, который, если он действительно знаток своего дела, способен все объяснить и показать лучшие образцы товара. По правде говоря, мои странствия были сродни тому, как если бы ювелиру вздумалось съездить в Кимберли или хозяину паба – посетить Гленливет и Бертон-апон-Трент. С другой стороны, магометане, даже самые бедные, соблюдая многовековую традицию, обязательно совершают паломничество в Мекку, хотя там, по слухам, и смотреть-то не на что; тем не менее они устремляются туда не ради того, чтобы любоваться достопримечательностями, а по велению сердца.
Однако же мною двигал не религиозный пыл, а более приземленное, хотя и в чем-то сходное чувство. Жители Беркшира почти ничего не знали о старинной керамике и о современном фарфоре. Я решил исправить досадный пробел в их образовании, и безразлично, заработаю я на этом или нет. Главное – сделать что-то нужное и важное. Естественно, начать придется с малого, ведь магазин не мой, а отцовский; вдобавок совесть попросту не позволяла мне заявить отцу, что дело, которым он занимается больше тридцати лет, надо вести совершенно иначе. Впрочем, мы с отцом всегда ладили, ему нравилась моя увлеченность, поэтому он согласился ссудить мне небольшую сумму денег, которую я надеялся вернуть (с пятнадцатипроцентным интересом) в течение трех лет. Итак, во всеоружии, я начал систематически посещать аукционы в окрестностях Ньюбери, завел знакомства среди скупщиков антиквариата и разместил витрины со старинной керамикой и фарфором так, чтобы их сразу замечали посетители.
Все это время я не проявлял особого интереса к девушкам. Безусловно, это может показаться неестественным, но меня вполне устраивало такое положение дел. Возможно, во мне еще теплилось детское убеждение в том, что я некрасив (ведь от давней привычки очень трудно избавиться), а возможно, причина таилась глубже, потому что плотских побуждений у меня не возникало, но я не считал это чем-то ненормальным. Если честно, я об этом даже не задумывался и гордился тем, что довольствуюсь работой, друзьями и уединенными развлечениями. Иными словами, я считал, что ухаживание за девушками отвлекает от работы и в целом усложняет жизнь, а потому на него не стоит тратить время. Нечто подобное могло произойти со мной лишь в том случае, если мне удастся избавиться от своей непробиваемой застенчивости. Моих родителей не тревожило мое одиночество, – похоже, они не торопились меня ни с кем делить.
Сейчас я понимаю, что окружающие считали меня человеком старомодным, чересчур стеснительным и зажатым. Начнем с того, что я исповедовал традиционную христианскую мораль (как банально!), держался особняком, педантично и с некоторой манерностью, хотя всегда ладил с людьми, да и друзей у меня хватало. Но вещи – особенно красивые вещи – привлекали меня гораздо больше; обращаться с ними проще, чем с людьми; их надежность, постоянство и предсказуемость внушают уверенность и доставляют ни с чем не сравнимое удовлетворение. Иными словами, фарфор стал для меня изысканным упрощением обманчивой действительности, которая зачастую не оправдывала ожиданий. Разумеется, мне нравились красивые женские наряды, я их с удовольствием разглядывал, а вот те, кто их носил, казались легкомысленными, избалованными созданиями, которые своими капризами и пустяковыми требованиями портят все удовольствие от созерцания керамики или мешают наслаждаться звуками классической музыки. С наступлением шестидесятых годов в обществе усилились смятение и разлад, а из самых различных областей жизни постепенно исчезали уступчивость и покладистость, равно как и желание придерживаться общепринятых ценностей или соблюдать меру. Мне еще не исполнилось тридцати, но я не хотел следовать веяниям времени, предпочитая обитать в своем хрупком мире искусных мастеров, словно за неприступными стенами особняка на тихой улочке, вдали от шумной рыночной площади с ее гневными протестами и путаными проповедями новоявленных адептов мистицизма. Я и сам понимал, что слишком неприязненно воспринимаю десятилетие, полное искренней радости и пылких страстей, но ничего не мог с собой поделать. В отличие от меня наш священник, Тони Редвуд, вполне проникся духом шестидесятых, и умом, и сердцем симпатизируя как переменам, так и их зачинателям.
– О гордый юноша, презревший бедняков, в один прекрасный день перемены настигнут и тебя, – с улыбкой сказал Тони, выслушав мое неприязненное замечание о каком-то популярном молодежном движении.
Я тоже улыбнулся, хотя и понимал, что шутит он лишь наполовину.
Тони Редвуд и его жена Фрида были моими самыми близкими друзьями. Помнится, в 1965 году, когда Тони появился в нашем приходе, многие относились к нему с опаской, считая его «интеллектуалом». Он отличался живым умом, проницательностью и прямотой, что в глазах местных жителей не совпадало с традиционным представлением о приходском священнике, который предпочитает обходить спорные вопросы и уклоняться от неприятных ответов. Тони обладал критическим складом ума и часто поступал наперекор общепринятым ожиданиям. Впоследствии, когда выяснилось, что он человек отзывчивый, добросердечный, рассудительный и невозмутимый, к нему прониклись доверием люди из самых разных слоев общества, и не только в Ньюбери. Помню, однажды он вернулся домой с прогулки в Кингсклер, а в гостиной его дожидались трое хиппи, которые на попутках приехали из Лондона за советом, как помочь своему знакомому, угодившему в полицию.
Убедившись в моем трудолюбии и непрекращающемся интересе к делу, отец с годами принимал все меньше участия в работе магазина. Нет, я вовсе не пытался вытеснить отца – я его слишком любил и уважал. Он сам все чаще говорил: «Ну, ты делай как знаешь, мальчик мой» или «Пожалуй, сегодня я останусь дома и помогу Джеку в саду». Мы всегда прекрасно понимали друг друга и ни разу не ссорились.
Февральское утро, когда в магазин впервые заглянула Барбара Стэннард, запомнилось мне не из-за нее самой, а из-за моей так называемой секретарши, миссис Тасуэлл. Мисс Флиттер и старенькая мисс Ли почти одновременно решили удалиться на покой: одна – в свой домик в Боксфорде, в долине Лэмберна, а другая переехала к брату, куда-то на юг Лондона. На смену им пришли миссис Тасуэлл и Дейрдра, бойкая девица из Доннингтона, с выразительным беркширским говорком, оставшимся неизменным со времен Джека из Ньюбери и превратившим меня из мистера Алана в Мистралана.
Миссис Тасуэлл была из тех женщин, которых надо либо смиренно терпеть, либо скрепя сердце немедленно уволить, а потом терзаться угрызениями совести и молить Всевышнего о прощении, хотя в том, что они в конце концов попадают в дурную компанию, ничьей вины нет. Эта немолодая особа была не из местных и вела себя очень странно, чего поначалу никто не замечал. К нам ее прислали из редингского бюро по трудоустройству, куда мы обратились за несколько недель до того. Первое время мы не могли на нее нарадоваться, потому что она была вежливой и в общем приятной женщиной с хорошими манерами. Вдобавок она умела печатать и прежде работала секретарем в одном из государственных учреждений. Мы брали ее на место продавщицы, но за незначительную прибавку к жалованью миссис Тасуэлл предложила свои секретарские услуги – машинопись и делопроизводство. Зная, что найти замену мисс Ли и мисс Флиттер будет непросто – такие, как они, остались в далеком прошлом, вместе с горничными и камеристками, – мы с радостью согласились.
Вскоре выяснилось, что миссис Тасуэлл трудолюбива, прилежна и честна, но сверх того обладает невероятной, ни с чем не сравнимой глупостью. Мой отец, перефразируя доктора Джонсона, однажды сказал: «Она по натуре глупа, очень глупа, однако не теряла времени даром и довела свою глупость до совершенства, в природе не встречающегося». К сожалению, я на собственном опыте убедился в правоте его слов. Много лет назад мистер Тасуэлл бросил семью на произвол судьбы, а одиннадцатилетняя дочь упрямо отказывалась жить с матерью и, невзирая на многочисленные распоряжения суда, то и дело сбегала к отцу. Разумеется, миссис Тасуэлл от этого очень страдала. Кроме того, она совершенно не умела обращаться со своими деньгами. Несмотря на то что на ее счете в банке не было средств, она продолжала выписывать чеки и не могла понять, почему их не принимают. Иными словами, она не знала, как жить, пока ей не объяснят, и как можно более подробно. Я разобрался с ее банковским счетом (задолженность оказалась небольшой), перевел его в наш банк, и она обрадованно согласилась доверить мне всю оплату ее счетов и выдачу денег на ежедневные расходы. Мы платили ей приличное, но не чрезмерное жалованье, и через несколько месяцев она с удовольствием обнаружила, что банковский счет регулярно пополняется да и выдаваемых на расходы денег вполне достаточно.
Вернувшись из летнего отпуска, я узнал, что у миссис Тасуэлл украли кредитные карточки; более того, она с гордостью сообщила, что в мое отсутствие не наделала глупостей и отказывалась разговаривать с «грубиянами из кредитного отдела», которые пытались с ней связаться. Я позвонил в кредитную компанию и выяснил, что вора поймали в Брайтоне, но он успел потратить пятьсот двадцать восемь фунтов. Не удержавшись, я заметил, что этого и следовало ожидать, если выписывать кредитные карточки таким клиентам. Разумеется, банк остался в убытке, тем не менее новую карточку выдали с завидной быстротой.
Миссис Тасуэлл была миловидной женщиной и вежливо обращалась с покупателями, хотя часто таила на них обиды за какие-то воображаемые проступки, а потом жаловалась мне, и я терпеливо ее успокаивал и разубеждал. Она действительно умела обращаться с пишущей машинкой, но оказалась страшной аккуратисткой и иногда перепечатывала письмо два или три раза, так что мне оставалось лишь, нервно поглядывая на часы, ждать, пока она закончит. Конечно, можно было подписать и отправить экземпляр с опечатками, но это расстраивало миссис Тасуэлл до слез. Что касается делопроизводства, то я лишь спустя некоторое время сообразил, что именно происходит. «Мистер Десленд, – серьезно и озабоченно говорила миссис Тасуэлл, – прошу прощения, но я еще не успела привести в порядок документы. Вы же знаете, у нас был наплыв покупателей, а потом я подумала, что надо бы переставить вон те кувшины: вы же сами видите, на той полке они плохо смотрятся». Или: «Да-да, я немедленно напечатаю письмо, мистер Десленд. Вы, конечно же, понимаете, что сегодня я уже не успею разобраться с документами». Проблема заключалась в том, что она не понимала содержания документов и, естественно, не могла их правильно рассортировать. Тем не менее миссис Тасуэлл всякий раз – полагаю, не специально, а бессознательно – придумывала совершенно гениальные причины и отговорки.
Несомненно, она была очень странной особой; в ней было что-то от юродивой.
Юная Дейрдра, естественно, недолюбливала миссис Тасуэлл. Я прочел Дейрдре целую лекцию о необходимости поддерживать добрые отношения с коллегами («Это такая же важная и неотъемлемая часть работы, как собственно продажи») и, чтобы не навлечь на себя обвинений в том, что я заставляю сотрудников делать то, от чего сам увиливаю, время от времени заводил разговор с миссис Тасуэлл, пока та расставляла посуду или поливала папоротники (за садом она ухаживала со знанием дела). Как-то раз мне нужно было вернуть моему приятелю, профессиональному рисовальщику, несколько его работ, и я попросил миссис Тасуэлл отнести их на почту. Один из рисунков изображал вереницу ангелочков в белоснежных одеяниях, а последний ангелочек был замарашкой; подпись гласила: «А чья-то мама не пользуется кровью Агнца!» Миссис Тасуэлл выполнила поручение, а чуть позже подошла ко мне и с некоторой заминкой, но, в общем, невозмутимо и без горячности сказала: «Извините, мистер Десленд, по-моему, ваш приятель совершенно не понимает, в чем заключается смысл великой жертвы». Я почувствовал себя как торговец оружием, внезапно оказавшийся перед матерью Терезой. «Миссис Тасуэлл, не знаю, как он, – ответил я, – но я смиренно принимаю ваше справедливое замечание». Этот случай глубоко меня затронул. Да и вообще, непочтительные насмешки и легкомысленные шутки – образчик пошлого и низменного юмора.
В то утро я обнаружил на магазинных полках, в частности в уголке антикварного фарфора, небольшие карточки, размером шесть на три дюйма, на которых готическим шрифтом было напечатано:
- Разглядывать занятно,
- Держать в руках приятно,
- Но если уронить —
- Придется ЗАПЛАТИТЬ!
– Дейрдра, откуда это?
– Наверное, она заказала, Мистралан. Сегодня утром почтальон их принес, вот она целый день и расставляет.
На обороте карточек красовалась надпись «С дружескими пожеланиями от…» и название одной из оптовых фирм, поставлявшей нам товар. Я начал объяснять миссис Тасуэлл, что, хотя в целом это неплохое нововведение, лучше бы нам самим придумать что-нибудь поинтереснее, связанное с нашим магазином (в надежде на то, что она через пару дней об этом забудет), а потом, мельком взглянув на входную дверь, увидел, что на меня с лукавой улыбкой смотрит Барбара Стэннард.
Барбару я знал, поскольку в маленьких провинциальных городах (или, по случайно подслушанному мною замечанию какого-то американца в Оксфорде, «в такой крошечной стране, как эта») все знакомы друг с другом. Она была дочерью оружейника, который держал магазин спортивного инвентаря на Нортбрук-стрит, по соседству с нашим заведением. Стэннарды, люди весьма обеспеченные, жили близ Чивли, к северу от Ньюбери. Барбара водила свой собственный «MG», летом играла в теннис и, обладая неплохим голосом, пела в местном Обществе любителей оперы. На щеках этой стройной блондинки всегда играл румянец, что ей очень шло. Мы мельком встречались на вечеринках и на концертах, и, как мне было известно, все считали Барбару милой девушкой.
– Простите, я не помешала? – спросила она. – Если вы заняты, я тут пока рассмотрю все как следует. Услышите грохот, так и скажите: «Придется заплатить».
– Рад вас видеть, Барбара, – ответил я; миссис Тасуэлл, как обычно невозмутимая и ничуть не обеспокоенная возможными насмешками Дейрдры, направилась в пассаж, на ходу собирая карточки с полок. – Что вам угодно – сервиз из сорока двух предметов или жестяную поилку для кота?
– Алан, у матушки в пятницу день рождения, и мне хочется подарить ей старинный фарфор. Говорят, у вас теперь можно найти настоящий антиквариат. Я бы с большим удовольствием купила бы что-нибудь здесь, а не в Уокингеме или Хангерфорде, где все рассчитано на американских туристов. По-моему, у вас найдется что-нибудь действительно ценное.
В конце концов она купила чайную пару восемнадцатого века, стаффордширской мануфактуры «Нью-Холл». Чашка с блюдцем, расписанные ярким розовым и зеленым узором, больше подходили самой Барбаре, нежели ее матушке. Судя по задаваемым вопросам, Барбару заинтересовала моя скромная коллекция.
Через неделю Барбара пришла снова и купила прелестный образчик люстровой керамики – кувшинчик, облитый медной глазурью, с синей росписью и позолотой.
Я пояснил, что кувшинчик произведен в конце девятнадцатого века и не представляет особой ценности для коллекционеров.
– А мне все равно, – ответила Барбара. – Мне нравится его форма. И вообще, он очень хорошенький. Прекрасно подойдет для букета подснежников.
Усмотрев в этом замечании свидетельство здравомыслия, я ссудил Барбаре свой томик Хэггера «Английская региональная керамика», а спустя неделю пригласил ее на ужин в паб под названием «Бык» в Стритли. Помнится, разговор зашел о Стаффордшире, и я заметил, что на фарфоровой фабрике в Боу работали гончары из Берслема и Стоук-он-Трента.
– Но откуда о них все это известно? – спросила Барбара. – Они же были простыми ремесленниками.
– Как правило, из приходских книг. К примеру, в одной из них обнаружилась запись о Фиби Парр.
– А кто это?
– Фиби Парр – дочь горшечника Самюэля Парра, крестили в Берслеме, в тысяча семьсот пятидесятом году. А похоронили ее на кладбище при церкви Святой Марии, в Боу, в тысяча семьсот пятьдесят третьем. Соответствующие записи сделаны в приходских книгах. И таких косвенных свидетельств множество. К счастью, не все такие печальные.
– Бедняжка Фиби! Наверное, она не выдержала переезда.
– Этого нам уже не узнать. В сороковые и пятидесятые годы восемнадцатого века мастера часто ездили из стаффордширских Гончарен в Лондон, и наоборот. Вот Карелес Симпсон – очень известный…
– А почему у него такое странное имя?
– Его крестили в Челси, в тысяча семьсот сорок седьмом году, и дали имя Карлос. Его отец, Аарон Симпсон, переехал в Челси из Гончарен.
– Что же он не проверил?
– Наверное, грамоте не разумел. А дьяк то ли не расслышал, то ли спешил и не захотел переспрашивать, а потому записал, как получилось.
– Да уж, оба хороши.
Наступила весна, появились пеночки, в неожиданно налетевшие холода зацвели смородина и форзиция, вернулись и другие певчие птицы, а я все больше времени проводил с Барбарой. Несколько раз она ужинала у нас в Булл-Бэнксе, познакомилась с моими родителями и очень им понравилась. Помнится, отец подарил ей белый цикламен из нашей оранжереи, что было совсем не в его стиле. Он считал неприличным оказывать знаки внимания девушке, которая годилась ему в дочери; именно за такое поведение он презирал нашего соседа, «капитана» Трегоуэна, родом бог весть откуда, который женился на глупой, но богатой дурнушке, и ухлестывал за каждой юбкой в округе. Однако же отец подарил Барбаре цикламен, потому что ему понравилось ее искреннее восхищение цветком.
Ознакомившись с «Английской региональной керамикой», Барбара приступила к изучению справочника Роберта Шмидта «Фарфор». Мы с ней поехали на аукцион в Петерсфилд, где она приобрела фаянсовое блюдо ламбетского «дельфта», причем гораздо дешевле, чем я предполагал. (День выдался ненастный, а в Саутгемптоне проходили крупные торги, на которые и уехали многие покупатели.) Барбара была со мной дружелюбна, но сдержанна; я полагал, что она точно так же относится к своим знакомым из Общества любителей оперы. Разумеется, временами она позволяла себе всплеск эмоций – к примеру, заполучив ламбетское блюдо, она запрыгала от радости и расцеловала меня в обе щеки, – а в беседе не боялась дружески подшучивать надо мной, как в тот раз, когда увидела дурацкие карточки миссис Тасуэлл. Однако же ни в ее поведении, ни в манере разговора не было никаких намеков на сердечную привязанность или душевную близость – точно так же как и в моих мыслях о ней.
Однажды июньским вечером я заехал за Барбарой на Зерновую биржу, где шла репетиция «Микадо» (Барбара исполняла партию Питти-Синг, которая мне нравилась больше, чем партия Пит-Бо). Мы проехали через Хэмстед-Маршалл в Кинтбери, где поужинали в пабе, а потом, украдкой забравшись в частные владения, подальше от посторонних глаз, искупались в запруде на реке Кеннет. Полчаса спустя Барбара, возбужденная и раскрасневшаяся, сидела рядом со мной в машине и, как девчонка, вытирала мокрые волосы полотенцем. Внезапно она обняла меня за шею и поцеловала в губы:
– Ах, Алан, я так тебя люблю! У меня слов нет. Ты такой чудесный! Ради тебя я на все готова – на все!
Ее искренняя непосредственность была прекрасна, как миндальное дерево в цвету, и так же невинна. Поступок не выглядел нарочитым, как в заранее запланированной кампании. Помнится, в каком-то журнале мне попался шутливый скетч: скамейка в парке, на ней – парочка; моряк держит на коленях девушку, а за ее спиной прячет книгу «Как завоевать женщину», раскрытую на странице «Часть 4. Победа». «О Мейбл, – декламирует он, – твои слова разжигают во мне… дикую страсть». С Барбарой ничего подобного я не испытывал. По-моему, она сама изумилась своему поведению.
Что меня остановило? Из-за чего я отверг ее предложение? Ее поступок застал меня врасплох? Нет. К примеру, если тебя укусит собака или если вдруг выбьет пробки, в общем-то, подспудно осознаешь, что подобное могло случиться, хотя сознательно ничего такого не ожидал. Из соображений морали? Тоже нет. С одной стороны, я предполагал, что плотские утехи ей не в новинку, но, с другой стороны, знал, что у нее незапятнанная репутация – Барбару никто не обвинял в легкомысленном поведении. По моим, да и по общепризнанным меркам, в ее предложении не было ничего дурного. Если я ей нравился, то она имела на это полное право и сделала это открыто и честно, уж явно честнее, чем «Может, зайдешь на минуточку?» или «Ах, простите, я в неглиже». Значит, она мне не нравилась? Нет, нравилась, и я ее уважал. Барбара неизменно давала мне понять, что ей приятно мое общество. Хорошенькая, живая и пылкая, она хотела меня – не кого-нибудь, а меня. И, если я не ошибаюсь, не ставила при этом никаких условий. А впоследствии, разумеется, не смогла бы утверждать, что таковые были. Для любого молодого человека, в жилах которого бурлит кровь, нечто подобное было бы божьим даром, пусть и на уровне «А вот тебе лишний билет в цирк». Нервное замешательство? С чего бы мне нервничать, если я и не думал ни о чем подобном? Гордость? Но я прекрасно относился к Барбаре, и в ее предложении не было ничего унизительного. Можно до бесконечности размышлять об истинной мотивации и скрытой подоплеке своих поступков, но так ни до чего и не додуматься. Внезапно я ощутил странную неприязнь и отвращение. «Любовь – это не чувство, которое выбирают как нечто в целом приятное, – заявил мой внутренний голос. – Любовь накатывает, поглощает окончательно и бесповоротно, а там будь что будет». Я почти уверен в том, что телом и душой испытывал все те же чувства, что и Барбара. С той лишь разницей, что для Барбары эти чувства были глубоки, а моим – к счастью или к сожалению – неосознанно недоставало глубины. Барбара меня не шокировала, а мне требовался именно шок. Где-то в глубинах моего подсознания возникла уверенность, что лучше будет отвергнуть предложение Барбары. Как мистер Бартлби, я предпочел отказаться. Мой отказ – спонтанный, но такой же искренний, как и ее предложение, – поразил меня больше, чем Барбару. Об этой милой и привлекательной девушке мечтали многие. Я давным-давно должен был заметить ее отношение ко мне, но меня это не интересовало.
Не помню, как именно я выкрутился. Я очень старался. Мы не ссорились, я не довел ее до слез. Она даже не язвила – хорошее воспитание и отзывчивый характер не позволяли. Впоследствии я понял, что это многое объясняет. С ее точки зрения, все было очень просто. Она допустила ошибку, оценивая мои намерения, только и всего. Да, было больно, стыдно и обидно, поэтому обо всем лучше сразу забыть. Как я уже говорил, она была искренней, а ее страстный призыв отличался очаровательной непреднамеренностью, одновременно и обезоруживающей, и навевающей скуку. Да, Барбара заслуживала лучшего. Да, она старалась не задеть моих чувств, смиренно восприняла отказ, не подняла меня на смех, однако не слишком ли крепко она держала себя в руках? Палый лист, беспомощно подхваченный ветром; упоительный восторг, смешанный с ужасом; невольное восхищение неизвестным… как там говорил Онеггер? «Художник не всегда понимает, из чего создает свои произведения». Ничего подобного Барбара не испытывала. Июньский вечер, совместное купание в реке, зов природы – все это нам близко и понятно. А вот «я ей – монарх, она мне – государство, нет ничего другого» – этого чувства не возникало ни у нее, ни у меня. Поэтому я ей и отказал. Какой педант! Однако же мой отказ был вызван отнюдь не мелочными придирками, совсем наоборот. Я и сам не понимал, откуда у меня взялось такое неожиданное, но стойкое отвращение.
Естественно, наши дружеские отношения зашли в тупик, да и куда им было развиваться? А вскорости мне стало некогда раздумывать о причинах моего смущения и замешательства, потому что наступил по-настоящему горестный период моей жизни. В разгар лета, когда пышным цветом расцвели азалии, а над сеткой на теннисном корте сновали мухоловки, тяжело заболел мой отец. Мне и сейчас трудно вспоминать сдержанные прогнозы хирурга («Мистер Десленд, я почти уверен, что у него есть шанс на выздоровление»), душераздирающее спокойствие матери, не проронившей ни слезинки; стойкий запах лекарств, ставший таким же привычным, как запах крема для бритья; нужные и ненужные документы, которые посыльный регулярно доставлял из магазина; благожелательные расспросы друзей, осторожные, как ласковое дуновение на ссадину; срезанные в саду люпины и розы; отрывки из «Таймс» для чтения вслух («На сегодня хватит, мальчик мой, я немного устал»), частые визиты Тони Редвуда, всегда под каким-нибудь незначительным предлогом. Флик звонила нам каждый вечер, а потом приехала перед самым концом семестра, привезла стопки экзаменационных работ, которые надо было проверить и отослать обратно; и за всеми повседневными делами неизменное ощущение того, что нас подхватил бушующий поток и неумолимо влечет к крутому уступу, за который не хочется заглядывать.
Шли недели, и от отца оставалось все меньше. Он уже не был тем, кого мы знали и любили, и исчезал постепенно, как улыбка Чеширского кота, как след закатного солнца над морем. Впрочем, все это позволило нам смириться с неизбежным. Муниципальный чиновник, выписывающий свидетельство о смерти; заботливый и внимательный Тони; гробовщик; соболезнования дальних родственников, – в должный час я был готов ко всему.
В день похорон я срезал все георгины в саду – не нарочно, а подчиняясь какому-то смутному порыву; наверное, мистер Генри Уиллет назвал бы его неосознанным отголоском древнегреческого обычая стричь волосы в знак траура.
4
Смерть одного из родителей резко перебрасывает человека в следующее поколение. Осознание этого странным образом помогает и поддерживает, хотя тревожит – может быть, именно оттого, что тревожит. Король умер, а безутешному принцу надо поскорее взять себя в руки, потому что иначе за неделю все полетит в тартарары. Кто-то, кажется, Эйнштейн, называл работу «лучшим успокоительным средством». Однако в ту горестную осень работа была для меня лишь частью усилий, прилагаемых для того, чтобы удержаться на плаву, потому что иначе выбраться будет очень трудно. Когда я был совсем маленьким, у Джека Кейна, садовника, который приходил к нам через день, была любимая присказка, оставшаяся с фронтовых дней: «Перекур! А тем, кто без сигарет, изображать видимость». (Я не понимал, что это значит, но смеялся, догадываясь, что от меня этого ждут.) И вот я, без сигарет, старательно изображал видимость – поначалу неохотно, через силу, но в конце концов притерпелся к бесчисленным унылым повторениям. Я ответил на соболезнования, проверил и даже опротестовал какой-то пункт в счете, выставленном похоронной конторой (и доказал, что прав), выкопал астры, унавозил клумбы, уговорил маменьку съездить на концерт в Лондон (или это она меня уговорила?), объяснил миссис Тасуэлл, что такое гросс и чем оптовый торговец отличается от человека, который хочет продать ненужный чайный сервиз; нанес визит миссис Одной, поблагодарил ее за цветы; вернул книгу, взятую у миссис Другой полгода назад; после воскресной службы не забыл осведомиться, как здоровье миссис Очередной и не мучает ли ее артрит. Все это ужасно утомляло, – впрочем, меня прекрасно поймут те, кто испытал это на себе.
Гнетущее чувство незначительности происходящего не ослабевало, я остро ощущал бесполезность любых действий и мучился воспоминаниями о бессмысленных, непрерывных страданиях родного человека. Если такая реакция на смерть отца кажется исключительной и чрезмерной, скажу лишь, что мне так не казалось. Для меня, как для Гая Краучбека, отец был и остается лучшим на свете. Кто знает, если бы он не умер, то, возможно, моя дальнейшая жизнь сложилась бы совсем по-другому.
Расцвели ранние хризантемы. Часы перевели на зимнее время. Опала листва. Постепенно жизнь приходила в норму. Я наконец-то осознал, что унаследовал доходное предприятие, с большим запасом товаров и солидным капиталом. С организационной стороной дела я был хорошо знаком: дебиторы и кредиторы, капиталовложения, накладные расходы, бухгалтерия и прочее. Ничего необычного в этом не было. Удивляло другое – чувство полноправного владения. Отец толково заправлял делами, и я боялся оплошать. И все же… Все познается в сравнении, настаивал внутренний голос. Керамика – воздаяние Человека Богу. Господь даровал нам землю под ноги наши, и мы воздаем ему сторицей. Настал мой черед отвечать за то, чтобы Человек во всем достигал лучшего и чтобы у него была возможность определить, что именно является лучшим.
Весной, набравшись смелости, я начал претворять в жизнь свой грандиозный замысел по увеличению продаж старинного фарфора и современной керамики. Сделать это было непросто. Прежде чем что-нибудь предпринять, я обсудил свой план с маменькой и попросил ее согласия. Разумеется, ей было известно, что я задумал, но сейчас я впервые подробно и тщательно объяснил ей все причины своей уверенности в том, что добьюсь успеха. Она признала, что раз уж я поступаю по зову сердца, то обязательно преуспею в своем начинании, однако напомнила о необходимости действовать осмотрительно и не забывать о повседневных заботах. Такое доверие маменьки – ведь от этого зависело и ее благополучие – еще больше убедило меня в правильности нового подхода.
Однако же мы оба понимали, что нам предстоит сложная работа. Новый подход к ведению дел требовал перемены образа мыслей, как если бы я решил сменить торговлю фарфором на совершенно иное занятие – к примеру, стал бы агентом по продаже недвижимости или открыл бы автомобильный салон. Во-первых, продажа коллекционных керамических изделий и фарфора не предполагает оптовых закупок или возврата неходового товара. Во-вторых, в отличие от обычной торговли, приходится иметь дело как с индивидуальными поставщиками, так и с индивидуальными покупателями, и для каждого необходим строго индивидуальный подход. Вдобавок каждое приобретение требует весьма рискованного вложения серьезных средств.
Я был твердо намерен добиться успеха, но все же опасался за судьбу своего предприятия. К счастью, маменьке пришло в голову замечательное решение, о котором я прежде не задумывался и которое позволило хотя бы частично унять мою тревогу.
Однажды вечером маменька сказала:
– Алан, я понимаю, что тебя волнует состояние дел в магазине, потому что приходится часто отлучаться на торги в «Кристис» или «Филлипс». Ты еще не решил, как это уладить? Естественно, от Дейрдры и миссис Тасуэлл особой помощи не дождешься, они попросту не справятся. А значит, через полгода либо все безнадежно запутается, либо ты доведешь себя до полного изнеможения.
– Да, я знаю, маменька. Я часто об этом думал, и меня это очень пугает. Разумеется, мне нужен управляющий – человек тактичный, знающий дело, способный осторожно вразумить продавщиц. К сожалению, такому человеку потребуется соответствующее жалованье, а я не могу позволить себе лишних расходов, иначе все мои планы пойдут насмарку. Увы, ничего не выйдет. Придется мне выкручиваться в одиночку.
Она рассеянно подобрала с пола разбросанные каталоги и аккуратной стопкой сложила их на подоконник, потом присела на подлокотник кресла и стала поглаживать меня по голове, как малого ребенка. Жест этот давно стал для нас своего рода шуткой, означая… Конечно же, он означал: «Милая моя деточка, я тебя от всего защищу». Маменька так делала, когда видела, что я расстроен, – например, когда мне не хотелось возвращаться в школу или, наоборот, когда хотела меня чем-нибудь обрадовать – неожиданным подарком или поездкой к реке.
– У меня есть подходящая кандидатура, – сказала она. – Вдовица, которой прискучило сидеть дома в одиночестве. И опыт у нее имеется, хотя и тридцатилетней давности. Да, кстати, жалованье ей можно не платить, потому что, видишь ли, Алан, она к тебе очень привязана и… Ну что ты, сыночек, не плачь!
Ее предложение потрясло меня до глубины души. Как я запоздало сообразил, маменька давно поняла, что в своем стремлении к совершенству я взвалю на себя непосильную ношу, и с готовностью вызвалась помочь.
Целеустремленные люди преодолевают огромные трудности, как если бы Святой Дух подсказывает им, что и как надо делать (что в целом сводится еще к одному излюбленному выражению Джека Кейна: «Долбить и долбить, делов-то!»). Я начал регулярно давать объявления не только в городском еженедельнике «Ньюбери уикли ньюс», но и в журналах «Кантри лайф», «Аполло» и в ежемесячном «Справочнике антиквара и коллекционера». Я основал в Ньюбери региональное отделение Общества английской керамики, где, по моему приглашению, выступали с лекциями такие известные собиратели и ценители фарфора, как Бернард Уотни и Реджинальд Хэггер. Моими стараниями все в округе, от Рединга до Мальборо, знали, что меня интересует старинная керамика (и наперебой предлагали мне всякое добро, среди которого попадались совершенно удивительные находки). Я прибегнул к услугам лондонского скупщика антиквариата и подробно объяснил ему, что именно представляет для меня интерес. Мы с ним поладили, и вскоре он сам, хорошо изучив мои пристрастия, приобретал необходимое, а вдобавок направлял ко мне американских коллекционеров. С некоторыми американцами я подружился и даже приглашал их к себе в Булл-Бэнкс; мое имя приобрело известность среди американских любителей керамики, и мне предложили выступить с лекциями в Уильямсбурге и в кливлендском Музее изящных искусств (я с благодарностью отказался, сославшись на занятость). Как ни странно, моим самым успешным нововведением стала так называемая «коллекция образцов» английского «дельфтского» фаянса, предназначенная не для продажи, а для привлечения потенциальных покупателей. К каждому предмету прилагалась карточка с объяснениями, и Дейрдра, постепенно проникшись любовью к своему делу и уяснив его значимость, научилась представлять коллекцию тем посетителям, которых полагала важными особами («А вот тут у нас цветочки-мотылечки, ну, это узор так называется, потому как, если присмотреться, они там и нарисованы»). Американцы ее обожали, и щедрые чаевые она честно делила с миссис Тасуэлл. Однажды я предложил Дейрдре:
– А давайте нарядим вас в исторический костюм?
– Чего? Как официантку в «Тюдоровской кофейне»? Не-а, Мистралан, оно мне не по нраву.
Как мы тогда были счастливы! Когда дела идут успешно, нам свойственно забывать о прошлых волнениях, разочарованиях и ошибках; но мы забываем и о том, что поначалу даже не надеялись на успех. Наша память незаметно сглаживает былое уныние, и воспоминания превращаются в своего рода повесть, содержание которой нам хорошо знакомо. Сознавая, что прошлые страхи существовали только в нашем воображении, мы помним только свои умения и смелые, решительные поступки. На самом деле первые два года мне было невыносимо трудно, не только из-за необходимости принимать важные решения, но и из-за постоянного страха – я боялся, что у меня ничего не выйдет, что капиталовложения не окупятся, что мы разоримся. Если бы не маменька – она, скорее всего, тоже очень волновалась, но виду не подавала, – я бы наверняка отказался от своей затеи. Я стал раздражительным, страдал бессонницей и нервическим несварением желудка и видел такие тревожные сны, что всерьез подумывал о психотерапевте.
Меня долго преследовал один кошмар, которого я не мог забыть. Он был таким ярким и выразительным, что в последующие дни я вскакивал с кресла или из-за стола, бормоча бессмысленные фразы типа «Погоди, погоди!» или «Ну давай же, быстрее!», будто стараясь разогнать невыносимые мысли и разбить, как зеркало, жуткий образ, стоявший перед моим мысленным взором.
Мне снилось, что я плаваю в море, ныряю на глубину и снова поднимаюсь на поверхность. Вначале я один, но потом где-то вдалеке замечаю еще кого-то. Женщину. Подплываю поближе и узнаю миссис Кук (которую не видел с окончания школы). Она совершенно нагая и такая же хорошенькая, но в ее красоте сквозит нечто пугающее; лицо и тело переполняет манящая, хищная чувственность, омывает ее, как волна.
– Привет, Десленд! – окликает меня миссис Кук. – Нырните-ка еще разок, а, Десленд? Ради меня? – просит она. – Разумеется, я не настаиваю, но мне очень хотелось бы…
С тем же смешанным чувством неловкости и возбуждения, которое я когда-то испытал в ее гостиной, я снова ныряю.
– Глубже! – восклицает миссис Кук. – Вот так! Чудесно!
Как только она произносит эти слова, я оказываюсь на морском дне, которое завалено мусором, как заброшенный магазин. Повсюду виднеются расколотые тарелки и чашки, разбитые фарфоровые статуэтки, осколки керамики, какие-то бумаги – скомканные и разорванные старые счета, чеки, каталоги и банковские ведомости.
«Нет, мне это не по нраву, – думаю я. – Надо возвращаться на поверхность».
А потом в мутной, илистой воде я замечаю, что кто-то еще – не миссис Кук – пробирается по дну среди мусора. Девочка, лет трех или четырех, ползет на четвереньках по острым обломкам. Я подплываю ближе и слышу горькие рыдания.
– Что случилось? – спрашиваю я. – Ты кто?
– Фиби Парр, – отвечает она. – Я ищу маму, только она далеко, за морем.
– Я тебя к ней отведу, – говорю я и беру ее за руку. – Пойдем.
Девочка оборачивается ко мне, и я с ужасом понимаю, что она давным-давно утонула. Ее распухшее лицо страшнее черепа; полуразложившаяся, губчатая плоть отваливается с костей, тело покрыто лиловыми полосами и пятнами гниения, будто следами давних жестоких побоев; детская ладонь, которую я сжимаю в руке, отламывается от запястья. Девочка пытается заговорить, но не может, слепо тянется ко мне, тычется жуткой культей в обломки…
Я с криком проснулся. Рядом со мной, на кровати, сидела маменька и ласково сжимала мне руку, повторяя:
– Алан, очнись! Да проснись же!
Разбуженная моими стонами, она ворвалась ко мне в спальню, но долго не могла привести меня в чувство.
Рыдая, как дитя, я поведал ей о своем кошмаре. Она по-матерински ласково утешила меня, взбила подушки, принесла мне теплого молока с ромом.
– Не пугайся снов, – шепнула она. – Они не настоящие. А вообще-то, тебе нужно хорошенько отдохнуть и пару недель не перетруждать себя работой. Ты и так еле держишься на ногах, не хватало нам еще нервного срыва. Кстати, поспи-ка ты пару ночей у меня в спальне, все равно над нами смеяться некому.
В маменькиной спальне я провел не две, а три ночи, зато спал крепко и кошмары меня не мучили. А перед сном маменька читала мне Беатрикс Поттер (образцового мастера литературного стиля). Надо сказать, что книги, любимые с детства, великолепно снимают нервное напряжение.
Самым радостным событием того лета стала свадьба Флик. За несколько месяцев до смерти отца моя сестра начала встречаться («ходить», как выразилась бы Дейрдра) с Биллом Радклиффом, замечательным молодым человеком, которым восхищались все («Я б сама за него замуж пошла», – говорила маменька). Он был прекрасным учителем, отлично играл в крикет, и в недалеком будущем ему прочили место директора школы. Сам я втайне считал, что для нашей Флик все женихи оставляют желать лучшего, но понимал, что в этом несовершенном мире лучше Билла ей не найти. Сестра тяжело восприняла смерть отца, с которым они были очень близки. Отец души не чаял в нежной красавице-дочери, а она обожала его чуть ли не сильнее, чем маменька. Невзирая на все волнения и тревоги, я очень обрадовался, увидев, что Флик снова счастлива, и взял на себя все свадебные расходы, расставшись с лучшим экземпляром из своей коллекции фарфора. Свадьба удалась на славу. Погода стояла великолепная, Тони чудесно провел обряд венчания и произнес прочувствованную речь, не доставив никому ни капли смущения, однако поддержал свою репутацию «необычного» священника, и темой своей проповеди взял девятый стих девятнадцатой главы Откровения Иоанна Богослова.
Когда Флик вышла на западное крыльцо церкви Святого Николая, колокола на звоннице возгласили всему миру о свадьбе моей любимой сестры (в тихую погоду звон церковных колоколов был слышен даже в Хэмстед-Маршалле), а вдоль Ревуна (так мы в детстве называли часть реки Кеннет после Уэст-Миллс) выстроилась вереница автомобилей, чтобы отвезти гостей на свадебный обед, – я шепнул маменьке: «Мне завидно, что сейчас тебе не возбраняется плакать». Флик оказала нам неимоверную честь – всей своей жизнью, самим фактом своего появления на свет в нашем доме, тем, что родилась и выросла Флоренс Десленд.
После того как гости разошлись, мы с маменькой сели ужинать.
– Надеюсь, твоя свадьба пройдет не хуже, – сказала она и тут же, как обычно, когда ей казалось, что ее слова могут быть восприняты как попытка вмешаться в мою личную жизнь, торопливо добавила: – Ну, если, конечно же… если тебе будет угодно.
Очень уклончивое замечание, подумал я. Судя по всему, маменька и не надеялась, что я когда-нибудь женюсь.
5
В том же 1974 году, спустя почти пять лет после смерти отца, я наконец ощутил твердую почву под ногами. Было бы неверно сказать, что «риск себя оправдал», ведь дело заключалось не в деньгах. Мною двигала не жажда наживы, а нечто более важное и ценное. Наш товарооборот снизился, не только потому, что мы сократили ассортимент обычной столовой посуды, но еще и потому, что теперь в округе наш магазин заслуженно обрел репутацию антикварного салона. Я стал настоящим антикваром: носил старую одежду, новые вещи покупал редко, а два автомобиля превратились в один («Усохли?» – шутливо поинтересовалась Флик, поскольку именно это выражение я употребил в одном из писем, еженедельно отправляемых ей в Бристоль). Отец, позволяя себе лишние расходы, ежегодно приобретал новые сорта георгин, а я, как Джек Кейн, да и все остальные деревенские садовники, каждую осень выкапывал клубни, сохраняя их для весенней посадки. Разумеется, я не бедствовал и скопил солидный капитал, но расходовал его экономно, как военный арсенал, стараясь, чтобы каждый выстрел попадал в цель. Теперь я гораздо лучше разбирался в керамике и фарфоре и каждый день с удовольствием приходил в магазин. (Однажды утром я так торопился, что маменька, смеясь над моим пылом, заметила, что ей, вообще-то, все равно, но вежливее дать ей пройти в дверь первой.) Моя личная коллекция фарфора, по меткому замечанию Чака Тегзе, одного из наших американских друзей и постоянных клиентов, стала «конфеткой». (Помнится, он сказал это, когда я приобрел статуэтку работы Рейнике – корову и доярку в пышных юбках и с корзинкой цветов; я не собирался отдавать ее в реставрационные мастерские Сатклиффа, хотя тонкие фарфоровые пальчики были сколоты, а коровий рог отломан, но она мне нравилась и такой.) Я чувствовал, что занимаюсь любимым делом, и приобрел известность не только в Беркшире, но и за пределами графства. Зная о сфере моих интересов и предпочтений, ко мне начали обращаться за консультациями. Профессиональные скупщики антиквариата не входят в Общество английской керамики, но практически всем его членам было известно о моих обширных познаниях в области колониальной торговли фарфором в восемнадцатом веке, а те, кто специализировался на современном коллекционном фарфоре, утверждали, что в моем салоне лучший ассортимент современной продукции Копенгагенской королевской фарфоровой фабрики и фирмы «Бинг и Грёндаль».
Продавать миру радость, тем самым зарабатывая себе на жизнь – не важно, скромно или с достатком, – лучшего занятия не придумаешь. К примеру, Сесил Шарп не нажил богатства, да он к этому и не стремился, зато за неустанное сохранение культурного наследия страны ему благодарны все англичане. Равно как и Питеру Скотту. Чудесные утки и гуси в наших парках – его заслуга; странно даже представить, что еще совсем недавно их там не было.
У меня появилось много знакомых в Копенгагене, и я часто туда приезжал. Безусловно, этому способствовало и мое знакомство с датским. Я продолжил его изучение и теперь свободно разговаривал на этом благородном наречии, произошедшем от древнего общескандинавского языка с заимствованиями из верхне- и нижненемецкого. Теперь я не останавливался в гостиницах, потому что друзья наперебой зазывали меня к себе; больше всего мне нравилось гостить у Ярла и Ютте Борген. Ярл был директором издательства, публиковавшего книги по искусству; квартира Боргенов находилась в центре города, в торговом квартале, на Гаммель-Конгевай, что для меня было очень удобно.
Сейчас, тихим июльским вечером, когда ветер наконец-то убрался из сада, я снова вспоминал – неужели это было всего три месяца назад? – как за завтраком у Ярла, в окружении его восхитительного собрания современного искусства, рассеянно поглощая гренки с апельсиновым конфитюром, я раздумывал о том, что мне срочно нужна машинистка-стенографистка со знанием английского, немецкого и датского для печатания документов, с которыми я хотел разобраться перед трехдневной поездкой на Фюн, организованной Ютте. Главная проблема заключалась в том, что уезжать мы собирались после обеда, а с утренней почтой пришли четыре или пять писем из Англии, требовавшие немедленного ответа. В двух письмах содержались предложения о преимущественном приобретении керамики, которые сулили мне неплохую прибыль; мой поверенный, Брайан Лукас, хотел обсудить предстоящую продажу земельного участка в Хайклере, доставшемся мне в наследство от отца, – я решил увеличить свой наличный капитал. К тому же мне надо было ознакомиться с запросами коллекционеров из Мюнхена и из Кливленда, штат Огайо, – письма я получил в день отъезда из Англии и взял с собой, чтобы ответить при первом же удобном случае. Вдобавок мне посоветовали обязательно связаться с антикваром в Орхусе, и, в общем, у меня скопилось много других дел подобного рода. Как бы там ни было, я решил, что проще всего надиктовать ответы грамотной и опытной стенографистке, которая подготовит все документы к нашему возвращению.
За помощью я обратился к Ярлу. Он начал обзванивать друзей и знакомых, а мы с Ютте отправились по магазинам. Когда мы вернулись, Ярл сказал:
– Алан, я решить ваша проблема с нашим другом, Эриком Хансеном, экспортер сельскохозяйственная продукция. Он говорит, вы приходите в контору. Его секретарша каждое письмо пишет на всех языках, если вы диктуете не очень быстро. Она немка, очень хорошая сотрудница. Немецкий и датский знает отлично, английский неплохо. А в пятницу мы приедем домой, и все письма будут готовы.
(Ярл любил говорить на английском, так же как я – на датском.)
Я поблагодарил его, пообещал Ютте вернуться к обеду, собрал документы и отправился по нужному мне адресу. Контора Хансена находилась не очень далеко – в Паноптиконе, на углу Вестерброгаде и Бернсторффсгаде, – и я пошел пешком, ради удовольствия, как турист в незнакомом городе. Пройдя по Гаммель-Конгевай почти до Вестерпорта, я взошел по лестнице и несколько минут постоял у бетонного парапета, глядя на водную гладь озер Санкт-Йоргенс и Пеблинге, сверкающую под солнцем. Над озерами носились стаи белых чаек, а легкий северо-восточный бриз гнал к берегу волны, которые с плеском разбивались о ступени набережной, где кормили уток две маленькие девочки. Была бы у меня горбушка хлеба, я бы с легким сердцем к ним присоединился, потому что этим солнечным майским утром спешить мне было некуда. Неторопливо шагая по Стеносгаде к Вестерброгаде, я ощущал единение с окружающим миром. Я уже давно решил, чего хочу от жизни, но не знал, смогу ли этого добиться. А сейчас я наконец-то понял, что начало положено, мои замыслы нашли многообещающее воплощение и будущее полно надежд. В самом радужном настроении я достиг Паноптикона, где на лифте поднялся на нужный этаж.
Мистер Хансен, седой, дородный и доброжелательный, радушно принял меня, и мы разговорились на смеси датского и английского. Как большинство датчан, он был одет в повседневную одежду, которую англичане сочли бы неподходящей для службы. В целом складывалось впечатление, что он только что вернулся с одной вечеринки, вот-вот отправится на другую и совершенно не намерен заниматься скучной работой. В конце концов мне пришлось напомнить ему о цели моего визита.
– Ах да, конечно! – сказал мистер Хансен. – Фройляйн Фёрстер вам понравится. У вас много документов на английском?
– Четыре или пять писем.
– На них уйдет чуть больше времени, но она справится лучше меня. Вы же заметили, мой английский…
– Нет, что вы, ваш английский…
– Ну, я пару раз был в Лондоне, а она, наверное, нет. Lige meget!
– Jeg er overbevist om at him er glimrende, hr Hansen[12]. Я вам очень признателен. Кстати, как мне с ней расплатиться? Или лучше с вами?
– Нет-нет, и не предлагайте.
– Послушайте, я ведь должен заплатить за…
– Ни в коем случае. Мы всегда рады помочь англичанину, да еще и другу Ярла.
Я решил, что, получив отпечатанные документы, подарю ему пару бутылок кларета. А для фройляйн Фёрстер надо что-нибудь купить, только что? Духи? Шелковый шарфик? Какая досада! Гораздо лучше, если бы мне выставили почасовой счет за работу. Тогда я мог бы с чистой совестью указать на ошибки или выразить свое недовольство и настоять на том, чтобы работу переделали. А так… придется смириться с массой опечаток и неверной пунктуацией, так что я, скорее всего, получу не готовые письма, а черновики. Хотя, наверное, эта фройляйн Фёрстер – пожилая невзрачная особа. Ну разумеется, способности к языкам, все ее нахваливают. Может быть, лучше вручить ей конверт с деньгами? Надо спросить Ютте, прилично ли это. Вежливость – как скакалка: каждый прыгает на ней по-разному, и все замечательно, пока она не спутывает ноги вам или кому-нибудь другому.
Все это я обдумывал, шагая по коридору следом за мистером Хансеном, который почему-то не пригласил фройляйн Фёрстер к себе в кабинет и не отвел меня к ней, а прошествовал не то в приемную, не то в какое-то особое помещение, явно отведенное для переговоров, – судя по всему, экспорт сельскохозяйственной продукции был непростым делом. В комнате, устланной толстым темно-красным ковром, стояли два кресла, обтянутые набивным ситцем, письменный стол с никелированной сигаретницей и двумя телефонами, стул у стола, шкаф, книжные полки с какими-то справочниками и книгами о сельском хозяйстве и животноводстве, столик с кипами старых журналов и небольшой аквариум с тропическими рыбками. У меня почему-то заныли зубы.
– Здесь вам никто не помешает, – сказал мистер Хансен. – Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится, а перед уходом загляните ко мне, выпьем по стаканчику. Она сейчас подойдет.
Я сел за стол и рассортировал свою корреспонденцию по языкам. Спустя минуту в дверь постучали.
– Kom ind! – сказал я и на всякий случай добавил: – Herein![13]
6
Что я подумал и что почувствовал, когда она вошла в комнату? Мы часто приписываем себе всевозможные эмоции и ощущения, которые на самом деле являются следствием ретроспективных осмыслений и результатом естественного желания приукрасить событие (даже для самих себя), драматизировать его forte con brio[14]. Тем не менее я точно знаю, что в тот момент ощутил некое потрясение, как если бы мое сознание взлетело на новый уровень, изменив и мое восприятие окружающего, и саму природу происходящего; так аромат или мелодия не просто навевает воспоминания, но мысленно переносит человека в далекое детство, в Севилью, или в глубокую прохладную воду. За миг до этого я сидел в конторе мистера Хансена, сортируя свою корреспонденцию. Теперь же, хотя я и продолжал этим заниматься, дела куда-то отодвинулись, а на их место беззвучно скользнула прежде неведомая линза, и я, словно бы моргая от яркого света, взглянул сквозь нее на реальный мир, которого прежде не видел. И время, и пространство внезапно преобразились.
Красивая? Да, она была красива. Я сам слышал, как все говорили, что она красива. Однако я и до того видел красавиц, но воспринимал их красоту отстраненно, глазами и разумом, и даже восхищался ею, как восхищается музыкой человек без музыкального слуха на концерте – отчасти из вежливости, отчасти искренне. И дело было даже не в физической красоте; каждое ее движение, каждый взгляд, каждый вздох отличала неописуемая грация, невообразимое изящество и благородство. Тем не менее сами по себе эти качества не стали бы потрясением, нарушившим размеренный ход моего существования. Она источала всепоглощающую женственность, которая окружала ее невидимым сияющим ореолом. Красота эта складывалась из какой-то неуловимой, нездешней отрешенности, так что я, поднявшись при ее появлении, смотрел на нее как будто снизу вверх – из невесомой, словно бы танцующей уверенности в себе, из лукавства и веселости, из насмешливого изумления над тем, какое впечатление она производит на окружающих (во всяком случае, на мужчин). И все же было в ней нечто тревожащее, неопределенное, намек на какую-то цыганскую, точнее, языческую, бесстыдную и беспощадную одержимость, не признающую устоявшихся ограничений, выходящую за рамки общепринятых приличий. В этом, равно как и в грации и благородстве, красота пантеры превосходит унылое безобразие потных и грязных загонщиков, с их вечным табаком за щекой и черной каймой под ногтями. Да, безусловно, у них есть плеть и кнут, но это их не спасет, потому что пойманное ими чудо смертоносно по своей природе. Это создание с острыми клыками и когтями живет по наитию, а не по закоснелым, недальновидным законам человеческого общества, не разделяет людских чувств, не знает ни осмотрительности, ни расчетливости. И вообще, трудно сказать, что оно знает. Оно мечется по клетке, словно бы не подозревая о существовании своих тюремщиков, но на самом деле настороженно осознает их присутствие, их бесстыдное посягательство на его убийственную, коварную непорочность.
А в тот миг все это вспыхнуло у меня перед глазами и рассыпалось ослепительными искрами фейерверка; после вспышки я не разбирал ни цифр, ни цветов и в замешательстве сознавал, что совершенно не знаю, как себя вести, поскольку своим присутствием эта стенографистка оказывает мне великую честь. Я чувствовал себя как Миранда, только наоборот – никогда прежде я не видел настоящей женщины.
Я совершенно не помню, как она была одета.
Она заговорила первой, по-английски:
– Вы мистер Десленд?
– Э-э… да. А вы – фройляйн Фёрстер? Sehr nett, dass Sie mir mit diesen Briefen helfen wollen[15].
– Mit Vergnugen.
– Bitte, setzen Sie sich[16].
Разменная монета; горсть земли; глоток воды; ломоть хлеба; звуки человеческой речи, неотличимые от несметного числа прочих слов, обычный обмен любезностями. Голубые рыбки-неоны сновали по аквариуму, а я следил за ними, пытаясь собраться с мыслями.
– С чего начнем, фройляйн Фёрстер? С писем на английском? Или вам будет сложно?
Она закинула ногу на ногу, опустила на колено стенографический блокнот:
– Es ist mir egal[17].
Потупившись, она улыбнулась – не мне, а каким-то своим мыслям или невидимому собеседнику, словно бы намекая, что то, о чем я говорю, не имеет никакого значения в сравнении с тем, чем она занимается вне наших с ней взаимоотношений, за пределами моего контроля. Мне в голову почему-то пришло вульгарное высказывание Граучо Маркса: «Я – мужчина, вы – женщина, и такие взаимоотношения меня вполне устраивают». Но это отчасти было за пределами ее контроля. Она со мной не флиртовала, как не флиртуют розы с пчелами.
Сейчас мне трудно это представить, но тогда я еще не знал, что она – Карин. В то утро я никак не связывал происходящее ни с собой, ни со своими последующими действиями. Так на прогулке замечаешь какую-нибудь чудесную птицу или цветок, не просто неизвестный, а настолько обворожительный, что он затмевает повседневную суету. Так я до сих пор помню время и место, где я (в двенадцать лет) впервые увидел шпалеру, увитую цветущей ипомеей, – и не помню больше ничего, что случилось в тот день. Точно так же я помню, как впервые увидел павлина, раскрывающего хвост. Эти события самодостаточны, и память стирает все остальное – обыденные дела, хлеб наш насущный. Тем не менее эти сравнения весьма приблизительны. Когда юный Элгар взял в библиотеке партитуру Первой симфонии Бетховена и, по его собственным словам, с восторженным изумлением осмыслил ноты скерцо, то понял, что в музыке много такого, чего он еще не постиг, и это его взволновало. Однако же само впечатление, хотя и подобное холодным граням сверкающего самоцвета, в отличие от камня было живым и теплым.
Письма я диктовал с несвойственной мне рассеянностью. Нет, я не воображал жизнь фройляйн Фёрстер за пределами конторы, но меня тревожило смутное ощущение несовместимости нашего занятия с тем, что я тщился описать выше. Кажется, у Дюрера есть гравюра, где изображена Мария Магдалина в саду, удивленно взирающая на того, кто, как садовник, взвалил на плечо лопату и мотыгу. Не сочтите за дерзость, но я не могу иначе объяснить свои ощущения и мысли в тот момент. Фройляйн Фёрстер стенографировала. Происходило что-то непостижимое, но я не знал, что именно.
Наконец я распахнул перед ней дверь и сказал:
– Vielen Dank[18]. Я позвоню в пятницу, и, может быть, мы снова увидимся, проверим письма, если у вас найдется время.
Она снова улыбнулась, на этот раз – мне:
– У меня найдется время.
Казалось, эти слова не имели никакого отношения к письмам, а означали примерно следующее: «У меня найдется время для встречи с теми, кто чувствует и понимает мою суть».
Я вернулся к мистеру Хансену. Конечно же, он поинтересовался, все ли прошло хорошо. Я ответил утвердительно и сказал, что, несомненно, письма будут напечатаны в лучшем виде. Затем, безотчетно желая хоть как-то прояснить причину своего потрясения, я добавил:
– Прелестная девушка.
– Да-да, хорошенькая, – ответил он. – Приятна глазу. Вы будете херес? А еще у меня есть джин и виски.
«О господи, – подумал я, – не может быть! Неужели он ничего не замечает?» Разумеется, больше я его расспрашивать не стал. Да и что можно было спросить?
Поездка на Фюн прошла прекрасно. Стояли великолепные майские дни, паром ровнехонько плыл по синей глади вод пролива Корсёр, как заводная игрушка в тазу. По-моему, собор Святого Кнуда в Оденсе – шедевр средневековой архитектуры Северной Европы. Строгость его готической кирпичной кладки неявно предвосхищает идеалы протестантизма; меня всегда восхищала бесхитростная простота и сдержанная суровость его форм. Иногда я задумывался, как сложилась бы история Великобритании, если бы Кнуд (усыпальница которого находится в соборе) успел отобрать английский престол у Вильгельма Завоевателя. В Орхусе Ютте настояла на посещении церкви Девы Марии (сильно отреставрированной, а потому не представляющей особого интереса), чтобы полюбоваться запрестольным образом работы Клауса Берга. Следующий день выдался солнечным, и мы поехали на пикник в Оденском фьорде.
Все это время я не мог освободиться от невольных (и неточных) воспоминаний о фройляйн Фёрстер. Перед моим мысленным взором постоянно возникал ее образ – вот она, закинув ногу на ногу, сидит в кресле, обтянутом набивным ситцем, – но черты ее лица ускользали, как обрывок полузабытой мелодии. Вместе с этим меня неотступно преследовало ощущение – неясное, не мешающее наслаждаться поездкой, – что я нахожусь не там, где нужно. Наверное, такое же томление испытывают перелетные птицы, чувствуя первое приближение осени: пора возвращаться.
В пятницу утром я снова отправился к мистеру Хансену в Паноптикон, с бутылками кларета и флаконом ланвановских духов «Арпеж». В Лондоне флакон духов можно просто положить в карман, но в Копенгагене абсолютно все подлежит подарочной упаковке. Коробочка духов, обернутая в цветную бумагу и перевязанная лентой, покоилась в большом пакете. Я надеялся, что подарки произведут впечатление дорогих, но не слишком вызывающих, чтобы у тех, кому они предназначались, остались добрые воспоминания об англичанах; вдобавок, может быть, мне снова понадобятся услуги машинистки.
Мистер Хансен, как обычно беззаботный, вежливо осведомился, как прошла наша поездка на Фюн, ответил на мои расспросы о внуках (на письменном столе красовались их фотографии) и, разумеется, пожурил меня за принесенный кларет.
– Вы поторопились, мистер Десленд. Я вам объясню почему. Ваш кларет очень хорош, это понятно, а писем вы еще не видели и не знаете, хороши ли они.
– Det er jeg sikker pa at de er[19].
– Вот сейчас и поглядим. У меня все готово, – сказал он, протягивая мне папку.
Я вздрогнул от неожиданности: мне и в голову не приходило, что письма я получу не из рук фройляйн Фёрстер. Однако это было вполне объяснимо, ведь вежливость и правила хорошего тона требовали, чтобы ко времени моего визита они уже были у мистера Хансена. Я взял у него папку, а разочарование и замешательство налетели на мое самообладание, как подхваченный ветром газетный лист на лобовое стекло движущегося автомобиля. Я растерянно смотрел на папку, а мистер Хансен, заметивший мое смятение, терпеливо ждал, пока я приду в себя.
– Как… Ах, как любезно с вашей стороны, мистер Хансен. А… позвольте… пригласите, пожалуйста, фройляйн Фёрстер. Дело в том, что у меня для нее тоже есть… подарок.
– Мистер Десленд, вы чересчур щедры. Не надо вам было тратить свое драгоценное время и деньги. Хотите, я передам ей ваш подарок? К сожалению, я не знаю, к которому часу она здесь будет. По-моему, она сегодня работает в одном из наших филиалов.
«Невероятно! Он в ней ничего особенного не замечает…» – снова накатило на меня, но сейчас я испытал лишь облегчение. Если мистер Хансен так близорук, то мне предоставляется полная свобода действий. Лишь теперь я до конца осознал – с такой силой, что забыл о своей стеснительности, – что должен увидеть ее во что бы то ни стало, даже если меня сочтут самым большим глупцом во всей Дании.
– Мне бы хотелось сделать это лично… Видите ли, она так мне помогла, что я…
Тут в кабинет заглянула секретарша мистера Хансена.
– О, Биргитта, вы не знаете, где сегодня фройляйн Фёрстер – здесь или в филиале?
– Она только что пришла, мистер Хансен. Пригласить ее к вам?
– Да-да, пожалуйста.
Секретарша удалилась, мистер Хансен снова предложил мне проверить корреспонденцию, и я наконец-то раскрыл папку. Письма оказались гораздо лучше, чем я ожидал. Те, что на немецком, были отпечатаны безукоризненно. В датском я разбирался не очень хорошо, но заметно было, что кое-где мои шаткие грамматика и синтаксис подправлены. В письмах на английском обнаружилась пара ошибок, скорее, опечаток (особенно мне понравилось «невесте» вместо «невесть», но в этом, конечно, виноват был я сам), но их могла допустить и самая лучшая английская стенографистка. Я начал подписывать бумаги, уверяя мистера Хансена, что работа выполнена отлично («Ага, вы так удивлены, мистер Десленд!»), и тут в кабинет вошла фройляйн Фёрстер.
Я встал и немедленно смутился, потому что мистер Хансен, конечно же, не собирался вставать. Мы с ним заговорили одновременно, но она нас опередила и, улыбнувшись ему, подошла ко мне и протянула руку:
– Доброе утро, мистер Десленд. Надеюсь, вы хорошо провели время в Оденсе, с друзьями?
От нее веяло легким ароматом гвоздики; при рукопожатии мне задела пальцы тоненькая цепочка браслета, соскользнувшего с ее запястья. Я обратил внимание, что одета фройляйн Фёрстер скромно, в дешевую белую блузку и темную юбку; туфли тоже были недорогими. Все это делало ее похожей на принцессу, которая старательно подбирала себе наряд попроще, чтобы не очень выделяться среди своих подданных, оказавших ей радушный прием.
– Да, очень хорошо, – ответил я, с трудом сдерживаясь, потому что мне ужасно хотелось рассказать ей обо всем, до мельчайших подробностей. – Благодарю вас за работу. Вы прекрасно с ней справились и очень помогли мне…
– А, пф-ф-ф! – Она легко шевельнула пальцами, давая понять, что дело не стоит благодарности, потому что умения и способности принцесс неисчислимы и совершенны и превозносить их – дурной тон, ведь принцессы – не обычные люди. – И как скоро вы должны вернуться в Англию?
– К сожалению, в понедельник. И вы правы, я должен, в смысле вынужден, потому что очень не люблю уезжать из Копенгагена.
– Ах, а как же ваши английские друзья? – шутливо, но не дерзко осведомилась она; скорее, вопрос был испытанием. И если мой ответ ей придется не по нраву, то солнце погаснет.
– Да, разумеется, но, видите ли, мне приходится оставлять сердце в Копенгагене, потому что при мысли об отъезде оно тяжелеет и получается перевес багажа.
– Не волнуйтесь, мы позаботимся о вашем сердце. Мистер Хансен, может быть, по доброте душевной, вы найдете работу для сердца мистера Десленда?
Пока мистер Хансен тягуче и путано подтвердил, что счастлив получить в свое распоряжение храброе сердце англичанина, я оцепенел, как человек, который спешит на вокзал и видит, что поезд уже стоит у платформы, готовый вот-вот отправиться в путь. Меня словно бы окатила леденящая волна: еще немного – и эта девушка выйдет из кабинета, и если ничего не предпринять, то я наверняка ее никогда больше не увижу. Думать об этом было невыносимо. Больше всего на свете я хотел встретиться с ней еще раз. Если мы не увидимся, то небо осыплется пеплом. Нынешнее горе, ожиданье бед. Меня окружала обнаженная, пылающая действительность, мир, живущий по звериным законам, где царствуют только сиюминутные, всепоглощающие порывы непреодолимой силы. Сдерживало меня лишь присутствие добродушного мистера Хансена. Что делать?
Тут в кабинет снова вошла секретарша. Мистер Хансен вопросительно посмотрел на нее.
– Мистер Хансен, простите, но у мистера Андерсена к вам срочное дело. Он хотел бы с вами поговорить. Вы его примете?
– Нет, я сам к нему подойду, – сказал Хансен. – Прошу прощения, мистер Десленд.
Очевидно, ему были известны вопросы, требовавшие немедленного разрешения, потому что он собрал со стола какие-то бумаги и вышел.
Теперь свершить бы все – он на молитве; и я свершу…
– Фройляйн Фёрстер, а позвольте узнать…
Она проводила Хансена взглядом и с некоторым удивлением обернулась ко мне. Я сообразил, что мой голос звучит взволнованно и прерывисто, присел на край письменного стола и заставил себя улыбнуться:
– Если вы вечером свободны, не хотите ли со мной отужинать? Я был бы очень рад…
Как я вскоре узнал, Карин жила по своим правилам. Подобно Пикокову мистеру Голлу, я различал красивость и красоту, но вынужден был добавить к ним и третье, особое качество – непредвиденность. Ее ответ на мое приглашение более чем нарушал правила приличия, но был очарователен. Она милостиво улыбнулась, порывисто вздохнула и чуть повела плечами, чтобы не расхохотаться, однако я так и не понял, от удовольствия или в насмешку надо мной.
– А вы поведете меня в роскошный ресторан?
Это означало не просто согласие, но и подразумевало: «Ну что, мой поклонник, теперь вы рады? Может быть, я тоже буду рада».
– Куда вам будет угодно. Назовите место.
– Nein[20]. – И строго добавила: – Я не знаю ресторанов. – («Об этих пустяках должны заботиться другие. Например, вы».) – Благодарю вас, мистер Десленд. Очень любезно с вашей стороны.
– Позвольте, я за вами зайду? В котором часу?
На это немедленно последовало прагматичное возражение, в некотором роде упрек, что опять меня удивило. В этом, как и во всем остальном, она знала, чего хочет, и умела настоять на своем.
– Ach, nein! Я встречусь с вами… в ресторане. Ровно в… Moment bitte…[21] Ровно в восемь часов вечера.
– А это не поздно?
– Nein. Договорились, мистер Десленд. Я буду ждать нашей встречи.
– И я тоже. Значит, встречаемся в «Золотом фазане». Я предупрежу метрдотеля, он проводит вас к нашему столику.
Она снова улыбнулась, изогнув бровь, словно бы говоря: «Надо же, какие церемонии. Я этого не ожидала. Кто бы мог подумать, что вам известны такие тонкости этикета». От ее беззлобного подшучивания я ощутил себя королем.
Мистер Хансен вернулся. Я попрощался с ним и ушел и только на улице сообразил, что пакет с «Арпеж» так и остался у меня.
7
В тот вечер Ярл с Ютте ничего особенного не планировали, и, на правах хорошего знакомого, я предупредил их, что получил неожиданное приглашение на ужин от старого приятеля, коллекционера керамики. Не знаю, почему я не сказал им, что ужинаю с девушкой, которая печатала мне письма, – Ярла с Ютте это бы позабавило, хотя Ютте никогда надо мной не подшучивала. Однако же я чувствовал какой-то суеверный страх, будто боялся сглазить. Меня ждало нечто очень важное, но об этом никто не должен был знать. А вдруг пузырь лопнет?
В «Золотом фазане» было полно народу. Зная, что это популярный ресторан, я еще днем заказал столик, познакомился с метрдотелем (в Дании его не обязательно подкупать чаевыми заранее) и попросил поставить на лед бутылку шампанского «Дом Периньон». Столик был в глубине зала, напротив двери, у стены, на которой висело зеркало, а под ним стояла банкетка. Я пришел без десяти восемь, уселся спиной к двери, заказал джин с тоником и притворился, что читаю «Политикен».
В десять минут девятого я начал волноваться, но тут заметил ее в зеркале. К выходу из ресторана направлялись двое мужчин, а она, на улице, остановилась перед застекленной дверью и уже потянулась к ручке, но, увидев их сквозь стекло, тут же опустила руку и замерла. Мужчина, разговаривая на ходу со своим спутником, открыл дверь и хотел было выйти, как вдруг сделал шаг назад, вынул изо рта сигару и распахнул дверь шире. Фройляйн Фёрстер прошла между ними, одарив обоих улыбками. Мужчины на несколько секунд застыли у входа, провожая ее восхищенными взглядами, а она неторопливо направилась к метрдотелю и заговорила с ним.
Ее черный бархатный плащ, скрепленный у горла серебряной цепочкой, ниспадал почти до щиколоток, а у левого виска белели хрупкие, будто восковые, цветы стефанотиса – невестина жасмина. Она опустила на конторку черную сумочку, выслушала метрдотеля и внезапно, запрокинув голову, расхохоталась на весь ресторан. Метрдотель, который в обед обращался со мной с холодной вежливостью, тоже засмеялся, искренне и весело – точнее, радостно. С учтивым поклоном он повел ее к гардеробной, открыл дверь, а потом еще минуты три дожидался ее появления.
Простое сиреневое трикотажное платье с пышной юбкой, явно из недорогого универмага, облегало ее, как шкура – косулю. Бусы лилового перламутра и лавандовый шифоновый шарфик, удерживаемый на запястье цепочкой браслета, по тону не подходили к платью, однако же она держала себя так уверенно и непринужденно, что разнобой цветов выглядел намеренным, будто она была манекенщицей в новом, сверхмодном наряде. Все остальные казались почти до неприличия чопорными нарушителями беспечного, беззаботного веселья. Она шла за метрдотелем по ресторану, и мужчины оборачивались ей вслед. Увидев, что она приблизилась к столику, я встал и обернулся:
– Guten Abend, Fräulein Förster[22].
Коснувшись моей руки, она ответила по-английски:
– Прошу прощения, что заставила вас ждать.
(Что ж, я ее тоже поддразню.)
– Вы просите у меня прощения?
– Нет, конечно.
Между полураскрытыми губами мелькнул кончик языка.
Она села напротив, оперлась локтями о стол, легонько опустила подбородок на сцепленные кисти рук.
– Что мадам будет пить? – осведомился метрдотель.
Я вопросительно вскинул брови.
– Что мне заказать? – спросила она.
– Херес? Сухой мартини? Джин и тоник?
– Нет, я прошу вас заказать для меня.
Я заказал бокал сухого хереса и предложил ей сигарету.
– Я не курю. Вы ведь тоже не курите, правда?
– Нет, не курю. А откуда вы знаете?
– Знаю, и все. Но у вас сигареты с собой.
– На всякий случай, если бы вам вдруг захотелось покурить. Ну, теперь я их кому-нибудь отдам. Кстати, вы пришли в восхитительном плаще.
– А, он не мой. Я его одолжила, Алан. – Она широко раскрыла глаза и укоризненно покачала головой, будто объясняя прописную истину.
– Откуда вы знаете, как меня зовут?
– А вы разве не знаете, как меня зовут? – («Какая непредусмотрительность с вашей стороны!»)
– Нет, но очень хочу узнать.
– Карин. Фёрстер. С точками. – Она дважды ткнула пальцем в воздух. – Потому что я люблю точность.
По-немецки так не скажешь, но умение так шутить на иностранном языке показывало, что она владеет английским свободно и понимает игру слов.
Метрдотель, который вызвался нас обслуживать, принес два огромных меню, размером с приглашение на крокет, которое Лакей-Лещ вручил Лакею-Лягушонку. Прежде чем он успел предложить его Карин, она отвела руку в сторону, чтобы меню не отгораживало нас друг от друга. Я думал, что ей захочется, чтобы я заказал ей ужин, но она, придирчиво изучив меню, остановилась на жареной мойве и венском шницеле, а потом долго обсуждала с метрдотелем выбор овощей. После этого я заказал себе дюжину эскарго и мясное ассорти на гриле.
– Вы прекрасно говорите по-английски, Карин. Где вы учились?
– В Копенгагене все прекрасно говорят по-английски, вы не находите?
– Вы давно здесь живете?
– Замечательный город, не правда ли? Вы сюда часто приезжаете? Наверное, здесь лучше, чем в Лондоне. Ist das der Grand?[23]
– К счастью, я живу не в Лондоне. А из какой области Германии вы приехали?
– Я иногда забываю, что приехала из Германии. Но все-таки скучаю по немецким обычаям. В Германии весело на Рождество, а еще там проводят всякие праздники пива и вина, там такая вседозволенность. Так можно сказать, «вседозволенность»?
– Да, можно. Я и сам иногда люблю вседозволенность.
– Тогда вам нужно посетить праздник вина.
Она ела очень по-немецки, с серьезным наслаждением и неприкрытой жадностью – медленно, но поглощая абсолютно все на тарелке. Когда мне принесли эскарго, она оживилась, как котенок при виде клубка шерсти, и завороженным взглядом смотрела, как я вытаскиваю одну из раковины и кладу в рот.
– Was ist das?[24]
– Эскарго.
Не отводя глаз, она недоуменно покачала головой.
– Улитки, Карин.
– Улитки? Schnecken? Вы шутите!
– Они очень вкусные. Вы их никогда не пробовали?
– А можно попробовать?
Я высвободил еще одну улитку из раковины и, повернув крошечную двузубую вилочку рукоятью вперед, предложил Карин. Она не стала ее брать, а взяла мою руку, перегнулась через стол и осторожно сняла губами улитку с вилочки:
– Ммм! Очень вкусно. Надо было и мне их заказать.
– Сейчас закажем.
Она снова небрежно шевельнула пальцами:
– Ach, nein. Ein anderes Mal[25]. Главное, что мы оба съели чеснок… – И она сосредоточенно занялась мойвой.
Потом она еще дважды, кивком и улыбкой, подзывала метрдотеля. К мойве потребовался тонко нарезанный черный хлеб с маслом; а вот с венским шницелем и гарниром из четырех овощей возникли серьезные проблемы.
– Тарелка слишком маленькая, вот, видите? Все будет горкой.
– Простите, мадам, но у нас это самая большая тарелка.
– Тогда принесите мне, пожалуйста, новую тарелку, подогретую, переложите на нее шницель, а блюда с овощами оставьте на столе.
Я представил себе, что сказал бы официант, если бы я обратился к нему с такой просьбой. Метрдотель отдал распоряжение своим помощникам, исполнил все, о чем просила Карин, и через несколько минут вернулся узнать, все ли сделано, как ей угодно. С полным ртом она произнесла «wunderbar»[26], чем несказанно обрадовала метрдотеля.
Сам я есть почти не мог. От волнения желудок скрутило, а я не отрывал от нее глаз, стараясь не упустить ни одного движения, ни единого жеста, смены выражений на лице, – так смотрят на радугу или на прыжки форели над речными перекатами. Радуга растает, форель уплывет, и придется идти домой под дождем. Взглянув на мою тарелку – почти нетронутые говяжье филе, колбаски, бекон и почки, – Карин укоризненно покачала головой:
– Алан, мужчины должны хорошо питаться.
– Честное слово, я сыт. Мне нравится шампанское. А вам?
Она опустошила свой бокал, и официант немедленно его наполнил.
– Ja, sehr[27]. Но от него я напьюсь. Нет, не напьюсь. Как правильно? Опьянею, да? Так можно сказать?
– Вам можно. Ну-ну, не сердитесь. Это совершенно нормальное слово. Значит, мы оба опьянеем.
Когда подкатили тележку с десертами, Карин заказала яблочный штрудель. Официант отрезал ей большой кусок. Она взяла кувшинчик со сливками, щедро полила лакомство и спросила:
– У вас есть свежий виноград?
– Я узнаю, мадам. Наверняка есть.
– Карин, а что, яблочный штрудель положено есть с виноградом? Это какой-то местный обычай?
– Нет, это из-за косточек, Алан.
– Из-за косточек? Насколько мне известно, доктор Джонсон собирал апельсиновые корки, но виноградные косточки… ерунда какая-то. Что вы с ними делаете?
– Налейте мне шампанского, пожалуйста. До самого верха.
Я с радостью исполнил ее просьбу. Официант принес гроздь винограда, срезал кисточку для Карин. Она сунула в рот две виноградины, обсосала косточки, выложила их на тарелку, потом бросила две косточки в свой бокал, подождала секунд десять и добавила еще две. Через полминуты две первые косточки, облепленные пузырьками, всплыли к верху бокала. Крошечные пузырьки лопались один за другим, косточки вертелись и переворачивались, пока снова не опустились на самое дно, а вторая пара косточек между тем поднялась к поверхности.
– А вы знаете такую забаву?
Пары косточек поднимались и опускались в шампанском, как клети крошечных лифтов.
– Нет. Где вы этому научились?
– В стране лентяев. Так всегда делают, когда пьют зект. Это очень весело.
Когда подали кофе, она откинулась на спинку кушетки, как объевшаяся императрица. Веточка стефанотиса выпала из волос, и Карин положила ее на скатерть. Я наклонился и вдохнул нежный аромат, который смешивался с тонкими резкими нотками желтого шартреза в бокале Карин.
Она сделала глоток, чуть скривилась:
– Herb![28]
– Так и должно быть.
– Ja, gut[29]. Ну вот, я опьянела. Как весело!
– Карин, а можно с вами завтра увидеться?
Помолчав, она сказала:
– Vielleicht[30], – и, смеясь, помотала головой.
– Карин, я серьезно. Давайте увидимся? Когда? Хотите, съездим на Хельсингёр, там пообедаем?
– Vielleicht.
– Nein, kein vielleicht! Bitte…[31]
Не дослушав, она произнесла:
– Я вам позвоню. Можно?
(А как же Ярл? Ютте? Мой вымышленный коллекционер керамики?)
– Да, конечно. В котором часу?
– Через полчаса после того, как проснусь. Дайте мне ваш номер телефона.
У выхода из ресторана мы столкнулись с компанией подвыпивших датчан. Один из них, с темно-красной гвоздикой в руках, подошел к нам и почему-то сразу же заговорил со мной по-английски:
– Мистер, прошу прощения, но ваша прекрасная дама без цветов. Позвольте мне подарить ей вот этот.
Отказать было невозможно. Он с поклоном вручил Карин гвоздику, очень вежливо, соблюдая все приличия – его рука даже не коснулась ее. Карин благосклонно кивнула, улыбнулась тепло, но отстраненно, чтобы не давать повода продолжать разговор, и стала что-то искать в сумочке, пока они не отошли.
– Хотите, я приколю цветок вам на плащ?
– Нет-нет, не ломайте стебель, Алан. Я понесу гвоздику в руках. Она очень красивая.
– Взять вам такси?
– Нет, не стоит. Тут недалеко.
– Тогда пройдемся пешком?
– Нет, попрощаемся здесь. Сейчас придет автобус. Я называю его всегдобус, потому что всегда на нем езжу.
– Карин, погодите…
Она взяла меня за руку:
– Danke schön. Все было великолепно. Мне очень понравилось. И все наелись чеснока. Gute Nacht[32].
Я стоял и смотрел, как она, в бархатном плаще, идет по улице, держит гвоздику рукой в перчатке и то и дело вдыхает аромат цветка.
8
Эльсинор. Площадка перед замком. (На самом деле – на Пушечной башне.) Солнечный, теплый майский день. Никаких призраков. Карин в розовом ситцевом платье и синей кофте.
– Guck mal[33], Алан, вот там Гельсингборг, через пролив. Всего в пяти километрах.
– Туда можно доплыть за два часа.
– Мы замерзнем. И течение быстрое. Нас снесет к маяку Куллен, а оттуда вам придется пешком добираться в Англию.
– Все равно хорошо было бы вплавь отправиться в Швецию. Вы любите плавать?
– Да. Я часто плаваю. Однажды проплыла восемь километров.
– Где?
– На юге, в теплых краях. – Она умолкает, смотрит вдаль, мимо башни Трубача, через голубой простор пролива Эресунн. – Я готова обплыть весь земной шар. Ах, хорошо бы поплавать в тропиках!
– Да. И я бы с вами поплавал. – Я рассказал ей о реке Черуэлл в Оксфорде и о шлюзе близ деревни Иффли. – Там бурное течение, мне очень нравилось.
– Ja, natürlich[34]. Это приятно. – Опершись на парапет обеими руками, она перегнулась и снова посмотрела на Гельсингборг. – А вы ездите туда по своим фарфоровым делам?
– В Стокгольме я бывал, а в Гельсингборге ни разу. А вы?
– Я однажды съездила туда на пароме, из интереса.
– И вам понравилось? Отсюда город выглядит очень красиво.
– Сам город скучный, а вот замок Софиеру великолепен. Там замечательный парк. Я по нему гуляла. Очень мило.
– В одиночестве?
– Да, почти. – Помолчав, она добавила: – Почти в одиночестве.
– Карин, как можно быть почти в одиночестве? – рассмеялся я.
– Это нетрудно. – Она с улыбкой обернулась ко мне. – Алан, вы ревнуете?
– Ну, почти…
– Вот видите! Если вы можете почти ревновать, то я тоже могу быть почти в одиночестве. Скажите, а вы всегда берете с собой бинокль, отправляясь на прогулку?
– Почти всегда. Понимаете, я… Ох, ну хватит уже!
Она рассмеялась.
– Вы умудрились запутать меня в моем родном языке, – улыбнулся я.
– Вы ни разу не взглянули в бинокль.
– Потому что мне интереснее глядеть на вас. Птиц и корабли я могу рассматривать в любое время.
– Вы же собирались посмотреть резьбу в часовне.
– Хотел, но сегодня так тепло и солнечно, что в часовню заходить не хочется. Вдобавок я разленился.
– Лень вам несвойственна.
– Почему вы так решили? Вы же меня совсем не знаете.
– А вот и знаю. У вас всегда есть предмет для размышлений, верно? И вы специально куда-нибудь приезжаете, чтобы посмотреть на то, что считаете важным или красивым. Есть такая поговорка: «рассудительный не по годам», – можно так сказать? Только сегодня вы оставили свою рассудительность дома.
Она была почти права. Встречаясь с Барбарой и с другими знакомыми, не только с девушками, я всегда планировал свои действия – предстоящую прогулку или вечеринку, – всегда ставил определенную цель. «Давайте посетим норманнскую церковь в Авингтоне», – предлагал я. Или: «Вы, кажется, упоминали, что не знакомы с квартетом Бартока. Не хотите ли послушать его сегодня вечером?» Для меня было странным бесцельно бродить среди башен Кронборга и, будучи предоставленным самому себе, предаваться ленивому наслаждению. Мы не обращали особого внимания на замок, не рассматривали ни гобелены шестнадцатого века, ни потолочные фрески Хонтхорста в Королевской палате, и я больше чем уверен, что Карин этого делать не собиралась. Непосредственность и непринужденность были свойственны ей от природы; для нее было совершенно естественным воспринимать Эресунн, чаек над водой, далекий Каттегат и парапет башни, залитый лучами солнца, как декорации, на фоне которых она жила настоящим. Ей довольно было сознания того, что мне нравится ее общество; а легкомыслие, которое в других случаях меня бы утомляло или раздражало, прекрасно подходило как случаю, так и самой Карин. Иначе говоря, мне нравилось бездельничать вместе с ней.
По-моему, с того самого дня – в самом начале нашего знакомства – у меня сложилось впечатление о Карин, как о самодостаточной женщине; ее присутствие естественным образом привлекало к себе внимание окружающих, обеспечивая ей центральное положение в любой ситуации. Она обладала жизнелюбием и некой врожденной властью, что делало ее неколебимым средоточием, не ведающим ни цели, ни направления, но лишь подобие действия, как дерево под ветром.
– Ох, Алан, смотрите – жук! Какой хорошенький!
Ярко-зеленый жук с темными бусинками глаз грелся на каменном парапете в нескольких шагах от нее. Карин осторожно подняла его двумя пальцами и опустила на тыльную сторону ладони, где он замер, разомлев под лучами солнца. У Карин были тонкие изящные пальцы с узкими овальными ногтями, гладкими и перламутровыми, как раковины.
– Вы его не боитесь?
– Ach, nein. Weshalb?[35]
– Многие девушки не любят насекомых.
– А, пф-ф-ф! – Она нетерпеливо шевельнула пальцами. – Такого красивого я еще не видела, а вы?
– Это Cicindela campestris, скакун полевой из семейства жужелиц. Он распространен в Англии, ну и в Дании, наверное, тоже. Странно – обычно они улетают, если их потревожить. Видно, ему хорошо на солнышке. Интересно, как он сюда забрался?
Жук расправил крылышки и, жужжа, взлетел.
– Вот так и забрался, – заметила Карин; жук сделал круг и сел ей на рукав. – На солнышке ему хорошо, как же! – фыркнула она. – Просто я ему понравилась.
Жук снова полетел, но на этот раз вниз, в поросший травой ров у стены. Перегнувшись через парапет, я следил за жуком, пока он не скрылся из глаз.
– Меня он снова манит. Я иду.
– Was bedeutet das?[36] Объясните, пожалуйста.
- Что, если вас он завлечет к волне
- Иль на вершину грозного утеса,
- Нависшего над морем, чтобы там
- Принять какой-нибудь ужасный облик,
- Который в вас низложит власть рассудка
- И ввергнет вас в безумие? —
продекламировал я, ожидая, что она поднимет меня на смех за излишнюю напыщенность и выспренность, но Карин, как я вскоре понял, никогда не подтрунивала над тем, что имело ценность для других.
– Какие чудесные строки! А что это? Ну, в смысле, что именно примет ужасный облик?
– Призрак, который жаждет возмездия.
– Ах, пойдемте, расскажете мне по дороге!
На мосту, у выхода из туннеля в крепостной стене, Карин споткнулась и едва не упала. Я придержал ее под руку; пошатнувшись, она выпрямилась, и прядь волос скользнула по моей щеке.
– Карин, что с вами?
– Danke[37], все в порядке. Я подвернула ногу. Ах, какая досада! Ой, каблук сломался. – Она сняла туфельку и, повернув ее к свету, прочла название фирмы внутри. – Дурацкая обувь! Больше никогда у них ничего не куплю.
Я взял у нее туфельку – хлипкую, явно дешевую.
– Как же вы пойдете? До машины далеко.
– Сниму вторую, а вы возьмите меня под руку.
Однажды я видел, как она вприпрыжку, совсем по-детски, проскакала сорок шагов по улице. За пять минут, пока мы добирались до машины, она превратила изъян в совершенство, ведь что всех портит, то ей шло. В одних чулках, легко ступая, Карин прошествовала вдоль рва, в обход казарм и кронверка, и дальше, по внешнему мосту. Время от времени она чуть сильнее опиралась на мою руку, а один раз остановилась перевести дух, но при этом сделала вид, что любуется лебедями. По-моему, никто из посетителей замка не заметил, что моя спутница босиком.
Сто ярдов, отделявших мою машину от внешнего рва, были усыпаны щебенкой, по которой Карин прошла без единой жалобы. Я распахнул дверцу машины, и Карин, усевшись боком, протянула мне ногу.
– Вот вам задание, Алан, – отчистите меня от щебня.
Она разгладила розовую юбку на бедрах, а я встал на колено рядом с машиной. Острый гравий больно врезался в тело. Подстелив носовой платок, я положил ногу Карин себе на колено. Тонкий чулок, обтягивающий мягкую, чуть распухшую стопу, был покрыт крошечными камешками, впившимися в нейлон. Я начал стряхивать их.
– Ой, щекотно! – воскликнула она, пошевелила пальцами ноги и внезапно дернула коленом, едва не саданув мне в лицо – я едва успел отпрянуть.
– Ох, простите, Алан, я нечаянно! Не пугайтесь, я сейчас все исправлю.
Она легонько провела стопой по моей щеке. Я почувствовал, как щетина на скуле слегка цепляет нейлон, а когда Карин повторила движение, то ощутил и кое-что еще. Мучительно покраснев, я отвел ее ступню от лица, и Карин убрала ногу.
– Карин, пожалуй, в следующий раз я побреюсь получше. Давайте другую ногу.
В чулке красовалась дыра, а подошва была в крови.
– Вы поранились!
– Das macht nichts[38]. Ничего страшного.
– Но вам же больно!
– Нет. Я ничего не чувствую. Просто сотрите кровь и скажите, где именно ранка.
Я огляделся:
– Здесь нет воды.
– А вы слюной, – посоветовала она и, видя мое замешательство, добавила: – Ну давайте же!
Я исполнил приказание. Порез оказался глубоким, длиной почти в дюйм, и сильно кровоточил. Карин на него даже не взглянула. Как я потом узнал, она всегда так поступала: любое неудобство или неловкость превращались в игру или полностью игнорировались как не заслуживающие внимания.
Я отвез ее в аптеку, но Карин с улыбкой отказалась в нее войти, поэтому, купив дезинфицирующее средство, вату и пластырь, я принес все в машину. Кровотечение прекратилось; я промыл ранку и заклеил ее пластырем. Карин смотрела на меня изумленно, с каким-то радостным удивлением, как будто никогда прежде не испытывала подобного рода заботы и не понимала, серьезно я к этому отношусь или в насмешку.
– Спасибо, Алан. Вы очень добры. Как приятно, когда о тебе заботятся! Сама я ни за что не стала бы из-за этого волноваться.
– Пожалуй, лучше отвезти вас домой.
– Нет, не стоит. Когда вернемся в Копенгаген, подвезите меня к обувному магазину, я куплю себе туфли, а оттуда вернусь домой.
– Что вы, я подброшу вас до дому от обувного, мне не составит труда.
Она помотала головой.
– Ну, тогда я за вами попозже заеду? – удивленно спросил я.
– Нет, уже не сегодня, Алан.
– Значит, вы со мной не отужинаете?
– Leider nicht[39]. Я бы с удовольствием, но сегодня не получится.
Помолчав, я предложил:
– Может быть, встретимся завтра?
Она улыбнулась:
– Ich muss…[40] Завтра меня не будет в Копенгагене. Ах как жаль!
– Видите ли, в понедельник я возвращаюсь в Англию.
– Да, я помню, вы говорили. Честное слово, мне очень жаль.
Что ж, подумал я, скорее всего, она просто не хочет со мной встречаться. У такой девушки наверняка есть множество поклонников, а я не умею ухаживать. И вообще не понимаю, зачем я все это делаю, но… да, мне очень хотелось увидеть ее еще раз.
И все же… И все же о сегодняшнем вечере и о завтрашнем дне она говорила без особого энтузиазма, скорее расстроенно, хотя весь день была в прекрасном настроении, как маленькая девочка, которой позволили редкую прогулку. Может быть, она ухаживает за больным или за стариком? Спрашивать об этом не хотелось. Нет, вероятно, она получила удовольствие от нашей поездки, немного со мой пофлиртовала, а остаток выходных проведет, как обычно, со своим постоянным поклонником… может быть, даже с любовником. Эта мысль меня тяготила, хотя я и не понимал почему. Проезжая Торбек, я мучился вопросом: «Зачем тебе это? Ты же не собираешься затащить ее в постель. И вообще, ты не знаешь, что делаешь. В понедельник ты вернешься домой, к важным делам, которые требуют беспрестанных усилий и внимания. Если она не хочет с тобой встречаться, то и волноваться не о чем». И все же я волновался. Честно говоря, я был очень разочарован.
В Копенгагене я предложил Карин заехать в один из обувных магазинов и сказал, что хочу подарить ей туфли.
– Нет, Алан, спасибо. Не стоит. Это очень любезно с вашей стороны, но я знаю, куда мне нужно. Там мы с вами и попрощаемся. У следующего светофора сверните налево, пожалуйста.
Я подумал, что теперь у нее не осталось места для уклончивых маневров; без моей помощи ей не добраться до обувного магазина – в автобусе или по городским улицам босиком не походишь.
Следуя ее указаниям, мы приехали в какой-то сомнительный торговый квартал в Остербро и остановились у магазина, где витрину украшали вешалки с плащами, пальто и почему-то резиновыми сапогами. На стекле белой краской было намалевано: «KÆMPE NEDSÆTTELSE![41] СКИДКИ 35 %!»
– Вы только не смейтесь, – с нервной улыбкой сказала Карин.
– Я и не собираюсь.
– Это очень хороший магазин.
– Разумеется.
– Я купила здесь много приличных вещей.
– И туфли, у которых сломался каблук? – колко поинтересовался я и, сообразив, что во мне говорит разочарование, поспешно добавил: – Извините! Туфли замечательные, просто обидно, что они вас так подвели.
– Я подам жалобу в магазин…
– Карин, боюсь, у вас ничего не получится. Мы с вами не заметили, что магазин закрыт.
Магазин действительно был закрыт. На миг Карин растерялась, но потом беззаботно заявила:
– Что ж, значит, я теперь пойду, как хиппи, ja? Можно так сказать?
Она приоткрыла дверцу автомобиля, и я тут же потянулся ее захлопнуть. Наши тела соприкоснулись.
– Нет, Карин, не смейте этого делать. Вы серьезно поранились, пластырь тоненький, а тротуары грязные. Прошу вас, не спорьте со мной. Сейчас мы с вами поедем в «Иллум» и купим вам туфли.
В универмаге «Иллум» Карин разошлась не на шутку. Она перемерила две дюжины пар обуви, наслаждаясь видом своих изящных ступней в разнообразных лайковых и лаковых туфельках, узких лодочках и босоножках с тонкими ремешками; в каждой паре она по полчаса расхаживала перед огромными, во всю стену, зеркалами, придирчиво разглядывая себя. Ее не смущали ни рваные чулки, ни пластырь; извиняться за свой вид перед продавщицей явно не приходило ей в голову. В конце концов Карин выбрала темно-синие босоножки на высоком каблуке (они стоили четыреста крон, и я расплатился кредитной карточкой) и гордо вышла в них из магазина.
Зная, что она не изменит своего решения, я проводил ее до ближайшей остановки, где мы минут десять ждали автобуса.
Судя по всему, Карин было жаль со мной расставаться; она болтала о всяких пустяках с невероятным самообладанием, которое, как я понял, редко или вообще никогда ее не покидало.
Мне в голову не приходило никаких интересных тем для разговора; я с удивлением осознал, что очень расстроен. Наконец подъехал автобус. Я сказал, что надеюсь увидеться с ней в свой следующий визит в Копенгаген, поблагодарил за отпечатанные письма, с затаенной обидой отвернулся, чтобы не видеть, как Карин входит в салон, но, пересилив себя, все-таки поглядел на нее и помахал на прощание, а потом, не дожидаясь, пока автобус отъедет, торопливо направился к автомобильной стоянке.
Поскольку утром я предупредил Ярла с Ютте, что вечером буду занят, в квартиру на Гаммель-Конгевай возвращаться не хотелось. К стыду своему, я даже не думал, что мое неожиданное появление может нарушить какие-то их планы, – меня занимали только мои расстроенные чувства и несбывшиеся мечты. Я поужинал в каком-то кафе и весь вечер просидел в кинотеатре, не понимая, что за фильм смотрю.
На следующее утро, в воскресенье, принимая ванну, я решил не улетать из Копенгагена в понедельник. В точной дате своего отъезда я был совершенно не уверен. Может, через пару дней. Задержка обойдется мне дорого, потому что Ярл с Ютте уезжали по делам в Милан, их рейс отправлялся из аэропорта Каструп за час до моего, а значит, придется переехать из квартиры в гостиницу. Обменный курс датской кроны против фунта стерлингов был очень невыгодным, и номер в относительно приличной гостинице стоил для меня недешево.
Тем не менее я не собирался говорить Ярлу с Ютте о перемене своих планов. Не знаю почему: они были моими близкими друзьями, а Дания – не та страна, где на тебя будут коситься из-за сердечного увлечения – не важно, мимолетного или серьезного. Скорее всего, мое решение стало для меня самого такой неожиданностью, что мне почему-то хотелось скрыть его от окружающих. А еще я чувствовал себя ребенком, придумавшим чудесную игру, которую невозможно объяснить ни другим детям, ни тем более взрослым. Разумеется, объяснения выслушают, но все равно не поймут, чем так замечательна эта игра, а вдобавок исказят ее смысл – либо преувеличат ее значение, либо преуменьшат. Мне просто-напросто хотелось, чтобы фройляйн Фёрстер провела еще какое-то время в моем обществе, точно так же, убеждал я себя, как если бы мне захотелось перед отъездом еще раз полюбоваться Восточной коллекцией в Музее Давида.
Ярл и Ютте в разговоре мельком упомянули мой отъезд и возвращение в Англию, но я не стал их поправлять, хотя мне было неловко снова обманывать друзей. А вдруг они узнают, что я остался в Копенгагене, а им ничего не сказал? Тогда они наверняка заподозрят, что я замешан в каких-то сомнительных, может быть, даже непристойных делах, и вряд ли этому обрадуются, хотя это касается только меня.
На следующее утро я собрал чемодан, отвез Ярла с Ютте в Каструп и проводил их на рейс в Милан. Потом изменил дату своего рейса на открытую, вернулся в Копенгаген и поселился в гостинице «Плаза» на Бернсторффсгаде. Позвонил маменьке, предупредил ее, что задерживаюсь на пару дней по делам и что в мое отсутствие ей придется присмотреть за магазином.
Мне было хуже, чем Онеггеру, потому что я не только не понимал, из чего создаю свое произведение, но даже не знал, что именно я пытаюсь создать.
– Это Карин?
– Ах, Алан? Вы еще не уехали в Англию?
К счастью, в ее голосе не было недовольства.
– Нет. Я… Видите ли, мне нужно завершить здесь кое-какие дела… Как ваша нога?
– Моя нога? А, я совсем забыла. Все в порядке.
– Великолепно. Карин, можно с вами увидеться сегодня вечером? Вы свободны?
– Извините, Алан, но сегодня вечером я не могу. Я бы рада, но не получится.
– А если ненадолго?
– Нет, сегодня вечером никак. Еще раз извините. Прошу вас, не настаивайте.
– Да-да, я понял. – («Ну конечно, у нее свидание с кем-то другим».) – Простите за назойливость. А завтра вечером?
Молчание.
– Алло? Карин?
– Да-да, я слушаю, Алан. Lass mich nachdenken[42]. Да, кажется, завтра я свободна. Можно вам перезвонить?
– Да, в гостиницу «Плаза».
– Хорошо, я позвоню вам сегодня, между восемью и девятью часами вечера. А сейчас мне пора. Много дел.
– Я буду ждать вашего звонка. Схвачу трубку сразу же, обещаю.
– Алан?
– Да?
– Не волнуйтесь. Я приду. Auf Wiedersehen[43].
9
Мне предстояло как-то провести тридцать три часа – ох, упаковать бы их в сундук и утопить в проливе Каттегат. Ну почему нельзя закуклиться где-нибудь в темном углу чулана, как бабочка на зиму? В одиночестве, без моей новой наставницы, мне не постичь сложную науку беззаботного легкомыслия. Естественно, мне не хотелось полтора дня смотреть какие-то фильмы или ходить по не интересующим меня магазинам. Более того, не возникало желания и заняться чем-нибудь посерьезнее. В поездку я взял с собой любимую книгу, «Смерть Артура» Томаса Мэлори, собираясь перечитать ее в самолете, но сейчас злоключения Балина или сэра Гавейна меня ничуть не привлекали. Взял я и недавно приобретенный справочник Ф. Северна Маккенны «Фарфор фабрики „Челси“ с клеймами „треугольник“ и „рельефный якорь“». Его тоже читать не хотелось, зато в голову внезапно пришла интересная мысль: а что, если съездить в Сорё, полюбоваться цистерцианской церковью двенадцатого века, которую я еще не видел, сходить к усыпальнице Хольберга в часовне Академии Сорё и, может быть, погулять в парке у озера? В Сорё я доберусь к полудню, а назад поеду, когда вздумается, ведь делать мне все равно нечего.
Поездка помогла мне пережить день, хотя и не развеяла, как я надеялся, мою тоску и досаду. Сидя на солнышке у озера посреди парка, я пытался разобраться в себе. Неужели я влюблен? Как можно влюбиться в совершенно незнакомую женщину? Ведь мы встретились всего неделю назад! Хорошо, предположим, я влюблен, но добиваться свиданий с ней глупо и бессмысленно, потому что все закончится горьким разочарованием. Она – немыслимая красавица. Может быть, мистер Хансен этого и не замечает, зато прекрасно замечают другие. Сегодня вечером у нее свидание – это любому понятно. Безусловно, она не испытывает недостатка в поклонниках и может заполучить, кого пожелает. И очевидно, что меня она не желает. Во-первых, я некрасив и никогда не был привлекательным для противоположного пола. Да, я не беден, но и не богат и, несмотря на «Дом Периньон», никогда не буду состоятельным человеком, что ей тоже понятно. Я иностранец. А вдобавок любому беспристрастному наблюдателю – например, компьютеру – будет ясно, что мы не подходим друг другу. Она ведь и сама на это намекнула: «У вас, – (в отличие от нее, понятное дело), – всегда есть предмет для размышлений». Да, мне попалась на глаза красивая бабочка, и я гонялся за ней по цветущему лугу, ну и что с того? Я ведь не энтомолог. Ради чего я торчу здесь и мучаюсь (и, между прочим, теряю время и деньги), дожидаясь того момента, когда она заявит мне ласково, но непреклонно (а она будет непреклонна, я знаю), что нам с ней нет смысла продолжать знакомство. Нет, гораздо разумнее послезавтра вернуться домой.
Я раздраженно расхаживал по берегу, пинал стволы деревьев и швырял в воду прутики и палочки, только у меня не было пса, который бы за ними поплыл.
Из Сорё я уехал часов в пять вечера, но движение на дорогах было ужасным, а к тому же я неуверенно водил машину по правой стороне – приходилось все время думать, что делаешь. Нужный съезд с магистрали я пропустил, поэтому отправился кружным путем и только в двадцать минут седьмого добрался до Кронпринсессегаде и поехал мимо Королевского сада.
Теплым майским вечером в парке все еще играли дети, а взрослые прохаживались по дорожкам между клумбами. Мне на глаза попалась раскидистая липа, покрытая бледно-зелеными полуразвернувшимися листочками; за ней виднелась лужайка, окруженная цветочным бордюром и живой изгородью. Разглядывать дерево я не стал, ведь нужно было следить за дорогой, но успел заметить на скамье под деревом две женские фигуры; одна из них – Карин.
Я сбавил скорость и начал высматривать свободное место на обочине. Увы, мне не повезло: припарковаться было негде. Пока я соображал, что делать, водитель машины за мной раздраженно нажал на клаксон. Вообще-то, датские водители терпеливее и вежливее британских, но в данном случае такое поведение было оправданно: я снизил скорость на дальней полосе, а машины шли сплошным потоком. Как бы то ни было, я двинулся вдоль ограды сада, надеясь свернуть на боковую улицу.
Четверть часа спустя я пешком вернулся в Королевский сад, к той самой липе. Скамья была пуста. Мимо пробежали ребятишки, смеясь и окликая друг друга. Смеркалось. Я огляделся и заметил в дальнем конце лужайки двух женщин. Пока я присматривался, не Карин ли это, они скрылись за живой изгородью. Я бросился следом, но на дорожке за кустами уже никого не было.
Я подбежал к парковому служителю и спросил:
– Вы не видели тут двух дам, с минуту назад?
Улыбнувшись, он развел руками:
– Здесь много дам.
Мне вспомнился эпизод из фильма Жана Кокто «Орфей», где герой ищет на улицах и на рынке таинственную незнакомку, которая пропадает из виду, как только сворачивает за угол. В конце концов я отчаялся и вернулся к машине. К счастью, мне не выписали штрафной талон за сорокаминутную парковку в неположенном месте.
– Алан?
– О, Карин! Как вы провели день?
– Вы знаете заклинание, которое превращает понедельник в хороший день?
– Да. Если пожелаете, при встрече я вас ему научу.
– Ах, было бы замечательно! К сожалению, это невозможно. Кстати, я звонила вам раньше, но вас не было.
– Простите, я уезжал. В Сорё.
– В Сорё? Как мило!
– Если бы вы со мной поехали, было бы еще милее.
– Хорошо вам, Алан. А мне нужно работать. Послушайте, я смогу встретиться с вами завтра вечером. Хотите на концерт? В Тиволи играет Фу Цун, а дирижирует Хайтинк.
– О, превосходно! Как вы думаете, билеты еще можно купить?
– Наверняка в гостинице вам помогут. У них есть люди, в обязанности которых входит доставка билетов иностранным туристам. Может быть, вам лучше взять фотоаппарат и говорить с американским акцентом?
– Ну, до этого, пожалуй, не дойдет.
– Значит, встречаемся в фойе, за десять минут до начала. По-моему, начало в восемь.
– А как же ужин?
– Nein. Может быть, после концерта. У меня будет немного времени. Алан, мне пора. Время разговора заканчивается, у меня больше нет монеток.
– О, вы в телефонной будке?
– Да, конечно. Если не достанете билетов, позвоните мне на работу, мы что-нибудь придумаем. А если не позвоните, то встречаемся, как договорились.
– Карин, а я вас сегодня видел.
– Вы меня видели? Где?
– Чуть раньше в Королевском саду, под липой. Я возвращался из Сорё, заметил вас, хотел подойти, но долго не мог припарковать машину, а когда наконец пришел в парк, вы уже ушли. Я так расстроился, что мы с вами разминулись…
– А… – Она на миг умолкла. – Это вы меня видели… – В трубке запищало «бип-бип-бип». – Morgen abend[44], – сказала Карин, и нас разъединили.
Она появилась незадолго до начала концерта; мы направились к своим местам в тот самый момент, как на сцену вышла первая скрипка. Карин остановилась у кресла и стояла с полминуты, неторопливо рассматривая переполненный зал. Едва я заметил ее в фойе, то сразу понял, что она боялась опоздать, но сейчас расслабилась и жадно, как сад под дождем, впитывала напряженное внимание присутствующих. Потом она с улыбкой повернулась ко мне и, будто убедившись, что все ее ожидания оправдались, обрадованно произнесла:
– Ах, Алан, как мило! Благодарю вас.
Она ласково сжала мне пальцы.
Раздались аплодисменты: к дирижерскому пульту вышел мистер Хайтинк. Я помог Карин снять пальто; она аккуратно набросила его на спинку кресла и с восхищенным вздохом уселась, держа на коленях черную сумочку, которую я запомнил по ресторану «Золотой фазан». Я дал ей программку, но Карин, даже не взглянув, опустила ее на колени. Когда аплодисменты стихли, она прошептала:
– А теперь – в рай!
Для меня это прозвучало банально и нарочито; она впервые сфальшивила в моем присутствии. Однако меньше чем через две минуты я понял, что это не так.
Концерт открылся увертюрой «Гебриды»; как только мощно, приливной волной вступили виолончели и контрабасы, на меня нахлынуло невыразимо счастливое ощущение, что я слушаю ее вместе с той, для кого музыка – святая благодать, дарующая мудрость, радость и спасение. Я до сих пор не понимаю, каким образом, без слов и жестов, это сразу осознаешь. Карин спокойно и умиротворенно, с врожденной чуткостью внимала музыке – с той же естественностью, с какой величавая таволга на речном берегу впитывает живительную влагу. От беззаботного легкомыслия не осталось и следа.
Все зааплодировали; Карин тоже захлопала, а потом, наклонившись ко мне, сказала:
– Как это прекрасно! И… was ist das…[45] очень точно? Можно так сказать? В этой музыке хочется плавать!
– Нет, там мы точно замерзнем. В тех краях вода гораздо холоднее, хотя Фингалова пещера расположена южнее Копенгагена.
– А она далеко на севере?
– Примерно, как Данциг или как северное побережье Балтики.
– А что, у вас кровь не бурлит?
От необходимости отвечать на вопрос меня спасло появление мистера Фу Цуна.
Он играл Двадцать четвертый концерт Моцарта. Вступил оркестр – мощно, трагично, и я осознал, что мне суждено навсегда запомнить это исполнение: на пару часов мы удостоились чести перенестись в лучший мир. В этом заслуга и музыкантов, и композитора, но лишь отчасти; подобное не зависит даже от нас, слушателей. Воспарение чувств – это дар. Иногда некая тайная сила позволяет нам приблизиться к Богу и ощутить Его присутствие, а иногда мы просто беспомощно бьемся о непроницаемое стекло, за которым сияет солнце. Грусть-тоска тебя не сманит, а услада – сманит. Музыка увлекала за собой и затягивала меня постепенно, а Карин с самого начала концерта порскнула в ее звучный, лучший мир, как заяц в заросли папоротника.
Орсино не удавалось сосредоточиться на музыке – еще и потому, что у него не было близких по духу спутников, – а вот мне не пришлось прилагать ни малейших усилий. Границы восприятия расширились, превратив его в безбрежный океан. Меня ничто не отвлекало. Я слышал малейшие нюансы, вложенные Моцартом в свое сочинение. Мы с музыкой накладывались друг на друга, совпадали с идеальной точностью, а вдобавок я испытывал совершенно ребяческое волнение. В это время в небе плясала звезда, под ней-то я и родился.
Сияющий в своей простоте заключительный отрывок ларгетто перешел в поэтичную коду с вариациями, и я ощутил, как что-то изменилось – рядом со мной. Я скосил глаза на Карин. Она, оцепенев, беззвучно рыдала. Я осторожно коснулся ее руки; Карин заморгала, взглянула на меня с легкой, извиняющейся улыбкой, потом наклонилась ко мне и прошептала:
– Он говорит, что все должно кончиться. Es muss sein[46].
После того как мистер Фу Цун собрал положенные (и заслуженные) овации, несколько раз удалялся и снова выходил на сцену, обменялся рукопожатиями с мистером Хайтинком, первой скрипкой и всеми, кто попался ему на глаза, я спросил Карин, не желает ли она прогуляться. Она покачала головой, хотела что-то сказать, но просто откинулась на спинку кресла и размяла плечи.
– А в антракте обязательно выходить? – спросила она наконец.
Мы заговорили о музыке в Англии, и я рассказал ей о Глайндборне и о лондонском концертном зале «Ройял Фестивал-Холл».
– И поездов в нем совсем не слышно, хотя пути проходят в пятидесяти метрах от здания?
– Совершенно верно. В зале великолепная акустика. И пропорции замечательные, а черно-белые балконы лож похожи на кабинки американских горок. Они нависают друг над другом, как выдвинутые ящики комода.
– А музыканты в оркестровой яме не боятся сыграть в ящик?
Я расхохотался в голос, не скрывая изумления.
– Карин, как вам удается так идиоматически шутить на иностранном языке?
– У нас есть такая поговорка: wenn scheint die helle Sonne, dann ist das Leben Wonne. Сможете перевести?
– Когда сияет яркое солнце, – неуверенно начал я, – жизнь – это… ммм… наслаждение.
– Верно. А для меня наслаждение – придумывать глупые шутки, когда сияете вы, – объяснила она и торопливо добавила: – Говорят, в Англии есть еще один знаменитый концертный зал. Я про него читала в каком-то журнале, его построил известный английский композитор в своем родном городе. Не помню, как его зовут.
– Бенджамин Бриттен. А концертный зал – «Снейп-Молтингс», один из лучших в стране. Когда проходит Альдебургский фестиваль, музыка звучит по всей округе: в городе, в местных церквях – повсюду. Со всего мира съезжаются известные исполнители, просто рай земной. Если вы приедете, то… – Смутившись, я осекся.
– То что? – Она со смехом подбросила сумочку на коленях. – Что тогда, Алан?
– Ну… я, вообще-то, хотел сказать… если вы приедете, то я бы вас пригласил. Мы с друзьями иногда туда отправляемся всей компанией.
– Было бы славно, – серьезно ответила она. – Я бы с удовольствием.
После антракта мистер Хайтинк с неменьшим профессионализмом приступил к Итальянской симфонии Мендельсона. Наши соседи слева ушли, – очевидно, их интересовало только выступление Фу Цуна; Карин переложила на освободившееся кресло пальто и сумочку и, так сказать, подготовившись к бою, с еще большим увлечением отдалась музыке. Исполнение было прелестным. Всю первую часть ликующе распевал дрозд (как говаривал мой отец), во второй торжественно брели паломники, а мне хотелось чего-то более проникновенного. Я был готов витать в эмпиреях, но Мендельсона занимало другое: он декорировал бальную залу, и, должен признать, с королевской роскошью. Безусловно, плохой классической музыки не бывает, так что грех жаловаться. Как ни странно, мне очень понравилась сюита Яначека, которая завершала концерт. Прежде я ее не слышал; чистое звучание духовых инструментов полнилось неожиданным теплом и живостью, до которых, по-моему, Мендельсону было далеко. Я присоединился к аплодисментам и восторженным выкрикам публики, смутно надеясь, что нам исполнят еще что-нибудь на бис, но этого не случилось.
Карин пришлось встать, чтобы пропустить людей из середины ряда, но потом она снова уселась в кресло и не поднималась до тех пор, пока зал почти не опустел. Наконец она сказала:
– А сейчас, увы и ах, придется возвращаться.
– Зато сколько впечатлений! Карин, это вы замечательно придумали. Мне очень понравилось. А вам?
– Ах, Алан, вы еще спрашиваете?!
– Простите, тут и впрямь спрашивать не стоит. Ну, что сейчас будем делать? Выпьем кофе? Перекусим?
– Да, только недолго. Ох, как нелепо. Неужели сейчас можно говорить о еде?
– Можно просто поговорить. Вы же все это время молчали.
– По-вашему, обычно я слишком много говорю?
– Нет-нет, вы – добрая душа, которая не вянет круглый год. Я просто хотел сказать, что нам с вами не представилось возможности поговорить.
– Так и быть, я отработаю ваш хлеб.
За скромным ужином (меня уже начинало волновать состояние моего кошелька) в небольшом ресторанчике по соседству Карин прекрасным мелодичным голосом говорила о всяких пустяках: о Копенгагене, о друзьях, об отпуске прошлым летом в Голландии, о вязании, о кулинарии, о садоводстве. Речь звучала будто птичьи трели, облеченные в слова, не имеющие никакого значения. Я заслушался и готов был слушать ее бесконечно. Я попросил ее поговорить – и она говорила. Беседовать о музыке не хотелось, и Карин благоразумно не затрагивала эту тему.
Неожиданно она спросила:
– Значит, вчера вы видели меня в Королевском саду?
– Да. Unter der Linde[47].
– О, тогда вы видели меня с Инге и ее девочкой.
– Может быть. Я видел с вами еще одну девушку, наверное Инге, но, поскольку мы с ней не знакомы, точно утверждать я не могу. А вот маленькую девочку не помню, но в парке их было много.
– А. Да, мы с ними пошли в Королевский сад.
– А сколько лет дочери Инге?
– Три года, почти четыре.
– Так, давайте-ка разберемся. Инге – ваша подруга, так?
– Она моя соседка, живет этажом ниже.
– Она замужем?
– Нет.
– Ага, ясно, – улыбнулся я. – И у нее есть дочка.
– Да. – Она отвернулась и позвала: – Tjener![48]
Она попросила подошедшего официанта принести еще кофе; потом добавила в чашку сливок и сахара, размешала, попробовала и сказала:
– А еще есть человек, который хочет на ней жениться, и она, кажется, согласна.
– Рад за нее. Он отец девочки?
– Нет.
– И он не имеет ничего против нее?
– Это обязательно?
– Нет, что вы! Просто мне было бы не очень приятно. Точнее, очень неприятно. Безусловно, обстоятельства у всех разные, я не знаком ни с Инге, ни с ее женихом, ни тем более с дочерью. Надеюсь, они будут счастливы вместе. Дайте мне знать, как пройдет свадьба. Ну, если захотите мне написать. Кстати, Карин, с вашего позволения, можно я буду вам писать? А если я пришлю вам письмо, вы на него ответите?
– Vielleicht. – Помолчав, она воскликнула: – Ах, какой чудесный вечер! Жаль, что мне пора. Пора возвращаться. Не знаю, как на свадьбу, но домой я сейчас точно пойду.
– Как, уже? Еще же очень рано! Прошу вас, задержитесь. Я вас провожу, не волнуйтесь.
– Нет, мне пора. Но вы можете проводить меня до остановки всегдобуса.
Когда я подавал ей пальто, она заметила мое отражение в зеркале:
– Алан, вы помрачнели! Почему вы так серьезны? В чем дело?
– Прошу прощения. Если честно, я задумался о концерте Моцарта. Первая часть в некотором отношении очень сложна, правда?
– Warum?[49]
– Ну, это ведь не обычная соната, за ней очень трудно следовать. Хотя, может быть, именно поэтому я так наслаждался концертом.
Она обернулась, подняла голову ко мне – я до сих пор вижу перед собой ее лицо с полураскрытыми губами. На миг мне почудилось, что она меня поцелует. Она сосредоточенно подыскивала слова, а я встревоженно глядел ей в глаза. Хозяин ресторанчика протиснулся мимо нас и распахнул дверь.
– Алан, вы можете следовать за розой?
– Простите, не понял?
– Под лучами солнца бутон распускается, а потом роза вянет и роняет лепестки. Вот это и есть Seligkeit[50].
Она остановилась на пороге, поблагодарила хозяина и похвалила его заведение.
На улице она снова повторила:
– Seligkeit. Ах, Алан, мне не следовало так шутить. Это невежливо. А вы так добры…
– Не я. Вы смотрели в зеркало. И видели себя.
– Когда-нибудь вы научите меня слушать музыку правильно, вот как вы сам. У меня не хватает ума…
– Конечно же хватает! Только здесь дело не в уме. А в крыльях.
– Ох, тогда я бы не была секретаршей в конторе Хансена.
– Тут это совершенно ни при чем.
– Ну, если бы у меня были крылья, я бы отсюда улетела. Далеко-далеко.
– А вот когда мы с вами слушали Моцарта, мне пришла в голову похожая мысль, только не такая печальная. Музыка для вас – как сад, правда? Как ваш собственный сад. Вот вы очень хорошо знаете английский, но такого не слышали.
– Какого такого? Расскажите.
- – Здесь, возле струй, в тени журчащих,
- Под сенью крон плодоносящих
- Душа, отринув плен земной,
- Взмывает птахою лесной:
- На ветку сев, щебечет нежно,
- Иль чистит перышки прилежно,
- Или, готовая в отлет,
- Крылами радужными бьет, —
продекламировал я.
– Ах, какая прелесть! – воскликнула Карин. – А как она чистит перышки? И чем?
Я объяснил.
– Ja, понятно. Я видела, как они это делают. Вот вы умеете слушать музыку, Алан, правда? Наверное, это тональная форма…
– Сонатная форма.
– Наводит на вас такие мысли. А когда оно было написано?
– Лет триста назад. Может быть, больше.
– Да, давно. Но я понимаю его чувства. Ой, чуть не забыла! Я хочу сохранить программку. Напишете на ней что-нибудь для меня?
Поразмыслив, я написал: «Карин! Ты, о Птица, смерти непричастна. Алан» – и поставил дату.
Карин поднесла программку к освещенной витрине, вслух прочитала написанное и вздохнула:
– Да, если бы я была птицей, я бы улетела. Но я не птица, поэтому поеду на автобусе. – Она порылась в сумке и попросила: – Алан, у вас, случайно, нет проездного жетона? Я свой не могу найти.
10
В гостиничном номере я сбросил туфли, улегся на кровать, не снимая рубашки, и заставил себя взглянуть на вещи честно. Не имело смысла притворяться. Если это не любовь, то с Сотворения мира никто и ни в кого не влюблялся. Я вспомнил, как в сказках герой делает все возможное, чтобы избежать предсказанной участи, лишь для того, чтобы внезапно осознать, что предсказание неотвратимо сбылось. Гордыня, неизбежно приводящая к унижению, – вот что это такое. А унижение было горьким. Я понимал, что до сих пор броня гордыни защищала меня от любви. В сущности, гордость удерживала меня от того, чтобы разделить общий удел человечества. Я отказывался любить из боязни выставить себя на посмешище или испытать боль утраты. Что ж, вот она, боль утраты. До встречи с Карин я был твердо убежден, что меня ничуть не привлекают легкомысленные кокетки, эмоционально воспринимающие музыку и предпочитающие болтать на солнышке у Пушечной башни, а не любоваться шедеврами средневековых европейских резчиков по дереву. Но теперь мне больше всего на свете хотелось не фарфора и фаянса, а общения с Карин. Разумеется, это было невозможно. Время, работа, деньги. Я бесцельно занимался всякими глупостями. Карин терпеливо сносила мои докучливые приставания. Может быть, для того, чтобы вызвать ревность в ком-то еще? Безусловно, прогулки, ужины и концерты сами по себе весьма приятны. Однако чем дольше все это протянется, тем больше я буду страдать, потому что я – тот самый хромоногий Гефест, только имеющий дело не с металлом и оружием, а с другими предметами, такими же холодными и бездушными, и подвергающий себя мукам ради светозарной Афродиты, великой мастерицы хитроумных уловок, которая по мимолетному капризу и для собственного удовольствия благосклонно принимает ухаживания поклонника, одаряет его душистыми цветами и милостиво уделяет ему малую толику того упоительного наслаждения, что в полной мере достается другим. Опомнись, Альберих, в водах Рейна для тебя нет никакого золота.
Завтра вечером, после того как закончится рабочий день, я встречусь с ней на часок, из вежливости, чтобы попрощаться. Сдержанно, но в бодром настроении. А потом поужинаю в одиночестве, лягу спать и наутро уеду из Копенгагена. Ich grolle nicht und wenn das Herz auch bricht[51].
– Алан, давайте не будем никуда заходить, а погуляем по Эрстедспаркен. Там не так людно.
Мы отправились по Хаммериксгаде, навстречу прохожим, спешащим на вокзал, пересекли площадь и по восточной стороне парка дошли до памятника Эрстеду. Небольшая лужайка круто сбегала к озеру, и Карин, взяв меня под руку, свернула и повела по траве на берег. На клумбе справа уже распустились оранжевые лакфиоли, обсаженные бордюром незабудок, и теплым вечером от них веяло сладким ароматом. Карин расстелила на траве пальто, уселась под айвой и, сорвав веточку розовых, словно бы восковых цветов, задумчиво поглаживала подбородок ее кончиком.