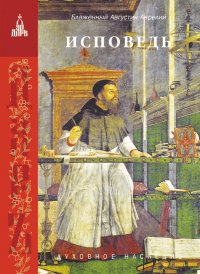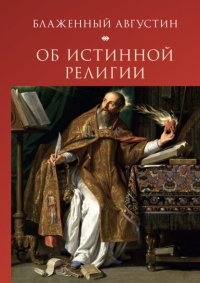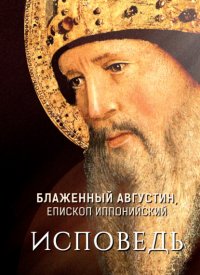
Читать онлайн Исповедь бесплатно
- Все книги автора: Блаженный Августин
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви
(ИС 14-404-0359)
Печатается по изданию:
Творения блаженного Августина, епископа Иппонийского. Т 7. Ч 1. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого (б. Давиденко), 1880. Из журнала «Труды Киевской Духовной Академии» за 1866, 1867 и 1868 гг.
© Издательство «Благовест» – текст, оформление, оригинал-макет, 2014
Предисловие
Христианский святой, богослов и философ, блаженный Аврелий Августин родился в 354 году в Тагасте. Его мать Моника была христианкой, а отец язычником. В 370 году родители послали сына учиться в Карфаген. В совершенстве овладев латынью, Августин стал учителем грамматики в Тагасте, затем в Карфагене, а в 383 году уехал преподавать в Рим. Затем друзья помогли ему устроиться преподавателем риторики в Милане. Там в 386 году он после многолетних духовных исканий, внутренней борьбы и пребывания вдали от истинного Бога принял христианство, крестившись у святителя Амвросия Медиоланского. После этого Августин вернулся в Африку, где Валерий, епископ Гиппона, уговорил его остаться при церкви и рукоположил в пресвитеры. С 391 года Августин начал учить и проповедовать в качестве помощника Валерия, а в 395 году стал его преемником. На кафедре епископа Гиппонского Августин преданно служил Африканской Церкви. В 430 году во время осады города испанскими вандалами он скончался.
Сочинения блаженного Августина пользовались большой популярностью в России издавна. Перевод их на славянский язык имелся уже, по крайней мере, в начале XVI века.
В книге «Исповедь» Августин раскрывает самые тонкие нюансы своей духовной борьбы, очень искренно описывает свою жизнь и основы своей веры во Христа, к которой он пришел после долгих лет пребывания в секте манихеев, мучительной внутренней борьбы и раздумий в поисках Истины.
Но помимо собственных исканий в этом труде философа-богослова нашли отражение и его основные идеи, учение. В «Исповеди» блж. Августин много рассуждает о категориях времени и пространства.
На русский язык «Исповедь» блаженного Августина впервые была переведена в 1787 году проповедником Московской Духовной Академии иеромонахом Агапитом.
Новый русский перевод «Исповеди» блаженного Августина, который и приводится ниже, был издан при журнале «Труды Киевской Духовной Академии» в 1866–1869 годах. Изданию этому покровительствовала императрица Мария Александровна, супруга императора Александра II. Без изменений оно было переиздано в 1880, 1901 и 1914 годах.
Киевский переводчик старался как можно ближе держаться латинского подлинника. Он сохранил общие латинские обороты и делал попытки передать даже оригинальные особенности латинского языка блж. Августина. Во многих случаях эти попытки не имели успеха и переводчик в примечаниях приводил подлинный текст и указывал на невозможность сохранить в русском переводе оригинальную особенность речи блж. Августина.
Стоит еще добавить, что «Исповедь» святого Августина – это не просто его автобиография. Но прежде всего – это богословские размышления святого о себе самом и своих отношениях с личным Богом-Творцом. Поэтому, эта книга будет очень полезна для тех, кто в нашем земном мире искренно ищет истинного Бога, ищет Истину, желает спасти себя от греха и заблуждений века сего, от вечной погибели, желает стать настоящим христианином.
Андрей Плюснин
Книга первая
После воззвания к Богу блаженный Августин вспоминает о первом времени жизни своей до пятнадцатилетнего возраста. – Сознается в грехах своего младенчества и отрочества. – Говорит, что в эти лета он склонен был ко всяким детским играм и забавам более, чем к занятиям наукой.
Глава 1
Велий еси, Господи, и хвален зело, велия крепость Твоя и разума Твоего несть числа (Пс. 144, 3; 145, 6). И человек, эта малейшая часть создания Твоего, хочет восхвалять Тебя; человек, носящий в себе смертность свою и повсюду заявляющий свидетельство греховности своей и Твоего противления гордым. И этот человек, столь маловажное звено в творении Твоем, дерзает воспевать Тебе хвалу. Но Ты Сам возбуждаешь его к тому, чтобы он находил блаженство в прославлении Тебя, ибо Ты создал нас для Себя, и душа наша дотоле томится, не находя себе покоя, доколе не успокоится в Тебе. Даруй же мне, Господи, уразуметь, не прежде ли должен я призывать Тебя, а потом славить Тебя? И не прежде ли я должен познать Тебя, нежели призывать? И кто призовет Тебя, не зная Тебя? Не зная Тебя, можно призывать иного вместо Тебя. Или, лучше, призывать Тебя, чтобы познать Тебя? Но как призывать того, в кого не уверовали? Или как веровать без проповедующего? (Рим. 10, 14) И восхвалят Господа взыекающие Его. Ибо ищущие только могут обрести Его и обретающие могут славословить Его. Итак, взыщу Тебя, Господи, призывая Тебя, и призову Тебя, веруя в Тебя, ибо Тебя проповедали нам. Призывает Тебя, Господи, вера моя, которую Ты даровал мне, которую Ты вдохнул в меня человеколюбием Сына Твоего, служением Благовестника Твоего.
Глава 2
И как же я призову Бога моего, Бога и Господа моего? Взывая к Нему, я, конечно, стану звать Его в себя самого. А где же место во мне, куда вселился бы в меня Бог мой? Где Бог вселится во мне, Бог, сотворивший небо и землю? Так ли, Господи Боже мой, есть ли действительно что нибудь во мне, что бы могло воспринять Тебя? Сами небо и земля, созданные Тобою, вместе с которыми создал Ты и меня, вмещают ли Тебя? Или, если все сущее не существовало бы без Тебя, то не следует ли из того, что Ты всему сущему должен быть присущ и ничто не может быть чуждо Тебя? И так как я существую в ряду Твоих тварей, то зачем мне и домогаться, чтобы Ты взошел в храмину души моей и водворился в ней, когда я и существовать не мог бы, если бы Ты не был во мне? Я еще не во аде, но Ты и там; и если сойду во ад, Ты – везде, и там, и здесь (см. Пс. 138, 8). Да! меня, не было бы, Боже мой; я вовсе не существовал бы, если бы Ты не был во мне; или – точнее – не существовал бы, если бы не был в Тебе, из Которого все, в Котором все. Так, Господи, так! Куда же я после сего зову Тебя, когда я сам в Тебе? Или откуда Ты придешь ко мне? И куда деваться мне с неба и земли, чтобы оттуда мог снизойти ко мне Бог мой, изрекший: еда небо и землю не Аз наполняю (Иер. 23, 24)?
Глава 3
Итак, вмещают ли Тебя небо и земля, так как Ты наполняешь их? Или, наполняя их, остаешься все-таки невместимым, потому что не всего же Тебя вмещают? И куда изливаешь то, что остается от Тебя, наполняющего небо и землю? Или Тебе, содержащему все, нет нужды содержаться в чем-либо, поелику Ты что наполняешь – содержа наполняешь, нисколько не будучи содержим тем, что наполняешь? Не сосуды, наполняемые Тобою, делают Тебя неизменным и непреложным; сами они хотя разбиваются и сокрушаются, но Ты Сам в Себе не терпишь от того ущерба, нисколько не завися от них. А когда изливаешься на нас свыше, Ты не истощаешься Сам, а восполняешь нас, не ниспадаешь, а восстановляешь, не расточаешь Самого Себя, а собираешь нас – других. Но, наполняя Собою все, всем ли Собою наполняешь все? Или так как твари не могут вмещать Тебя – Творца своего – всецело, не вмещают ли они Тебя по частям? И притом – в одинаковой ли мере все, или в разных размерах порознь, то есть большие – больше, а меньшие – меньше? И поэтому не следует ли предполагать в Тебе части, и притом и большие и меньшие? или Ты везде весь, и ничто Тебя всего – всецело не вмещает?
Глава 4
Что же Ты такое, или кто Ты, Боже мой? что или кто, вопрошаю, как не Господь Бог? Ибо кто Господь, кроме Господа? или кто Бог, кроме Бога нашего? – Высочайший, совершеннейший, могущественнейший, всемогущественнейший, в высшей степени благой и милосердый и в высшей степени правосудный и справедливый, никому недоступный и всему присущий, красота благолепнейшая и великодушие непреоборимое и непостижимость неуловимая, Сам в Себе неизменяемый, а все изменяющий, ни нов, ни стар, никогда не обновляющийся и никогда не стареющийся, а все обновляющий и гордых в неведении состаревающий, и действующий всегда и покоющийся всегда, собирающий и ни в чем не нуждающийся, все носящий и наполняющий и поддерживающий, творящий и питающий и усовершающий, обо всем заботящийся и ни в чем не имеющий недостатка. Ты любишь, но не волнуешься; ревнуешь, но сохраняешь спокойствие; раскаиваешься, и не скорбишь; гневаешься, и не возмущаешься; изменяешь дела, но не переменяешь намерений; воспринимаешь, что обретаешь, никогда ничего не теряя; ни в чем не терпишь нужды и недостатка и всякому приобретению радуешься; чуждый всякого корыстолюбия, а требуешь роста и лихвы. Тебе воздается подобающая честь и слава, чтобы Тебя ублажить и как бы склонить к щедрости; но кто же что имеет, чего бы не воспринял от Тебя? Воздавая, уплачиваешь долги, никому не будучи должен: прощая, оставляешь долги, ничего через это не теряя. Но что все слова мои, о Боже мой, жизнь моя, божественная утеха и радость моя? И горе безмолвствующим о Тебе, когда и многоглаголивые немотствуют.
Глава 5
Кто же подаст мне успокоение в Тебе? Кто доставит мне это утешение, да снидешь и внидешь в душу мою и наполнишь Собою сердце мое, чтобы мне забыть все горе мое и Тебя – единое благо мое, воспринять и возлюбить? Что Ты для меня? Сжалься надо мною, чтобы мне не остаться безгласным, чтобы я мог сказать себе: что я сам для Тебя, что Ты заповедуешь мне любить Тебя, так что если я не стану любить Тебя, то Ты вознегодуешь на меня и поднимешь страшные бедствия? Велики ли или не так велики эти бедствия, если я не стану любить Тебя? Увы мне! Скажи мне, из сострадания Твоего ко мне, Господи Боже мой, что Ты для меня. Скажи душе моей: Я твое спасение. Скажи так, чтобы я услышал. Готово сердце мое и слух ушей моих пред Тобою, Господи; отверзи их и скажи душе моей: Я твое спасение. И побегу в след гласа сего и настигну Тебя. Не укрой от меня лица Твоего: я умру, но да не умру, прежде даже не увижу его.
Тесна храмина души моей, чтобы войти Тебе в нее и поместиться в ней: но ты расширь ее. Вся она – в развалинах: но Ты восстанови и обнови ее. Знаю и сознаюсь, что в ней есть много нечистот, которые могут оскорбить Твой взор; но кто очистить ее? Или к кому иному, кроме Тебя, обращусь и воззову: и от тайных моих (грехопадений) очисти меня, Господи, и от произвольных (грехов) удержи раба Твоего (Пс. 13, 14)? Верую, темже и глаголю (Пс. 115, 1; 2 Кор. 4, 13), Ты знаешь, Господи. Не пред Тобою ли исповедал я грехи мои, Боже мой, изобличая себя в них? И – Ты простил мне неправды мои, оставил нечестие сердца моего (Пс. 31, 5). Не вхожу в суд и состязание с Тобою, потому что Ты – истина; и я не хочу обманывать самого себя, да не солжет себе неправда моя (Пс. 26, 12). Да! не стану препираться и входить в суд с Тобою; ибо ежели на беззакония взирать будешь, Господи, Господи, кто устоит? (Пс. 129, 3).
Глава 6
При всем том позволь мне, Господи, хотя я – земля и пепел, – позволь и мне возвысить голос пред Твоим милосердием. Позволь мне это, ибо я буду говорить пред милосердием Твоим, а не пред человеком посмеивающимся. Быть может и Ты посмеешься надо мною, но Ты же, сжалившись, и помилосердствуешь обо мне. Ибо что я хочу сказать пред Тобою, Господи Боже мой? – Хочу начать с того, чего я не знаю и не постигаю, откуда я пришел сюда – в эту смертную жизнь, или жизненную смерть, откуда говорю, пришел я сюда. И меня, пришельца, восприняло сострадательное милосердие Твое и затем встретили меня Твои утешения, как слышал я от плотских родителей моих, отца и матери, из которых Ты образовал меня в определенный период времени; ибо я сам ничего этого не помню. Так воскормил меня на первых порах сладостью и утехою молока человеческого Твой Промысл. Не мать моя, не кормилицы мои питали меня сосцами своими, но Ты через них подавал мне – младенцу – пищу детскую, по закону природы, Тобою ей предначертанному, и по богатству щедрот Твоих, которыми Ты облагодетельствовал все твари по мере их потребностей. Ты также давал мне чувствовать и то, чтобы я не желал и не требовал этой пищи более того, сколько Ты подавал ее, и кормившим меня влагал стремление подавать мне то, что Ты им подавал. И они охотно, по естественному побуждению, подавали мне то, что в изобилии получили от Твоих щедрот. Ибо благо мое было вместе и их благом, и хотя ими передавалось мне, но происходило не от них, а только через них совершалось Тобою, так как всякое благо от Тебя исходит, Боже, и от Бога моего – все спасение мое. И я уразумел это уже впоследствии, от Тебя Самого, из тех благодатных даров, какие Ты подаешь нам.
А в то время я ничего не умел больше, как только сосать грудь матери, покоиться на ее лоне, утешаться ее ласками или же плакать при неприятных ощущениях телесных.
Потом я стал и улыбаться, сперва во сне, а потом и наяву. Это мне обо мне же рассказывали, и я поверил, потому что тоже самое видел и над другими младенцами, хотя того о себе не помню. И вот мало-помалу начал я различать окружающие меня предметы и старался передавать желания свои тем, которые могли бы удовлетворить мне, но не мог, потому что желания мои заключались во мне, а исполнители их вне меня, и ни одним чувством своим, ни каким чутьем не могли проникнуть в душу мою. Мне оставалось пользоваться разными телодвижениями и звуками голоса, как некоторыми знаками, соответствующими моим желаниям, и я делал знаки, какие только мог; но и эти знаки были бедны и маловыразительны, так что оказывались неудовлетворительными. И когда желаниям моим не удовлетворяли, или потому что не понимали меня, или потому что боялись повредить мне через исполнение моих желаний, я приходил в негодование и досадовал на старших себя, не подчинявшихся мне, не зависящих от меня, не слушающихся меня, и сам себя наказывал за то плачем. Таковы вообще дети-младенцы, сколько я мог узнать это из наблюдения над ними, и сам я был таков же; в этом те же не умещие говорить и не сознающие себя младенцы более уверяют меня, нежели сколько могли уверить меня многоречивые и сознавшие себя мои воспитатели.
И вот младенчество мое давно уже умерло для меня, а я все еще пока живу. Ты же, Господи, всегда живешь, и ничто не умирает в Тебе, потому что Ты всегда существуешь от начала веков и прежде всего, когда бы что ни существовало, и Ты – Бог и Владыка всего, сотворенного Тобою; у Тебя конечные причины всего преходящего, в Тебе непреложные начала всего изменяемого, и все, само по себе временное и само по себе неуяснимое, находит для себя в Тебе и у Тебя и вечную жизнь, и всегдашнее успокоение. Скажи же мне, припадающему к стопам Твоим и умоляющему Тебя, Боже мой, скажи, по милосердию Своему к недостойному рабу Твоему, скажи мне: предшествовал ли младенчеству моему какой-либо другой возраст жизни моей, для меня уже не существующий, или этот возраст ограничивался только тем состоянием, какое провел я в утробе матери моей? Ибо и об этом состоянии, проведенном мною в матерней утробе, сообщено мне некоторое понятие, да и сам я видел беременных женщин. Что же перед тем было со мною, Радость моя, Утеха моя, Боже мой, был ли я до того где-нибудь или чем-нибудь? И нет у меня никого, кто бы сказал мне что-нибудь на это: ни отец, ни мать, ни опыт над другими, ни память моя не могут дать мне ответа. О, не посмевайся надо мною, когда я спрашиваю об этом, Ты, заповедующий мне Тебя, Бога, славить и хвалить за все то, что познал я, и Тебя Господа исповедовать.
Исповедую Тебя и Тебе исповедуюсь, Господи Боже мой, Владыко неба и земли, хвалу Тебе воздавая и за то первобытное состояние мое, какое предшествовало младенчеству, и за самое младенчество мое, чего я не помню, но относительно чего дал Ты возможность человеку делать догадки и заключения из наблюдений над другими и о себе, и верить о себе многому на основании свидетельств кормилиц и нянек. Ибо я существовал и жил тогда еще, хотя знаков для выражения и сообщения другим чувств и ощущений бытия своего и жизни своей стал искать уже под конец младенчества. И откуда такое оживотворенное существо могло произойти, как не от Тебя, Господи? Есть ли и может ли быть такой художник, который бы сам себя сотворил? Или можно ли представить себе другую конечную причину нашего бытия и нашей жизни, кроме Тебя, Господи, как Творца и Зиждителя нашего, Которому нераздельно присущи бытие и жизнь, так как Ты Сам – высочайшее бытие и высочайшая жизнь? Ты – Всевышний и не изменяешься. Для Тебя настоящий день никогда не проходит, хотя он и в Тебе проходит, потому что и это все в Тебе; иначе не было бы для него путей прохождения, если бы Ты не содержал его в Себе. И поелику лета Твои не оскудевают (Пс. 101, 28), то эти лета Твои – не всегдашний ли, один и тот же непрерывный день? И сколько уже дней наших и предков наших протекло через этот Твой никогда и ни в чем не изменяющийся – всегда настоящий день, и из него или в нем получили видоизменения, как бы они ни видоизменялись, а сколько и еще пройдет их в разных видоизменениях, каковы бы эти изменения ни были, Ты всегда и неизменно один и тот же (там же); и все наше прошедшее и все наше будущее у Тебя совершается в вечнонастоящем. Что за беда, если кто и не поймет слов моих? Довольно для него, если он скажет: что это значит? Пусть удовольствуется и этим, а вместе с тем пусть возжелает лучше не ища находить Тебя, нежели ища не находить Тебя.
Глава 7
Услышь меня, Господи! Горе грехам человеческим! И это говорит человек, и Ты милосердствуешь о нем, потому что Ты сотворил его, греха же не сотворил в нем. Кто же изобразит мне младенчество мое и расскажет о грехах его? Ибо кто чист от греха перед Тобою? – Никто, ни даже младенец, хотя бы и один день жития его был на земле. Кто передаст мне это? Неужели какой-нибудь теперешний маленький ребенок, в котором я вижу то, чего не припоминаю о себе? Итак, в чем же я тогда погрешил или чем? Не грешил ли я тем, когда разевал рот и жадно ловил им сосцы матери с плачем? Ибо если бы я теперь стал делать это, разевая таким же образом рот свой, конечно, не на сосцы, а на соответствующую возрасту моему пищу, то надо мною стали бы смеяться, и я точно подвергнулся бы справедливым укоризнам. Следовательно, я делал тогда то, что заслуживало порицание; но так как я не понимал этого и не мог понимать, то и не было причины, да и незаконно было бы по принятым в обычае правилам ставить мне это в вину, ибо от подобных поступков мы освобождаемся и отчуждаемся уже с возрастом. Но я не видел, чтобы человек в полном уме, очищая дом от сора, вместе с сором выбрасывал и добрые вещи. Неужели же, по самому времени младенчества, неукоризненны и невинны были (чтобы не сказать добры) и эти поступки. Так, например, со слезами требовать чего-нибудь вредного, сердиться и досадовать на неподвластных себе, на старших себя, даже на родителей своих и других, имеющих уже смысл и разум, за то, что они не слушаются младенческих причуд, царапаясь и кусаясь, стараться по мере сил вредить за то, что не выполняют вредоносных требований. Нельзя упрекать и винить младенцев за слабость и немощь их членов, но их душевные свойства подлежат упрекам. Я видел сам завистливого ребенка: он еще не говорил, а между тем бросал взгляды на своего молочного брата с какою-то злобною горечью, досадою и бледностью. Кто этого не знает? Говорят, что матери-кормилицы замаливат в этом случае грехи свои и отмаливают такие недостатки в своих детях, не знаю только какими средствами. Разве и это – невинность, когда видишь, что у грудей матери, при обилии и совершенном достатке молока, один ребенок не терпит при себе другого, равно нуждающегося в этой пище и питающегося только ею. Конечно, на все это смотрят ласково и терпеливо, не потому, чтобы это было дело маловажное и ничего не значило, а потому, что с течением времени это должно пройти. И с этим, пожалуй, нельзя не соглашаться; но при всем том нельзя и не следует смотреть на это равнодушно, когда вслед затем, при дальнейшем возрасте ребенка, все подобные недостатки замечаются, не одобряются, преследуются.
Итак, Господи и Боже мой, давший жизнь младенцу и облекший его в тело, одаренное всеми чувствами, какие только мы видим в себе, Ты составил его из разных членов, дал ему прекрасный вид и для самосохранения его внедрил в него все стремления, все наклонности существа одушевленного, – Ты заповедуешь мне славить, исповедовать и воспевать имя Твое, Вышний; ибо Ты – Бог всемогущий и всеблагой, хотя бы Ты и одно это соделал, чего никто другой не может сделать, кроме Тебя одного, как высочайшего Художника, Который даешь и образ, и красоту, и строй всему по Своим законам. И этот впрочем возраст, Господи, который я прожил бессознательно, но о котором я знаю по вере из рассказов другпх и заключаю из наблюдения над другими младенцами, хотя все подобные сведения имеют значительную долю верности и точности, и этот возраст с грустью и неохотно причисляю к этой жизни моей, которою я живу в этом мире. Ибо сколько могу судить по темным и неуловимым воспоминаниям об этом возрасте, а еще более по совершенному отсутствию памятования о нем, я сравниваю его с состоянием пребывания моего в утробе матери. И если я уже в беззаконии зачат есмь и во гресех роди мя маши моя, то все-таки дерзаю вопрошать Тебя, Боже мой, где я – раб Твой, Господи, где или когда был я невинным? Но в тоже время и оставляю это время, о котором дерзнул я вопросить Тебя. Да и какое мне отношение к нему, когда нет у меня о нем никаких воспоминаний, никаких следов?
Глава 8
Поступая далее, не из младенчества ли перешел я в отрочество; или – вернее, не само ли отрочество наступило для меня и заступило место младенчества? Но и младенчество не оставило меня, ибо куда ему деваться, и однако же его уже не было. Я перестал уже быть младенцем, не умеющим еще говорить, но стал уже отроком, приобретшим и дар слова. И я помню это, даже имею ясное представление о том, каким образом выучился я говорить. Меня не учили тому старшие меня так, чтобы показывали слова в каком-нибудь определенном порядке учения, как это делали впоследствии, уча меня азбуке и сочетанию букв, но я сам умом своим, дарованным мне Тобою, Боже мой, заучивал все это с помощью памяти, потому что не имел возможности выразить чувства души моей ни плачем, ни криком, ни разными телодвижениями, не мог без помощи слова передать свои желания другим, в ожидании себе от них удовлетворения. Дело было так: когда одни называли какую-нибудь вещь словом и по этому слову другие обращались к той вещи, я замечал и удерживал в памяти, что этим словом называли ту именно вещь, на которую указывали тем же словом. А что это так, очевидным становилось для меня из самих телодвижений их при этом, как естественного и общего всем народам языка, посредством которого выражается в лице, глазах, в звуке голоса и всяких движениях тела состояние души при ее желании или нежелании чего-нибудь. Так, слыша часто в разговорах одни и те же слова, при одинаковой их обстановке, я мало-помалу научился понимать их значение, и посредством этих слов, как имеющих определенное значение, доступным языком стал выражать свою волю. И сими-то знаками я выражал уже свои мысли и менялся ими с теми, среди которых жил; потом – далее – вступил в бурное общество жизни человеческой, все еще завися от власти родителей и воли старших.
Глава 9
Боже, Боже мой! Каких бедствий и посмеяний не испытал я там, когда мне – мальчику – поставляли единственным правилом жизни слушаться наставлений, чтобы в этом мире сделаться славным, успеть в науках и особенно отличиться в искусстве красноречия, служащим к приобретению миских почестей и богатств! С этой целью и отдали меня в школу для изучения наук, пользы которых я, несчастный, не понимал; а между тем, когда ленился, за учением меня секли. Так это уже водится исстари, и многие еще до нас, жившие такою жизнью, проложили эти скорбные пути, по которым и нам досталось проходить, с умножением труда и болезни у сынов Адамовых. Встретили впрочем мы людей, обращающихся к Тебе, Господи, и научились от них чувствовать и мыслить о Тебе, сколько могли, как о некоем Великом Существе, – именно, что Ты можешь, и не являясь чувствам нашим, выслушивать нас и помогать нам. И я, как мальчик еще, стал искать и просить у Тебя помощи, заступничества, убежища, призывая Тебя; я преодолевал все трудности детского языка моего; я просил, я молил Тебя, как ребенок, со свойственным ему чувством умиления, чтобы меня не секли и в школе. И когда Ты не внимал моим мольбам (что однако же не вело меня к безумию), старшие и сами даже родители, которые конечно не желали мне зла, смеялись надо мною, когда меня наказывали, что меня в те минуты еще более убивало и оставляло в душе моей самое тяжелое и грустное чувство.
Господи! Есть ли столь великие души, до того мужественные, такою пламенною любовью к Тебе привязанные, есть ли, говорю, такие великие характеры, такие возвышенные личности, которые из совершенной преданности к Тебе ни во что вменяли бы и козлы, и когти, и всякого рода орудия мучений, презирая сами мучения, об избавлении от которых со страхом умоляют Тебя повсюду, и с равнодушием относились к тем, которые страшатся таковых мук, подобно тому, как родители наши бывают равнодушны к мучениям, которым подвергаются дети их от учителей? И мы не менее боялись этих мучений и не менее молили Тебя об избавлении нас от сего; а между тем грешили, не прилагая того старания по своим занятиям ни в писании, ни в чтении, ни в размышлении, какого требовали от нас. У меня не было недостатка ни в памяти, ни в уме, которыми благоволил Ты, Господи, наделить меня щедро, по моему возрасту; но я любил игры и был за то наказываем теми, которые сами тоже делали. Но забавы старших называются делом, а детские игры, когда они случаются, преследуются ими; и бедных детей никто не жалеет, будут ли они мальчики, или девочки, или те и другие. Разве кто из здравомыслящих судей одобрит, например, хоть бы этот поступок надо мною, когда меня наказали за то, что я играл в мяч, будучи мальчиком, и эта игра помешала мне скорее выучить урок, над которым с отвращением я посмеялся бы только, будучи в совершенном возрасте, или тот же здравомыслящий судья разве не скажет, что тот самый, который наказывал меня, не менее, если не более, был виноват, когда в каком-нибудь ученом споре, оставаясь побежденным от своего соперника, более мучился завистью и досадою, нежели я, оставаясь побежденным от своего товарища в искусстве играть в мяч.
Глава 10
И однако же я грешил, Господи Боже, Творец и Промыслитель всего в мире, но грешников только Промыслитель. Господи Боже мой! Грешил я, поступая вопреки правилам и повелениям родителей и учителей. Ибо впоследствии я мог получить пользу от всего того, чему они хотели выучить меня, с какою бы целью они меня ни учили. Но я, не избирая лучшего, был непослушен и, увлекаясь играми, любил кичливые победы в состязаниях и раздражал в себе слух вымышленными рассказами, и чем сильнее они возбуждали меня, тем с большим любопытством стремился я на зрелища и на игры старших себя, так высоко ценимые в свете, что отличаются на этих играх и зрелищах, в сознании собственного достоинства, все почти желают того же и детям своим; а между тем охотно дозволяют сечь детей, если на них отвлекаются они от той науки, которая впоследствии дала бы им возможность блистать в свете. Виждь это, Господи, воззри на нас милосердно, избавь нас, уже обратившихся к Тебе и не призывающих Тебя; избавь и тех, которые еще не обратились к Тебе и не призывают Тебя, да обратятся и призовут, и избавишь их.
Глава 11
Слышал я, будучи еще отроком, о жизни вечной, обещанной нам, по человеколюбию Господа Бога нашего, в уничиженном состоянии снизшедшего к нашей гордыне, и еще от утробы матери моей, которая много надеялась на Тебя, я знаменовался крестом Его и вкушал соль Его1. Ты видел, Господи, как я, будучи еще ребенком, однажды вдруг заболел затвердением желудка, так что едва не умер было от воспаления. Ты видел, Боже мой, ибо Ты и тогда был хранителем моим, с каким расположением души, с какою верою просил я у благочестивой матери моей и у общей нашей матери – Святой Церкви Твоей – крещения во Христа Твоего, Бога и Господа моего. И смущенная мать моя, по плоти, еще сильнее желавшая чистым сердцем, по вере в Тебя, родить меня для вечного спасения, уже спешила с заботливостью приготовить все, чтобы я омылся и освятился спасительным таинством, исповедуя Тебя, Господи Иисусе, во оставление грехов; как вдруг я выздоровел. Таким образом очищение мое было отложено; как будто нужно было, чтобы я еще сквернился в жизни; так как очевидно, что виновность в осквернении грехами была бы больше и опаснее после купели крещения. Итак, я уже веровал, как и мать моя, и весь дом наш, кроме одного отца, который однако не превозмог во мне силы матерней любви и не мог помешать мне уверовать во Христа, в Которого он еще не веровал. И мать моя заботилась о том, чтобы Ты, Боже мой, был мне Отцом, более нежели он, в чем Ты и помог ей превозмочь мужа, которому впрочем она усердно служила, потому что и в этом она повиновалась Твоему велению.
Желал бы знать, Боже мой, молю Тебя, если только Тебе угодно это, с какою целью отсрочено было мое крещение: ко благу ли моему, мне как бы послаблены были узы греха, или не послаблены? Еще и теперь часто от многих слышится: оставь его, пусть делает, что хочет, он еще не крещен; однако же относительно здоровья тела мы не говорим: оставь его, пусть покрывается язвами, он еще не выздоровел. Не лучше ли было бы, если бы я скорее исцелился, благодаря заботливости приближенных ко мне и моей собственной, чтобы воспринятое спасение души моей, Тобою дарованное, безопасно было под покровом твоим? Да, лучше! Но мать моя предвидела, сколько и какие волны искушений грозили мне по выходе из детства; и она лучше хотела, чтобы эти волны наводнили землю, еще грубую, и в ней же сокрушилась, а не тот образ, в который эта персть должна была затем облечься и который и должен был потом воспринять.
Глава 12
Невзирая однако же на то, я в детстве своем, за которое не столько боялся, сколько за юношеский возраст, не любил учиться и досадовал, когда меня принуждали к тому; при всем том меня все-таки заставляли учиться, и благо для меня это было, но я нехорошо поступал, учась только по принуждению. И всякий, кто делает что-либо неохотно, по одному принуждению, нехорошо делает, хотя бы то, что он делает, и доброе дело было. Да и те, которые делали мне насилие, нехорошо поступали; но благо в этом для меня зависело от Тебя, Боже мой. Ибо они, заставляя меня учиться, ничего не имели в виду, кроме удовлетворения ненасытимым желаниям богатства и славы. Ты же, у кого и волосы на голове нашей все сочтены (см. Мф. 10, 30), погрешности и заблуждения понуждавших меня учиться обращал в мою пользу, а мое отвращение от учения, непокорность и ослушание учителям вменял мне же в наказание, которого я заслуживал тем, что не хотел учиться, и своим ослушанием, – такой маленький мальчик и такой грешник! Таким образом из того, что другие делали в отношении ко мне нехорошего, Ты извлекал для меня пользу; а за то, в чем я сам грешил, делал праведное мне же возмездие. Ибо Ты заповедал и постановил правилом, и так оно бывает, чтобы всякий беспорядок в жизни носил в себе соответственное наказание.
Глава 13
Но от чего ненавидел я греческий язык, которому меня учили с малолетства, я и до сих пор не могу себе объяснить надлежащим образом. Я весьма любил латинский язык, но не то в нем, чему учат первые учители, а то, чему учат так называемые грамматеи (grammatici). Ибо и эти первые (латинские) начатки учения, когда учат нас читать и писать, и считать, были для меня не менее тягостны и сопровождались наказаниями, подобно всякой греческой грамотности. От чего же и это, как не от греха и суетности жизни, потому что я был плоть, был ветер, который блуждает и не возвращается? Но это первоначальное учение, как более близкое, более верное и определенное, которое и подавало мне всегдашнюю пищу, так что я всегда имею возможность с охотою и прочитать, что нахожу в письменности, и сам написать, что захочу, конечно, лучше тех наук, по которым заставляли меня, обременяя память, заучить странствования или похождения (errores) какого-нибудь Энея, оставляя в забвении собственные заблуждения (errores) мои, и оплакивать смерть Дидоны, убившей себя из любви, между тем как я несчастнейший, убивая себя подобными занятиями, сам умирал и, не чувствуя того, удалялся от Тебя, Боже, – жизнь моя.
И что может быть жалостнее несчастного, самого себя не жалеющего, плачущего над смертью Дидоны, умершей от любви к Энею, а не оплакивающего своей смерти, проистекающей от недостатка любви к Тебе, Боже, свету сердца моего, духовной пище души моей, животворной силе ума моего и внутренней тайне помышления моего? Между тем, я не любил Тебя и нечествовал вдали от Тебя, и когда я нечествовал, то отовсюду одобрительные отзывы слышались: браво, браво! Ибо приятельская дружба мира сего есть нечестие в удалении от Тебя; и эти возгласы: браво, браво! произносятся с тем, чтобы ими одних ободрить, а других укорить, и я не плакал об этом, а плакал о Дидоне, умершей и в могилу сошедшей от меча, сам подвергаясь неизвестной, сокрытой от меня Тобою будущности, оставив Тебя, и – как земля в землю обращаясь; и если бы мне воспретили это чтение, то я печалился бы, не прочитав того, о чем плакал. А между тем, такое безумие считается наукою почетнее и плодотворнее той, по которой я выучился читать и писать.
Но теперь, Боже мой, истина Твоя да воззовет в душе моей и скажет мне: не так, не так; первое из вышесказанных учение всеконечно лучше. Ибо ныне же я скорее готов забыть странствования Энея и все подобное тому, нежели забыть – читать и писать. Правда, на дверях школ грамматиков висят занавески, но они служат не столько почетным символом таинственности, сколько покровом заблуждения. Пусть не восстают против меня учители, которых я уже не боюсь, когда я исповедуюсь Тебе, Боже мой, во всем, что сознает душа моя, а успокаиваюсь в обличении злых путей моих, чтобы возлюбить благие пути Твои. Пусть не восстают против меня продавцы и покупатели грамматик, они не устоят против истины; ибо если я предложу им вопрос: правда ли то, что поэт рассказывает о прибытии когда-то Энея в Карфаген, то малоученые отвечают, что они не знают, а многоученые даже отвергнут справедливость этого. Но если спрошу: какими буквами пишется имя Энея, то на это все учившиеся грамоте в один голос, как сущую правду, ответят мне: пишется так и по тем правилам, как согласились и постановили между собою люди в изображении этих знаков. Притом, если бы я спросил, что для каждого из нас в этой жизни было бы более выгодно: забыть ли читать и писать или забыть эти поэтические вымыслы, то кто затруднился бы в ответе на это, если только, не потеряв памяти, сознает себя совершенно? Итак, я грешил в детском возрасте, когда этим пустым занятиям давал предпочтение в любви своей перед теми предметами, которые полезнее, – вернее, последние ненавидел, а первые любил. Само даже повторение хоть бы этих слов: один да один – два, два и два – четыре, – эта постоянная песня нестерпима была для меня; а какой-нибудь деревянный конь, наполненный вооруженными воинами, осада и пожар Трои, сама тень Креузы, – эти зрелища суетности – служили для меня призрачным наслаждением.
Глава 14
Но от чего же ненавидел я саму грамотность греческую, подобные дела воспевающую? Ибо Гомер весьма искусен в составлении таких рассказов и, несмотря на пустоту их, весьма приятен; а при всем том он мне в детстве моем не нравился. Думаю, что и для греческих отроков – тоже самое Вергилий, когда их заставляют изучать его также, как меня заставляли изучать Гомера. Очевидно, что трудность, именно, одна трудность в изучении чужестранного языка, как бы желчью, отравляла для меня всю приятность греческую в баснословных рассказах. Я не понимал там ни одного слова, а меня заставляли знать то суровыми угрозами, то наказаниями. Было же время, когда я в младенчестве также ничего не знал из латинских слов; однако же через наблюдения и замечания выучился им и стал понимать без всякого страха и мучения, среди ласк кормилиц моих, шуток – забавлявших меня и удовольствий – игравших со мною, выучился тому, без всяких карательных понуждений, будучи побуждаем к тому собственным сердцем. Мне нужно было выражать свои чувства, а это было невозможно без заучивания кое-каких слов, но не от учителей, а из живых разговоров, посредством которых и я передавал другим то, что чувствовал. А из этого само собою открывается, что для приобретения и усвоения таких познаний гораздо действительнее свободная любознательность, нежели боязливая и запуганная принужденность. Но и этой свободы порывы сдерживаются строгою необходимостью по законам Твоим, Боже, Твоим законам, сильным и мощным, которые, начиная от розги учителей до мученических пыток, всюду примешивают спасительную горечь, возвращающую нас к Тебе от пагубных удовольствий, удалявших нас от Тебя.
Глава 15
Услыши, Боже, молитву мою, да не изнеможет душа моя под пестунством Твоим; и я не престану исповедовать перед Тобою и славить неизреченное Твое ко мне милосердие, которое явил Ты мне, изведя меня от всех пребеззаконных путей моих; превыше всех тех обольщений, которыми я увлекался; и я возлюблю Тебя всем существом моим и предамся Тебе всецело, и Ты избавишь меня от всякого искушения навсегда. Ибо Ты, Господи, Ты – Царь мой и Бог мой, Тебе и должно служить все, чему только выучился я полезному в детстве своем, – Тебе должно служить все, что и говорю, и пишу, и читаю, и считаю, так как Ты, когда я занимался чем-нибудь суетным, вразумлял меня и прощал мне мое грешное удовольствие при этих суетных занятиях. Много и полезного вынес я из отроческого учения, а много и такого, что относится уже к предметам превыше суетных: в этом и состоит безопасность пути для отроков.
Глава 16
Но – увы! Кто устоит перед силой нравов и обычаев человеческих? Она, вечно властвуя, постоянно увлекает детей Евы в море великое и страшное, где едва спасаются и на кораблях. Не этою ли силою и я увлеченный читал о Юпитере и громовержце, и прелюбодее? И как то и другое несовместимо, то придумано оно, конечно, для того, чтобы действительному любодеянию иметь опору для подражания, прикрываясь мнимым авторитетом громовержца. И чей трезвенный слух из призванных учителей не оскорбится, слушая человека – своего собрата, когда он во всеуслышание говорит: «Все это выдумал Гомер, и свойства человеческие приписал богам; но я лучше хотел бы, чтобы свойства божеские были приписываемы нам»2. Но вернее можно сказать, что это выдумал скорее он сам, приписывая в тоже время людям порочным свойства божественные, чтобы пороки не считались пороками, и чтобы всякий, кто ни делал бы их, казался подражающим не людям грешным, но богам небожителям.
А между тем в тебя, адский водоворот, стремятся сыны человеческие и платят еще за твою науку; притом смотрят на это, как на великое дело, так что все это совершается публично, в открытых местах, под покровительством законов, обеспечивающих учителей наградами и постоянным содержанием. Указывая на все это, с гордостью говорят: здесь изучается искусство слова, здесь приобретается красноречие, столь необходимое для убеждения и взаимного объяснения. Да, действительно, мы не понимали бы этих слов: золотой дождь, недра, высота сводов небесных и тому подобные выражения, какие начертаны там, если бы Теренций не вывел на сцену порочного юношу, который, рассматривая какую-то написанную на стене картину (изображавшую, как Юпитер нисшел в недра Данаи каким-то золотым дождем, как он через это соблазнил ее), – представлял при этом себе в Юпитере пример разврата. И смотри же, как этот юноша разжигает в себе похоть, как бы по указанию самого бога. «И какого бога?», – замечает Теренций. «Бога – потрясающего громами своды небесные. И мне ли, человеку пресмыкающемуся на земле, не делать того же? Да, я это сделал, и сделал это тем охотнее»3. Конечно, слова эти, по причине своего порочного содержания, не разъясняются, но они внушают смелость к совершению пороков. Я не обвиняю слова, как сосуды избранные и честные, но обвиняю греховный напиток, которым напаяют нас из них безумные учители; и если бы мы не стали пить этого напитка, то они стали бы наказывать нас, не слушая никакого здравого оправдания. А между тем, Боже мой (перед взором Твоим мне можно смело воспоминать об этом), я несчастный охотно, даже с удовольствием изучал все это, и за то называли меня мальчиком, подающим добрые надежды.
Глава 17
Дозволь мне, Боже мой, сказать нечто и об уме моем, – Твоем даре, на какие тратил я его нелепости. Мне часто давали дело, довольно тревожное для души моей, заставляя меня то обещанием наград, то угрозою наказаний произносить слова Юноны, как она гневалась и скорбела, когда не могла отвратить от Италии вождя тевкров (троянцев). Я никогда не слыхал, чтобы Юнона говорила что-нибудь подобное, но мы должны были идти по следам поэтических вымыслов и рассказывать свободною речью то, что поэт говорил стихами. И чем кто сообразнее с положением представляемого лица выражал в себе страсти гнева и скорби, словами точь-в-точь передающими мысли, тем более заслуживал он ободрения и похвал. Что мне из этого, о, истинная жизнь моя, Боже мой, что мне рукоплескали, когда я декламировал, и восхваляли меня перед многими сверстниками и товарищами? Не все ли это дым и ветер? Неужели ничего не было иного, в чем бы можно было мне упражнять свой ум и язык? Хвалы Твои, Господи, хвалы Твои, посредством упражнения в божественном Писании Твоем, могли бы составить наилучшую победу и торжество для души моей, и я не сделался бы через суетные занятия нелепостами постыдною добычею властей воздушных, коим, как духам падшим, приносятся жертвы не одним способом, а многоразлично.
Глава 18
Что же удивительного, если я по увлечению вдавался в такую суету и удалился от Тебя, Боже мой, когда мне представляли в пример таких людей, которых порицали и осмеивали в то время, как они о делах своих, и не дурных, выражались с примесью варваризмов и солецизмов, а напротив того хвалили и превозносили их, когда о собственных пороках рассказывали изящно и увлекательно, чистою и правильною речью, – и представляли их конечно для того, чтобы в первом случае не подражать, а во втором подражать им? Ты видишь это, Господи, и хранишь молчание, долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный. Неужели и всегда будешь хранить такое молчание? И ныне Ты изводишь из сей ужаснейшей бездны душу, ищущую Тебя и жаждущую утешения Твоего, – душу, взывающую к Тебе: внемли, Господи, гласу моему; Тебя призываю, помилуй меня и услыши меня; сердце мое говорит перед Тобою Твое слово: «ищите лица Моего»; и я ищу лица Твоего, Господи (см. Пс. 26, 7, 8; Зах. 13, 9). Ибо от лица Твоего удаляются те, которые пребывают во тьме греховной, и удаление от Тебя, равно как и возвращение к Тебе, измеряется не расстоянием мест и не числом шагов. Так, разве поминаемому в притче сыну Твоему младшему нужны были кони и колесницы или корабли, разве улетал он на крыльях ветра или сам своими ногами совершал путешествие, чтобы в недалекой стороне, живя распутно, расточить часть свою, которую Ты дал ему, когда он удалялся, оставляя Тебя? Мил Ты был ему, когда выделял ему часть его; но стократ милее стал Ты для него, когда он возратился к Тебе в нужде (Лк. 15, 12–32). Поэтому, удаление от лица Твоего состоит именно в похоти страстей, или, что тоже, во тьме греховной.
Виждь, Господи Боже, виждь и потерпи, что видишь, как тщательно сыны человеческие соблюдают законы букв и слогов, передаваемые им преемственно от их учителей, а принятые от Тебя раз и навсегда неизменные законы вечного спасения оставляют без внимания. Если бы кто из преподающих общепринятые правила звуков произнес, вопреки грамматике, без придыхания первого слога слово: ото вместо homo, то он подвергся бы за это большим преследованиям, чем в том случае, когда бы он, вопреки Твоим заповедям, возненавидел самого человека, будучи человеком. Как будто каждому человеку ненавистнее его противник, чем сама ненависть, и как будто он этою ненавистью больше вредит своему противнику, преследуя его, чем самому себе, питая в сердце своем эту ненависть. И действительно, законы слова не глубже законов совести напечатлены у нас: не делать другим того, чего себе не желаем. О, как Ты неисследим в Своих непостижимых судьбах, Боже единый великий, по непреложному закону Своему, помрачающий карательными ослеплениями противозаконные пожелания наши! Когда человек ищет славы в красноречии, то, предстоя перед судьею, окруженный множеством народа, преследуя неумолимою ненавистью своего соперника, он со всей осторожностью бережется, чтобы не сделать какой-нибудь погрешности в языке4, а не старается предохранить себя и не страшится, в сумасбродстве и неистовстве, убить собрата своего среди собратов.
Глава 19
Ия, бедный мальчик, стоял уже над самой пропастью подобной нравственности, и школа детского воспитания моего была такова, что я боялся допускать в речи варваризм, а не боялся, погрешая против правильности и чистоты речи, завидовать говорившим правильно и хорошо.
Говорю это и исповедуюсь Тебе, Боже мой, в том, за что меня хвалили те, угодить которым было тогда моею единственною честью. Ибо я не видел той бездны нечестия, в которую низринут был вдали от Тебя. Было ли что хуже меня в этом отношении (чем даже возбуждал я зависть к себе), когда из привязанности к разным играм и увеселительным забавам, из пристрастия к театрам и зрелищам с томительным желанием подражать им я нередко обманывал и надзирателя свего, и учителей, и самих родителей, употребляя на то всякую ложь? Я даже воровал из родительской кладовой или со стола, то для удовлетворения склонности к лакомству, то для того, чтобы поделиться с другими детьми, которые за то допускали меня к своим играм, разделяя их со мною. И в этих играх, побуждаемый суетным желанием первенства, я часто пускался на хитрости и даже обман для одержания побед. А между тем в других ничего я так не ненавидел, ничего так не преследовал, как подобные поступки; если же сам в них попадался, то всегда больше упорствовал, нежели уступал, и это ли невинность детская? Нет, Господи, нет; молю Тебя, Боже мой! Ибо все то, что выносится у нас в детстве из-под опеки надзирателей и учителей, переходит потом к правителям и царям, и от орехов и мячиков, и воробьев переносится к золоту, поместьям, рабам; то есть все пороки детства переходят на последующие затем возрасты – в соответствующем изменении, точно также, как и детские розги заменяются впоследствии более суровыми наказаниями. Итак, Царю наш, Ты только выражение смирения одобрил в возрасте, когда сказал: таковых есть Царство Небесное (Мф. 19, 14)
Глава 20
При всем том, приношу Тебе, Господи, благодарение, Тебе, Всевышнему и Всеблагому Творцу и Правителю вселенной, Тебе, Богу нашему, хотя бы Тебе благоугодно было, чтобы мое существоваше продолжилось не далее детства. Ибо я и тогда существовал, жил и сознавал свое бытие, заботясь о своем самосохранении, как образе таинственнейшей Единицы, от Которой я произошел; охранял по внутреннему влечению целость чувств моих и в самых малых вещах и в размышлении о них услаждался истиною. Я не хотел обманываться или подвергаться обманам, память у меня была хороша, в речи своей я старался соблюдать изящество, в дружбе находил удовольствие, избегал уныния, не терпел отчуждения и невежества. Чему же не надивиться и чему не нахвалиться в таком одушевленном и оживотворенном существе? Но все это – дары Бога моего; ничего я не дал сам себе; и все это – добро, и все это – я. Итак, благ Тот, Кто создал меня, Сам Он – благо мое, и я в восторге перед Ним от этих благ, которыми пользовался, быв еще мальчиком. Тем только грешил я, что не в Нем Самом, а в себе и в других тварях Его искал удовольствий, всего высокого и изящного, всякой правды и истины; и таким образом впадал в томление и крушение, в смятение и замешательство, в ошибки и заблуждения. Благодарю Тебя, Сладость моя, и слава моя, и упование мое, Боже мой; еще и еще благодарю Тебя за дары Твои, только сохрани их мне. И таким образом соблюдешь Ты меня, и дары, которые Ты мне даровал, умножатся и усовершатся во мне, и сам я пребуду с Тобою; ибо я вот и бытие мое – от Тебя.
Книга вторая
В этой книге блаженный Августин переходит к следующему возрасту и с тяжелым чувством вспоминает о первом виде юношества, то есть о шестнадцатом годе жизни своей, проведенном в родительском доме, после школьных занятий, в баловстве и удовлетворении прихотям. Вслед затем строго и беспощадно осуждает он себя за такое поведение и особенно за ту кражу, которую производил он в то время со своими приятелями.
Глава 1
Хочу теперь припомнить прошлые мои грехопадения и растление души моей, не с тем, чтобы любоваться ими, но чтобы тем более возлюбить мне Тебя, Боже мой. Вспоминая о путях нечестия своего и с горьким чувством размышляя об этом времени жизни своей, я делаю это именно из желания тем крепче возлюбить Тебя, чтобы Ты сделался предметом любви моей, любви необманчивой, неисчерпаемой и неизменчивой, и чтобы Ты собрал меня, растерзанного и разбросанного по частям, воедино, после того, как я, удалившись от Тебя одного, исчезал в рассеянии. Было время в юности моей, когда я сгорал от снедающего меня адского пламени плотских похотей и погрязал в тине тайных любовных похождений; и лицо мое иссохло; и весь я мерзок стал перед Тобою, любуясь только собою и стараясь нравиться любившим меня.
Глава 2
Ив чем же находил я удовольствие, как не во взаимной любви – в том, чтобы любить и быть любиму? Но в этой любви не доставало между любящими душами той меры или сдержанности (modus), которую дает светлый взгляд и доброе направление дружелюбия; напротив того, в первые же годы юности моей – этого самого кипучего родника нечистых плотских вожделений – поднялась во мне буря страстей и омрачила ими сердце мое до того, что я не отличал светозарной чистоты любви от мрачной нечистоты похотения. То и другое волновалось и перемешивалось во мне в беспорядке, увлекая слабый возраст по стремнинам страстей и погружая его в бездну пороков. Гнев Твой тяготел на мне, Господи, но я не замечал и не понимал этого. Я как бы оглох от звука цепей бренности моей и не хотел прислушиваться к ним; это было уже наказание за гордость души моей; и я дальше и дальше удалялся от Тебя, а Ты не останавливал меня; даже постыдными делами своими, на которые был я слишком падок, не стыдился гордиться, как подвигами какими-нибудь, стараясь превзойти других позорным удальством, потому только, что им восхищались в кругу своевольного юношества, а Ты всё молчал. О глупый и пошлый восторг! О бессмысленное удовольствие! И Ты все это терпел тогда, как бы не обращая внимания, а я удалялся от Тебя все дальше и дальше, повсюду посевая для себя пагубные семена болезней и огорчений, гордясь самым отвержением и бессилием своим.
И в ком мне можно было найти тогда человека, который бы принял во мне участие и вывел меня из этого бедственного положения, обратил скоропреходящие удовольствия мои во благо мне и положил конец их обольстительной силе, направив бурные волны возраста моего к берегу супружеской жизни? Здесь нашли бы они себе безопасную пристань (если без того не могли успокоиться), удовлетворяясь целью чадорождения, как предписывает закон Твой, Господи, по которому Сам Ты через нас творишь и образуешь преходящие поколения смертных, силен будучи с кротостью и терпением очистить нас от всяких беспорядков, не имеющих места в вертограде Твоем? Ибо всемогущество Твое – недалеко от нас, хотя мы и удалились от Тебя. О если бы я по крайней мере внял глубже гласу грома Твоего небесного: но таковые (т. е. вступающие в брак) будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль, и хорошо человеку не касаться женщины, и неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене (1 Кор. 7, 1, 28, 32–34). О если бы я выслушал эти слова с большею внимательностью и заботливостью, и, сделавшись скопцом для Царства Небесного (Мф. 10, 19, 12), с большим счастьем ожидал бы объятий Твоих!
Но я, несчастный, сгорал огнем страстей в удалении от Тебя, попрал все Твои законы и не избежал за то праведных наказаний Твоих; и кто из смертных не испытывает этого? Ибо Ты всегда сопровождал меня и милосердием Своим, и строгостью Своею, и все законопреступные удовольствия мои растворял самыми горькими последствиями и какою-то неизъяснимою досадою, заставляя тем самым меня искать удовольствий безупречных; и где бы я мог найти такие удовольствия, нигде не находил их, кроме Тебя, Господи, кроме Тебя, Который созидаешь труд на повеление (Пс. 93, 20), поражаешь и исцеляешь, мертвишь и живишь (Втор. 32, 39; 1 Цар 2, 6), чтобы нам не умереть в отчуждении от Тебя. И где же я был и как долго скитался вдали от истинных утешений дома Твоего? В течение всего шестнадцатого года жизни моей сумасбродство и бешенство плотских похотей, извиняемых бесстыдством и беспутством человеческим, но воспрещаемых законом Твоим, обладало мною, и я совершенно предавался им. Домашние и ближние мои не заботились извлечь меня из этой бездны посредством супружства: они заботились только о том, чтобы я успевал как можно более в науке красноречия и сделался великим оратором.
Глава 3
Ив этом-то именно году прекратились школьные занятия мои. По возращении моем из Мадавра – соседнего города, где положено уже было начало моему путешествию для изучения словесных наук и красноречия, – делались в доме моем приготовления к дальнейшему путешествию из Карфагена, не столько по достаткам и средствам довольно бедного отца моего, гражданина города Тагаста, сколько по его сильному желанию и твердой воле. И кому я это рассказываю? Конечно, не Тебе, Боже мой, но перед Тобою говорю об этом роду моему, роду человеческому, рассказываю я о родительских издержках и заботах для моего образования. К чему и для чего рассказываю? К тому и для того, конечно, чтобы всем и каждому, кто бы ни прочел эти строки, лучше поразмыслить, о чем наиболее должны мы взывать к Тебе, Боже, и чего просить у Тебя, и Ты чему более внимаешь, как не душе, исповедующей Тебя и исповедующейся Тебе, и живущей по вере в Тебя? Кто не превозносил тогда похвалами отца моего за то, что он ничего не щадил для образования сына, несмотря на ограниченность состояния своего и отдаленность моего путешествия, тогда как многие из сограждан его, гораздо более достаточных, не заботились столько о детях своих? Между тем тот же отец мой нисколько не обращал внимания на мое нравственное состояние и чистоту моего поведения, не заботился о том, чтобы я преуспевал в духовной жизни для Тебя; он желал одного только, чтоб я был красноречив, хотя бы оставался без всякого понятия о Тебе, Боже, едином истинном и благом Владыке нивы твоей5 – души моей.
На шестнадцатом году, как уже было выше сказано, когда я находился в родительском доме и оставался по домашним обстоятельствам в совершенной праздности, оставив вовсе и школьные занятия, терния похотей покрыли главу мою и не было у меня руки, охраняющей от них. Даже сам отец мой, видя меня в публичных банях достигшим возмужалости, в поре к деторождению, и в тоже время замечая во мне пылкость юношескую, любовался этим и как бы заранее восхищался уже будущим потомством, о чем с восторгом говорил и матери моей; это было не что иное, как состояние опьянения, в котором мир сей, забыв Творца своего, вместо Тебя возлюбил тварь Твою, и, оставив духовное питие святых велений Твоих, погрузился в бездну плотских похотей греховной воли своей. Но Ты в сердце матери положил уже основание храму Своему и начало святому жилищу Твоему. Я был еще в числе оглашенных, и притом с недавнего времени. Поэтому мать моя объята была благоговейным страхом и трепетом; и так как я не был еще в числе верующих, то она боялась за меня, чтобы я не пошел по путям стропотным, по которым ходят отвращающиеся от лица Твоего.
Увы мне! И я дерзаю говорить, что Ты, Боже мой, безмолвствовал, когда я удалялся от Тебя более и более. Правда ли, будто Ты безмолвствовал в отношении ко мне? А чьи же это были слова, как не Твои, слова через посредство матери моей, верной рабы Твоей, этот голос, который доходил от Тебя до ушей моих? Но и этот голос не проникал в мое сердце, и я не внимал ему. Мать моя желала и с особенною заботливостью внушала мне наедине, как припоминаю себе, чтобы я не любодействовал; в особенности же – чтобы удалялся от прелюбодеяния с замужними женщинами. Но эти внушения и советы матери казались мне женскою слабостью и я стыдился следовать им. Между тем это был голос Твой, а я не замечал и не понимал этого; я думал, что эти слова не от Тебя исходят, что она говорит их от себя, тогда как они исходили ко мне через нее именно от Тебя, и в лице ее – сын ее, сын рабы Твоей, раб Твой – уничижал Тебя. Но я всего этого не понимал и стремглав бросался на всякое дурное дело с таким ослеплением, что среди сверстников, с хвастовством рассказывавших о своих дурных поступках, как о каких-нибудь подвигах, и тем более гордившихся ими, чем они были постыднее, мне становилось стыдно, если я отставал от них, так что в этом обществе приходилось краснеть не за пороки, а за добродетель, и потому я пускался на подобные дела не только по пристрастию к ним, но и по соревнованию к удальству и отличию. Что постыднее порока? А я, чтобы избежать стыда, делался порочнее; если же не представлялось мне случая перещеголять приятелей распутством, то я выдумывал то, чего вовсе не бывало со мною, чтобы не показаться в виду других тем презреннее, чем на деле был невиннее, и чтобы непорочности не сочли за пошлость.
Вот с какими спутниками ходил я по путям вавилонским и валялся в грязных нечистотах, как бы в душистых травах и благовонных мазях. А в самой середине этого омута, в котором погрязал я, попирал меня невидимый враг и увлекал меня, потому что я был уклонен в увлечение. И мать моя по плоти, убегавшая из среды Вавилона и только следившая по окраинам его, хотя и увещевала меня к целомудрию, но с другой стороны старалась устроить мою судьбу согласно с желаниями своего мужа, считала вредным и опасным для моей будущности узами супружеской любви смирить и обуздать порывы страстей моих, если уже нельзя было вовсе устранить их. Она боялась, чтобы надежды, подаваемые мною, не были разрушены ранним супружеством; не те надежды, которые возлагала она на Тебя в будущем веке, а надежды на мое в сем веке образование, какое видеть во мне чрезмерно желали и отец и мать: отец, который о Тебе почти ничего не думал, а обо мне ничего, кроме суетного; и мать, которая не только не считала светское образование препятствием к познанию Тебя, но даже полагала, что оно послужит немалому к тому пособием. Так сужу я, припоминая, сколько могу, образ мыслей моих родителей. Таким образом дозволялись мне разного рода удовольствия без всякой сдержанности, разнуздывались во мне различные страсти, и на всем этом ложился мрак, закрывавший от меня, Боже мой, свет истины Твоей; тогда беззаконие и нечестие мое выступало наружу, подобно маслу на поверхности воды.
Глава 4
Закон Твой, Господи, и закон, написанный в сердцах наших, голос которого не в силах заглушить и неправда, конечно, преследует и наказывает воровство. Ибо какой вор равнодушно терпит подобного себе вора? Даже богач не терпит вора, доведенного к тому нищетою.
А я воровал не от бедности, не от крайности, а из презрения к правде и по пристрастию к неправде. Я пускался в воровство таких вещей, каких у меня и гораздо лучших было слишком много. Я воровал не для того, чтобы пользоваться кражею, а находил удовольствие в самом воровстве и грехе. Так, в соседстве с нашим виноградником было дерево груша, вся покрытая плодами, но ни по виду своему, ни по вкусу плодов непривлекательная. И вот я с подобными себе негодными мальчиками отправился туда с тем, чтобы стряхнуть эту грушу и обобрать с нее плоды среди глубокой ночи, а до того времени мы по своему гибельному обычаю шлялись и тешились по улицам и площадям; из чужого сада мы притащили огромную ношу груш, но не воспользовались ими для собственного желудка, а большею частью выбросили их свиньям, хотя кое-что и сами поели; а между тем мы делали это с удовольствием; и чем более что воспрещалось нам, тем более к тому именно мы и стремились. Вот каково сердце мое, Боже, вот каково сердце мое, над которым Ты сжалился и умилосердился, когда оно было на краю пропасти. Пусть же теперь это самое сердце исповедается перед Тобою, чего оно искало в том, чтобы быть мне злым без всякого основания (gratis) и чтобы злобе моей не было иной причины, кроме самого зла, иначе сказать, чтобы быть злым для самого зла. Ужасно и отвратительно зло, и однако же я его возлюбил, я сам возлюбил свою погибель: я возлюбил свои недостатки, свои слабости, свое падение; не предмет своих увлечений, пристрастий, падений, говорю я, нет, а сами слабости свои, само падение, сам грех, во мне живущий, возлюбил я; нечиста же душа моя и греховна, ниспала она с тверди Твоей небесной в эту юдоль изгнания, если услаждается не столько греховными предметами, сколько самим грехом.
Глава 5
Есть своего рода прелесть в прекрасных телах, и в золоте, и в серебре, и во всем тому подобном; для осязания плотского всего приятнее гармония частей; есть и для других чувств соответственно приятные свойства тел. Есть привлекательность и во временных почестях и правах силы и власти, от чего и рождается властолюбие; но ради всего этого не должно удаляться от Тебя, Господи, ни уклоняться от закона Твоего. И жизнь наша, которою мы живем здесь, имеет своего рода заманчивую прелесть по своей собственной красоте и возможности наслаждаться всею земною красотою. Само дружество человеческое, как союз любви, дорого и мило по взаимному единодушию. Но ради всех этих прелестей земных допускается грех, когда при неумеренном стремлении к ним, – как будто бы лучше их ничего не было, – забываются высокие и лучшие блага, – Ты, Господи Боже наш, и истина Твоя и закон Твой. Конечно, и в земных предметах находятся свои удовольствия, но они не могут равняться с Тобою, Боже мой, сотворившим все; ибо в Тебе только одном услаждается праведник, и Ты один составляешь отраду правых сердцем.
Когда спрашивается, по какому побуждению совершено преступление, то предполагается, что оно возможно только или из желания достигнуть так называемых земных благ, или из страха потерять их. Конечно, и эти блага прекрасны и имеют свою цену, но не следует их предпочитать другим благам, высшим и благотворнейшим. Положим, кто нибудь совершил убийство. По каким побуждениям? Или по любви к подруге ближнего своего, или по желанию воспользоваться его богатством, или по нищете, вынуждавшей грабить, чтобы было чем жить, или из опасения от него каких-либо неприятностей, или из мщения за обиду. Неужели кто-нибудь совершил бы убийство без всякой причины, находя удовольствие в самом убийстве? Кто этому поверит? Даже и тот безумный и крайне жестокий человек, о котором говорят, что он был зол и жесток почти без всяких побудительных к тому причин (gratuito potius), сделался таким не без причины, как сказано о нем же: «чтобы от досуга не окостенела рука и не оцепенела душа»6. От чего же это? Почему так? Оттого и потому, чтобы путем злодеяния завладеть Римом, достигнуть высших почестей, захватить в свои руки власть, обеспечить свое состояние и таким образом избавиться от преследования законов и выйти из тех затруднительных обстоятельств, в которые он поставлен был и семейным положением своим, и сознанием преступлений своих против общественного порядка. Поэтому и сам Катилина все зло делал, конечно, не из любви к самому злу, а по другим побуждениям, которые заставляли его делать это.
Глава 6
Что же я, окаянный, полюбил в тебе, о постыдное воровство мое, о гнусный поступок мой, совершенный мною ночью на шестнадцатом году моей жизни? Как воровство, ты ничего не представляло собою привлекательного; не было ли в тебе какой-нибудь особенной тайной прелести, заслуживающей упоминания? Прекрасны были плоды, которые мы воровали, потому что они были творение Твое, Источник всякой красоты и Творец всего, Боже благой, Боже – высочайшее благо, истинное благо мое: прекрасны были эти плоды; но не они были привлекательны для окаянной души моей. У меня было много своих гораздо лучших плодов, а чужие рвал я только для того, чтобы нарвать и, нарвав, выбросил их, наслаждаясь затем одним беззаконием, которым досыта восхищался. Если же и отведал их, то само воровство служило им приправой и делало их для меня вкуснее. И теперь, Господи Боже мой, я доискиваюсь того, какое удовольствие я мог находить в этом воровстве; ищу и ничего не нахожу. Не говорю уже о том наслаждении, какое мы находим в мудрости и справедливости, тут не было ничего приятного ни для мысли, ни для воспоминания, ни для чувств, ни для физической жизни; не было тут ни привлекательности для взоров, какою очаровывает нас красота светил на тверди небесной или земля и море со всеми их взаимно сменяющими друг друга явлениями; не было тут и той обманчивой и приятной прелести, какая свойственна порокам.
Так и гордость стремится к высоте, подражая Тебе, Боже; ибо Ты один – над всем и превыше всего. И честолюбие чего домогается, как не почестей и славы, так как Ты один досточтимый перед всем и препрославленный во веки? И суровая строгость властей требует, чтобы их боялись; кого же более всего надлежит боятяся, как не одного Бога, из-под власти Коего никто и ничто не может быть изъято ни в каком случае? И ласки влюбленных ждут взаимности, но ничего нет и не может быть выше Твоей любви, и с другой стороны, ничего не может быть и нет спасительнее, как любить Твою истину, всякий ум превосходящую, и Твою благость, ни с чем несравнимую. И любопытство как будто сходно с любознательностью и жаждет все постигнуть, тогда как перед Твоим всеведением ничто от Тебя не сокрыто. Даже неведение и юродство являются в виде простоты и невинности; а что прямее и непритворнее Тебя, или что незлобивее и неповиннее Тебя, тогда как коварство и злоба, по суду Твоему, сами себе враждебны и сами в себе носят наказание? И праздность как бы покоя и мира ищет; какой же покой и какой мир вернее и надежнее, как не в Тебе, Господи? Роскошь любит окружать себя обилием во всем и ни в чем не видеть недостатка; а в Тебе совершенная полнота и совершенное довольство. Расточительность прикрывается щедростью; но Податель всех благ щедродаровитейший – Ты. Скупость желает всем завладеть; и Ты владеешь всем. Зависть соревнует превосходству; а что превосходнее Тебя? Гнев ищет мщения; чья же месть правосуднее Твоей? Страх тревожит нас при всякой неожиданности и внезапности ударов, направленных на то, что мы любим, заставляя нас остерегаться опасностей и заботиться о безопасности; у Тебя же какая неожиданность, какая внезапность? Или кто отнимает у Тебя то, что Ты любишь? Или где, если не у Тебя, самая верная безопасность? Печаль сокрушает нас при потере тех предметов, в которых мы привыкли находить удовольствие; не от того ли это, что и нам не хотелось бы испытывать никаких потерь, подобно тому, как и Ты их не испытываешь?
Так любодействует душа человеческая, отвращаясь от Тебя, ища вне Тебя того, что в совершенной чистоте может быть найдено только по возвращении к Тебе. Превратно подражают Тебе все уклонявшиеся от Тебя и возносящиеся перед Тобою. Но подражая Тебе и таким образом, они тем самым свидетельствуют, что Ты – Творец всякой твари, и потому ничто не может стать вне всякого отношения к Тебе. Итак, что же мне нравилось в воровстве? И в чем я подражал при этом Господу моему, хотя погрешительно и превратно? Быть может, мне хотелось нарушать закон по крайней мере хитростью, если нельзя было силою, быть может, подобно пленнику, я являл вид ложной свободы, безнаказанно совершая то, что не было позволено, – как бы с каким-то призрачным всемогуществом. Я был тот раб, который бежит от Господа своего и гоняется за тенью. О растление, о чудовищность и уродливость жизни, о глубина смерти! Возможно ли позволять себе то, что не дозволено, ради того только, что это не дозволено?
Глава 7
Что воздам я Господу за то, что душа моя не приходит в ужас и трепет при всех этих воспоминаниях? Возлюблю Тебя, Господи, и возблагодарю, и исповедаюсь имени Твоему за то, что Ты простил мне столько злых и беззаконных дел моих. По благодати Своей и милосердию Своему Ты разрешил меня от грехов моих, так что они не существуют уже для меня. По благодати Своей Ты сохранил меня и от многих других прегрешений, которым остался я непричастен; ибо чего я не мог бы сделать, полюбив зло, для одного зла, без всяких даже сторонних побуждений? И все это, говорю я, прощено мне, и то, что я согрешал по своей воле, и то, до чего Ты не допустил меня. И кто из нас смертных, проникнутый сознанием своих слабостей и своего безумия, осмелится приписывать своим силам свою чистоту, непорочность, свою праведность, с тем, чтобы через то иметь менее побуждения любить Тебя, как бы менее необходимым для нас становилось тогда милосердие Твое, в силу которого прощаешь Ты грехи обратившимся к Тебе и оправдываешь их перед Собою правдою Своею? Даже и тот, кто по зову Твоему, последовав Твоему гласу, избежал всего того, что прочтет обо мне в этой исповеди моей, даже и тот человек не может не признать, что Тот же врач, Который исцелил меня больного, предохранил и его от всякой болезни, или, вернее, от многих болезней, и потому самому столько же, да еще и более, возлюбит Тебя, видя, что Тот, Кто освободил меня от таких тяжестей греховных, Тот Самый не допустил и его до испытания таковых тяжестей.
Глава 8
И какую пользу принесли мне, достойному сожаления, те поступки, воспоминание о которых заставляет меня краснеть, в особенности то воровство, в котором я полюбил само воровство? Именно – воровство, и ничего более, так как и само оно в себе есть ничто, и потому самому достойнее сожаления. И однако же один я не совершил бы воровства; так по крайней мере уверяет меня мое воспоминание; да, один я никогда не сделал бы этого. Стало быть, мне приятно было в этом деле и сообщество участников в воровстве. Мне нравилось не столько само воровство, сколько нечто иное; именно – нечто иное, потому что воровство само в себе – ничто7. Что же в самом деле правильнее и вернее? И кто вразумит меня, если не Тот, Кто озаряет светом Своим сердце мое и разгоняет тьму его? И что навело меня на мысль – предаться размышлению об этом, задавать себе вопросы и искать решения их? Если бы я в то время любил плоды, которые воровал, и желал насладиться ими, то я мог бы и один совершить такое беззаконие, для достижения своего личного удовольствия, без участия и возбуждения сообщников. Но так как я не находил в этих плодах удовольствия для себя, то все удовольствие мое заключалось во взаимном сообществе и одобрении участников преступления.
Глава 9
Что это было за расположение души? Конечно, оно было в высшей степени достойно осуждения; и горе мне было, что я имел его. Но что же однако это было? Грехопадения свои кто разумеет? (см. Пс. 18, 13)? Мы смеялись и в душе радовались тому, что обманывали тех, которые не считали нас такими проказниками и вовсе не желали видеть в нас каких-либо пороков. От чего же впрочем находил я удовольствие в совершении воровства не одному, а в товариществе? Не от того ли, что одному не так удобно и не так охотно вдоволь посмеяться? Правда, что одному себе смеяться не приходится; бывают однако с нами случаи, что мы и наедине, когда вовсе никого с нами не бывает, иногда не можем удержаться от смеха, и это бывает с нами тогда, когда что-нибудь представляется или чувствам или душе чрезвычайно смешным. Но я все-таки не решился бы один на воровство и всеконечно не произвел бы его один. Свидетелем тому перед Тобою, Боже мой, служит живое воспоминание души моей. Один я не совершил бы этого воровства, в котором источник удовольствия был не предмет, а само действие воровства; не сделал бы, говорю, потому что во мне вовсе не было к тому желания, и я не сделал бы его один. О пагубное товарищество, о необъяснимое увлечение ума и непонятное обольщение сердца – желание вредить и причинять урон другому из-за одних шуток и забав, без всякой собственной пользы и без всякого побуждения к какой-либо мести, а просто-напросто, как говорится: пойдем, подебоширим; и стыдно становится не быть бесстыдным.
Глава 10
И кто распутает все эти узлы, все эти извилины, все эти запутанности путей неправды и беззакония, так трудных к разгадке? Отвратительны они; и я не хочу более углубляться в них, не хочу более останавливать на них взора своего. К Тебе стремлюсь и Тебя жажду, Правда и Святость Вечная, в благолепнейшей красоте чистейшей светлости и неисчерпаемого довольства. Покой у Тебя ничем не возмутим, и жизнь у Тебя безмятежна. Кто входит в дом Твой, тот входит в радость Господа своего (Мф. 22, 21, 23), и тогда нечего ему уже бояться, и благо ему будет у Благого. Уклонился я от путей Твоих и пошел по распутиям, Боже мой; отошел от Тебя в страну далече, подобно евангельскому юноше блудному, и блуждал там вдали от Тебя в юности моей; оставив дом отеческий, я скитался в стране отчуждения и лишения (см. Лк. 14, 11–32).
Книга третья
Воспоминание о семнадцатом, восемнадцатом и девятнацатом годах того же возраста (юношеского), проведенных в Карфагене, где, доканчивая свое образование, Августин увлекся в дела лобострастия и впал в ересь манихеев. – Ясный взгляд Августина на погрешности и нелепости манихеев. – Матерние о нем слезы и свыше последовавший ответ о его обращении.
Глава 1
Я прибыл в Карфаген; и стали обуревать меня пагубные страсти преступной любви.
Еще не предавался я этой любви, но она уже гнездилась во мне, и я не любил открытых к тому путей. Я искал предметов любви, потому что любил любить; прямой и законный путь любви был мне противен. У меня был внутренний глад пиши духовной, – Тебя Самого, Боже мой; но я томился не тем гладом, алкал не этой пищи нетленной: не оттого, чтобы не имел в ней нужды, – но по причине своей крайней пагубной суетности. Больна была душа моя, и, покрытая струнами, она жалким образом устремилась к внешнему миру в надежде утолить жгучую боль при соприкосновении с чувственными предметами. Но если бы эти предметы не имели души, они могли бы быть любимы. Любить и быть любиму было для меня приятно, особенно если к этому присоединялось и чувственное наслаждение. Животворное чувство любви я осквернял нечистотами похоти, к ясному блеску любви я примешивал адский огонь сладострастия, и несмотря на такое бесчестие и позор, я гордился и восхищался этим, в оспеплении суетности представляя себя человеком изящным и светским. Словом, я пустился стремглав в любовные похождения, которых так жаждал, и совершенно был пленен ими. Милосердный Боже мой! Какою горькою и вместе спасительною желчью растворял Ты для меня эти пагубные удовольствия мои! Чего я не испытал? Я испытал и любовь и взаимность, и прелесть наслаждения, и радостное скрепление гибельной связи, а вслед затем и подозрение, и страх, и гнев и ссору, и жгучие розги ревности.
Глава 2
Меня увлекали еще театральные зрелища, полные картинами из моей бедственной жизни и горючими материалами, разжигавшими пламень страстей моих; и театр сделался любимым местом моих удовольствий, а обольщение – мнимою потребностью души и сердца. Что это значит, что человек любит сочувствовать представляемым в театре печальным и трагическим событиям, тогда как сам не желал бы терпеть их? И при всем том зритель выражает свое участие в этой скорби, и сама скорбь доставляет ему удовольствие. Не жалкое ли это сумасбродство? Конечно, всего более трогается чужими скорбями тот, кто сам испытывал подобные скорби; и тогда как собственные действия обыкновенно называются состраданием, сочувствие к чужим бедствиям называется состраданием. Но, скажите, пожалуйста, какое же может быть сострадание по отношению к действиям вымышленным – сценическим? Зритель нисколько не вызывается здесь ни помочь, а только сочувствует, и тем лучше для актера, чем более возбуждает он соболезнования в зрителе; если при представлении несчастий или неудач давноминувших или вымышленных зритель не чувствует соболезнования, то уходит из театра с ропотом и неудовольствием; если же зритель тронут, то со вниманием и радостью проливает слезы.
Стало быть, мы любим и скорби и слезы. Правда, всякий человек скорее желает радоваться, нежели плакать. Но если никому не хочется страдать, то быть может желательно бывает по крайней мере сострадать? И так как сострадание не обходится без скорби, то по этой-то самой причине любим мы и скорби; отсюда-то и проистекает жизненное начало дружества. Но к чему ведет, к чему клонится такое сострадание? Неужели оно должно исчезнуть в этом кипучем потоке бурных страстей, куда низвергается самопроизвольно, уклоняясь и отвращаясь от света небесного? Неужели же отвергнуть сострадание? Вовсе нет. Мы можем и должны иногда любить скорби. Но берегись сочувствовать худому, душа моя, находящаяся под покровом Бога своего, Бога отцов наших, и препетаго, и превозносимого во веки (Дан. 3, 52–56), берегись сочувствовать худому. Я и теперь сострадаю, но не так, как тогда я в театрах сочувствовал восторгам влюбленных, когда они утопали в позорных наслаждениях; а когда они разлучались или теряли друг друга, то из сострадания к ним сам печалился и сокрушался; и в том и в другом случае я находил удовольствие, хотя все это была одна мечта и выдумка театральная. Ныне же я более сострадаю и соболезную о том, кто полагает свое наслаждение в порочной жизни, нежели о том, кто терпит как бы удары от лишения пагубных удовольствий и от потери мнимого и жалкого счастья. Такое сострадание, конечно, истиннее и справедливее; но оно не доставляет удовольствий, подобно состраданию, испытываемому на театральных зрелищах. Хотя человек, сострадающий несчастью ближнего, конечно, заслуживает похвалы за свое любвеобилие; но в глубине души, по чувству истинного милосердия, он, без сомнения, желал бы, чтобы вовсе не было предметов для его сострадания. Если бы существовала злобная благость (что немыслимо), то в таком только случае и можно было бы представить себе, что существо истинно сострадательное может желать несчастных существ, как предметов для своего сострадания. Итак, есть скорбь достойная похвалы, но нет скорби достойной любви. Только Ты, Господи Боже, любишь души наши и сострадаешь им несравненно чище, выше, святее, чем мы, потому что Тебя не тревожит никакая скорбь, никакая печаль. Но кто может возвыситься до этого?
А я, несчастный, любил тогда печалиться и скорбеть, искал предметов, возбуждавших таковые чувства, и при виде чужих бедствий, вымышленных и фальшивых, мне всего более нравились те действия актеров, которые извлекали у меня слезы. И что удивительного, если я – несчастная, заблудшая овца, отбившаяся от стада Твоего и уклонившаяся от Твоего надзора, бросался куда ни попало? При этом постигали меня те любовные печали, которые впрочем неглубоко потрясали меня, потому что я не желал испытывать на деле таких приключений, на какие любил засматриваться в театре; театральные представления только поверхностно, так сказать, чесали мой слух и мое вообрашение, а затем, как и после царапания ногтями, само собою следовало воспаление опухолей, гниение и страшное разложение. И что это за жизнь моя была, Боже мой?