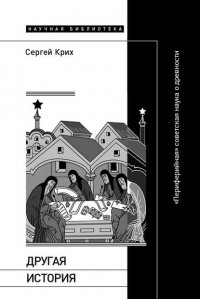
Читать онлайн Другая история. «Периферийная» советская наука о древности бесплатно
- Все книги автора: Сергей Крих
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРВОЕ. ИСТОРИЯ ПРОИГРАВШИХ?
Когда у одного из коллег, хорошо знакомого с моим творчеством, спросили, что же это за странная такая тема исследования – «периферийные» историки, он ответил очень емко: это про тех историков древности, которые не стали большими начальниками. И хотя формально к этому определению можно придраться (грань между большими и не очень начальниками бывает зыбка, а также далеко не все историки «мейнстрима» попали в начальники), по сути оно верно. Ключевое здесь, как и в любом удачном образе, не то, на что сначала обращаешь внимание; не «начальники», а именно вот это «не стали». Незавершенность и нереализованность – темы, редко привлекающие внимание исследователей, уж во всяком случае реже, чем они того заслуживают.
Причины моего обращения к этому вопросу лишь частично лежат в том, что это является логичным завершением предыдущей серии исследований советской историографии древности, когда я пытался дать более общие характеристики и волей-неволей останавливался подробно на ключевых фигурах и переломных событиях (и то далеко не всех)1. Дело еще и в несомненной научной ценности этой темы самой по себе. Глубоко (и отнюдь не беспричинно) уважаемый в нашей науке П. Бурдьё, выдвинувший концепцию «поля науки», в котором важнейшей функцией участников является борьба за «символический капитал», создавал свои построения практически исключительно с точки зрения победившей стороны – ученых, которые опубликовали результаты раньше других, получили научные премии, убедили сообщество в правоте своих взглядов и т. п.
Между тем история науки просто гораздо богаче, и концентрация только на успехе заставляет современных исследователей невольно искажать то, что хочет сказать им материал: изучая деятельность того или иного ученого, многие стремятся возвести его в статус классика вне зависимости от его реального положения в науке. В итоге и сама история науки выстраивается в виде парадоксальной системы, в которой все развивается, «символические капиталы» прирастают, а новые идеи рождаются в результате свободной их конкуренции. При этом мало учитываются два важных фактора: тенденция к созданию иерархий (групп влияния) и внешние воздействия на систему (изменения государственной политики в сфере образования и науки, экономические кризисы и колебания притока частного капитала, освещение научных достижений в СМИ и т. п.). А между тем если в «чистую» систему «поля науки» внести два этих фактора, то они, вообще говоря, изменят в ней все. Именно поэтому попытка написать историю тех, кто не смог реализовать своих претензий, – неотъемлемая часть полноценной истории любой науки.
Все эти абстрактные рассуждения обретают для нас свою ценность, когда мы начинаем говорить именно о советской историографии. Советская историческая наука – теперь уже не недавнее, но по-прежнему актуальное прошлое для исторической науки наших дней, при этом основной урок, который мы до сих пор пытаемся извлечь из этого прошлого, можно коротко обозначить темой «историк и власть». Тема эта обладает магнетической, если не сказать мистической привлекательностью и для самих историков науки, и для многих читателей, конечно, потому, что за ней скрывается более широкая, давняя и больная для русского сознания тема «человек и власть». И в конечном итоге мы задаемся одним базовым вопросом: что получилось (и что не получилось) у советской исторической науки? Изучение «периферийных» историков позволяет рассказать об этом с новыми деталями, но, кроме того, поставить еще один вопрос: а могло ли быть иначе? Рассуждение об альтернативах развития науки само по себе может показаться ненаучным, но тут все дело в том, каким образом работать с имеющимся у нас материалом. Я попытаюсь показать ниже, что при известных оговорках вопрос этот мы можем ставить, и ответы на него могут оказаться полезными для понимания того, какой была советская историография и какое наследие она оставила нам.
Конечно, описывать историков, которые были на «периферии» (во втором предисловии я дам определение этому понятию), несколько сложнее, чем тех, кто был внутри «ядра» или «мейнстрима». Прежде всего, периферия потому так и называется, что не имеет единого центра и единой иерархии, состоя из тех, кто не вошел совсем или не полностью вошел в иерархию, распространяемую и утверждаемую «ядром». Поэтому таким историкам уделялось меньше внимания, часто о них сохранилось меньше информации, либо она до сих пор лежит в архивах мертвым грузом, либо малодоступна – если речь вести о записях и переписке, оставшейся на руках у родственников (или давно погибшей). Но результаты работы даже с теми материалами, которые удалось найти (и которые при этом далеко не исчерпаны), оказались для меня в некоторой степени потрясающими – действительно, была другая советская историография! И хотя ее нельзя описать как сообщество, поскольку она по сути была лишь своеобразным приложением к той советской историографии, которую мы обычно изучаем, она имела свои тенденции развития и играла свою роль в эволюции советской науки о древности.
Собственно, рассказывать историю науки можно несколькими способами. При историографическом анализе можно выделить основные направления его действия: есть индивидуальный подход, институциональный и содержательный. Кроме того, существует необходимость учета внешних факторов – историографического фона, культуры, политики, экономики того времени, в котором происходят события. Ни один из исследователей не считает, будто какая-то из составляющих может быть опущена, и в идеале хотел бы предоставить безупречно сбалансированный труд, адекватно учитывающий каждый из факторов. Но это вряд ли возможно – отличаются и установки ученых, и материал, с которым они работают. Эта книга больше сосредоточена на изучении содержания трудов «периферийных» историков и в меньшей мере касается историй их личной и повседневной жизни или специфики их работы в научных и образовательных организациях.
И коль скоро на первом плане оказывается то, что принято называть «историей идей», это отразилось и в структуре работы. Наверное, для читателя привычнее было бы увидеть всю книгу, исполненную в виде набора очерков, посвященных определенным историкам, которых можно так или иначе отнести к периферийным. Но, во-первых, отчасти это было мною сделано в ряде статей и не хотелось бы сводить книгу к сборнику уже доступных работ (хотя значительное пересечение материала неизбежно). Во-вторых, периферийность, как я ее понимаю, это не личная характеристика, а системная, поэтому у историков, которым довелось побывать на периферии научной системы, между собою может оказаться даже меньше общего, чем у тех, кто остался на более комфортных позициях. Так что дело тут не в персоналиях, а в том, как и почему определенные типы и стили историописания становились нежелательными или даже неприемлемыми, и в том, как менялось это понимание допустимого и недопустимого (со всеми возможными промежуточными градациями) в процессе развития советской историографии.
Тем не менее личность в историографии, как и в истории, со счетов списать нельзя, в том числе потому, что личное исполнение наметившихся возможных траекторий всегда несет в себе то единственное, что нас по большому счету интересует в мире, – человеческое и даже моральное содержание. Так что в тех разделах книги, где материал настоятельно требовал показать рождение и развитие идей в контексте конкретных людских судеб, я использовал биографический метод.
Периферийное положение – характеристика динамическая, и во втором предисловии я пытаюсь объяснить, почему ее содержание может меняться как для отдельного ученого, так и для науки в целом. Поэтому логичным способом упорядочения материала было выделение периодов взаимоотношения между центром и периферией в советской историографии древности, а внутри этих периодов – анализ различных траекторий, которые были реализованы теми или иными учеными.
Само собой, периодизацию в гуманитарных науках следует вводить преимущественно для того, чтобы ее периодически нарушать, поэтому предлагаемое мною ниже деление на три периода (отраженное в названии частей книги) следует воспринимать лишь как гипотезу и способ упорядочения материала, а не как заявку на адекватное отображение текучей советской действительности. Читателям, незнакомым с подробностями, может показаться, что советская наука о древности – это небольшое число авторов с ограниченным количеством трудов, в действительности же это весомая (и в некоторых отношениях влиятельная) сфера деятельности советской культуры, в которой только основных авторов насчитывается несколько десятков, а общий объем печатной продукции (учебной, научной, популярной) оказывается практически неохватным для одного читателя. Эта сфера работала над целым спектром разнообразных тем, которые имели собственную динамику развития, и поэтому их последовательная унификация в рамках строгой периодизации обернется очевидным насилием над материалом. Многие процессы накладывались друг на друга во времени, разные историки в разные годы меняли свои стили письма, и даже если их отслеживание представляло для меня увлекательное занятие, особенно когда удавалось отследить и доказать параллелизмы, я испытал гораздо большие трудности, когда потребовалось в сжатой и по возможности не слишком скучной форме объяснить это читателям.
В итоге мне пришлось прийти к сложному решению – каждая из частей книги, освещающая один из периодов, заслуживает собственной структуры, поскольку это диктует материал. Первая часть трактует преимущественно стратегии поведения периферийных историков, вторая – процессы взаимодействия «периферии» и «ядра», а третья – тенденции развития (или угасания) идей в советской исторической науке о древности сквозь призму периферийной историографии. Соответственно, если в первой части биографическим подробностям уделено больше внимания, то в дальнейшем они отступают на второй план в пользу анализа исторических трудов. В конечном итоге я лелею нескромную надежду, что мне удалось обосновать мои основные положения и построить на них ряд выводов, которые могут оказаться интересны или даже полезны читателю, интересующемуся особенностями развития исторического мышления и, шире, гуманитарной мысли в нашей стране.
Наконец, следует сказать и о том, что данное исследование не претендует на полноту охвата материала, более того, некоторые интересные примеры, в частности хорошо изученные моими коллегами, затронуты в книге лишь поверхностно. Иногда я кратко суммирую самые важные результаты чужих исследований, но полагаю, что их авторы заслужили того, чтобы читатель, если его заинтересует тема, обратился напрямую к их работам. Основная задача этой книги – дать по возможности связное изложение главного сюжета, проиллюстрировав его конкретным материалом в той мере, в какой это позволит читателям не только ознакомиться с предложенной ему версией истории науки, но и узнать, каким образом я пришел к тем выводам, которые представляю на их суд.
Один из этих выводов в качестве начального тезиса следует сформулировать уже сейчас: без учета и понимания творчества периферийных историков мы не сможем адекватно воспринимать процессы в советской историографии в целом, а значит, не будем себе точно представлять, почему она стала такой, какой была, и какое наследие оставила нам. Поэтому речь нужно вести о них не как о жертвах или проигравших, а как об особом явлении, доселе не изученном в сколько-нибудь полном виде.
ПРЕДИСЛОВИЕ ВТОРОЕ. «ЯДРО» И «ПЕРИФЕРИЯ»
Исследователи давно заметили, что наука не распределяется равномерно ни в географическом смысле, ни в отношении влияния как отдельного ученого, так и той или иной формы ученых коллективов. Поэтому уже как минимум с середины прошлого столетия для характеристики этого географического разделения науки используются понятия ядра и периферии, причем сейчас речь идет о применении этих понятий в глобальном масштабе, когда характеризуется положение дел в мировой науке2. Для объективного измерения этого разделения используются статистические методы – например, подсчет динамики публикаций в ведущих научных журналах представителей разных стран или регионов мира.
В этой книге понятия ядра (центра, мейнстрима) и периферии (окраины) используются применительно к исторической науке одной страны (в один конкретный период), а кроме того, не совпадают полностью с географическим фактором и не ограничиваются им. Чтобы обосновать это, можно было бы сказать коротко, что советская историография – особый мир, но проще будет указать на то, что построение социализма в отдельно взятой стране подразумевало и построение науки, базирующейся примерно на тех же принципах. Конечно, советская наука вообще и историческая в частности не была полностью изолирована от внешнего мира, хотя формы и степень возможности обмена знаниями варьировались на разных этапах ее существования, но при этом перед нами тот случай, когда о свободном циркулировании идей, ресурсов и людей не может быть и речи. Идеологически и структурно советская наука была замкнута на собственных основаниях.
Именно поэтому важно охарактеризовать сущностные черты этих собственных основ. Очевидно, что наука как подсистема общества имеет внутренние особенности развития, которые складываются в момент ее формирования и зависят прежде всего от тех принципов восприятия мира, которые служат объединяющим началом для сообщества ученых (Т. Кун однажды назвал это парадигмой), а также от общественных условий, которые закладывают определенные правила отношений внутри складывающейся подсистемы. Когда же наука как особая система уже сложилась, общественные условия начинают играть по отношению к ней роль внешних факторов, сигналы от которых преобразуются системой науки (сетью научных учреждений, научными изданиями, отдельными учеными) сообразно ее интересам и установкам. Эту черту П. Бурдьё назвал автономностью науки.
Автономия науки – хрупкое явление, поскольку тесно связана со структурой научных учреждений, на которую сравнительно легко повлиять политической системе. Поэтому хотя нельзя говорить о том, что во внешних влияниях на науку фактор политических структур всегда играет определяющую или даже значительную роль, но его воздействие в зависимости от конкретной исторической ситуации может стать определяющим. Справедливо будет исходить из того, что параметры отношений между наукой и политической системой закладываются в момент формирования одной из них, а общенаучные императивы «республики ученых» (если понимать ее как надгосударственные нормы научных практик) играют в этом процессе скорее вторичную роль.
Так, Россия взяла идею университета у Германии, но развитие немецких университетов прямо соотносится с раздробленностью Германии в XVIII – первой половине XIX в., а российская политическая система, напротив, всегда характеризовалась высоким уровнем централизации. Собственные прототипы научных учреждений в русском обществе не пережили эпохи становления нового типа государства при Петре и его преемниках, и перед российской политической системой не стояло никаких правил игры в сфере организации науки, которые были бы созданы не ею, а традицией. Поэтому в России при всех внешних чертах, роднящих ее с европейской наукой, ни Академия наук, ни университеты изначально не обладали собственной идентичностью и автономной от государства поддержкой со стороны общественного мнения. Можно сказать, что автономия науки всегда была даром правителя, который неспокойная российская действительность то и дело заставляла отнимать.
В первые годы власти большевиков начался эксперимент, проводимый под лозунгами отмены жестких норм и правил в науке и образовании, который породил разнообразие временных форм функционирования научных сообществ, но не был (и не мог быть) удачным: как потому, что научные кадры не имели никаких источников собственной поддержки, кроме государства, так и потому, что государство очень быстро стало исходить из необходимости тотального контроля за сознанием и воспитанием граждан. Поэтому в основных своих параметрах советская система науки воспроизвела и развила тот тип отношений, который сложился между ней и государством еще с петровских времен.
Не следует считать, однако, что здесь не было никаких существенных перемен. В любой научной системе есть ученые, чьи позиции, несмотря на их признанный талант, сильно расходятся с доминирующими в научной среде взглядами, и это служит источником конфликтов. Но в советский период, когда политическая и идеологическая лояльность стала важнейшим условием для научной карьеры, цена своеобразия для каждого конкретного ученого или научного направления резко возросла. И как вскоре выяснилось, для достижения лояльности недостаточно было просто быть марксистом (или заявить себя таковым), необходимо было также придерживаться правильного, не еретического понимания «единственно верного учения»3, уметь показать это верное понимание в собственных научных трудах (рискуя быть порицаемым за цитатничество или игнорирование важной цитаты, за начетничество, за непонимание сути учения) и при этом вовремя отреагировать на изменение линии партии (рискуя получить упрек за недоучет современных установок, а то и прямое обвинение в антипартийной деятельности). Естественно, все эти риски были особенно заметны в гуманитарных науках, где нельзя было заменить слова формулами. Наконец, следует указать и на то, что советские гуманитарные науки при этом не были вообще оторваны от реального знания, а значит, все эти установки требовалось еще связать с исследуемой реальностью, которая тоже далеко не всегда удобно располагалась в прокрустовом ложе обязательной теории. Именно поэтому, как бы ни хотел советский ученый быть в центре научной «моды», он мог, сам того не заметив, очень быстро оказаться на ее периферии. При этом «моду» задавало не столько научное сообщество, сколько политические структуры. Отсюда легко сделать вывод, что, во-первых, советская наука была в лучшем случае полуавтономной (по сравнению с европейской традицией), а во-вторых, что в ней периферийность стала более явной и более драматической характеристикой.
Ценность изучения советского опыта заключается в том, что обозначенное положение вещей существовало на протяжении жизни четырех поколений – в XX в. ни одно из обществ подобного (замкнутого) типа не существовало так долго или не было столь стабильно (скажем, франкистский режим не смог настолько подчинить себе общественное мнение и другие структуры, такие как католическая церковь). Если в других национальных историографиях воздействие политического режима можно было «переждать» или, по крайней мере, его интенсивные попытки подчинить все общество были ограничены временем деятельности одного поколения (нацистский режим), то советский опыт стал «нормальным», в том числе – нормативным в культуре советского общества4.
Теперь, исходя из вышесказанного, уместно добавить конкретики и пояснить основную терминологию. Понимая, что русифицированное mainstream неблагозвучно, я не сумел подобрать более уместного термина; учитывая, что более привычное русскому уху слово «периферия» пришло из греческого, там антитезой будет слово «центр» (κέντρο), но от этого слова сложнее образовывать удачные производные. Под мейнстримной историографией в этой книге понимаются те течения, подходы и типы повествования (и их представители), которые занимают определяющее место в научном и общественном пространстве, ассоциируясь с исторической наукой как таковой. Периферийная историография – это те направления (или отдельные авторы) в исторической науке, которые, соответствуя общим параметрам научности, не воспринимаются как образцовые – прежде всего ученым сообществом, но также и другими заинтересованными действующими лицами; причина этого заключается в том, что по ряду характеристик представители периферийной науки отличаются от мейнстрима. Хочу обратить внимание, что эти дефиниции никак не помогают разобраться в степени научного таланта или научного вклада авторов – можно быть очень незначимым исследователем, работающим в «центре», и внести огромный вклад в науку, оставаясь на периферии; но так же легко возможен и обратный вариант. И конечно, при выделении центра и периферии речь идет именно о науке, паранаучные явления выносятся вовсе за границы этой системы.
Понятно, что периферийность – переменная, зависящая от того, какие параметры определяют принадлежность к центру. Но для того, чтобы читатель имел общее представление, я предлагаю свести многообразие к нескольким базовым (и относительно легко опознаваемым) характеристикам. Для определения принадлежности одного историка или группы историков к периферийным я предлагаю использовать две группы факторов: внешние и внутренние. К внутренним относятся те, которые можно обнаружить при обращении к содержанию и результатам самой научной деятельности, к внешним – остальные, связанные, условно говоря, с тем, как историк репрезентирует себя и свои труды.
Из внешних факторов наиболее важными представляются: публикационный, географический и корпоративный.
Когда труд закончен, его надо опубликовать, и здесь важно как то, каким образом эта публикация будет сделана – в форме устного доклада, статьи, книги или только тезисов, так и то, какого уровня известности будет площадка для публикации (важная конференция, солидное издательство, читаемый всеми журнал – или наоборот). Важны также динамика публикаций, их объем, иногда даже страницы в издании, на которых она вышла. Естественно, никаких абсолютных рецептов для определения уровня публикационной активности нет, ведь разные авторы пишут с разной интенсивностью, но динамика творчества конкретного историка, посчитанная с учетом основных событий его жизни (время тяжелой болезни снижает количество опубликованного и совсем не показывает изменение отношения к исследователю в научной среде), может дать обоснованные данные.
Географический фактор позволяет учесть как место жительства, так и место работы историка. Конечно, самое его очевидное проявление – переезд в крупный научный центр (столицу) или из него, но есть и не менее важный пример – работа в более или менее престижном научном (или учебном) заведении. Поэтому речь здесь идет о географии не в ее физическом смысле слова, а о научной географии, где понятия «близко» и «далеко» измеряются не километрами, а престижем.
Корпоративный фактор – степень интеграции историка (или группы) в научное сообщество. Здесь уместно говорить тоже о двух аспектах: формальном – получение ученых степеней и званий, членство в академиях, должности в научных институтах и т. п.; и неформальном – круге общения историка, признанной им (и другими) принадлежности к той или иной школе или течению.
Среди внутренних факторов можно выделить следующие: теоретический, тематический и стилистический. Все эти факторы раскрываются на соотношении той или иной из названных характеристик с подобными же, но опознаваемыми в произведениях, которые относятся к мейнстриму. Поэтому важно указать, что степень расхождения периферийной работы с мейнстримом может быть разной; они могут относиться друг у другу как частично пересекающиеся (часть важных положений разделяется, есть точки согласия), сосуществующие (принципиальных точек согласия нет, но существует тенденция к взаимному игнорированию) или противостоящие (центр стремится подчинить периферийные типы нарративов, те же стремятся переформатировать всю «расстановку сил» в системе).
В сфере теории в советское время, конечно, полная независимость историка от общеразделяемых позиций была роскошью, и часто непозволительной. Обычным примером здесь было частичное пересечение с теорией мейстрима, хотя даже это могло вызывать очень болезненную реакцию, особенно в сталинский период. Поэтому чаще всего мы наблюдаем, как тот или иной историк советского времени предлагает лишь свою вариацию общей теории, и здесь становится важно видеть, насколько эта вариация совпадала или расходилась с общепринятыми смыслами – чтобы избежать опасности отнесения к периферийным вообще любых смысловых отличий. Тем не менее были и случаи противостояния, и случаи сосуществования теоретических режимов; правда, они преобладали скорее в начале и конце советской эпохи, когда мейнстрим не претендовал на тотальное господство.
Фактор выбора темы для исследования – один из самых очевидных (хотя совсем не обязательных) маркеров для определения отношения того или иного автора к мейнстримной историографии. Здесь тоже могло проявляться как стремление уйти в ту тематику, которая по факту минимально пересекалась с доминирующей (хотя следует помнить, что, например, обращение к истории техники в 1920–1930‐х гг. связано со стремлением оказаться в общем потоке, а вот после этого времени – скорее уйти из него), так и поиск той, что, частично пересекаясь с базовыми темами, позволяла раскрыть в них менее популярные аспекты. Помимо всего прочего, изучая смену популярных тем исследований, мы можем видеть, как менялась система историографии в целом, и отслеживать последствия взаимодействия ядра с периферией.
Стилистический фактор – последний в этом перечислении, но далеко не второстепенный при определении положения того или иного произведения в системе науки. Умение или неумение (а равно желание или его отсутствие) говорить тем языком, который принят, повторять расхожие штампы и опираться на одни и те же образы – это то, что говорит о степени личной вовлеченности историка в доминирующий нарратив. Вопрос стиля не следует сводить здесь только к тому, какие цитаты из Маркса и последующих теоретиков отбирал, использовал или не использовал советский историк – хотя и это одно может дать много интересного материала; не следует также сводить дело и к вопросу частоты употребления официальной терминологии; сюда следует относить также стиль построения повествования, соотношение между абстрактными обобщениями и историческим материалом. Правда, в этом последнем случае очень трудно однозначно определить степень отличия периферии от центра, поскольку в вопросах стиля письма наибольшую роль играет личность историка, а не его принадлежность к тем или иным течениям. Но в целом эта задача решаема, особенно если сравнивать труды, которые относятся буквально к жизни одного поколения, и не использовать обобщенный (стереотипизированный) образ историографии мейнстрима. Вообще, не стремясь делать из этой последней некоего «врага», по умолчанию антигероя этой книги, я постараюсь для сравнения давать также и примеры того, какой была в том или ином случае «нормативная» стилистика (хотя этому уже были посвящены некоторые мои предыдущие работы).
Периферийность для ученого – характеристика динамическая, ее можно приобрести, но можно и утратить. Поэтому некорректно утверждать, что наличие хотя бы одного из этих факторов, даже более или менее ярко выраженного, следует использовать как доказательство периферийности того или иного историка. Уместнее всего начинать говорить о ней при наличии трех и более факторов. При этом я сознательно изымаю из этой системы те моменты, которые являются полностью внешними для науки: арест исследователя, утрата им прежнего статуса по причине государственного террора, бесспорно, отразятся на всех указанных параметрах, но в отношении науки как подсистемы это непредвидимый фактор.
Возможно, со временем исследователи, считающие, что лучший способ преодолеть схему – внести в нее уточнения, добавят и другие параметры к тем, что указаны выше. Но моя цель заключалась не в том, чтобы предложить безупречную схему (что, вообще говоря, оксюморон), а в том, чтобы создать работающий инструмент анализа. Совершенно необязательно заботиться об изяществе молотка и резца, чтобы создать приятную глазу статую.
Кроме того, читателю не стоит опасаться, что каждый раз, рассказывая о том или ином историке, я буду навязчиво напоминать ему об этом списке факторов; если будет желание, действенность этого инструмента легко проверить и самостоятельно. Я же стремился написать книгу не о состоянии, а о движении, и поэтому известная переменчивость предмета исследования является для ее сюжета неотъемлемой чертой. Впрочем, мы сейчас находимся в той точке, когда от разговоров о содержании книги пора переходить непосредственно к самому содержанию.
Часть первая.
Периферия как катастрофа
Есть много способов сохранить здравый ум в условиях деспотизма.
И. Берлин
ГЛАВА 1
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОВЕТСКОЙ НАУКИ ДОСТАЛИНСКОГО ПЕРИОДА
Используя понятие «досталинский период», я подразумеваю под ним время до конца 1920‐х гг. – не только потому, что затем произошло окончательное и безальтернативное утверждение Сталина на вершине советской политической системы, но и потому, что только начиная с конца 1920‐х гг. в руководстве наукой все более последовательно станут проявляться черты новой унифицированной политики. Сложнее говорить о начальной точке периода: ясно, что в первые годы Гражданской войны победа советского правительства была совсем не очевидной, а общее состояние экономики и общества вскоре прервало издания по истории древности. С этой точки зрения более адекватным будет начинать период примерно с 1919 г. и завершать его 1929 г., когда «Академическое дело» завершило игру советского правительства в «кошки-мышки» с окончательно ослабевшей Академией наук и открыло широкий простор для переформатирования науки.
Для главной темы книги разговор об этом времени играет роль введения в проблему: я намереваюсь показать ниже, что это было время еще до формирования центра и периферии в советской науке о древности, а по сути дела и время, когда советской науки о древности как целостной традиции просто не существовало.
Уместно начать этот разговор с характеристики состояния науки в указанный период. По теме существует целый ряд общих и более частных исследований5, что позволяет сказать здесь кратко только об основных тенденциях. Они заключались в том, что, с одной стороны, научное сообщество было в заметной мере ослаблено и фрагментировано после периода Гражданской войны: многие историки погибли, уехали, потеряли возможность заниматься любимым делом – с особенной силой это сказалось на историках «ненужных» эпох, ведь классические образование и наука ассоциировались у большевиков прежде всего со старым режимом и его идеей (нужно признать, бездарной), что изучение латыни (и вообще «консервативных» предметов) вместо технических специальностей сможет затормозить рост революционных настроений в среде образованной молодежи. Более того, вся история человечества вплоть до современных революционных движений теперь выглядела как неактуальная, а те, кто ее изучал и преподавал, – как представители старого мировоззрения, несущие не только бесполезное, но иногда даже и вредное знание. Это были главные причины, по которым возможности для занятия древней историей сузились6, история как отдельный предмет в школах уступила место обществоведению, что означало для многих представителей науки необходимость уходить от узкой специализации (к которой они стремились до революции с целью достичь глубоких знаний в избранной теме) и искать способы для того, чтобы заработать на жизнь.
С другой стороны, новые условия еще не означали неограниченных возможностей для становления и развития марксистской версии исторического процесса. Для этого было мало кадров, которые бы могли представлять изучение древней истории на достойном уровне с точки зрения материализма, и не было ясного представления о том, каким образом это исследование должно было организовываться со стороны государства. В целом установка сводилась к частичному использованию «старых специалистов» и постепенному взращиванию новых кадров. Первое воплощалось в сложном сотрудничестве с Академией наук, второе – в учреждении Института красной профессуры (основан в 1921 г.; отдаленной схожестью обладала основанная в 1918 г. Социалистическая академия, с 1924 г. называемая Коммунистической), а нечто среднее – в образовании в 1919 г. Российской академии истории материальной культуры, с 1926 г. реорганизованной в Государственную академию истории материальной культуры (похожим учреждением был и Институт истории РАНИОН7). Особенной структурой был специально созданный в 1920 г. институт по изучению творчества основателей марксизма, тогда называемый Институтом Маркса и Энгельса, позже дополненный Институтом Ленина, но наиболее известный под аббревиатурой ИМЭЛ – Институт Маркса–Энгельса–Ленина (с 1931 г.). В любом случае названные здесь примеры – это не описание системы научных институций, а иллюстрация того, что системы как таковой не существовало. Специально историей древности никакое заведение первоначально заниматься не обязывалось, но общая ориентация на изучение разных эпох оставляла для этого определенные возможности8. Со временем появляются отделы и секции, в которых древняя история начинает фигурировать как ветвь специализации9.
Тем самым древностью можно было заниматься в том числе и там, где появлялась возможность связать ее с какой-либо иной темой. Например, когда академик Николай Яковлевич Марр в 1921 г. учредил Яфетический институт для развития своей языковой теории, он исходил из того, что для наработки знаний об истории языка требуется сформулированный им «палеонтологический метод» – по факту это означало, что филологи-классики или ориенталисты могли вписаться в это широкое движение10.
Симптоматично, что Яфетический институт, вскоре и в самом деле ставший частью Академии наук, первоначально обосновался в комнате на квартире самого Марра. И даже когда институт уже был официальным учреждением, в нем было много сотрудников, которые работали на долю ставки или вне штата.
Логика хотя бы частичной самоорганизации тоже была одной из черт того времени. Отсутствие официальной специализации подтолкнуло к возникновению более свободных форм работы по типу кружков, а также организации неофициальных научных докладов и даже научных защит (при отсутствии возможности давать ученые степени). Наиболее значимым примером может служить случай Египтологического кружка при Ленинградском университете (хотя фактическим его центром был Эрмитаж), основанного в 1927 г. Судя по протоколам, инициаторами создания кружка были М. Э. Матье и И. М. Лурье11.
Египтологический кружок обзавелся собственным сборником – с 1929 по 1931 г. было осуществлено девять тоненьких выпусков, причем первые из них писались от руки, а затем размножались на гектографе. Интересно, что значительная часть в основном небольших статей (почти все посвящены египтологии, хотя есть и работы ассириолога А. П. Рифтина) писалась на немецком, немного на французском и английском языках – конечно, это в некотором отношении тренировка по преимуществу начинающих ученых, но еще и желание видеть свои работы в контексте мировой науки. Желание, нужно признать (вслед за А. О. Большаковым), вполне наивное – кружок возник под самый конец периода относительной открытости и неформальности науки и был обречен на роспуск. В некотором роде он был последним проявлением науки ради науки – в его ранних выпусках и тематика, и исполнение работ – исключительно конкретно-исторические, тем более и объем не предполагал долгих вступлений и рассуждений. И только в выпуске от 1930 г. появляется упоминание теории Марра, поданное как обязательная программа исследований – марризм к тому времени уже был признан частью марксизма12.
Впрочем, до конца 1920‐х гг. должны были произойти некоторые изменения, которые подготовили подобный итог. До них ситуация была настолько неопределенной, что существовали даже попытки ввести в научный оборот теорию Н. А. Морозова (1854–1946). Последний, как известно, выступал за радикальный пересмотр древней истории и хронологии – точнее, фактически за отмену древности. В 1920‐х гг. он выпустил свои труды, в том числе семитомник «Христос. История человечества в естественнонаучном освещении» (1924–1932), что вызвало решительную отповедь13. Показательно, что отсылки к авторитету марксистских теоретиков в этом споре не использовались.
Впрочем, поэтическая астрономия Морозова – это скорее вторичное проявление духа времени, по сути лишь подтверждающее то, как много черт предыдущей эпохи еще могли воспроизводиться в 1920‐е гг. – ведь работы Морозова выходили и до революции и вызывали в целом те же самые возражения.
Гораздо более существенной чертой периода было то, как происходила эволюция исторического нарратива. Можно сказать, что сосуществовали два разных типа повествования, ни один из которых не преобладал и не был до конца оформлен: претендующий быть «новой» наукой конспект уже известных сведений об истории, преемственно развивающийся из дореволюционных марксистских трудов и сильно ориентированный на отслеживание социологических закономерностей14, и несколько откорректированный «старый» тип повествования, редуцировавший дореволюционные разнообразные рассуждения о смысле истории15 и сконцентрированный на живой и непосредственной передаче образа прошлых эпох16.
Тем интереснее попытки некоторого сближения обоих названных типов. В 1924 г. профессор Харьковского университета Е. Г. Кагаров (1882–1942) написал брошюру о Спартаке, вышедшую в серии библиотеки еженедельной всеукраинской газеты «Юный Спартак». Конечно, ни о какой научной стороне этого произведения речи идти не может, а неряшливое, хотя и легкое перо Кагарова подточило и популяризаторские его достоинства17. Неудивительно и то, что граждан республики он называет «жестокими римскими буржуа»18, поскольку в это время представление об аналогии между античным и современным империализмом еще не было определено как антимарксистское.
Более примечателен тот факт, что Кагаров, марксистом на тот момент не являвшийся, стремится построить свое повествование в духе, который понравится заказчику. Он делает акцент на жестокой эксплуатации рабов как основной причине восстания и на героизме восставших как основной характеристике его протекания. То и другое подано в утрированном изображении. Эксплуатация рабов описывается в смене нескольких тезисов: римляне презирали труд19, рабов было во много раз больше, чем «богачей», раб считался ниже животного, рабы были дешевы, их тело и сама жизнь подвергались постоянной опасности из‐за хозяев. Героизм подан прежде всего через образ Спартака, хотя Кагаров и не забывает сообщить, что тот был «только орудием недовольной массы угнетенных, он стал выразителем этой массы, и поэтому масса пошла за ним»20, тем не менее именно Спартак становится идеалом лидера, сочетающего совершенную физическую силу, полководческий дар и даже понимание исторического моменты: «он понимал, что Рим еще пока не изжил самого себя, что еще не наступило время для настоящей революции»21. Наконец, в Фуриях Спартак и вовсе заложил основы справедливого общественного устройства, при обрисовке которого Кагаров не стесняется использовать штамп из другой революционной эпохи: «объявил для всех невольников свободу, равенство и братство, изгнал из обращения золото и серебро, установил дешевые цены на продукты»22.
В этой книге пока нет обязательного для более поздних очерков о Спартаке указания на тупиковость развития рабского строя и попыток более сложно объяснить расколы в войске восставших, но она иллюстрирует то, как примерно Кагаров объяснял себе, что же произошло в его собственной стране в последние годы.
Конечно, не все историки с дореволюционным образованием были готовы писать по-новому23, но если они хотели оставаться в профессии, то им приходилось сталкиваться с повышенным вниманием со стороны учащейся молодежи (комсомольского актива) и со стороны администрации. Наиболее известным примером является история давления на Сергея Александровича Жебелёва (1867–1941) – одного из самых заметных филологов-классиков предреволюционной эпохи. Жебелёв не только писал труды по древнегреческой истории, но также переводил классических авторов, редактировал переводы современных зарубежных историков, долгое время был редактором отдела классической филологии в «Журнале Министерства народного просвещения». Из наиболее ярких петербургских историков древности своего поколения он был единственным, кто не умер (как Б. А. Тураев) или не уехал (как М. И. Ростовцев), так что его авторитет был высок, а потому и давление на него оказывалось совершенно сознательно.
Жебелёв был избран академиком только в 1927 г., но еще по старым правилам24. Позже, когда он опубликовал в эмигрантском сборнике некролог академику Я. И. Смирнову (1869–1918), это вызвало настоящую травлю в конце 1928 г., в том числе и в прессе: порицался и сам факт публикации, и то, что он был напечатан вместе с белоэмигрантами, и то, что назвал годы Гражданской войны «лихолетьем», а М. И. Ростовцева – своим другом25. Жебелёву пришлось отрекаться от друга и оправдываться за свои слова. Очевидно, что такие происшествия крайне затрудняли научную деятельность, морально надламывали человека.
При этом следует указать и на то, что в научном сообществе тех лет было ограничено действие механизмов научной репутации: работа об Эхнатоне солидного египтолога Ф. В. Баллода (1882–1947) была отвергнута Государственным издательством, зато напечатана на ту же тему книга раскритикованного учеными, в том числе Д. М. Петрушевским, В. И. Авдиева (1898–1978)26. Предисловие к ней написал И. Н. Бороздин (1883–1959) – востоковед, в свое время сотрудничавший с Тураевым, сам, однако, исследователь с очень широкими интересами и не египтолог27.
Сама книга, без обиняков посвященная памяти Тураева, довольно заурядна; хотя ее и отличает стремление писать красиво, но автора подводит чувство меры28. Типологически это напоминает то решение проблемы приспособления старого нарратива к новым условиям, которое нашел Кагаров: превознося силу личности Эхнатона, Авдиев при этом все же утверждает, что историей правит строгая закономерность29; также воздействие новой эпохи заметно в поверхностном, но частом внимании к экономической стороне дела – в книге сравнительно часто говорится о материальных ресурсах, которые приобретала в своих войнах египетская империя30, есть и рассуждение о социальной базе, в которой нуждалась проводимая реформа31. Сам интерес автора к рождению монотеизма, поданный без какой-либо критики религиозного сознания, указывает на дореволюционные корни его работы, когда вопрос о том, существовал ли настоящий монотеизм до иудейско-христианской традиции, был смелым и актуальным.
Все эти черты указывают на то, что характеризуемое десятилетие следует определять несколько иначе, чем делалось до этого. Иногда разговор о терминах имеет значение – если неудачно подобранное слово препятствует адекватному постижению предмета. К сожалению, характеристика 1920‐х гг. как раннего советского этапа историографии относится именно к такого рода решениям. Рождению этого восприятия способствовало перенесение политической периодизации на историю науки. Между тем с точки зрения отсутствия сложившейся системы научного знания, сосуществования старых нарративных форм и аморфности в складывании новых следует говорить о протосоветском этапе науки о древности. Раннесоветский этап – сталинский, который последует за протосоветским.
Наступлению этого этапа (которому посвящены последующие главы) способствовал ряд перемен. Прежде всего – частично осознанная, частично вынужденная необходимость сближения историков, которые пришли в науку от партийной деятельности, и тех, которые начали свою научную деятельность (или подготовку к ней) до революционных потрясений. Первым недоставало исторической квалификации, вторым – знания теории (впрочем, вскоре выяснится, что теорию толком не знал никто). Готовность части тех и других улучшить свои позиции и создала основу для дискуссий конца 1920‐х – начала 1930‐х гг. Диспуты 1920‐х гг. были спорами между «старым» и «новым», и они не предполагали механизма, который бы позволил участникам с разных сторон спора услышать друг друга. А вот дискуссии об азиатском способе производства, начавшись с достаточно абстрактных теоретических споров с политической окраской, постепенно перешли к более научному обсуждению, предполагавшему выработку механизмов согласования положений теории (которую также надо было прояснить) с наличествующей фактической базой. Примерно ту же задачу выполняли различные доклады об эпохах человеческой истории, поручавшиеся работникам научных институтов32. Все это формировало в итоге ту массу акторов, которые, споря друг с другом, начинали вырабатывать общий язык для изложения теории. В течение 1929–1932 гг. накопилась критическая масса для этих перемен, что подготовило рождение целостного нарратива – для него сложился тезаурус.
Более того, процесс складывания более или менее однородного поля исторического повествования проходил одновременно с процессом концентрации политической власти и сильно зависел от него. Политическая система, в которой Сталин поверг всех своих конкурентов, теперь выступала заказчиком производства одной четкой схемы мировой истории, не противоречащей марксизму, но при этом понятной людям без гимназического образования и особенно современной советской молодежи. Схема, как вскоре выяснилось, должна была быть насыщена конкретными историческими фактами, но не должна была утратить своей наглядности. Как именно этого следовало достичь, сформулировано не было.
Так, в условиях нарастающей несвободы историки (по крайней мере Древнего мира) неожиданно оказались в конкурентной ситуации: поскольку трактовка древней истории не была четко обозначена партийными органами, ее следовало дать самим и «продать» версию заказчику (ЦК партии или его представителям). Победа в этом соревновании означала попадание на вершину научной иерархии. Следовательно, сначала сформировалась база для научного сообщества, созданная в специфических советских условиях ориентации на единственную научную истину. Теперь же, с окончанием протосоветского этапа, добавилась еще и ориентация на единственно возможную трактовку этой известной истины. Так и возникла возможность появления внутри научного сообщества «ядра» победителей, авторов этой трактовки – их могло быть несколько, учитывая наличие разных исторических периодов и разных крупных проблем, но не слишком много.
Поскольку трактовки истории, созданные в 1920‐х гг. и восходящие еще к дореволюционному марксизму, оказались негодными (по разным причинам), а других не было, то их приходилось делать срочно, параллельно согласовывая теорию с фактами и теорию с самой собой (разноречивость утверждений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина была, в сущности, настоящим кошмаром для претендента на удачное толкование). Партия делала вид, что теория неизменна и прекрасно ей известна, тем самым как бы перекладывая ответственность за ее неудачное толкование на историков, многие из которых были либо недостаточно образованны, либо недостаточно подкованы в теории и в любом случае слишком обмануты пропагандой непогрешимости руководства (затем и напуганы), а потому часто искренне брали эту ответственность на себя. В действительности партийные структуры и их представители, включая Сталина, тоже не были способны определенно сформулировать свое понимание теории вплоть до второй половины 1930‐х гг. Можно было бы добавить, что партийцы, эгоистично борясь за власть, чаще всего так же искренне верили в то, что сама теория, при всех проблемах ее воплощения, научно безупречна, но фанатизм не оправдание.
Именно эта ситуация неопределенности, нервозности, на ходу вырабатываемых и постоянно нарушаемых «правил игры» спровоцировала жестокую борьбу между историками. Идущие параллельно в эти же годы проработки, чистки и общественная паранойя поиска заговорщиков и вредителей усилили и легитимировали жесткость методов борьбы за место в «центре» и ее крайнюю идеологизированность; иными словами, конкурируя друг с другом, историки не стыдились выдавать научную ошибку за ошибку политическую, которую легко было в те годы переквалифицировать в преступление.
Означает ли это, что так поступали все ученые 1930–1940‐х гг., то есть собственно сталинского периода? Поскольку источники далеко не полны и нельзя проверить все случаи, в настоящее время корректно ответить так: само нахождение в этой системе рано или поздно ставило историка перед выбором – либо действовать теми методами, которые выработались, либо терять свои позиции внутри системы. Опасность лишиться работы не за оппозиционность даже, а за недостаточное проявление лояльности была более чем реальна, как реальными вскоре стали промышленные масштабы доносов на тех, кто писал, говорил или действовал не так, как казалось приемлемым другим.
В этих условиях сфера занятия древней историей если и была «тихой гаванью» по сравнению с другими историческими эпохами (историки партии в 1930‐е гг. были практически расстрельной категорией), то и ее постоянно сотрясали бури. О том, как удалось сформироваться в этих условиях «ядру», я писал в другой книге33, здесь достаточно сказать лишь кратко: некоторым, как Жебелёву, понадобилось, по сути, написать лишь одно исследование, чтобы его признали «советским ученым»34. Но Жебелёв был фигурой знаковой, и как бы он ни был унижен этой сделкой с властью, большинству других историков такие условия вхождения в «ядро» и не снились. О тех, кому по той или иной причине не удалось в него попасть или надежно в нем закрепиться, рассказывают последующие главы этой части.
Поскольку в стадии складывания находилось «ядро», то не полностью оформилась и «периферия», следовательно, при описании динамичной ситуации «сотворения мира» невозможно было анализировать периферию как некую целостность; поэтому в следующих главах я стремлюсь показать отдельные стратегии тех или иных историков. В каждой главе есть главный герой, а в конце ее, если позволяет материал, я предлагаю читателям примеры похожих судеб.
ГЛАВА 2
СХВАТКА С ТИТАНОМ
Начинать эту историю нужно с победителя. В начале июня 1933 г. в Ленинграде в здании Мраморного дворца состоялось заседание Государственной академии истории материальной культуры, на котором в очередной раз обсуждались вопросы общественно-экономических формаций. Главной частью программы был длинный, четырехчасовой доклад Василия Васильевича Струве (1889–1965) «Проблема зарождения, развития и разложения рабовладельческих обществ Древнего Востока». В нем Струве дал тот ответ на вопрос, который и по сей день многим представляется очевидным и уж во всяком случае очевидно марксистским, а тогда не был, – что древневосточные общества были рабовладельческими. Он даже готов был вначале доказывать, что они были рабовладельческими в той же мере, как и античные, и что основная масса рабов в них происходила из пленников войны, но вскоре понял, что таких усилий от него не требовалось. В таком случае задача решалась проще: категория зависимых работников конца III тыс. до н. э. в месопотамском царстве Шумера и Аккада (знак, обозначающий ее, тогда читали как «каль», а ныне как «гуруш»), была объявлена им по преимуществу рабской. При этом, отмечал историк, совершенно не важно, были ли все представители данной категории рабами в юридическом отношении; важно то, что они трудились как рабы – круглый год, на тяжелой работе, получая минимальный паек.
Первоначально было много несогласных, как среди ленинградских ученых, так и в Москве, где доклад был повторен в середине июня 1933 г., но число их постепенно таяло, а звезда Струве восходила все выше. Возможно, помогал ореол «старого» ученого, который, обладая высокой квалификацией (ученик Тураева, стажировался в Германии), теперь обратился к марксизму. И хотя упомянутый доклад отличался еще несколько неуверенным обращением с марксистской теорией, в нем было главное – он подводил под эту теорию большую фактическую базу, что хорошо резонировало с заявленной ЦК ВКП(б) в 1934 г. ориентацией на конкретику в изложении исторических событий. Струве станет академиком (1935), а понимание древневосточных обществ как рабовладельческих – одним из завоеваний советской науки.
Многоголосие возражающих затихло, и перед войной тех, кто продолжал спор, оставалось совсем немного, среди них – Николай Михайлович Никольский (1877–1959). Правда, отступить пришлось и ему, но все-таки меньше, чем другим. И наличие столь постоянной, непримиримой оппозиции по отношению к «правильной» (то есть признанной таковой не только учеными, но и партийными органами) точке зрения – явление, которое может показаться столь необычным если не для советского времени вообще, то для сталинского периода определенно, что оно заслуживает более последовательного рассмотрения.
Прежде всего нужно сказать несколько слов о самом Никольском. К началу спора со Струве он уже давно был москвичом не из Москвы, поскольку работал в Минске. Но Москва была родным городом, в ней он получил образование, причем в университете ему преподавал отец – Михаил Васильевич Никольский (1848–1917). Отец был замечательной личностью и крупным ученым. Никольский-старший окончил Московскую духовную академию, но его интересы вскоре оказались связаны не столько с библеистикой, сколько с новой сферой знаний – ассириологией. Новой она была настолько, что в России он оказался первым, причем восточные языки начал учить самостоятельно. Клинопись тоже освоил сам. Помимо этого заметно продвинулся по службе и еще до прихода в университет стал действительным статским советником, относился к четвертому классу Табели о рангах, иными словами, к высшему чиновничеству империи. Он начал издание ассирийских и шумерских клинописных текстов, которое требовало давать и прорисовку табличек, и транскрипцию, и перевод, и с этой точки зрения его вклад в ассириологию был того же рода (пусть и не того же объема), что у знаменитого французского шумеролога Ф. Тюро-Данжена. В 1915 г. он выступил с идеей учреждения Переднеазиатского общества, чтобы исследовать памятники Ближнего Востока, но в это время, конечно, реализовать ее было уже невозможно.
Отец был либеральных взглядов, а потому в университет его пригласили только в качестве приват-доцента (так обозначали тех, кого не брали на постоянную работу), и в итоге от него там избавились. Сын был даже еще более радикален. После окончания учебы в 1900 г. Николай Михайлович был оставлен при университете, но магистерский экзамен сразу сдавать не стал ввиду «домашних обстоятельств и трудного материального положения»35; согласно другой версии, восходящей к нему самому, дело было в недовольстве администрации избранной им темой выпускного сочинения – «Иудея при Маккавеях и Асмонеях», а точнее тем, как она освещалась. Никольский начал работать учителем истории в женской гимназии О. Ф. Протопоповой36. И одновременно оказался тесно связанным с социал-демократами, даже конкретно с большевиками.
На интерес младшего Никольского к марксизму повлияли И. И. Скворцов-Степанов (один из переводчиков «Капитала») и М. Н. Покровский37, для первого издания «Русской истории с древнейших времен» (1910–1913) которого Никольский написал главы по истории церкви. У него в квартире не только останавливались большевики, но и проходили заседания Московского комитета РСДРП(б) во время революционных событий 1905–1907 гг. Сотрудничал он и с М. Горьким38.
Конечно, в те годы критическая библеистика сталкивалась с затруднениями, и Никольский сосредоточился на переводе и издании книг зарубежных исследователей, выпустив в 1907–1909 гг. серию «Религия и церковь в свете научной мысли и свободной критики»39, в которой опубликовался и сам40. Кроме того, редактировал перевод знаменитой «Вавилонской культуры» Г. Винклера41. В то же время цензурные проблемы, о которых писали советские историографы Никольского, не следует преувеличивать: по крайней мере, он вполне имел возможность выразить, что его личная установка заключается в стремлении к научному познанию, которое не должно быть служанкой религии42; достаточно понятно для знакомых с историческим материализмом говорит он и о зарождении в раннем израильском обществе процессов классовой дифференциации и эксплуатации, и что религия – производное от социально-экономического начала43.
Таким образом, до революции Никольский был образцом левого интеллектуала, материалиста, как минимум горячо сочувствующего марксизму как политическому движению, при этом не революционера (в РСДРП он не вступил), который смог получить некоторую трибуну, но не имел слишком больших шансов реализоваться в университетской науке44. При этом если обращаться к его дореволюционным работам (помня о том, что он не всегда имел возможность сказать все, что хотел), то в них автор выступает больше с позиций просветителя, чем сотрясающего основы разрушителя, хотя он достаточно решителен в высказывании позиций по тем вопросам, в которых видит, как научное развитие сдерживается теми или иными предрассудками. Поэтому можно согласиться с тем мнением, что он вполне искренне приветствовал революционные события 1917 г.45
Возможно, лучшим свидетельством настоящих взглядов Никольского является книжка «Иисус и первые христианские общины» – набранная еще в дореволюционной орфографии (и готовившаяся к изданию, видимо, в 1916 или 1917 г.), она вышла уже в 1918 г., без цензурных ограничений; если бы автор счел высказанные в ней взгляды чрезмерно смягченными в угоду прежнему режиму, он бы не выпустил ее в свет. В книге историк дает последовательный анализ репрезентативности Нового Завета как исторического источника и так же последовательно отстаивает историчность Иисуса46. Он отрицает прямолинейный историцизм концепции раннего христианства, которую выдвинул К. Каутский47, более тщательно обрисовывает воздействие социальных условий на психологию различных классов иудейского общества, но тоже считает центральным аспектом проповеди Иисуса ее обращенность к беднякам48. Никольский органично использует аналогии (примерно так, как это делал Ростовцев, эмигрировавший из России в год выхода книги), например, когда поясняет причины популярности Иисуса на примере протопопа Аввакума49. Если книга Каутского была изначально и очевидно марксистской (хотя и не нравилась многим марксистам), то о книге Никольского этого сказать нельзя: она не отмечена желанием всюду проследить и отметить железную руку социально-экономического детерминизма и не отличается критическими выпадами против религии, это достаточно стандартная, без скандальных заявлений позиция историка-атеиста, аналогии которой можно найти и столетие спустя; естественно, в ней нет и следов ссылок на Маркса или Энгельса – это еще не стало модой и тем более фактически обязательным условием. Поэтому вряд ли в этой книге все оценки, как и сам подход, могли понравиться Ленину, но есть указания, что он использовал ее при написании своей статьи «О значении воинствующего материализма» (1922)50, при этом не дал ей отрицательной характеристики, на которые был мастер. Кстати говоря, и со стилистической точки зрения небольшую книгу можно считать лучшей из популярных работ историка.
Большевики на первых порах демократизировали систему высшего образования, и это способствовало открытию новых провинциальных университетов, которые нуждались в ученых кадрах. Привлечь эти кадры из столицы, в том числе хотя бы в качестве совместителей, было тогда сравнительно просто – деньги не стоили ничего, зато в провинции были продукты питания51. В годы Гражданской войны Никольский покидает Москву и в ноябре 1918 г. становится профессором в Смоленском университете52, где, возможно, одно время будет ректором53. А в 1921 г. он начинает работать в Белорусском университете, и если первоначально это был лишь источник дополнительного заработка, то позже, осознав выгоды развивающегося нового университета в столице союзной республики, ученый решился на окончательный переезд. До лета 1922 г. Никольский работал сразу в Смоленске и в Минске54. Конечно, связь с Москвой и тогда не прерывалась, но расстояние всегда имеет значение (особенно в период расстройства дорожного сообщения), а переезд в Минск дополнительно отдалял Никольского от Москвы. В будущем это скажется, например, в том, что Никольский не мог активно и непосредственно участвовать в основных дискуссиях вокруг «азиатского способа производства». Зато в 1925 и 1928 гг. он смог работать в библиотеках и музеях Германии55.
Кроме того, минский период поставил перед историком новые задачи – он начинает заниматься историей Белоруссии, изучением белорусской народной обрядности, начинают выходить его работы на белорусском языке. Как историк религии, Никольский пользуется спросом в издательствах, выпускавших антирелигиозную литературу, пишет он и ряд статей для энциклопедий. При этом акцент его исследований в целом остается на иудаизме и раннем христианстве56, а занятия по истории русской церкви будут увенчаны появлением систематического ее очерка57.
Таким образом, в начале 1930‐х гг. перед Никольским открывались самые широкие перспективы как перед признанным ученым – в 1931 г. он избран академиком АН Белорусской ССР, начиная с 1934 г. заведовал кафедрой истории Древнего мира в Белорусском университете. В это же время Никольский, откликаясь на постановление ЦК ВКП(б) «Об учебниках для начальной и средней школы»58, за несколько месяцев написал учебник по древней истории, который вышел первым изданием в 1933 г.59 – это было настоящее достижение для его автора как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения престижа.
Первый советский школьный учебник по древней истории был, конечно, не лишен недостатков, значительная часть которых объяснялась спешкой при его создании: неповоротливый язык, обильная и сложная для 11–12-летних школьников терминология, сплошной текст, практически лишенный опорных точек для запоминания, облегчающих работу приложений вроде словаря или хронологической таблицы. Пожалуй, можно указать и на то, что в учебнике была освещена история лишь нескольких стран: после первобытности рассказывалось о Египте, Месопотамии, Китае, Греции и Риме60 – список очень скромный, вызывающий вопрос как минимум об Индии. Главное же, что вскоре станет камнем преткновения: описание обществ Греции и Рима как рабовладельческих, а восточных – как феодальных. Никольский, как можно увидеть, высказывал эту точку зрения и раньше, но общеобразовательный учебник предполагает манифестацию не просто позиции конкретного ученого, а взглядов, которые разделяет подавляющая часть ученого сообщества (а в нашем случае – еще и одобряет высший партийный орган).
Именно на этом фоне, когда Никольский стал фактически ответственным за обоснование феодализма на Древнем Востоке, и происходит выступление Струве с его «новой теорией» (так ее позже называл сам Никольский). К сожалению, довоенные бумаги Никольского или связанные с Никольским по большей части погибли во время Великой Отечественной войны, поскольку остались в оккупированном Минске, поэтому мы очень мало знаем о том, какова была первая реакция Никольского на «рабовладельческую концепцию», но если судить по публикациям 1934 г., отнесся он к ней с достаточным вниманием, выступив и против теории в целом, и против ее обоснования в центральном пункте, предполагающем работу с источниками. В июне в Москве Никольский лично слышал повторение доклада Струве, а в середине декабря 1933 г. они прямо противостояли друг другу на заседании Московского отделения ГАИМК, где Никольский выступил с докладом против рабовладельческой концепции61; в принципе, публикации 1934 г. отражают суть аргументов Никольского на тот момент.
Критика струвианской концепции как таковой была дана в журнале «История в средней школе», а потому статья носила нарочито популярное название «К какой общественно-экономической формации принадлежит общество Древнего Востока»; кроме названия, ничего популярного в статье не было. Начав с краткого обзора прошедшей дискуссии, автор указал на то, что попытки доказать наличие на Востоке особой азиатской формации потерпели крушение в ходе дискуссий 1930–1931 гг., поскольку «азиатчики» (то есть сторонники выделения таковой формации) некорректно истолковали труды Маркса, Энгельса, Ленина (и Сталина – теперь ссылки на него появляются у Никольского), допустив ряд принципиальных теоретических ошибок. Выступление Струве критик оценивал как попытку реванша со стороны «азиатчиков»62. И опровержение производил в том же порядке: вначале показывал, что теоретики марксизма отличали восточное рабство от античного и не относили восточную древность к античной формации, а затем утверждал, что исторические факты также не позволяют этого сделать. Рабов в древневосточных обществах было немного, преобладала, кроме нескольких эпох активной завоевательной политики, эксплуатация крестьянства. Поэтому нельзя, вслед за Струве (который к тому времени постепенно корректировал свою позицию), говорить, что на Востоке был своеобразный рабовладельческий строй, поскольку там «уже в III тысячелетии мы находим своеобразный восточный феодализм»63. Наконец, Никольский выступил и против того, чтобы стремиться синхронизировать этапы истории различных древних обществ: «Единство человеческого общественного развития заключается не в том, что все человеческие общества точно по плану в одно и то же время проходят обязательно и в строгой последовательности через определенные этапы общественного развития, – это чисто механическая концепция. Единство человеческого общественного развития заключается в том, что человечество в целом, начав с доклассового первобытно-коммунистического общества, проходит отдельными, хотя и связанными друг с другом отрядами через этапы классового общества, причем отдельные отряды могут на определенных этапах задерживаться и задерживаются долее других или, наоборот, могут перепрыгивать и перепрыгивают через отдельные этапы классового пути…»64.
Уже в первой своей статье Никольский постарался кратко показать, что документальная база концепции Струве – несколько шумерских документов – не только узка, но на самом деле и не подтверждает его тезисов. Вторая статья от 1934 г. – «К вопросу о рабстве на древнем Востоке» – это по преимуществу попытка разгромить противника именно на почве конкретно-исторического исследования65. По мнению Никольского, Струве в лучшем случае удалось показать, что небольшая группа пахарей была занята постоянно в хозяйстве шумерской Уммы, остальные же работники привлекались на ограниченное число дней; в таком случае «ни о какой рабовладельческой латифундии в сводке № 5675 не может быть и речи. 24‐ем рабам противостоят свыше 2000 барщинных людей, к которым надо прибавить еще свыше 600 носильщиков и какое-то число наемников…»66. Но даже эти пахари вряд ли являются рабами – поскольку нет сведений об их довольствии, то логично предположить, что они несли барщину на государственно-храмовое хозяйство, при этом имея также собственное.
Однако дискуссия изначально пошла в неудачном для Никольского направлении. Прежде всего, эффект его статей частично дезавуировался тем фактом, что с ними рядом в тех же номерах печатались и возражения. «Теоретической» статье парировал В. И. Авдиев, в основном с помощью общих рассуждений (что смотрелось даже более выигрышно, учитывая аудиторию журнала)67, ответ же на конкретные возражения последовал от самого Струве и, напротив, был длинный, при этом, как часто бывало у Струве, запутанный в изложении и детальной аргументации, но… тоже более убедительный.
Исследователи творчества Струве хорошо знают, что славы тонкого спорщика за ним точно никогда не значилось. Но в нашем случае Струве проявил себя как опытный полемист. Резкие фразы противника («способ мышления и аргументации проф. Струве надо назвать скорее поэтическим, чем аналитическим»68) он отвел указанием на то, что такой «остро полемический тон» совсем не нужен при обсуждении фундаментального вопроса69, но при этом не преминул кое-где наказать оппонента за его яркую риторику. Где-то он смог проявить уместную скромность – согласившись с тем, что в подсчетах трудодней им была допущена ошибка, указал, что ошибся и Никольский: «К сожалению, и уважаемый рецензент оказался столь же плохим „арифметиком“, как и я»70. Главное же, Струве воспользовался возможностью ответить для того, чтобы дать полную публикацию документа № 5675 и сделать выводы: что упоминание работников «на 1 день» является лишь приемом учета рабочей силы, что речь идет о человеко-днях в современном понимании и что все партии работников были оторванными от средств производства – иными словами, трудились круглый год в крупном хозяйстве, не имея собственной земли, с которой могли бы нести какие-то повинности. И хотя юридически они не были рабами в том же смысле, что в латифундиях Карфагена или Рима, их экономическое положение является рабским71. Даже от краткого освещения взглядов Маркса и Энгельса на проблему Струве здесь уклонился. Никольскому же уже при первых попытках отстоять свою точку зрения приходилось сталкиваться с неудобными вопросами о том, чем же его понимание феодализма на Востоке отличается от концепции однозначно отвергаемого советскими учеными Э. Мейера. «Моя феодальная концепция не от Мейера, никогда меня не пленявшего, но от моих самостоятельных работ»72, – парировал Никольский, но вряд ли это убеждало оппонентов.
Вскоре проблема противостояния феодальной и рабовладельческой концепций перенеслась на другое поле – учебник Никольского оказался под ощутимыми ударами критики как со стороны школьных учителей, так и со стороны специалистов; учитывая то, что в книге объективно было много ошибок, и то, что позиции Струве только укреплялись, решение о существенной переделке учебника было неизбежным. Как автор, Никольский был включен в группу по его редактированию, и он постарался найти компромиссный вариант: на 1934–1935 учебный год была предложена схема, по которой учителя должны были «не читать» и не преподавать из учебника любые теоретические моменты, не употреблять использованную в нем терминологию, применяя его лишь как сборник фактического материала73. В следующем году вышло издание учебника, в редактуре которого, судя по всему, Никольский не участвовал – его текст был взят за основу, но переписан в духе рабовладельческой концепции. Переписал главы по Древнему Востоку Струве74.
Нет поэтому ничего удивительного в том, что Никольский испытывал глубокую антипатию не только к новой концепции, но и к ее автору. Это хорошо видно на материалах переписки 1936–1937 гг. с А. Б. Рановичем (1885–1948), которую Никольский вел ввиду того, что был редактором книги Рановича «Очерк истории древнееврейской религии» (1937). Струве упоминается не только в связи с концепцией, вызвавшей несогласие Никольского, но и вообще как плохой специалист, и это раздражение – глубоко личное75.
Какие факторы могли так раздражать Никольского? Когда жарко споришь, начинает так или иначе интересовать личность оппонента (и редко она предстает в теплых тонах). Наверное, Никольского могло огорчать то, что Струве воспринимался многими как «старый ученый, пришедший к марксизму», ибо здесь все было не вполне точно. «Старым» Струве не был как в буквальном смысле (в начале спора ему сорок пять лет, Никольский был на двенадцать лет старше), так и в смысле содержательном: до революции Струве только начинал свой путь в науке, никаких значимых трудов он не создал (как, собственно, и до конца 1920‐х гг.). Возможно, Никольский, знавший Тураева76, понимал и то, что даже представление о Струве как ученике великого ученого тоже было в значительной мере мифическим – тот никогда не входил в ближний круг сторонников, которых патриарх отечественного востоковедения сам называл своими учениками.
Обращение Струве в марксиста тоже вызывало у Никольского неприятие: начинать осваивать теорию спустя десять лет после установления советской власти не то же самое, что постигать ее за двадцать лет до этого самого установления. Для Никольского трудно было избежать противопоставления искреннего неискреннему, настоящего – вымученному. Концепция Струве неизбежно виделась ему как еще одна «пена дней», рожденная диспутами о способе производства на Востоке, и моду на нее он воспринял первоначально как временную ошибку, общее помутнение разума, иными словами, он не уловил некоторых смыслов тех важных перемен в отношении исторической науки, которые произошли в начале 1930‐х гг., и быстрое восхождение Струве на вершины академической науки воспринималось им скорее как узурпация.
Играло роль и осознание проигрываемой конкуренции. Никольский сам теперь оказывался в роли догоняющего, который был вынужден наблюдать, как документы, некогда изданные его отцом, теперь включаются Струве в его работы в совершенно иной трактовке, как рабовладельческая концепция кладется в основу школьного учебника и университетских курсов, как неприемлемое для него становится общепризнанным.
Главное же, Никольский был вынужден, хотя и с сопротивлением, отступать, причем непросто сказать, какие факторы больше повлияли на изменение его позиции. Как кажется, первоначально, когда он отказался от «чистого» феодализма в древневосточных странах77, это был результат действительных внутренних сомнений, хотя и спровоцированных фактом дискуссии. В письме к Рановичу от 1936 г. это объяснялось так:
Ошибка «феодалов» (и моя), заключалась в том, что они мерили древневосточные общинные отношения меркой развитого западного феодализма, допуская при этом известные натяжки и распространительное толкование некоторых указаний источников. На самом деле «восточный общинный строй» не был феодальным в точном и полном смысле этого слова, как вследствие того, что в нем всегда сохранялось и временами значительно расширялось рабство, так и вследствие того, что на древнем Востоке и в большой части Востока последующих времен общинная форма собственности не переросла в феодальную форму собственности78.
Следующим шагом было уже признание наличия рабовладельческой формации на Востоке, и шаг этот был сделан буквально в следующие годы – в 1937–1938 гг. На мой взгляд, это свидетельствует о внешнем давлении, причем его не нужно понимать в смысле буквального совета от коллег или начальства, просто следует учитывать, что в эти годы люди из учреждений действительно исчезали один за другим. Чистки были сильными и в научных и учебных заведениях Минска, и в Москве. Сейчас можно с достаточной уверенностью утверждать, что они были лишь косвенно связаны с профессиональной позицией ученых, тем более занимавшихся вопросами истории далеких столетий, а кроме того, логики в них было примерно столько же, сколько в охоте на ведьм, но тогда ни истинных масштабов, ни алгоритма действия репрессий не представлял никто. Поэтому каждый думал о том, что он может сделать для того, чтобы избежать опасности. Если смотреть на внешнюю сторону дела, то Никольскому, который в 1937 г. станет директором Института истории АН БССР, ничего не грозило, но, думается, он чувствовал, что и его в любой момент может коснуться неизвестно как разящий меч государственного террора79.
Казалось бы, это отступление уже нельзя было признать тактическим, но Никольский и здесь не готов был смириться. Следует помнить, что при издании его работ многие из его заявлений смягчались или изымались вовсе, особенно те части, которые касались теоретических положений, – об этом отчасти свидетельствует большая неопубликованная рецензия Никольского на очередную переработанную версию «Истории древнего Востока» Струве (которая в итоге выйдет в 1941 г. в качестве университетского учебника)80, где он не стесняется обвинять своего оппонента в тиражировании антимарксистских тезисов81 или прямо называет всю его концепцию путаной и антимарксистской82.
После 1937 г. Никольский находит другой ракурс атаки положений противника: да, Струве был прав, отвергнув феодализм на Древнем Востоке, но он совершенно ошибается, воспринимая рабовладение на Востоке как полный аналог античного рабовладения. Эта ошибка проистекает прежде всего из игнорирования им роли общины, которую Струве считает рано разложившейся, в то время как она была важнейшей составляющей всей древневосточной истории83. Данный тезис Никольского не только оказался удачным в плане критики слабых мест теории Струве (потому что он не был надуман, и здесь даже тот сравнительно редкий случай, когда обвинение в том, что Струве попросту пошел вслед за зарубежными учеными, оказывается справедливым), но и нашел ему достаточно союзников – и Ранович, и Авдиев были только рады указать Струве на необходимость корректировки его концепции.
Таким образом, перед войной Никольский оказался в весьма своеобразной локации с точки зрения выстраивающейся структуры советской науки о древности. С одной стороны, он был сильно оттеснен с позиций начала 1930‐х гг., когда явно претендовал на то, чтобы играть одну из центральных ролей в советском востоковедении. Этому способствовали как объективные недостатки концепции Никольского («раздвоение» древней истории на феодальную и рабовладельческую по географическому признаку не соответствовало целому ряду устанавливающихся принципов сталинского историзма84), так и его неготовность вести спор вокруг конкретных фактов устройства шумерского общества (новые источники, точнее в первые годы всего один источник, в оборот вводил Струве, Никольский лишь реагировал на инициативы оппонента). С другой стороны, за первые пять лет борьбы с противником, поддержка которого все возрастала, Никольский смог, изменив тактику, отстоять свое место в науке, заняв в итоге позицию критика, находящегося, условно говоря, на полупериферии: за ним признавалось право на высказывания, но шлейф проигранной начальной баталии заставлял с осторожностью относиться к его тезисам. Скажем, когда в «Вестнике древней истории» вышла статья к сорокалетию его научной деятельности, то ее автором был И. М. Лурье85, а не куда более признанный Ранович, в то время как последний был и членом редакционной коллегии, и защищал докторскую при консультировании Никольского86. Для многотомника «Всемирной истории», который планировалось издать под эгидой АН СССР, Никольский написал главу по культуре Вавилонии – немного по сравнению с его возможностями в конце 1920‐х гг.87, но не так и плохо, если учитывать, что в томе по Древнему Востоку из шестнадцати авторов было запланировано всего двое не из Ленинграда, «вотчины» Струве88.
Наполеон говорил, что география – это судьба, и для судеб советской науки вскоре оказалось важным, работал ли ученый в Москве, Ленинграде, Киеве или Одессе. Стремительное начало Великой Отечественной войны, катастрофическое для Красной армии, не позволило Никольским вовремя эвакуироваться из Минска – они были вынуждены вернуться в город, поскольку окрестности уже были заняты противником, и в итоге оказались в оккупации. Здесь и проявился с кристальной ясностью его характер. Никольский не стал сотрудничать с оккупационными властями, помогал подполью, а летом 1943 г. был вместе с женой вывезен из Минска в партизанский отряд. Только в марте 1944 г., побывав в трех отрядах89, он был эвакуирован на Большую землю. После смерти жены Веры Николаевны, не выдержавшей военных лишений, он женился на своей бывшей аспирантке Рахили Абрамовне Поссе, у которой был репрессирован первый муж и оставалось трое детей, и в 1945 г. вернулся в Минск для возобновления научной и преподавательской работы. В 1946 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР, одно время обсуждался также и вопрос его переезда в Москву, но, видимо, бытовые условия его в этот раз не устроили90.
В 1945 г. Никольский стал членом компартии91. В оккупированном Минске, а затем в партизанском отряде были дописаны и две монографии Никольского – в некотором роде самый весомый ответ Струве, – которые выйдут из печати в конце 1940‐х гг.: «Этюды по истории финикийских общинных и земледельческих культов» и «Частное землевладение и землепользование в древнем Двуречье»92. Да, можно признать, что последняя из них, как и позднее опубликованная книга о культуре Вавилонии93, представляли скорректированную концепцию Никольского, в которой центральным звеном была, по сути дела, эволюция общины, в завершенном виде. И что самое главное, они предугадали то направление, в котором затем будет развиваться советская историография ближневосточной истории.
Но при этом ни сами книги не дали нужного эффекта (в том числе потому, что вышли в лучшем случае на семь лет позже того времени, когда были актуальны), ни их автор не стал основателем этого нового направления94. Попытка нарисовать другую версию истории древней Месопотамии интересна сама по себе, но ее исполнение было откровенно негодным: стремление Никольского любой ценой изобразить месопотамское общество как такое, в котором общинное землевладение абсолютно преобладало даже в старовавилонский период, а процент частных земель был ничтожен, привело к натяжкам и манипуляциям с данными и документами, которые без труда опознали рецензенты95. Пересмотр свершившейся расстановки сил с помощью работ, созданных по типу общих очерков96, был уже невозможен, возможности прямой критики Струве как антимарксиста – закрыты97, а возрождение критики положений Струве со стороны А. И. Тюменева и позже И. М. Дьяконова было никак не связано с исследованиями Никольского98. Рецензия Дьяконова на книгу о землевладении, пожалуй, даже очень мягка по форме, учитывая те замечания, которые сделаны к содержанию, но по ней вполне видно, что никакие из положительно оцениваемых им моментов в книге Никольского не были открытием для рецензента.
Дело здесь отчасти было в том, что эта новая стадия критики Струве была очень тесно связана с конкретными и уже очень узкоспециальными вопросами изучения именно шумерского общества и шумерской общины, а Никольский шумерологом не был. Если Тюменев, под впечатлением от аргументов Струве, решил проверить их, на десятилетие погрузившись в изучение шумерского языка и источников99, то Никольский этого не сделал; «устарела» и его общая ассириологическая квалификация. Именно поэтому, несмотря на внешний фактор укрепления своих научных позиций, в послевоенное время он уже не влиял на реальные вопросы развития «ядра» по историографии вопроса. Никольский снова проделал специфическое движение: в то время как по занимаемым постам он все более приближался к ядру, его исследования древностей все более деактуализировались.
***
Если Никольский перед войной уже определенно признавал, что «советская историческая наука выдвинула правильное общее положение о рабовладельческом характере древневосточных обществ»100, то Исидор Михайлович Лурье (1903–1958), касаясь частных вопросов, продолжал, пусть и осторожно, формулировать такие тезисы: «то обстоятельство, что случайно сохранившиеся тексты от разных времен (от XIII в., XII в., XI–X вв. и VIII в. до н. э.) совершенно одинаково констатируют дороговизну рабского труда, заставляет думать, что рабский труд не составлял в Египте универсальную основу хозяйства, как, скажем, это было в Греции или Риме»101.
Лурье был египтологом, с 1927 г. и до конца своих дней работал в Эрмитаже, и одним из первых (если вообще не первым) крайне критично отнесся к появлению концепции Струве. Он участвовал в обсуждении доклада Струве в июне 1933 г. в Ленинграде, и его отклик был сугубо негативным102. Как и позже Никольский, Лурье выступил крайне решительно, вызвав основной ответ Струве на себя, и точно так же он обвинял Струве как в конструировании концепции на избранных фактах, так и в недостаточном качестве самих подобранных фактов. Уже Лурье отметил, что Струве предлагает перевод «раб» для целого ряда различных терминов древнеегипетской социальной жизни103.
Лурье родился в Минске, стал коммунистом, абсолютно убежденным – вступил в ряды комсомола в 1919 г., вел подпольную работу во время оккупации Харькова белыми. В 1922 г. поступил в Белорусский университет, начинал учиться у Никольского, но в 1923 г., ввиду интереса к изучению египетского языка, перевелся в Ленинградский университет. Его партийность была не позой и не формой лояльности, что видно на примере его выступления в феврале 1931 г. во время одной из дискуссий об азиатском способе производства: он не только приводит данные источников, которые должны были свидетельствовать о феодальном характере древнеегипетского общества, но и свободно обращается с цитатами из Маркса и Ленина – для него их штудирование уже давно было органичным занятием104. Кажется, он был более наивным человеком, чем Никольский, на которого репрессии 1930‐х гг. произвели тяжелое впечатление и, видимо, зародили зерна сомнений в благотворности режима105.
Кроме того, Исидор Михайлович был один из немногих исследователей раннего периода, кто действительно пробовал реализовать программу исследования истории техники для того, чтобы марксистские положения о связи эволюции средств производства с развитием общественных форм получили фактическую базу, как это было задумано еще при создании ГАИМК106.
Отношения между ним и Струве складывались неоднозначно: академик не блокировал полностью деятельность своего недавнего оппонента, так что в 1946 г. тот защитил докторскую диссертацию, но по факту публиковался по достаточно частным вопросам. Лурье редактировал I том «Всемирной истории» (1955), который вышел уже после войны, с новым авторским коллективом, в который он не был включен. Его единственная монография (если не считать за таковую весьма объемное исследование древней техники) вышла только после его смерти, с предисловием М. Э. Матье (1899–1966), его второй жены. Монография основана на докторской диссертации, в ней определенно говорится о заслуге Струве, который «первым правильно определил общественные отношения стран Древнего Востока как рабовладельческие»107. И опять, судя по всему, признание это прошло с большим эффектом самоубеждения: по крайней мере, когда Лурье определяет сословие немху как «промежуточный класс мелких и средних рабовладельцев»108, это скорее говорит о том, что он целиком усваивает «рабовладельческий» ракурс понимания древности, чем чисто формально воспроизводит его.
Внешне аналогий со сложной траекторией научного статуса Никольского в примере с И. М. Лурье кажется немного: отличаются они возрастом, сферой интересов, степенью творческой реализации, наконец, как уже отмечалось, и географией. Но важен не только набор отдельных характеристик, но и характерные черты внутреннего пути: искреннее выполнение тех задач, которые казались насущно необходимыми для ранней советской историографии, неготовность следовать за изменившейся модой и стремление отстаивать свое понимание истории даже в неблагоприятной ситуации109.
ГЛАВА 3
ШТУРМ НЕБА
Первый листок в личном деле Бориса Леонидовича Богаевского (1882–1942) в Архиве Российской академии наук – это всего лишь небольшая справка: «Представленный кандидат в члены-корреспонденты Академии Наук СССР по Отделению Истории и Философии Богаевский Борис Леонидович Отделением Общественных Наук АН СССР 20/I–39 г. не избран. Академик-Секретарь ООН АН СССР А. М. Деборин»110. Наверное, иногда лучше не баллотироваться вовсе, чем получить отказ после того, как прошел все предварительные процедуры – именно осознание этого придает поражению особую горечь. Впрочем, Богаевский был таким человеком, к которому большинство знакомых вовсе не были настроены сочувственно.
Богаевский учился в Петербурге в те годы, которые некоторые исследователи считают расцветом русского антиковедения111, а тогда это, вероятно, казалось только началом ожидающегося гораздо большего подъема. Русская антиковедческая наука вполне осваивает достижения мировой, а лучшие студенты, оставленные по окончании университета для приготовления к профессорскому званию, получают заграничные командировки для работы в библиотеках и для ознакомления с результатами археологических раскопок в Греции, Италии и других регионах. Собственная античность на Юге России также изучается со все большей тщательностью. Наконец, начинается и новая волна переводов древних авторов на русский язык, что должно было способствовать росту доступности лучших образцов литературы, повышать интерес к древней истории и делать его более глубоким.
Отец Богаевского, Леонид Григорьевич (1858–1911), был известным химиком, не только практиком (создал проекты маслобойных и свечных заводов, впервые в России ввел химическое беление воска), но и преподавателем, профессором Петербургского технологического института (с 1899 г.). Богаевский-старший происходил из дворянского рода Харьковской губернии и вначале выучился на конно-артиллериста, участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг., был награжден за храбрость орденом Св. Анны 4-й степени (орден носился на холодном оружии). В дальнейшем он почти полностью посвятил себя химии и при этом дослужился до многих наград и чина действительного статского советника – точно так же, как М. В. Никольский112. Так что когда много позже в советских анкетах сын писал, что члены его семьи «недвижимого имущества, капиталов и земли не имели»113, это вызывает некоторые сомнения.
Л. Г. Богаевский был женат дважды, и у него было двое сыновей и три дочери. Борис был первенцем114, его мать умерла в 1887 г., так что в дальнейшем он воспитывался мачехой. В 1902 г., после обучения в 10‐й классической гимназии, он поступает в университет, на классическое отделение историко-филологического факультета, а после его окончания с отличием в 1907 г. был оставлен для подготовки к профессорскому званию и вскоре командирован за границу. Впервые молодой Богаевский побывал за пределами России еще во время обучения в университете: в 1902–1903 гг. он был в Геттингене, в 1905 г. посещал библиотеки и музеи Швейцарии, Франции и Германии115 – и это еще до командировки от университета, то есть, надо полагать, на средства семьи. После – длительная командировка в Европу. В автобиографии Богаевский так охарактеризовал эти три года:
Работал главным образом в Германии (Гейдельберг, Мюнхен, Берлин), в Италии, а также в Греции, в частности, на о. Крите, где пробыл свыше одного года. В Италии и Греции использовал живой этнографический источник, собирая материалы по фольклору и современному земледелию116.
Он хорошо знал греческий и латынь, а также французский и немецкий – вполне стандартный набор для классициста начала прошлого века; слабо – английский, итальянский и новогреческий; украинский, скорее всего, был им освоен позже117.
Читателя может удивить – при чем тут «живой этнографический источник», когда речь идет о филологе-классике? Тут, конечно, следует помнить, что анкета и автобиография составлялись в 1930‐е гг., и Богаевский рассказывал прошлое так, чтобы оно не могло навредить настоящему (потому-то о реально высоком статусе отца он умалчивал) и могло помочь ему в достижении его целей – поэтому он аккуратно намекает на материалистические тенденции в своей ранней научной деятельности. Так вот, «живой источник» в его рассказе – это правда, а материалистическая тенденция – нет.
Богаевский из двух самых ярких на тот момент петербургских филологов-классиков выбрал Ф. Ф. Зелинского. Перед Ростовцевым он, правда, тоже всегда трепетал и заискивал118, советовался и с С. А. Жебелёвым, но заниматься решил все же земледельческими культами в Аттике. В том самом трехлетнем путешествии он почти девять месяцев прожил в Афинах, причем не только сидел в городе, но и путешествовал по самой Аттике, в том числе пешком119, и это было во многом как раз воплощение тех новых методологических идей, которые внушили ему его учителя. Зелинский был ницшеанцем, в некоторой мере неокантианцем, и дополнение классической филологической работы с письменными источниками установлением внутренней связи между исследователем и объектом исследования было частью его программы изучения древних религий. Ростовцев, при умеренном интересе к неокантианству и некотором скепсисе по отношению к позитивистским установкам познаваемости мира, был близок кружку «фактологов» Ф. Ф. Соколова и вообще был сторонником личного знакомства с той страной и местностью, историю которой изучает ученый. Наблюдая за природой Аттики и земледельческими обычаями современных ему греческих крестьян, Богаевский находил в них параллели (а иногда отыскивал параллели и в земледельческих культах и обрядах других народов) и на этих опорах строил свое исследование120. А кроме всего прочего, детали современной греческой жизни надолго отпечатались в его памяти121.
Сочетание обзора микроклимата и почв Аттики (впрочем, довольно поверхностного)122 с разбором доступных источников о религиозных взглядах земледельца нельзя назвать вовсе неудачным, особенно с поправкой на время написания, – хотя ни смелости построений Зелинского, ни дотошности в знании первоисточников Ростовцева Богаевскому достичь не удалось. В целом он остался на зыбкой грани выбора между анализом идей и источников, иногда формулируя свое понимание вполне осторожно (хотя потому и тривиально): «Мир явлений природы, не переставая оставаться действительным, отражался в сознании земледельца в форме религиозной действительности…»123. Время от времени проявляется и более лирическое настроение, указывающее на действительные следы «вживания» в предмет исследования:
Стараясь понять религиозные представления афинского земледельца, иногда начинаешь чувствовать учение Платона о мире идей, и становится яснее, почему в Греции и именно в светлой и приветливой Аттике создалось это поэтическое философское учение. Грек, привыкая отражать в своем сознании образы внешней природы и помещая в нее свои мысли и чувства, легко мог допустить, что существовал мировой эфир, в котором жили вечные идеи, отражения которых он видел в вещах вокруг себя124.
Как нетрудно заметить, в работах молодого Богаевского не было еще большой самостоятельности, но качества научной школы, усвоенной в университете, видны прекрасно. После смерти отца в марте 1911 г. Богаевский начинает преподавать, до 1916 г., когда он защитит диссертацию, он работал на Высших курсах Лесгафта, в Психоневрологическом институте и в женской гимназии М. Н. Стоюниной125. Женился на дочери инженера путей сообщения Ольге Эдуардовне Леман, увлекавшейся живописью, у них родилась дочь Ольга (1914–2000), впоследствии художница. После защиты диссертации он стал приват-доцентом (то есть мог преподавать в университете не на постоянной основе), а затем был определен в открытое в октябре того же года отделение Петроградского университета в Перми «для организации преподавания истории античной Греции, античной литературы и искусства»126 и фактически исполнял обязанности профессора, то есть, в терминологии тех лет, постоянного сотрудника. В Перми, видимо, он встретил и год революций127, в ходе которого Временное правительство превратило пермское отделение в самостоятельный университет.
Университет после второго переворота начал стагнировать, а Богаевский был одним из тех, кто участвовал в организации в Перми Дома народного просвещения. В конце декабря 1918 г. в город вошли части белой Сибирской армии. Но уже летом 1919 г. ситуация осложнилась, и 1 июля красные вернулись в Пермь. Богаевский вместе с семьей отбыл в Томск – он позже утверждал, что белые эвакуировали его безо всякого желания с его стороны. В Томске Богаевский стал работать в университете, затем с 1920 по 1922 г. был его ректором. С догнавшей его советской властью он состоял во вполне нормальных и даже деловых отношениях, добиваясь финансирования для университета, но в 1922 г. был закрыт факультет общественных наук, и это, видимо, подтолкнуло Богаевского к возвращению в Петроград128. Здесь он начинает работать в Археологическом институте при Ленинградском университете, станет сотрудником ГАИМК, несколько лет будет занимать в университете важные административные посты.
Богаевский стремится вписаться в новую жизнь и, вероятно, его активности в этом направлении способствует как желание обустроить семью (на иждивении у него находились жена, дочь и теща129, а от былого благополучия, конечно, не осталось и следа), так и страх за свое социальное происхождение и за факты своей биографии. Слух, бытовавший в академической среде, будто он писал для колчаковцев антисемитские (читай: антибольшевистские) листовки130, подтвердить сложно, но и без него оснований для подозрения было вполне достаточно: волей или неволей Богаевский не только уехал в белый Томск, но и вполне спокойно там работал до прихода красных, кроме того, Павел и Анна, его единокровные брат и сестра, в 1919 или 1920 г. эмигрировали из России на остров Ява; сам Богаевский признавал, что Павел, возможно, служил у Колчака131. Надо думать, Богаевский рассказывал о брате меньше, чем мог знать на самом деле – на Яву эвакуировались белые из Владивостока.
Поэтому нужно было идти теми путями, которые позволили бы показать лояльность режиму. В Ленинградском университете Богаевский активно поддерживает администрацию в противостоянии со «старыми» профессорами, становится проректором по студенческим делам. Как говорил бывший в 1927–1930 гг. ректором М. В. Серебряков (1879–1959): «Борис Леонидович был моим смелым помощником по борьбе с тогдашней профессурой, а борьба была упорной и суровой и требовала чрезвычайной деликатности и осторожности»132. Обычно бытующие в научном сообществе слухи о деятельности доносчиков трудно подтвердить документально (хотя свидетельства пострадавших тоже весомый аргумент). Но в случае с Богаевским даже это оказывается проще: в эпоху, когда люди гордились тем, чем гордиться не следовало, он сам откровенно сообщал о своих действиях:
В университете вел решительную борьбу против чуждого советскому студенчеству элемента и упорно боролся против сильных еще тогда остатков правой профессуры. На цикле древнего мира я занимал непримиримую позицию против лжеученых вроде доц. Гриневича, который был выслан. Я вовремя сигнализировал о реакционном направлении доц. Боровко и добился его отчисления от факультета. Вскоре Боровко был арестован и выслан133.
В научной деятельности был выбран путь, опробированный многими, – идти в фарватере представителя «старой» науки, который оказался в фаворе у советской власти. Зелинский и Ростовцев из России уехали – один работал в Польше, другой после скитаний по Европе перебрался в США, Жебелёв в течение 1920‐х гг. оставался персоной для властей неприятной. Поэтому лидером «старых» историков, которые были готовы сотрудничать, стал академик Н. Я. Марр (1865–1934), и с лета 1922 г. Богаевский начинает следовать в русле его теории134.
Марр был явлением совершенно своеобразным, и поэтому здесь о нем возможно сказать лишь в нескольких словах. Сын шотландца и грузинки, обладавший бешеным темпераментом и сумасшедшим кругозором, лингвист с особым интересом к языкам Кавказа, он сам порвал со «старой» наукой, отвергнув теорию языковых семей, и в течение 1920‐х гг. в несколько этапов создал собственное «новое учение о языке», «яфетическую теорию», которая исходила из того, что языковые семьи суть не отдельные ветви, вольно растущие параллельно друг другу, а свидетельства разных стадий общественного развития. Таким образом неизбежно следовал вывод, что все языки мира развиваются по мере развития социумов их носителей и рано или поздно придут к одной стадии общего языка, ближе всех к которой находятся языке прометеидские (новое название для отвергнутой Марром индоевропейской группы языков). Более того, языки и вышли из одних и тех же условий – из «кинетической речи» (языка жестов) и четырех начальных звуковых элементов, на которые можно разложить любое слово (сал, бер, рош, ион)135. В конце 1920‐х гг. усилиями союзников Марра, в частности С. И. Ковалева, марризм был определен как материалистическое учение, которое является частью марксизма136. До самого 1950 г., когда Сталин даст критику марристских идей, эта своеобразная, нестройная, во многих аспектах даже не имеющая минимальных доказательств теория считалась новым советским мейнстримом.
Мог ли Богаевский, с его подготовкой филолога-классика, относиться к марризму всерьез? Сложно сказать, но все косвенные свидетельства указывают на то, что он даже не колебался в этом вопросе – настолько последовательным и даже горячим сторонником теории он стремился себя показать. Более того, дело не только в декларациях – в последующих работах очень ясно прослеживается то, что Богаевский строил свою концепцию с учетом базовых положений марризма, уже в середине 1920‐х гг. он прилагает усилия для преподавания яфетидологии студентам137. Самые смелые из марровских тезисов Богаевский, конечно, не использовал, но свою приверженность новому учению постарался эксплуатировать максимально.
Действительно, чтобы получить возможность поехать в командировку за рубеж, нужно было как минимум не вызывать подозрений у советских партийных органов, которые так или иначе имели представление о прошлом Богаевского. Надо думать, одного заступничества Марра тут было бы недостаточно (хотя его имя и рекомендации сильно помогали преодолеть уже сформировавшуюся неповоротливость советской бюрократии138), и сыграла роль готовность Богаевского громить «старую профессуру». В 1927 и 1928 гг., спустя более чем полтора десятилетия после прежних поездок, Богаевский снова окажется за границей, участвуя в конференциях и работая в библиотеках в Польше, Германии, Австрии, Венгрии, Швеции, Норвегии и Дании139. Он даже был включен в делегацию, представлявшую советских ученых на Международном историческом конгрессе в Осло в августе 1928 г.
Там и состоялась его личная встреча с Ростовцевым, который кратко описал ее в письме другому эмигранту А. А. Васильеву. Сюжет этот уже неоднократно воспроизведен в исследовательской литературе, тем не менее от него нельзя уклониться, настолько он показателен.
Разговор начал Богаевский, подойдя к Ростовцеву в кулуарах съезда:
– Вы меня презираете, Михаил Иванович?
– Не будем употреблять громких слов. Удивляюсь, как вы говорите такие марксистские глупости в ваших докладах.
– Верьте, Михаил Иванович, что мы все вас любим по-прежнему140.
Ростовцев был не просто одним из учителей Богаевского. Он был антибольшевиком, который не скрывал своих взглядов и последовательно критиковал советскую науку за замену научной методологии единственной теорией, которую больше не нужно доказывать. Кроме того, он был историком, который добился в эмиграции настоящего успеха, и даже с этой точки зрения оставался в Союзе недостижимым образцом для одних и объектом вполне искренней злобы для других.
Богаевский, как несложно заметить, не злится и идет на разговор с Ростовцевым, отлично зная, что его ждет унижение, – и поэтому первый начинает с самоуничижения. Кроме того, он рискует этим разговором – даже если предварительно осмотрелся, все равно остаются шансы, что коллеги по делегации увидят, к кому он подходил141. Почему же он все-таки подошел? Это великая тайна циников – они испытывают те же чувства, что и другие люди. Богаевский тосковал по прошлому и хотел сообщить Ростовцеву, что его ученики в России помнят о нем. Был уже не 1915 г., не было никакого смысла выглядеть хорошо в глазах Ростовцева. Так что это был какой-то внутренний импульс142.
Ради чего все это, кроме понятной заботы о пропитании семьи? Конечно, ради возвращения в науку. После защиты магистерской Богаевский не публиковался вплоть до 1924 г. – семилетний перерыв, пришедшийся на тот самый период около тридцати лет, в который предыдущее поколение создавало себе имя в науке, а последнее дореволюционное поколение этого сделать не успело и ему теперь нужно было все это наверстать. Но прежние темы больше не были актуальны, следовало браться за что-то другое, причем с учетом участия в работе Яфетидологического института (на первых порах – фактически кружка, возглавляемого Марром).
Как справедливо отметила Н. В. Брагинская, конец 1920‐х гг. – время активнейшей научно-административной деятельности Богаевского. Он обладал буквально даром подражания тем людям, на которых ориентировался в данный конкретный момент, и этим можно объяснить то, что он, вслед за сформировавшим яфетидологию Марром, выдвигает что-то вроде поднауки – десмотики; как определяет ее современный автор, науки по «„увязыванию“, говоря нашим языком, по „междисциплинарщине“»143. В Яфетическом институте и вообще вокруг Марра сложилась атмосфера постоянных интриг, борьбы за ставки и влияние, и Богаевский в этом участвовал, о чем свидетельствуют его письма к Марру144. Научное здесь уже слишком тесно переплеталось с материальным, а конкуренция шла в основном между теми, кто был готов к внедрению «больших» теорий и использованию данных из разных дисциплинарных полей145.
Поэтому Богаевский начинает специализироваться на археологии (что было весьма специфично, поскольку он никогда не работал в поле) и на сравнительном анализе культур поздней первобытности. Здесь он вовсе не был специалистом, но его спасали эрудиция, крайне широкое поле исследований – от Триполья до Китая, продвижение марризма и знакомство с новейшей европейской литературой, которого он смог достичь во время своих командировок 1927–1928 гг. Все это должно было идти в направлении приближения к марксизму, поэтому и здесь Богаевский в целом прошел по тому плану, который первоначально намечался для становления марксистской советской науки, но мало кем был в реальности выполнен: от познания материальной культуры (техники первобытного общества) к построению теории общественных форм.
В названном обширном поле работы была одна область, которая со временем стала играть по сути главную роль в научных интересах героя этой главы. Это был Крит и его минойский период, тогда уже возведенный А. Дж. Эвансом до уровня открытия мирового значения. Конечно, пребывание Богаевского в свое время на Крите уже заложило зерна его интереса к теме, но нужен был внешний импульс, который бы воплотил это в конкретных трудах.
Вероятно, этим импульсом стала готовность издательств выпускать книги с обзорами новых исследований о минойской культуре. Еще перед войной был опубликован перевод первого издания «Доисторической Греции» Р. фон Лихтенберга146, насыщенной данными, но весьма тенденциозной работы, автор которой проводил идеи извечного преобладания северной расы. Уже в сумерках начавшейся бури вышел для тех лет вполне удовлетворительный обзор В. П. Бузескула147, но с тех пор ситуация изменилась – в 1921 г. выходит первый том фундаментального «Дворца Миноса» Эванса, и эти данные, как и другие новые публикации, следовало учесть. Один из новых обзоров создал А. А. Захаров (1884–1937), который для этого специально написал Эвансу и получил от того том недавнего научного бестселлера148. Второй же обзор, вышедший в том же 1924 г., принадлежал Богаевскому.
Следует отметить, что в этой книге почти нет следов новой эпохи (кроме не вполне к месту выраженного почтения перед Марром149), стиль ее и общее исполнение вполне в духе дореволюционных работ автора. Богаевский увлеченно проводит параллели, причем с царским временем: «Поражает удивительное сходство костюма критских дам за четыре тысячи лет тому назад с современными европейскими, бывшими еще недавно в моде платьями»150. Сама культура рисуется как уникальное явление равновесия мужского начала, представленного на вершине общества правителем, и начала женского, в виде разделявшей власть с вождем великой жрицы. Но главное, в книге нет следов материалистических воззрений: так, автор отмечает, что «интенсивная деятельность, создающая памятники материальной культуры, возможна, конечно, только при соответствующей высокой духовной культуре»151, а кроме того, практически персонализирует историю, обозначая ее с прописной буквы152. Можно, конечно, обратить внимание на то, что у Богаевского упомянуты замки и князья, но если это и можно назвать теорией о феодализме в Древнем мире, то скорее уж в мейеровском, чем в марксистском исполнении.
Видение истории, а заодно и стиль начинают меняться у Богаевского только во второй половине 1920‐х гг., хотя и здесь он постепенно отыскивал нужные мотивы – ведь и язык советской историографии еще не был сформирован, и писательские привычки изменить непросто. Так что здесь еще одно свидетельство того, что историю нашей науки нельзя рассказывать в простейшем измерении: «встал на путь марксизма, начал писать по-новому». Безусловно талантливый хамелеон, Богаевский должен был прикладывать заметные усилия, чтобы ориентироваться в меняющихся сигналах, которые подавала система в конце 1920‐х – середине 1930‐х гг.
Проведенная им над собой работа включала несколько важнейших составляющих: изменение отношения к зарубежной науке, освоение наследия Маркса, Энгельса и Ленина и связанная с этим трансформация взгляда на движущие силы и характер исторического процесса, отказ от прежней образности и появление большего количества речевых штампов в научных трудах.
В конце 1920‐х гг., вероятно, еще оставалась надежда на то, что лояльность советской власти и приближение своих взглядов к марксизму (через яфетидологию) позволят сохранить и контакты с зарубежными коллегами, и несколько скорректированный, но в целом прежний стиль исторического нарратива. Богаевский, как и было сказано выше, стал размышлять о ходе исторических событий более широко и более смело, но приверженность марксизму для него пока реализовывалась скорее в виде заявки на будущее применение: он уважительно и чуть-чуть со стороны говорит о нем как об «учении о синтезе», с которым встретилась тоже пришедшая по мере своего развития к синтезу яфетидология; те же зарубежные ученые, которые стремятся к синтезу, заслуживают пристального внимания со стороны марксистов153. Работы Марра получают статус «руководящих»154. И еще одна деталь: в публикациях 1928–1929 гг. видно, как Богаевский гордится результатами своих поездок за рубеж и тем, что ему удалось пообщаться с целым рядом своих успешных коллег155.
В плане теории в эти годы Богаевский усиленно пытается воплотить идеи Марра в связной периодизации истории первобытного общества, при этом все более последовательно отрицая решающую роль миграций, а в более конкретном вопросе об эгейской цивилизации поступает гораздо проще: первобытность здесь у него переходит в феодализм, характеристики которого оказываются достаточно размытыми, хотя они уже вписываются именно в марксистское понимание феодализма; ранний феодализм Египта и Крита он признает «своеобразным»156. Правда, он прилагает известные усилия, чтобы показать, как феодализм на Крите и в Микенах развивался исходя из «процесса материального производства непосредственной жизни общества», но пока движущие силы оказывались лишь отдаленно марксистскими: развитие феодализма на Крите было прервано ударом Микен, а рост феодализма в Микенах был остановлен «резкими социальными противоречиями, обнаружившимися между владетелями богатых и укрепленных „бургов“ и мелкими земледельцами, а также ремесленным и торговым населением городов»157. Начинает он ссылаться и на классиков теории, хотя некоторая неуверенность, вероятно, показывает, что он только начинал их штудировать приблизительно с 1927 г. При этом, познавая марксизм, он применяет еще довольно своеобразные термины: «явления мутационного порядка имеют очень крупное значение в области социально-экономических отношений»158, в целом подразумевая под мутацией социальную революцию.
Наконец, и образность Богаевского, которая апеллировала к восприятию истории как аналога природного явления (в более раннем варианте – еще и обладающего неким непостижимым для нас сознанием), пока считается им самим допустимой и уместной. В 1924 г. он сравнивал формирование сознания современного человека с результатами работы быстрой реки (подразумевалось – истории), которая «в полноводном своем течении несет отмываемые от берегов частицы земли и отлагает их, образуя в продолжении многих веков мощные наслоения»159. В докладе 1927 г. образ еще сохраняется, но в нем становится меньше эволюционности и больше резких преобразований:
В заключение, возвращаясь к нашей теме, мы можем сказать, прибегая к языку образов и сравнений, что, при смене одной эпохи другой, происходила как бы своего рода подвижка льда. Назревшие экономические причины подготовляли ледоход, и социальный поток уносил отдельные, переставшие удовлетворять общественные потребности человека, обломки «старой» культуры в тот великий океан общественной жизни, где мутационно возникали новые формы культурной жизни160.
Это та стратегия, на которую первоначально пошли историки, осознавшие сотрудничество с советской властью неизбежным, и которая на протяжении шести или семи лет казалась (точнее, при большом желании могла показаться) чем-то вроде осознанной двусторонней сделки – достаточно вспомнить, что в 1927 г. Марр мог позволить себе говорить о «встрече» яфетической теории с марксизмом161, а в 1928 г. даже заявлять о необходимости корректировки гипотезы Энгельса «о возникновении классов в результате разложения родового строя»162. Но в начале 1930‐х гг. такая стратегия быстро начинает осознаваться как недопустимая, по крайней мере для менее влиятельных ученых, чем Марр. Более того, создается впечатление, что Богаевский осознал недостаточность поддержки со стороны Марра и начал искать дополнительную точку опоры – которую обрел в виде Н. И. Бухарина, одного из ведущих теоретиков марксизма в первые полтора десятилетия советской власти.
Как и В. В. Струве, поиски которым корректного с точки зрения марксистской теории определения общественного строя Древнего Востока привели его к необходимости отказаться от «феодальной» версии и провозгласить правильным (и необычным для большинства) ответом рабовладение, так и Богаевский практически в то же самое время приходит к своему главному научному откровению – он осознает, что крито-микенское общество было не феодальным или рабовладельческим, а позднепервобытным, до- или предгосударственным.
В 1933 г. в сборнике в честь 50-летия смерти Маркса под редакцией академиков Деборина и Бухарина выходит его большая статья «Первобытно-коммунистический способ производства на Крите и в Микенах», которая открывает действительно новый этап его творчества. После первой, предварительной отсылки к авторитету Маркса, Энгельса и Ленина, начало статьи посвящается критике и отвержению предшествующей научной традиции, как зарубежной, так и советской (включая и умеренную самокритику163).
Главный пункт этой критики является, нужно признать, оригинальной находкой самого Богаевского, тем самым озарением, которое и позволило ему предложить новую теорию и которое тонко откликается на формирующийся скепсис по отношению к «буржуазным» ученым. Признавая огромный вклад Эванса в дело исследования Крита, советский историк замечает, что в деле обобщения полученного массива данных Эванс и все другие исследователи (зарубежные, а следом и отечественные) пользовались «методом непосредственных впечатлений»164, который, вообще говоря, не доказателен. Крупное здание автоматически ассоциируется с дворцом, которым, конечно, должен владеть царь, – естественно, легендарный Минос. «Эванс не может даже допустить мысли о том, что крупными сооружениями и предметами из драгоценного материала мог пользоваться смертный, который не был царем милостью бога с царским наследником, окруженный пышным двором и опытной бюрократией»165.
Эта критика резюмируется хорошо знакомым всем, кто читал советские исторические труды, выводом о том, что превосходное знание материала и отдельные прозорливые наблюдения не спасают западную науку от бессилия в действительно сложных вопросах (прежний Богаевский написал бы тут о синтезе, но теперь он уже знал, что это слово не вошло в базовый лексикон советской историографии). Зато есть Маркс, который смог связать «грека архаической Греции с современным ирокезом»166. Далее помещены также выписки из Ленина, долженствующие легитимировать методику Богаевского как материалистическую, что приводит к совершенно логичному (и в будущем совершенно банальному) тезису: «Очевидно, что основным и главнейшим вопросом является для нас определение способа производства, господствовавшего на Крите и в Микенах, и соответствующих ему отношений производства и обмена»167.
Итак, теперь перед нами вполне безусловный марксист. Какие же открытия он несет читателям? Видимо, ядром «озарения» для Богаевского был иной взгляд на сам Кносский дворец – когда он задался вопросом, является ли размер и даже качество постройки безусловным доводом в пользу классового общества168. Дольмены и кромлехи были сооружены первобытными людьми и при этом передвигались гораздо более тяжелые каменные блоки, чем при сооружении критских зданий. Сам же тип планировки «дворца», по мнению Богаевского, свидетельствует о том, что это была старинная традиция расположения родового поселка169, так называемый «тронный зал» – небольшая комната для собраний170. В описании этого родового общества Богаевский выделяет этапы, стараясь и здесь находить соответствия у «классиков»: так, помня о роли развития скотоводства в становлении личной собственности, которую подчеркивал Энгельс, он рассказывает о том, как на Крите ловили и приручали быков171, а это способствовало возрастанию роли мужчин172.
Теперь уже исследователь понимал, что объяснение остановки в развитии Крита микенским вторжением будет противоречить как марристским, так и марксистским идеям, и поэтому объяснял ее тем, что возможности производства на Крите были слабы и в дальнейшем развитие было больше связано с лучше развитыми производительными силами юга материковой Греции173. Микенское общество уже подходит к грани появления классов, когда «меньшинство начинало чувствовать себя уже классом, в то время как масса, уже становившаяся тоже классом, еще этого нового своего общественного состояния отчетливо не сознавала»174, но для действительной подготовки этого перехода к рабовладению понадобился еще следующий исторический период гомеровского времени.
В дальнейшем Богаевский получил возможность более подробно развернуть свою концепцию – не только в статьях по отдельным вопросам истории крито-микенского общества, но отчасти также в солидном томе «Техника первобытно-коммунистического общества» (1936) и в большой главе в одном из томов «Истории древнего мира» (1937) – проекте, который был задуман в ГАИМК как часть многотомной «Всемирной истории». Это пик его публикационной активности, сопровождающийся и большим количеством подготовленных к печати рукописей175. Его аргументация выдвинутой концепции становится более богатой, но в то же время более ясно выступают и ее коренные изъяны.
А. И. Тюменев в рецензии на сданную в печать, но так и не опубликованную «Грецию до греков» отмечал, что можно высказывать претензии буквально к каждой странице этой работы176. Зная Тюменева, несложно предсказать, что он бы вправду мог так сделать, но и без частных недостатков в концепции Богаевского хватает провисающих моментов.
Прежде всего следует сказать об анализе архитектуры. Размеры построек, в самом деле, не являются решающим доводом, важнее определить функциональную значимость помещений, но попытка доказать, что архитектура Кносского или Фестского дворца объясняется исключительно из стратиграфии родовых поселков, совершенно неубедительна177. До самопародии этот прием доходит при описании цитадели Тиринфа, где явное отделение дворцовых помещений от другой части поселения упрямо продолжает переводиться в термины позднеродового общества178.
Богаевский действительно постарался для того, чтобы приспособить хронологию Эванса к этапам развития первобытной общины. Но в итоге у него получилась изнуряюще долгая история конца первобытности. Уже описание самим же автором среднеминойского периода наводит на мысль о скором возникновении ранних государственных форм179. Но они не возникают, как не возникают и позже, и даже микенское время, которое характеризуется как социально конфликтное, приводит к догосударственному гомеровскому периоду. Неудобные факты или наблюдения маскируются с помощью модификации терминологии: «В Микенах начинает образовываться „первобытная“, или „родовая“ аристократия»180. Кносс и Фест – это не столицы, а родовые поселки во главе союзов племен Крита181.
Отдельные детали при этом могут слишком уж выпирать из сколоченной конструкции:
Знаменитые купольные гробницы Микен, в том числе наиболее великолепная из них, так называемая «Сокровищница Атрея», были украшены по всему своду, как известно, бронзовыми, позолоченными розетками, прибитыми бронзовыми гвоздями. На изготовление этих розеток должна была быть употреблена довольно значительная масса меди и олова и, кроме того, розетки и гвозди в большом количестве были изготовлены по одному и тому же образцу – следовательно, для наиболее важных членов ведущего рода должны были работать в условиях домашнего ремесла члены других, малых и значительно более бедных родов182.
Возникает подозрение, что даже в случае обнаружения следов фабричного производства автор смог бы интерпретировать эти данные в удобном для себя ключе.
Правда, можно отметить интересную находку в плане защиты концепции с помощью трактовки Маркса: в одной из своих работ Богаевский определяет период 1500–1000 гг. до н. э. в ряде регионов (долина Инда, Китай, Микены и Крит, Этрурия) как «время становления складывавшейся ранней классовой борьбы в условиях образования особых, но еще не противоположных, т. е. не антагонистических классов, когда укреплявшаяся в своем значении семья выступала против начавшего препятствовать ее развитию рода»183. К этому отрывку дана сноска на примечание Энгельса к переизданию «Манифеста Коммунистической партии» от 1888 г.: «С разложением этой первобытной общины начинается расслоение общества на особые и в конце концов антагонистические классы»184.
Но это в любом случае сомнительное завоевание, которое может придать уверенности в построениях вопреки их слабой фактической базе. Показательным примером является одна из рецензий Богаевского на книгу-отчет полевого археолога. Опираясь исключительно на данные из этой же книги и свои собственные идеи, он дает полностью иную интерпретацию результатов раскопок зарубежного исследователя185.
Само собой, все это уже тогда вызывало достаточно критическое отношение, но Богаевский старался создать вокруг себя точки опоры, примыкая теперь к Бухарину, сотрудничая со своим учеником (который после станет деканом факультета истории и теории искусств Всесоюзной академии художеств) А. Н. Дальским, поддерживая В. В. Струве. Отношение к коллегам, которые были ниже его статусом, было совсем иное. О. М. Фрейденберг рассказывала о конце 1920‐х гг.:
Познакомившись со мной, он откровенно мне сказал, что до сих пор игнорировал меня, как креатуру Жебелёва, своего антипода; но, если я пожелаю с ним работать и получить научную близость к нему, он меня примет на определенных условиях. И тут же цинично выговорил эти условия: я должна три года работать на него. Эту благородную черту я знала за Богаевским и раньше: он имел приближенных, еще не вышедших в свет молодых научных работников, которых эксплуатировал вплоть до удержанья их жалованья (двое из них подавали на него в третейский суд, если не ошибаюсь, Пассек и Латынин), а он зато рекламировал и продвигал их по выслуге лет186.
Нужно думать, со временем эти черты могли только усилиться.
В середине 1930‐х гг. концепция получила частичное признание – ее с оговорками поддержали Тюменев (который считал неправильным отрицать дорийское завоевание) и Н. М. Никольский – оба говорили о наибольшей вероятности понимания крито-микенского общества как позднеродового187.
Вскоре внешняя ситуация для Богаевского резко ухудшилась. Уже в 1936 г. тучи первый раз сгустились над Бухариным, а в феврале 1937 г. он был арестован и 15 марта – расстрелян. В личном деле Богаевского в ЛОИИ в тот же год или вскоре после появилась приписка, сделанная неизвестной, но считавшей себя вправе рукой: «Был на территории белых у Колчака. Ряд его работ сопровождался предисловием Бухарина. Был связан с врагами народа Пальвадером188 и Канатчиковым189. Брат его белоэмигрант»190.
Конечно, приписку эту вряд ли видел сам Богаевский или большинство из его коллег, но ситуация и так была понятной. Критика могла теперь поднять голову. С резким докладом против работ по первобытности выступил Равдоникас (уже в декабре 1936 г.), отрицательные отзывы на его книги дали В. В. Данилевский и Т. С. Пассек. Что важно, критика эта была в значительной мере научной, не идеологической. Если Данилевский высказывал общие замечания о влиянии троцкистов и чрезмерном следовании буржуазным ученым (пришла расплата за командировки в конце 1920‐х гг.)191, то Пассек возмущал прежде всего тот факт, что зарубежная литература была устаревшей («сорокалетней давности описания») и касалась не трипольских материалов, а «зарубежных аналогий Триполья»192. Критики подробно аргументировали слабость знаний Богаевского в тех сюжетах, которые он освещал, и резюмировали в таком роде: «Приступив к составлению своего капитального труда, написанного, по-видимому, наспех, в какой-то рекордный срок, автор забыл о том, что история техники представляет одну из наиболее сложных дисциплин, имеющую свои специфику, свои требования, свои конкретные условия»193.
Именно поэтому в последующие годы Богаевский предпринимает усилия для того, чтобы спасти свое положение. По сути, он отступил от «социологизаторских» (так называли тогда многие труды, но в данном случае это было оправдано) работ на сугубо археологические темы – тем более что начался быстрый закат ГАИМК, которая ассоциировалась у правительства с «троцкистско-зиновьевскими шпионами». Конечно, он открестился от своих прежних знакомых (к этому было не привыкать) – и от зарубежных коллег, и от тех, кто стал «врагом народа». Для этого ему пришлось даже целиком отказаться от своих стилистических вольностей и написать инвективу, плотно набитую словесными штампами тех лет, – статью «Эгейская культура и фашистские фальсификаторы истории». В ней досталось не только «подготовившему почву» для фашистов О. Шпенглеру, но и Корнеману, который некогда хвалил доклад Богаевского на конгрессе 1928 г., а теперь был определен как «политический подхалим»194. Наконец, были поруганы и Бухарин, названный агентом гестапо, презренным изменником и убийцей, и недавно репрессированный профессор МГУ П. Ф. Преображенский195.
Но главной затеей Богаевского было выдвижение в члены-корреспонденты Академии наук – это если бы и не сделало его неприкасаемым, то позволило бы резко сократить число тех, кто посмел бы открыто выступать против него. Здесь Богаевский постарался использовать всю возможную поддержку – заручился письмом от Струве, привлек Серебрякова. Но главным рычагом этой операции был А. Н. Дальский.
Андрей Николаевич Дальский родился в 1894 г., был правильного социального происхождения, а в партию вступил в 1918 г. Н. В. Брагинская, ссылаясь на устное свидетельство А. А. Формозова, передает установившееся мнение, что единственная книга Дальского, про крито-микенские театральные представления, была написана Богаевским, сам же Дальский был совершенно неспособен к научному труду. Сообщив, что Богаевский попал в «осаду» после ареста Бухарина196, Брагинская резюмирует: «Богаевский, очевидно, вынужден был работать „негром“ на невежественного человека, которого продвигало начальство»197.
На мой взгляд, ситуация была несколько сложнее. Прежде всего, Дальский защитил кандидатскую диссертацию еще в 1935 г.198, когда положение Богаевского было вполне безмятежным. Книга Дальского, опубликованная в 1937 г., была сдана в набор 20 июля 1936 г., а писалась, соответственно, раньше, до всякой «осады» (надо думать, это фактически текст все той же диссертации). Означает ли это, что свидетельство Формозова безосновательно? Нет. Конечно, безупречные доказательства могут никогда и не обнаружиться, но достаточно обратиться к тексту книги, чтобы увидеть, что первая ее часть является буквальным рефератом работ Богаевского. В дальнейшем произведен анализ источников, которого нет в других трудах, в частности, с несколькими умеренно критическими замечаниями в адрес Богаевского199. При этом в книге нет ничего, что принципиально бы выходило за кругозор или методику работы научного руководителя. Писал ли это Дальский, Дальский с помощью Богаевского, или часть работы выполнили ученики и помощники, а затем это было отредактировано Богаевским – вопрос, в общем, несущественный. Важно другое – Богаевский здесь не выглядит такой уж однозначной «жертвой», это было взаимовыгодное сотрудничество, а инициатива издания диссертации в виде книги также могла принадлежать Богаевскому, пока он мог рассчитывать на помощь Бухарина.
Теперь же именно Дальский в качестве декана факультета истории и теории искусств Всесоюзной академии художеств провел 29 ноября 1938 г. заседание, которое выдвинуло Богаевского в члены-корреспонденты. Правда, уже в тот момент можно было почувствовать, что не все идет так, как было задумано. Струве, который редко шел на прямой конфликт, дал положительную характеристику претенденту, но в письменном виде, а самолично на собрание не явился, сославшись на занятость – это косвенно указывало на то, что он не был настоящим союзником Богаевского и не считал уже того достаточно значимой фигурой. Богаевский же на заседании говорил, что его противники в ГАИМК, поддерживаемые врагами народа, всегда мешали ему и его открытиям, а свои отдельные ошибки он признает и преодолевает. А главное, он вполне освоил тогдашний газетный пафос:
Все в моей жизни после Октябрьской революции засветилось по-новому. Я неоднократно говорил, что я мечтаю отдать все собранное и обдуманное мною нашей молодежи. …Скажу вам откровенно, что ваша товарищеская поддержка необходима для того, чтобы еще полнее я мог бы отдать все свои силы единственно прекрасному, что есть в моей жизни – той советской действительности, которая меня перевоспитала и которая дает мне подлинное ощущение настоящей жизни, как человеку, как советскому человеку, общественнику и преподавателю высшей школы200.
Наверное, это была действительно кульминация общественно-научной жизни Богаевского, и он сам убедил себя в том, что достижение поставленной цели возможно. После провала баллотировки в 1939 г. стало очевидно, что ему не удастся претендовать на центральные позиции в советской историографии древности. Более того, под ударом вскоре оказалась и его концепция первобытно-общинного характера крито-микенской культуры201. Вместе с разгромом ГАИМК был закрыт проект «Всемирной истории», зато началась работа над подобным же многотомником под эгидой АН СССР. Благодаря поддержке академиков Струве и Тюменева Богаевский получил контракт на написание главы для III тома по крито-микенской культуре, скорее всего, представил туда фактически тот же текст, что писал для ГАИМК, и контракт был разорван202, а написание главы поручено московскому историку В. С. Сергееву (1883–1941), который в своем учебнике характеризовал крито-микенское общество как рабовладельческое203.
Богаевский решил бороться и подал в Бюро Отделения истории и философии АН СССР, которое курировало издание «Всемирной истории», заявление о необходимости обсуждения спорного вопроса, в результате чего было принято решение о проведении 27 марта 1940 г. заседания редакции «Всемирной истории» совместно с сектором истории древнего мира Института истории Академии наук. Богаевскому удалось добиться того, чтобы на заседание были привлечены «заинтересованные лица» – поскольку сам он ни в какой из названных структур не состоял, иным способом попасть на заседание он не мог204.
Заседание состоялось, но из‐за жарких споров продлилось два вечера 27 и 28 марта. Оно проходило в Москве, где сторонников у Богаевского не наблюдалось, да и из ленинградцев его поддержали только Дальский и Тюменев (недовольный, видимо, тем, что ему пришлось отказаться от редактуры III тома205). Струве ожидаемо не приехал, Д. П. Калистов выступал против концепции Богаевского, как и практически все участники. Дальский в кратком виде повторял то, что формулировали Богаевский и Тюменев.
Чтение обзоров этих заседаний206 оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, позиция Богаевского была однозначно проигрышной: не говоря уже о том, что меньшинству редко удается убедить большинство в любом споре, меньшинством еще и была выбрана раздражающая оппонентов тактика давления фактами, при которой Богаевский иллюстрировал свои тезисы с помощью фотографий и указывал на то, что Сергеев не владеет материалом; фактов было приведено столько, что они утомили присутствующих, но при этом базовые недостатки концепции самого Богаевского им никак не были скорректированы или принципиально развиты по сравнению с 1933 г. Все это давало возможность наносить болезненные удары, как это показывает реакция на замечание Богаевского, что «тронный зал» в Кноссе – это комнатка площадью всего в 15 квадратных метров. Хорошо, замечали противники, Кносский дворец не такой грандиозный, но ведь и Грановитая палата не слишком велика, как и храм Соломона в Иерусалиме207. И так далее. Тюменев, давший в свое время резко отрицательный отзыв на ненапечатанную «Грецию до греков», не просто знал о слабых местах концепции, но, видимо, внутренне признавал их, а Дальский был плохим союзником. Так что Богаевский фактически остался в одиночестве208.
С другой стороны, ирония в том, что он действительно был лучшим и, собственно, единственным специалистом именно по той теме, которая обсуждалась – ни Сергеев, ни Тюменев, ни кто-либо другой из присутствующих таковым не являлся. Рабовладение на Крите не имело даже такой неполной источниковой базы, которую успел к тому времени собрать Струве, говоря о Ближнем Востоке. Единственный аргумент Сергеева, что критские постройки и вообще уровень жизни высшего класса могли быть обеспечены только с помощью труда рабов, в сущности не более обоснован, чем мысль Богаевского о том, что стандартизированные украшения для «сокровищницы Атрея» вполне могли делать отдельные роды. Собственно, в конце заседания Богаевского призывали продолжать работать и возражать, но итог был вполне определенным: глава Сергеева была признана подходящей для «Всемирной истории», а «первобытная» концепция научным сообществом была отвергнута.
Возможности бороться далее уже не представилось. «Всемирная история» в том виде, в котором она создавалась, не будет опубликована – война заставила бросить и эту попытку. Богаевский останется в Ленинграде и не переживет блокаду – умрет 11 мая 1942 г., как раз перед тем, как поставки продовольствия и наступающее лето позволят стабилизировать положение жителей города. Дальский эвакуируется, но после войны будет прозябать в должности младшего научного сотрудника в Музее истории религии и атеизма209. Видимо, в послевоенное время он публиковался исключительно по далеким от крито-микенской тематики вопросам210.
Еще одним неожиданным наблюдением в рассказанной истории является то, что Богаевский, казалось бы, все делал правильно. С точки зрения этапов пройденного пути по вливанию в советскую науку он практически полностью повторил траекторию Струве, которая была безусловно успешной. Некоторые отрезки Богаевский проходил даже удачнее. У него было более опасное прошлое, чем у Струве, и оно толкало его вперед. Он был более последовательным и активным сторонником Марра. Он более ярко и зло расправлялся со всем неугодным. Он быстрее и, кажется, лучше прочитал и научился использовать «классиков» марксизма-ленинизма211. Он тоже отказался от идеи феодализма в древности и рисовал прямой путь истории: от первобытности к рабовладению.
Почему тогда у него не получилось? Утверждать, что для советской науки было принципиально отнесение Крита и Микен именно к рабовладельческим государствам, у нас нет никаких оснований. Можно было бы сказать, что путь Богаевского был испорчен сотрудничеством с Бухариным и другими репрессированными марксистами. Но ведь и у Струве с этой точки зрения было к чему придраться – вступительное слово к его докладу 1933 г. делал тоже репрессированный А. Г. Пригожин.
Можно предположить, что в изгнании Богаевского на периферию сыграли роль два обстоятельства. Первое – его слишком откровенный цинизм, который должен был отвращать даже сторонников. Многим приходилось скрывать прошлое и поступать неблаговидно, но немногие выделялись при этом на фоне других. Поражение Богаевского на московском диспуте поэтому могло быть встречено большинством ленинградских историков с искренней радостью. Да, научное сообщество в советский период совсем не было автономным, но репутация все равно имела значение, и поэтому периоды взлетов и падений, даже типологически сходные, имели такие разные последствия для Струве и Богаевского.
Второе – особенности предложенной Богаевским идеи. При всем значительном сходстве у концепции Богаевского было важное отличие от концепции Струве: она упрощала периодизацию, но усложняла образ эпохи. Для сталинской новой «гражданской» истории, как оказалось, простота образа эпохи была даже важнее линейности периодизации. Первобытность не могла быть с рабами и дворцами, хотя могла повториться. Богаевский ошибочно считал аргумент об эволюционном развитии первобытности сильным, но участников дискуссии нисколько не смущала возможность гибели государства и возвращения первобытности в гомеровский период. Возможно, и здесь его подвел слишком активно принятый марризм с радикальным игнорированием внешнего фактора (дорийского вторжения) и поисками всепронизывающей эволюции. Богаевский был очень гибок, но оборотной стороной его стремления попасть в мейнстрим было то, что он часто сгибался сильнее, чем следовало. При этом «разогнуться», скорректировать концепцию (как это аккуратно делал Струве) он оказался не в состоянии.
***
Жизненный путь Евгения Георгиевича Кагарова (1882–1942) сходен с путем Богаевского рядом дополнительных черт, но отличается в главном моменте – Кагаров не обладал таким неуклонным стремлением к повышению своего статуса в советской науке. Окончил Новороссийский университет, побывал в заграничной командировке (посетил в том числе Грецию и Крит, который до 1913 г. формально считался отдельным государством), в 1913 г. защитил магистерскую диссертацию «Культ фетишей, растений и животных в древней Греции», до 1925 г. был профессором Харьковского университета, в Ленинграде же преимущественно занимался этнографией. Был эвакуирован из Ленинграда, но в марте 1942 г. скончался в Ессентуках от последствий блокады212.
Кагаров написал много работ разнообразной тематики (включая педагогическую), но, как и Богаевского, его не «отпускала» Античность, и при обращении к ранним этапам истории человечества он опирался и на сведения, взятые из классической древности. В общем, это та же установка, которой пользовались еще Морган, а затем Энгельс, поэтому ощущение родственности между своим видением истории и марксистским могло быть для Кагарова вполне искренним213. Точно так же издавал он и работы с критикой фашистской историографии214 – в сущности, слабо отличимые от того, что писал Богаевский или другие авторы в те же годы. Отличало же Кагарова то, что никаких принципиальных новаций в схему Энгельса он не старался внести, а его периферийность обеспечена не столько какими-либо расхождениями в содержании с доминирующей версией (он, видимо, мог без труда убедить себя в правильности любой трактовки единственно верной теории – как, скажем, и С. И. Ковалев, неоднократно корректировавший свои взгляды в то время), сколько тем, что древность была для него лишь одной из точек приложения собственных сил. Итог – та же неполная реализованность, как и у Богаевского, при различии ее причин.
ГЛАВА 4
В ПОГОНЕ ЗА МЕЙНСТРИМОМ
В мае 1905 г., к собственному дню рождения, государь император наградил киевское духовенство за преданную службу целым каскадом орденов: Святого Владимира, Святой Анны, Святого Станислава. Конечно, орден Анны второй степени, носившийся на шее, не был самой престижной наградой империи – в знаменитом чеховском рассказе (который к тому времени уже десять лет как был опубликован) Модест Алексеич мечтает поскорее вслед за ним получить Владимира четвертой степени, но для семьи настоятеля Киево-Подольской Воскресенской церкви протоиерея Дмитрия Федоровича Дмитрева, который был одним из удостоенных государевой награды215, это в любом случае должен был быть праздник, тем более что орден подоспел как раз к дню рождения Дмитрия Федоровича (он родился 26 мая 1853 г.)216. Награде отца должен был радоваться и юный Александр Дмитрев (1888–1962), впоследствии советский историк, изучавший социальные движения на исходе Античности и написавший несколько ярких антихристианских брошюр.
Отец происходил из Рязанской губернии, из семьи сельского священника, учился в Касимовском духовном училище, затем в Рязанской духовной семинарии, а с 1874 по 1878 г. – в Киевской духовной академии. Он получил степень кандидата богословия за сочинение «О падении человека и его следствиях», много лет служил настоятелем Воскресенской церкви на Подоле (на углу Спасской и Межигорской)217, а кроме того, с 1878 г. был преподавателем древнегреческого в Киевской духовной семинарии, в начале же XX в. также состоял в Киевской духовной консистории, входил в Киевский епархиальный училищный совет218 и, видимо, по-прежнему преподавал, что позволило сыну писать в советских анкетах, будто он вышел из семьи учителя древнегреческого языка219.
Вообще, после смены власти пришлось скрывать или недоговаривать многое: уже учеба в Киевской духовной академии в 1909–1913 гг. и специализация по кафедре церковного права220 выглядели не лучшей строкой в биографии, как и занятия византинистикой. А тогда, перед войной, это была как раз перспективная и развивающаяся отрасль знаний, в которой отечественная наука занимала лидирующие позиции. Отец был в тесных отношениях с академией, постоянно общался с преподавателями221 да и вообще имел влияние, так что сын в итоге оказался студентом на особом счету, поэтому ему поручали, например, искать сведения о деятельности архиепископа Смарагда Крыжановского (1796–1863), который тоже когда-то учился в Киевской духовной академии. С этой целью молодой Дмитрев летом 1912 г. ездил в Санкт-Петербург. На фотографии из выпускного альбома он выглядит почти франтом, несмотря на строгость униформы – ухоженные усики, взбитый чуб, уверенный и аристократический взгляд вдаль222.
Возможно, не все преподаватели были убеждены в том, что таланты выпускника академии соответствовали его возможностям. Н. Н. Пальмов писал о событиях июня 1913 г. в КДА:
На сем же заседании выбирали стипендиатов и оставили четырех ввиду того, что никого не оставляли в прошлом году. Вторым вышел Дмитрев, которого командировали в Константинополь. Дмитрева приписали к кафедре Мищенко, хотя Мищенко хотел сплавить Дмитрева ко мне… На вопрос же Дмитрева, чем заняться в Константинополе, Мищенко советовал обратиться к руководству Успенского, а лично от себя порекомендовал обрабатывать сочинение о венчании на царство в Византии и изучить какую-нибудь систему науки церковного права223.
Так и произошло – став стипендиатом академии на 1913/1914 учебный год, Дмитрев прибыл в Константинополь (Стамбулом его тогда называли редко) к самому Ф. И. Успенскому (1845–1928), оттуда он выезжал в экспедиции института в Грецию, Малую Азию и Сирию. Главное же, он проработал литературу и источники по византийским коронациям, а по итогам ходатайствовал перед советом академии о командировке в Ватикан для дальнейших исследований по этой теме224. Война, которая сделала невозможным этот план, вероятно, сначала не казалась слишком долгим препятствием на пути к дальнейшей научной карьере, а пока Дмитрев переехал в Одессу, где занялся преподаванием.
Вообще, все сведения, которые у нас есть, косвенно указывают, конечно, не на богатство, но определенно на достаток семьи Дмитревых. Во время своей поездки в Петербург Александр останавливается в гостинице «Националь» на Гончарной, близко от Московского (тогда Николаевского) вокзала. Летом семья отдыхает на даче в Святошине, под Киевом225. Одна, вероятно младшая, сестра Ольга была учительницей рукоделия в женской гимназии226, другая – замужем за преподавателем Киевской духовной семинарии В. Д. Сокольским227. Вполне размеренная и уверенная жизнь, с более или менее понятными перспективами, которой вскоре не станет и которую придется спрятать.
Примерно после 1915 г. наступает период в жизни Дмитрева, о котором (по крайней мере сейчас) известно немногое. Возможно, в это время он женился. Возможно, перед революцией или вскоре после умирает отец – он был еще жив в 1916 г.228 Дмитрев остается в Одессе, где уже при советской власти станет инструктором Отдела народного образования. О его деятельности и политических взглядах в те годы, когда Одесса недолго побыла советской республикой, а позже повидала и германцев, и петлюровцев, и белых, и интервентов, сказать ничего нельзя, кроме того, что на стороне красных он активно не выступал – иначе непременно писал бы об этом позже. В 1922 г. он возвращается в Киев.
Спасскую улицу тогда еще, правда, не переименовали в Комсомольскую (это произойдет в 1928 г.) и Воскресенскую церковь еще не разрушили (в 1930‐х гг. на ее месте возведут жилой дом), но прежний мир уже рассыпался, несмотря на многочисленные его остатки. Кто из родных выжил и где оказался, неизвестно. В 1923–1924 гг. Дмитрев проходит курсы марксизма-ленинизма при Киевском обкоме профсоюза, но куда-то надежно устроиться (возможно, из‐за происхождения) не может, продолжая работать инструктором в народном образовании229. Какая-то надежда появляется в конце 1920‐х гг., когда Ф. И. Успенский включил его в состав Византинологической комиссии Украинской академии наук, но Успенский умирает, а Дмитрев не успеет надежно устроиться ни в какую академическую структуру230.
В начале 1930‐х гг. он в Москве, работает в Московском архивном управлении и исторической библиотеке, занимается сбором материалов для находившейся тогда под шефством М. Горького серии об истории фабрик и заводов231, и это в общем было явно не то, чем он бы хотел заниматься и далее. Тем не менее с 1929 г. начинается и кое-что новое в его жизни – он начинает сотрудничать с издательствами «Безбожник» и «Атеист», для которых в течение последующего десятилетия подготовит серию брошюр.
Борьба с религией в советский период была поставлена широко, но на раннем этапе, как и во всех остальных сферах, квалифицированных специалистов катастрофически не хватало. Первоначально проблема решалась за счет переводов и переизданий книг зарубежных авторов, которые можно было использовать в своих целях, – то, что Ленин в типичной для него манере сведения человека к типажу назвал «„союзом“ с Древсами»232. Но необходимость в производстве собственной интеллектуальной продукции это не отменяло, особенно по мере нарастания критического отношения к буржуазной науке233. История же раннего христианства, без которой полноценная критика религии была невозможной, относилась к области Античности и требовала знания греческого и латыни для адекватного чтения источников, а также основных европейских языков для знакомства с современным состоянием исследований по теме.
Так советской пропаганде понадобились люди с классическим образованием. Возможно, в это время Дмитрев знакомится с А. Б. Рановичем, который был редактором в «Безбожнике» (хотя нельзя исключать и какого-то более раннего знакомства в Киеве, откуда Ранович переехал в Москву в 1929 г.)234. И это тоже интересный факт, потому что Ранович – пример безусловной удачи в научной карьере того периода, при этом его путь типологически сходен с путем Дмитрева. До революции никто бы и не подумал, что у этих людей есть что-то общее, но теперь акценты сместились. Ранович (до революции – Рабинович), обучавшийся в хедере и из‐за еврейского происхождения не сразу поступивший в Киевский университет, тоже хорошо знал древние языки (включая, само собой, древнееврейский), и его вхождение в советскую науку также началось с базы, заложенной антирелигиозными брошюрами, которые они писали с Дмитревым в одни и те же годы.
Рецепт создания таких работ был прост: в качестве темы брался тот или иной религиозный персонаж или сюжет, чаще всего выбирались Иисус Христос, Мария, святые, пророки, религиозные праздники235. Далее показывались их исторические корни, их изначальное значение, что должно было развеять ореол святости вокруг рассматриваемого явления; затем рассматривалась эволюция, суть которой всегда сводилась к тому, что священники, прикрывая флером морального авторитета примитивизм начальных обрядов и идей, приспосабливали их к нуждам эксплуатации высшими классами низших. Могло варьироваться соотношение основных составляющих этого рассказа, быть более или несколько менее резким стиль высказываний, богаче или беднее библиография, но основная схема оставалась стандартной, и по ней писало в те годы достаточное количество авторов.
Отличались ли Ранович и Дмитрев от этого большинства? Да, но не принципиально – прежде всего уже упомянутой большей ученостью, возможностью апеллировать не только к основным сочинениям, но и к более частным источникам или исследованиям. Но ученость – еще не наука. Если говорить кратко, то научным можно называть то исследование, которое обладает проверяемыми аппаратом и методикой, рассматривает существенную проблему, отличается непредвзятостью и стремлением к получению новой информации. Желателен, но совсем не принципиален и академический стиль. Использование источников и литературы, научная аргументация – это, при всех оговорках (о них ниже), мы можем наблюдать в упомянутых брошюрах; с некоторым колебанием можно признать и то, что многие поднимаемые в них вопросы были действительно актуальными научными проблемами. Но ни непредвзятости, ни попытки получить новое знание здесь нельзя увидеть даже при всем желании. Читателей работ тех лет чаще всего смущает (или даже возмущает) бойкий пропагандистский стиль, но это лишь поверхностное проявление отсутствия настоящей научности в содержании самих работ.
Дмитрев писал о личности девы Марии, об историчности Христа, также о неприглядной роли русской церкви в истории страны. Содержательно это – воспроизведение традиций «мифологической школы» (при всей условности данного термина), смысл основного тезиса которой можно передать следующей дмитревской цитатой: «никакой девы Марии в действительности не было, а ее образ есть продукт синкретизирующей волны, влившейся в первоначальное христианство из общего потока языческих мифов и культов»236. Вместо девы Марии можно было подставлять любых других евангельских персонажей, снабжая это разной степени ироничности высказываниями о роли и деятельности церкви. Этот тезис Дмитрев иллюстрирует подбором археологических данных.
Уже в этих ранних брошюрах обращает на себя внимание несколько черт. Прежде всего, их автор действительно хорошо ориентируется в научной литературе по теме, а таковая в тот период – исключительно либо зарубежная, либо русская дореволюционная; правда, заметную ее долю составляют работы конца XIX в. Это были уже несколько устаревшие ко времени написания брошюр исследования, но тут играло роль как то, что он мог читать их еще в годы обучения в Киевской духовной академии, так и то, что тогда новая научная литература из‐за рубежа в Советский Союз поступала в мизерном количестве.
Во-вторых, заметна неустойчивость стиля. Часть текста написана в нарочито упрощенной манере, иногда с публицистическими апелляциями к читательской психологии, другая же – близко к академической237. Современных читателей Дмитрева больше задевает именно его неуклюжая манера насмешек над религией и неуместный социалистический оптимизм, но стоит отметить, что они, видимо, давались с большим трудом и самому автору.
В-третьих, Дмитрев оказывается неаккуратен в полемике даже в таком жанре, который дает фактический карт-бланш для того, чтобы разгромить оппонента. Но как только ему встречается более или менее сильный довод, он уклоняется от разговора по существу238.
Наконец, последнее, что можно здесь увидеть, – неразборчивость и широта аргументации Дмитрева. Он может менять точку зрения в зависимости от того, что ему нужно доказать в данный момент: если ему нужно указать на то, что аутентичных портретов девы Марии не могло быть в принципе, то он замечает, что легенда о Луке, написавшем первый портрет девы Марии, неверна, ибо Лука, как еврей, не имел навыков живописца239; если же он хочет показать, что портреты Иисуса непременно сохранились бы, будь тот историческим персонажем, то вспоминает, что запрет на написание портретов не всегда выполнялся строго240. Широту аргументации лучше всего иллюстрирует стремление Дмитрева объяснять все сходные обряды в мировых культурах одной и той же религиозной основой; желая показать, что образ рыбы у ранних христиан является в сущности языческим, он пишет: «чудесная рыба, принимающая иногда вид дельфина, становится спасителем людей уже в религиозных мифах древних индусов»241. Вряд ли Дмитрев не мог ничего знать о том, что и сам метод пережитков, и его расширительное применение ко всем странам и народам уже заслужили весомую критику как раз в начале XX в., когда он получал образование. Это говорит о том, что применение архаических научных методов в популярных работах было для него отчасти вынужденным в силу отсутствия возможности использовать другие, отчасти сознательным выбором – поскольку устаревшей методикой гораздо легче манипулировать.
Нет ничего удивительного в том, что все эти черты остаются неизменными и при написании по сути таких же брошюр, посвященных истории русской православной церкви или народным движениям на Украине. Трактовку Дмитревым церковной истории специалисты оценивают как радикальный вариант концепции М. Н. Покровского242