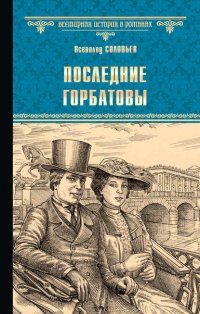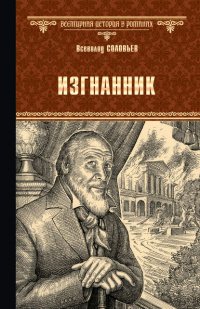
Читать онлайн Изгнанник бесплатно
- Все книги автора: Всеволод Соловьев
Всеволод Сергеевич Соловьев
1849–1903
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
Об авторе
Популярный в конце XIX века романист Всеволод Сергеевич Соловьев, «один из наших Вальтер-Скоттов» (как его прозвали современники), родился в Москве 1 (13) января 1849 года. Он был старшим сыном крупнейшего русского историка Сергея Михайловича Соловьева, чья многотомная «История России» до сих пор является одной из серьезнейших работ по изучению прошлого нашего отечества. Дом Соловьевых был местом встречи многих выдающихся москвичей своего времени. Здесь, например, бывали историки Т.Н. Грановский и П.Н. Кудрявцев, собиратель народных сказок А.Н. Афанасьев, знаменитые писатели – братья Аксаковы и А.Ф. Писемский, а также много других интересных людей. Такое окружение не могло не вдохновить юношу, сподвигнув его на самостоятельное творчество. В литературу Соловьев вступает как поэт, публикуя в журналах небольшие стихотворения (по большей части без подписи) и короткие рассказы. В 1870 году Всеволод оканчивает учебу на юридическом факультете Московского университета и поступает на службу во 2-е отделение Императорской канцелярии. Но мечта о серьезном занятии литературой не покидает новоявленного чиновника. В 1872 году Соловьев знакомится с Ф.М. Достоевским, которого позднее назовет своим «учителем и наставником». С детства воспитывавшийся в православном духе, Всеволод решает написать роман о борьбе православия с католицизмом, точнее – с иезуитским орденом, пришедшим на западные русские земли. Опубликованный в 1876 году роман «Княжна Острожская» имел большой успех и навсегда определил дальнейший путь Всеволода Соловьева – он становится писателем-историком. В течение нескольких лет один за другим появляются его романы: «Юный император», рассказывающий о царствовании Петра II, «Капитан гренадерской роты» – об эпохе дворцовых переворотов XVIII столетия, «Царь-девица» – о жизни царевны Софьи Алексеевны, «Касимовская невеста» – о несостоявшейся женитьбе царя Алексея Михайловича на Ефимии Всеволодской. Главным произведением Соловьева в тот период становится пятитомная эпопея «Хроника четырех поколений», объединившая романы «Сергей Горбатов», «Вольтерьянец», «Старый дом», «Изгнанник», «Последние Горбатовы». Этот цикл охватывает большую эпоху, от Екатерины II до Александра I, рассказывая о судьбах нескольких поколений медленно разоряющегося дворянского рода Горбатовых. Среди героев этих книг – Потемкин, братья Орловы, Сперанский, Аракчеев и другие.
Продолжая писать исторические романы, Соловьев вместе с тем переживает острый душевный кризис. Разочаровавшись в косной «государственной» Церкви, Всеволод вступает на тропу духовных исканий. Он обращается к спиритизму, индуизму и буддизму. Под влиянием младшего брата, знаменитого философа Владимира Соловьева, писатель начинает увлекаться мистикой. Однако настоящая духовная близость между братьями отсутствовала, их отношения не выходили за рамки холодной светской любезности. К 1884 году относится знакомство Всеволода Соловьева с Еленой Петровной Блаватской. Писатель надеялся получить духовную поддержку от учения «женщины с феноменами» (как он сам именовал Блаватскую), но его ждало разочарование. В 1892 году Соловьев пишет книгу «Современная жрица Изиды», в которой резко осуждает теософские идеи и личность Е.П. Блаватской. Позднее писатель признал ошибочность своей критики, но тогда он уже находился под новым религиозным влиянием – личности святого праведника Иоанна Кронштадтского, впоследствии канонизированного Церковью. Духовные искания Всеволода Соловьева нашли свое отражение в знаменитой дилогии «Волхвы» (1889) и «Великий розенкрейцер» (1890). Некоторые исследователи полагают, что образ священника Николая в этих романах воплотил в себе многие черты Иоанна Кронштадтского. На страницах дилогии появляется и другая интересная личность – граф Калиостро, которого писатель изображает не совсем так, как принято рассматривать образ этого сомнительного «вершителя тайной истории». Работал над дилогией Всеволод Сергеевич главным образом в Париже, где в Национальной библиотеке он внимательно изучал труды ученых и мистиков, таких как Парацельс, Эккартсгаузен, Николя Фламель. Писатель скончался 20 октября (2 ноября) 1903 года в Москве, оставив после себя около двух десятков романов, многие из которых теперь возвращаются к современным читателям после почти векового забвения.
Избранная библиография В.С. Соловьева:
«Княжна Острожская» (1876)
«Капитан гренадерской роты» (1886)
«Юный император» (1877)
Эпопея «Хроника четырех поколений»:
1. Сергей Горбатов (1881)
2. Вольтерьянец (1882)
3. Старый дом (1883)
4. Изгнанник (1885)
5. Последние Горбатовы (1886)
Часть первая
I. Лесовик
По живописной просеке векового Горбатовского парка что было духу бежали двое маленьких крестьянских ребятишек – мальчик и девочка. Оба они ревели благим матом. Выгоревшие от солнца, разноцветные их волосы в беспорядке падали на загорелые лица, выражавшие беспредельный ужас. В руках у ребятишек были кошелки, почти верхом наполненные сочною, спелой земляникой. Кошелки тряслись, ягоды то и дело сыпались, но перепуганные дети не замечали этого.
«А-у!» – раздалось в чистом воздухе безоблачного летнего утра, и наперерез им из-за старых сосен вышла здоровая, румяная девка, тоже с кошелкой, наполненной ягодами. Завидя ребятишек, она крикнула:
– Фенька!.. Митька!.. И куда это вы, оголтелые, запропали?.. Аукалась, аукалась – хоть бы разок откликнулись!.. Гляньте-ка – солнышко где!.. Видно, подзатыльников захотелось… мамка-то не похвалит!..
Но тут она расслышала их рев, разглядела их красные, сморщенные в гримасу ужаса лица.
– Ну, чего, чего вы?.. – заботливо произнесла она.
Мальчик-карапуз хотел было остановиться, да со всего разбегу попал на большую кочку и растянулся. По счастью, ягоды уцелели, не рассыпались. Он заревел еще пуще. Девочка между тем подбежала к старшей сестре и судорожно охватывала ее ручонками.
– Да с чего это вы так?.. Испужались? – говорила та. – Гнался за вами кто, что ли?.. Зверь?.. Волк?..
Ребятишки долго не могли прийти в себя, наконец, остановив слезы, почувствовав присутствие защиты, запищали в один голос:
– Повстречали там вот… сейчас… у поворота к барскому дому…
– Кого?.. Кого повстречали?!
– Страшный такой… весь белый… бе-е-лый!.. Глаза ровно уголья!.. – задыхаясь, выговорил мальчик.
– Лесовик!.. Пра… вот те Христос! – быстро закрестившись, перебила его девочка. – Белый… бе-е-лый… и глазищами так и повел на нас… говорит: «Здорово, детки, много ли ягод?..» Ну, мы и подрали!..
После этого объяснения их страх сообщился и старшей сестре, а главное, на нее подействовало это определение: «белый… бе-е-лый!» Она даже взвизгнула – и уже все трое побежали теперь, так что только голые пятки мелькали из-за высокой травы…
Между тем в глубине просеки показался человек с длинной белой бородой. Но «лесовик» не думал преследовать ребятишек: заметив их среди высокой травы, он ласково их окликнул, поздоровался с ними, а когда они с ревом пустились от него бежать, он слабо улыбнулся и тотчас же забыл про них. Теперь он шел вдоль просеки скорым шагом, опустив голову, погруженный в свои мысли. В нем не было ничего страшного, и на лесовика он не походил нисколько. Несмотря на длинную, как снег, белую бороду и на мелкие морщины, избороздившие его бледное лицо, он вовсе не казался старым: шаг его был тверд и легок, как у молодого человека, вся небольшая, сухощавая фигура, все движения показывали силу и бодрость. На ногах у него были высокие дорожные сапоги; короткая бархатная венгерка обхватывала его все еще гибкий стан; мягкая широкополая шляпа скрывала его лоб и глаза. Но когда он поднял голову и взглянул на безоблачное утреннее небо, сквозившее то там, то здесь из-за густых ветвей вековых деревьев, светлые глаза его, показавшиеся ребятишкам угольями, блеснули мягко и привлекательно.
Он был красив, этот длиннобородый бодрый старик, той особенной красотою старости, которая все увеличивается с годами и может быть только отблеском разумной жизни, полной трудов и испытаний и не помраченной ни одним упреком совести.
Достигнув конца просеки, старик остановился и огляделся, потом свернул в сторону и скоро вышел в ту часть парка, где следы запустения бросались еще больше в глаза.
Когда-то утрамбованные и посыпанные красным песком дорожки теперь заросли травой. Вычурные мостики, перекинутые через канавы, все покосились. Много лет нечищенные пруды покрывались тиной. Густая зелень беспорядочно обвивалась вокруг беседок и почти совершенно их скрывала. Белые мраморные статуи местами совсем почернели, обломились и носили на себе следы многих непогод. Давно-давно никто не заглядывал в этот старинный парк, никто его не поддерживал. Хозяина не было, и никто не знал даже, явится ли когда-нибудь хозяин. Теперь здесь хозяйничали только разные насекомые, птицы да мелкие зверьки, расплодившиеся в великом множестве. Зимою иногда забегали сюда из леса волки, а летом иной раз забредали деревенские ребятишки, да и то ненароком и, постояв, разинув рты перед какой-нибудь статуей, спешили скорее назад в лес, боясь, что вот-вот их кто-нибудь накроет в этом давно покинутом, но все же запретном барском парке.
Обогнув большой пруд, старик поднялся на живописный холмик. Здесь, под могучими темными ветвями дуба, еще уцелела ветхая скамья. Он сел на нее, снял шляпу и долго глядел вокруг себя, переводя глаза с одного предмета на другой. Глаза его вдруг померкли, тихая одинокая слеза скатилась по щеке. Голова опустилась. Непослушная прядь густых белых волос скользнула на лицо.
Отсюда, с этого холма, было видно многое. На далекое расстояние за прудом шла зеленая поляна, и в ее глубине виднелась озаренная ярким солнцем часть фасада белого старинного дома.
Все здесь, в этой живописной картине, было до мельчайших подробностей знакомо старику. Но он почти не узнавал этих с детства милых предметов, хоть они и нередко грезились ему в течение всей жизни среди совсем иной обстановки. Да, он не узнавал. Он покинул эти места почти юношей, и они сохранились в его памяти во всем блеске своей былой красоты, изукрашенной и позлащенной всем ярким светом юных впечатлений.
Когда в былые годы он забирался на этот холм и отдыхал на этой самой скамье, все, что его окружало, казалось ему таким огромным, величественным, почти волшебным. Этот парк был тогда для него бесконечным. Теперь же все явилось перед ним в уменьшенном виде – размеры совсем изменились.
Ведь вот, бывало, этот пруд казался чуть не морем. Поляна уходила далеко-далеко, а белый дом виднелся, будто на краю света. И этот дуб, – а ведь он еще как разросся с тех пор! – этот дуб уходил в самое небо… Да, все стало меньше, мельче, все потеряло свой волшебный свет, а сам он, сухой, маленький старик, как вырос!..
Он вдруг почувствовал себя теперь великаном среди этой, бывало, подавлявшей его величием картины.
Но эти первые ощущения скоро заменились другими…
Более тридцати лет прошло с тех пор, как он в последний раз был здесь. Жизнь била ключом тогда и получала новый смысл, и казалось – конца не будет этой жизни… Все впереди светло так было и радостно. Он завершил тогда двухлетней заграничной поездкой свою юность. На многое открылись глаза, исчезло много самообманов. И, наконец, явилась давно жданная любовь, произошла встреча с суженой, которую он, фантазер и мистик, ждал долгие годы, которую он, при исключительных обстоятельствах, узнал и наметил себе еще ребенком. Фантастические грезы превратились в действительность. И он приехал тогда сюда, в родное Горбатовское, для свидания с отцом и матерью…
Ему казалось теперь, что это было так недавно. Он забылся на миг, и представилось ему, что вот он встанет с ветхой скамейки, обойдет пруд и найдет все точно так, как было тогда.
И он, этот седой старик, в котором никто бы не узнал Бориса Сергеевича Горбатова, быстрым, молодым шагом спустился с пригорка и поспешил к издали белевшему дому.
Это был почти бред. Он не замечал, что когда-то широкая дорожка, огибавшая пруд, теперь превратилась в узенькую тропинку, да и та уже зарастала травою. Он все спешил, спешил. Вот сейчас откроется перед ним обширный цветник, весь пестреющий разнообразными, искусно сгруппированными куртинами цветов. Миг – и он услышит ласковый голос:
– Борис, ты рано вышел сегодня утром, а я думала погулять вместе с тобою…
Кто говорит это? Мать. Он видит ее, высокую, прекрасную старуху с ясными глазами, с такой улыбкой, какая только и может быть у матери. Он чувствует ее милое прикосновение.
А вот и отец в своем старомодном костюме, в неизбежных чулках и башмаках с красными каблуками. Вот младший брат Владимир, высокий, полный, в щегольском мундире гвардейского офицера, с полузакрытыми по привычке глазами, с вечной полупрезрительной улыбкой. Дальше – грациозная фигурка хорошенькой женщины с манерами капризного ребенка, с птичьим выражением в лице, с тоненьким голоском – это Катрин, жена брата. Тут же, в цветах, окруженный няньками, играет толстенький, прелестный ребенок и смеется, заливается беспричинным смехом, пускает пузыри пухлыми губками и тянет к нему свои ручонки…
Миг – и нет никого. Он остановился, огляделся: где же эти пестрые клумбы с причудливо извивавшимися между ними ярко-желтыми дорожками? Где эти фонтаны? Пустырь!..
Долго он стоял, не трогаясь с места, и мало-помалу опять забывал действительность и опять жил в прошедшем.
Да, новая жизнь начиналась: борьба с любимой невестой, еще большей фантазеркой, чем он, была, однако, нетрудна. Они в Петербурге. Все сомнения исчезли, все недоразумения окончены. Его бедная Нина, точно так же как и он, ждавшая его с детства, уже не предлагает ему выдуманную ею сначала какую-то «ангельскую любовь», она поняла свои заблуждения…
Она вышла из-под вредного влияния Татариновой и ее секты. Она согласна быть его женой. Отец и мать не выставляют никаких препятствий. Свет толкует о mésalliance[1]; но какое ему дело о мнении света. Он счастлив…
А между тем обстоятельства не позволяют ему жить этим счастьем: в семье происходит драма – он случайно открывает измену жены брата… С другой стороны, приятели стараются завербовать его в члены тайного общества… Заговор зреет… Смерть императора Александра I помогает заговорщикам… Несчастный бунт четырнадцатого декабря… Имя Горбатова произнесено, он замечен на площади в числе главных мятежников… Его арестовывают… И при обыске попадается переданный ему братом портфель с бумагами, относящимися к деятельности «общества». Брат не выручает – молчит. Невинный человек в крепости. Но он не может выдать своего родного брата, не может положить пятна на честное и знаменитое родовое имя…
Приговор произнесен – Борис Горбатов в Сибири, на каторге. Но Сибирь и каторга, эти ужасные слова, казавшиеся хуже смертного приговора, оказываются вовсе не ужасными.
Там, в далекой и дикой стране, началась новая жизнь, только там было приготовлено ему истинное счастье. Он не один – с ним все, кто ему дорог. К нему спешит его невеста…
Старик опять на мгновение пришел в себя и опять осмотрелся. Но бывший роскошный цветник, превратившийся в пустырь, теперь ничего не сказал ему…
И когда он снова ушел от действительности, перед ним ясно-ясно мелькнуло здание острога в Чите, убогая острожная церковка… Он венчается с Ниной. Глубокое, тихое счастье наполняет его душу… Глазами, полными благодарных слез, глядит он на бледное лицо своей невесты и не слышит, как глухо звенят его кандалы…
Проходит время. Каторга… Но разве это каторга, когда он может часто-часто видеться с нею, с дорогой женою, в маленьком уютном домике возле острога, где она живет со своей обожающей ее родственницей княгиней Маратовой.
Разве это каторга, когда и старики Горбатовы приезжают в Сибирь и проводят возле сына немало времени…
Дружная огромная семья политических ссыльных и их самоотверженных жен; среди дикой природы колония прекрасных и умных людей, отрезвевших после тяжелого урока жизни, – разве это каторга? С нею было тяжело расставаться, с этой каторгой, когда были сняты кандалы, когда дружная семья стала разбредаться по бесконечному пространству Сибири. Было немало тоски при прощании с верными друзьями дорогой неволи. И эта неволя не подорвала силы – она создала людей твердых, спокойно и честно глядящих на жизнь, без ропота принимающих свою долю…
Старик опустил голову и тихо направился к дому.
Солнце уже высоко поднялось и начинало печь. Кругом стояла невозмутимая тишина – ни звука, ни шороха…
Среди этого безмолвия и безлюдия еще унылее бросалось в глаза запустенье давно покинутой огромной барской усадьбы. Казалось, все вымерло.
Старик вздрогнул, сердце его заныло. Ему опять слышались в этой тишине милые голоса, ему опять виделись дорогие лица.
Да где же они, где? Все умерли, никого не осталось!.. Вся жизнь прошла!..
Зачем же, получив весть о новой свободе, он так спешил сюда? Зачем так тревожно билось его уставшее сердце?!
Неужели действительно уже никого нет? Неужели прошла жизнь? Да когда же это она успела пройти?
И эти долгие-долгие годы показались ему сном, и показалось ему, что он заснул здесь и только теперь проснулся.
Но к чему же это пробуждение, если все было сон, если вместе с этим сном ушли все они, все, кого он любил?.. Зачем было пробуждаться?
И вместе с этим он чувствовал в себе и силу, и бодрость. Он чувствовал, что живет, и ничто в нем не указывало на болезнь и дряхлость.
Зачем же жить? Для кого жить? Кого любить? Никого нет. Все пусто кругом… Все тихо… Никто не встанет из могилы… Ничей дорогой, ласкающий голос не скажет наяву: «Ты прошел тяжелую, долгую школу, ты вынес все испытания… Ты сохранил еще бодрость и силы… Ты на родине, свободен, богат… еще впереди много безмятежных дней… Впереди счастливая старость!..»
Никто не скажет! Никто не вернется… Все тихо… Все умерло… Все прошло…
Один!.. Один!..
Еще ниже склонилась голова старика, и тихие слезы, катясь одна за другою из глаз, мочили его длинную серебряную бороду…
II. Итоги
Жутко бывает человеку, оглянувшись назад и заметив, как быстро идет время и жизнь, решить, что тридцать лет – много-много времени. А между тем это так, и немудрено, что в продолжение тридцати лет большие перемены произошли в семье Горбатовых; немудрено, что в это время выросло и созрело новое поколение, а прежнее сошло в могилу.
Бывает счастливый род, члены которого наследуют от предков долголетие. Люди видят своих детей, внуков и правнуков и умирают тогда, когда уже становится тяжело жить, когда от жизни взято все, что только может дать она. Но таких людей встречается все меньше и меньше, даже в самых издавна отличавшихся долголетием фамилиях сокращается срок жизни. Причин этому много…
Род Горбатовых и в прежние времена не отличался долголетием. Из истории мы знаем только одного Горбатова времен царя Ивана Грозного, который дожил до глубокой старости. Друг Петра III, Борис Григорьевич Горбатов, умер пятидесяти с небольшим лет, несмотря на замечательно крепкую природу и сложение.
Сын его, Сергей Борисович, никогда не отличался особой крепостью и после испытаний, пережитых им в молодости и, конечно, сильно повлиявших на его здоровье, поддерживал себя только правильной деревенской жизнью. Если бы эта тихая, однообразная и спокойная жизнь без особых радостей, но и без горя могла продолжаться, он, вероятно, достиг бы счастливой старости.
Но это не было ему суждено. Человек сердечный и впечатлительный, он плохо перенес несчастье своего любимого сына Бориса. Год следствия над декабристами состарил его на много лет. Вернувшись из поездки в Сибирь к сыну, он почувствовал все недуги старости и не мог уже больше оправиться. В своем родном и милом Горбатовском, среди любимой обстановки, напоминавшей ему хотя тревожные, но все же лучшие годы жизни, окруженный своими неизменными старыми друзьями-книгами, он медленно угасал, сам того не замечая.
По временам он еще строил планы, что вот по весне, когда немного окрепнет, снова поедут они с женою в Сибирь, к Борису и Нине. Но скоро уже и эти планы стали забываться, о них не говорили больше.
Татьяна Владимировна Горбатова, крепкая, выносливая женщина, ни на шаг не отходила от больного мужа. Он угасал, но был спокоен, его сердце устало, настолько устало, что переставало сильно чувствовать, безразлично ко всему относилось. Ее сердце устало не меньше, а между тем продолжало жить горячей мучительной жизнью. Положим, удар, нежданно ее поразивший, когда арестовали Бориса, не сломил ее, и она теперь видела, что несчастье не было еще так велико. Она судила по-своему, глядела на вещи глубоко и ясно и после поездки в Сибирь не раз повторяла себе, что все случилось для Бориса, может быть, и к лучшему, что пути Провидения неисповедимы, и, кто знает, был ли бы он счастливее, если бы остался свободным, в обществе. Во всяком случае, она знала, что он не одинок, что возле него хорошая и любящая жена и друзья. Но все же это сознание не мешало материнскому сердцу обливаться кровью в разлуке с сыном, хоть и не в этом было ее главное несчастье.
Пуще всего ее мучила теперь семейная жизнь другого сына. И хотя от нее было скрыто многое, но она почти подозревала истину, отгоняла от себя эти мысли, но все же невольно подозревала. Невестка была безнадежна. Теперь она уехала опять за границу с детьми и живет там уже второй год. Как живет, что там делает – ничего неизвестно, пишет она редко.
Сын Владимир в Петербурге, продолжает службу, которая ему очень удается. Каким образом он мог отпустить жену, что между ними было – она даже не хочет его и спрашивать. Она чувствует, что он ничего нового ей не скажет. Он приезжал как-то в Горбатовское ненадолго. Он сделался в семье еще более нелюдимым, ни одного откровенного, сердечного разговора не было между ними. В нем произошла большая перемена, он стал такой странный, мрачный. Сердце матери видело, что он очень несчастлив, но ничем не могла она помочь ему, да он и не просил ее помощи.
Всего этого горя оказалось мало, пришло новое горе. Муж тяжело болен, и она видит ясно, что он уже не встанет, что придется ей похоронить его. И она не отходит от него ни на минуту, ловит каждый его взгляд, прислушивается к каждому его дыханию. Он бессилен, он плохо видит; но тяжко ему стало бы, если бы мог он разглядеть ее лицо в иные минуты: такая скорбь выражается в этом прекрасном, старческом лице. Только в молитве находит она отраду и черпает в ней силу для этих мучительных дней, для этих бессонных ночей.
Проходят недели – больному не лучше, он видимо слабеет. Доктора теряют всякую надежду. Иногда он начинает жестоко страдать, и она страдает с ним, страдает вдвойне.
Приходят последние минуты. Он понял наконец, что умирает. Сначала он возмутился при этом сознании. Но такое возмущение продолжалось недолго, оно прошло и сменилось спокойствием. Он лежал в полной памяти, страдания прекратились, только слабость была такая, что трудно было ему поднять руку, трудно было шевельнуть языком.
Она сидела над ним без слез, не отрывая взгляда от его бледного лица и его потухших глаз. Она уже не молила Бога о том, чтобы он сохранил ему жизнь, она понимала, что смерть – спасение.
Но как же это он умирает? Тут было что-то такое, чего она не понимала, никак не могла постигнуть. Он умирает!..
И внезапно разгоревшимся пламенем вспыхнула в ней вся ее любовь к нему, та любовь, которой она отдала всю жизнь с первых дней своего отрочества.
Он умирает… Он, бывший счастьем и горем всей ее жизни, он, так долго жданный ею! Во вторую половину ее жизни, в долгие годы тихого семейного счастья, прежняя страсть мало-помалу переставала говорить в ней, с годами и кровь остывала. А главное, являлись различные интересы, наполнявшие жизнь, – дети, судьба их.
Иногда его как будто и совсем для нее не было. Не было его потому, что он и она – были одно, они жили одной жизнью, одними мыслями и чувствами…
Теперь он уходит, они разъединяются!..
И вся прежняя любовь, никогда не проходившая, никогда не уменьшавшаяся, но только невидная и неслышная, снова появилась во всей своей силе, как будто вернулось прежнее время. Она опять любила его, как в молодые годы.
То же самое обновление чувств перед вечной разлукой происходило и в нем.
– Ближе ко мне… Ближе!.. Дай руку, Таня!.. – то и дело шептал он.
Проходили часы, слабость его увеличивалась.
– Таня, – вдруг прошептал он, – я хочу исповедаться и приобщиться, пригласи священника…
Она вся вздрогнула от неожиданности и изумления. Она в первую минуту просто не поверила ушам своим. Он сказал это, он, всю жизнь мучивший ее своим неверием?
Она поспешила исполнить его желание. Он слабо ей улыбнулся. Он знал, что большего удовольствия не может доставить ей в эти печальные минуты, – и решился доставить ей это удовольствие.
Но во время исповеди и причастия никогда не изведанное им благоговейное чувство сошло ему в душу. Как будто тяжесть спала с его плеч, тоска исчезла. Он не в силах уже был рассуждать и анализировать своих ощущений, он просто предавался им.
Когда священник ушел и Татьяна Владимировна склонилась к нему и поздравила его, всеми силами удерживая подступавшие слезы, он из глубины сердца шепнул ей:
– Теперь мне хорошо… Хорошо…
Он задремал. Прошло несколько часов. Вдруг он открыл глаза и слабо сжал руку жены.
– Прощай, Таня! – расслышала она. – Прощай… Не печалься… Мне хорошо… Прости меня… Я много горя причинил тебе… Но ведь ты знаешь, как я всегда любил… Как я люблю тебя… Ведь мы хорошо… Мы дружно прожили с тобою, Таня…
Он хотел еще сказать что-то, но замолчал и стал забываться. Он уже ничего не видел, или, вернее, видел очень многое. Время от времени он произносил имена сыновей, звал их, говорил с ними… И потом опять звал ее:
– Таня!.. Сюда… Ближе!.. Ближе… видишь, как хорошо… Пойдем вместе…
Голос его совсем замер. Он глубоко вздохнул, потом слабо простонал. Началась агония.
Она сидела неподвижно, с застывшим лицом, держа в руках его холодеющую руку. Когда эта рука совсем остыла, когда она почувствовала, что все уже кончено, она тихо поднялась, перекрестилась и поцеловала своего друга, закрыла ему глаза, опустилась на колени и долго без слез и рыданий, но всей силой своей веры и своей любви молилась.
Никто не смел подойти и ее потревожить.
Наконец она встала с колен, еще перекрестила и поцеловала усопшего, а потом твердым голосом стала делать распоряжения.
Но стоило только взглянуть на ее преобразившееся лицо – и каждому ясно становилось ее безысходное горе. Да, это было безысходное горе, хотя никто не услышал от нее ни одной жалобы.
Ее жизнь была кончена.
Через полгода она поехала в Сибирь к сыну и невестке. Они с трудом ее узнали – это была дряхлая, больная старуха. Она уже не жила, она только спокойно и терпеливо ждала смерти. Через два года она умерла, завещав перевезти ее тело в Горбатовское и похоронить в родовом склепе рядом с могилой мужа.
По окончании срока каторги, значительно для него сокращенного, Борис Горбатов был переведен на поселение в один из самых живописных уголков Юго-Западной Сибири. Он устроился с женой и княгиней Маратовой, совсем забывшей о Петербурге ради своей обожаемой воспитанницы, в просторном, выстроенном им доме. Большие денежные средства, находившиеся в руках Нины, а также состояние княгини давали им возможность устроить даже и в этой дикой стране такую обстановку, какая была им по вкусу.
Скоро Борис Сергеевич и его семья сделались самыми известными и уважаемыми людьми в этой местности. Не говоря уже о том, что каждый прибывший из России или проезжавший спешил в дом Горбатовых, где всегда находил радушный прием и удобства европейской жизни, но даже окрестные инородцы полюбили доброго русского барина и шли к нему за помощью и за советом. Он сам полюбил этих полудиких сынов Азии, заинтересовался их бытом, не жалел для них денег и приносил им немало пользы.
Однако его близость с инородцами и вообще влияние, полученное им в крае, доставляли ему немало неприятностей. Местное начальство зорко за ним следило и очень часто чересчур бесцеремонно вмешивалось в жизнь его. Если должностные лица были порядочными людьми, они, конечно, ни в чем не мешали Горбатову и были с ним в наилучших отношениях. Но попадались люди и непорядочные, люди, желавшие показать свою власть, поломаться над этим знатным и богатым человеком, который тем не менее все же был «преступником». Конечно, и этих людей ему легко было задобрить теми же деньгами; но поступать так было не в его правилах, и он не раз переносил большие неприятности. Он подвергался самым бессовестным доносам, в которых его выставляли чуть ли не возмутителем и укрывателем преступников.
Одним из самых лучших его удовольствий была переписка с друзьями, с товарищами долгого заточения, разосланными теперь по Сибири и Кавказу. И вот начальствующие лица, желавшие сделать ему неприятности, всячески тормозили эту переписку. Очень часто письмо, написанное к человеку, жившему за несколько верст, шло сначала в Петербург, разбиралось в «третьем отделении» и затем возвращалось обратно, достигая по назначению иной раз не ранее как через полгода, а часто и совсем теряясь по дороге.
Несмотря, однако, на неприятности, жизнь Горбатовых все же шла хорошо. В семье у них было дружно и ладно. Муж и жена не могли наглядеться друг на друга, и не могла на них наглядеться старуха Маратова. Скоро у Горбатовых родился ребенок, мальчик, а затем через два года и девочка.
Борису Сергеевичу стыдно было бы пожаловаться на жизнь свою – он был здоров, деятелен, о скуке не было и помину. Он любил все проявления жизни, все его интересовало, каждый новый год обогащал его знаниями. Он погрузился в изучение страны, где привелось ему жить. Один предмет увлекал его к другому. Его мистицизм, стремление к высшим загадкам и истинам человеческого духа потерпели крушение в европейском масонстве. Затем перенесенное испытание и жизнь заставили его спуститься на землю. Но теперь, среди новой обстановки, в нем поднялись прежние вопросы, и он решил, что, пожалуй, здесь, вблизи к колыбели мира, он и найдет немало ответов.
Он ревностно принялся изучать восточные языки, азиатскую науку, входил в сношения с учеными ламами и наконец достиг того, что они признали его ученость даже в азиатском значении этого слова. Раскаиваться ему не пришлось: если на многие вопросы еще и не было найдено ответа, то все же он наталкивался на весьма интересные явления из области духа, существования которых он прежде и не подозревал.
Так проходили годы. Ему суждено было испить полную чашу семейного счастья и семейного горя. Сначала он с женою похоронил горячо любимую им княгиню Маратову, а затем и обоих детей своих, умерших от азиатской холеры. Горе и навсегда оставшаяся тоска по детям сломили и без того плохое здоровье Нины.
Это здоровье сделалось теперь главной заботой Бориса Сергеевича. Все, что можно было сделать деньгами и человеческим знанием, было сделано для поддержания жизни Нины. Она жила, хотя и страдая. Но время брало свое, корень болезни не мог быть вырван. Нина Александровна лишилась употребления ног, и последние пять лет своей жизни никто иначе не видал ее, как в кресле на колесах, которое в ясные хорошие дни возил Борис Сергеевич по обширному саду, разбитому вокруг их дома.
Нина Александровна умерла пятидесяти лет, умерла от медленно развивавшегося в ней истощения сил. Она не сознавала того, что умирает, – просто заснула, в последний раз улыбнувшись мужу и слабо сжав его руку.
Он должен был призвать себе на помощь всю свою философию, всю свою мистическую веру, чтобы перенести этот удар, ожидаемый им многие годы, но все же казавшийся ему невозможным.
III. Младшая линия
Владимир Горбатов после смерти отца и матери получил половину их огромного состояния. Исполнилась даже его заветная мечта – к нему перешел и великолепный петербургский дом. Служебные его успехи росли быстро: в тридцать с небольшим лет он был уже генералом и занимал влиятельное и видное положение. Жизнь устроилась именно так, как он желал. Все цели были достигнуты, все тревоги должны были исчезнуть. Погубленный им брат далеко, в Сибири, и даже, как он знал, считает себя счастливым. А если он счастлив, так и смущаться нечего, совесть не должна упрекать; значит, все устроилось к лучшему, значит, он ни в чем не виноват.
А между тем он, холодный и расчетливый человек, привыкший жить только ради себя, ставивший высшею задачею угождение своему честолюбию и грубым страстям, он был очень несчастлив среди успехов и богатства.
Все его старые приятели, знавшие его до двадцать пятого года, его просто не узнавали. Он сделался мрачным и нелюдимым, часто запирался у себя. Никто не слыхал его смеха, даже его ирония, которую он любил выставлять на вид, пропала. Такая перемена говорила в его пользу, и о нем стали судить как о человеке, в котором ошибались сначала, решили, что он оказался гораздо сердечнее и глубже, чем о нем думали.
«Этот человек сражен семейным горем, на него страшно подействовала ссылка в Сибирь любимого брата, смерть отца и матери, а главное – жена, жена его убивает!»
Но такое заключение было неверно. Кроме враждебного чувства и зависти, он никогда ничего не питал к брату. К отцу и матери он относился равнодушно и еще за многие годы до их смерти рассчитывал на эту смерть и на ней строил различные планы.
Его томило и мучило нечто такое, что он и сам определить не мог. С того самого дня, как он предал брата, несмотря ни на что, он не имел покоя. Он придумал для себя и перед самим собою большую защитительную речь, постоянно повторял ее себе, оправдал себя, решил, что оправдание справедливо, а между тем не мог успокоиться.
Брат, хотя и счастливый в своей далекой ссылке, стоял перед ним и не отходил прочь. И он боялся этого призрака пуще всего на свете. Он много раз начинал письмо брату, находил, что должен же написать ему, – и ни разу не имел силы докончить такого письма. Так ни одного письма и не послал в Сибирь.
Его ощущения, его страдания можно выразить так: он разлюбил себя. Он, прежде только и знавший, что носиться с собою и ставить себя на пьедестал, курить перед собою фимиам, теперь тяготился собой, не заботился о себе. Все пришло, все есть, а между тем оказывалось, что ничего не нужно, что не стоит он, этот идол, этот «я» того, чтобы с ним так носиться, чтобы доставлять ему всякое удовольствие. И вследствие этой все возраставшей отчужденности от себя, доходившей иногда просто до самоненависти, совсем изменился его характер. Теперь ему ни до чего не было никакого дела.
Жена и их взаимные отношения его не мучили, он махнул на все это рукой, потому что прежнего самолюбия уже не было. Она была ему только противна, и ее отсутствие оказывалось все-таки утешением. Она широко пользовалась такой переменой в характере мужа, и скоро он остался совсем один в своем огромном доме.
Катерина Михайловна почти безвыездно жила за границей. Она вытребовала для себя очень большую ежегодную сумму, которая ей аккуратно высылалась мужем, и он иногда почти по годам не имел о ней известий.
Все знали, что она тайно приняла католицизм, что она воспитывает детей в иезуитской школе. Сначала ее имя соединяли с именем графа Щапского, потом возвращавшиеся из-за границы рассказывали, что Щапский давно уже порвал с нею, что она ведет самую безнравственную жизнь. Сожалели о детях.
Наконец начали обвинять Владимира Сергеевича в его бесхарактерности.
«Если он ничего не может сделать с женой, то, по крайней мере, должен спасти детей…»
Эти толки дошли до него. Он сделал над собою усилие, вышел из обычной апатии, написал жене решительное письмо, заставившее ее приехать в Петербург.
Через месяц она уехала, но уже без детей.
Дети стали воспитываться в Петербурге. Отец очень мало обращал на них внимания, на этих двух быстро выраставших мальчиков. Они были отданы на руки наемным воспитателям.
Тот прекрасный образ семейной жизни и семейного воспитания, который в течение нескольких поколений был присущ семье Горбатовых, исчез бесследно. Эти бедные дети, Сергей и Николай, имея отца и мать, были самыми жалкими круглыми сиротами.
Все больше и больше тяготясь собою и жизнью, потерявшей весь прежний смысл, Владимир Сергеевич ни разу не остановился на мысли о детях. Ему и в голову не приходило, что любовь к детям, забота о них, исполнение относительно них своих обязанностей могут быть для него единственным лекарством, что, быть может, дети примирят его и с самим собою, и с жизнью.
Он просто не находил в себе отеческого чувства. Общественное мнение потребовало от него, чтобы он взял детей к себе, – и он исполнил это требование. Они жили с ним в одном доме, ни в чем не нуждались, воспитывались так, как воспитывались их сверстники, принадлежавшие к одному с ними кругу, – большего никто от него не мог требовать.
Он часто по целым неделям не видал детей, а когда встречался с ними, ему становилось еще скучнее, еще тяжелее. Эти мальчики, всегда как-то затихавшие и смущавшиеся при его появлении, робко отвечавшие на его вопросы, только раздражали его.
«Она приучила их меня ненавидеть», – думал он и спешил скорее прочь от них.
Никто не приучал их его ненавидеть; до своего приезда они просто никогда о нем не думали, потому что почти никогда о нем не слыхали от матери.
Поселясь под одним с ним кровом, они не знали, что он такое и как к нему надо относиться.
Если бы он захотел, конечно, они стали бы глядеть на него как на отца; но он не сделал ни одной попытки к сближению с ними. Они видели в нем совсем чужого человека, неразговорчивого, мрачного, строгого.
А между тем этот чужой человек имел над ними права и власть, и они его боялись. Он никогда еще ни в чем не поступил с ними жестоко, но, несмотря на это, они оба почему-то были убеждены, что он способен на всякую жестокость.
Их гувернеры и учителя в самых крайних случаях выставляли его имя: «Мы будем жаловаться вашему отцу, и вот тогда увидите».
И никакие наказания не действовали на мальчиков так, как эта фраза.
Если Владимир Сергеевич мало обращал внимания на этих детей, живших с ним и носивших его имя, то, конечно, о других своих детях, не носивших его имени, он уже совсем не думал. Таких детей было у него несколько, но он даже не знал, что сталось с ними.
Из своих мимолетных привязанностей он помнил только одну. Это была скромная молодая девушка, с которой он сошелся незадолго до своей женитьбы. Он имел от нее сына и навещал ее в течение более чем трех лет. Для него в делах такого рода это была целая вечность. К концу трехлетнего срока его посещения скромного домика на Васильевском острове сделались весьма редки. Ему стали надоедать и мать, и ребенок. Вероятно, прошло бы несколько месяцев – и несчастная, соблазненная им женщина была бы им совсем забыта. Но тут случилось нечто непредвиденное.
Как-то раз Владимир Сергеевич заехал в укромный домик и никого не нашел в нем – его возлюбленная с ребенком неизвестно куда скрылась. Она оставила ему записку, где говорила, что хотя очень поздно, но наконец поняла свое заблуждение, и главное – поняла «его», так как узнала о таких его поступках, после которых не хочет иметь с ним ничего общего. Она вымолила прощение у своих родных и уезжает к ним – куда? – ему нечего об этом заботиться. Но она просит его об одном – забыть про ее существование и про существование ребенка…
Владимир Сергеевич вознегодовал. Не он бросил – его бросили!
И вместе с этим он вдруг почувствовал в себе что-то такое, как будто даже некоторую страстную нежность к этой покинувшей его женщине. За минуту перед тем он думал о ней равнодушно и холодно, теперь же, по прочтении ее письма, ему показалось, что она нужна для него.
«Что за вздор! К чему это, она должна вернуться!» – властно и решительно, по своей привычке, твердил он себе.
Он стал наводить справки, где она, и ничего не узнал. Целый год он нет-нет да и возвращался к мыслям о ней и продолжал наводить свои безуспешные справки. Но в конце концов и на это дело махнул рукою…
Между тем его терпение в борьбе с нелюбовью к самому себе и отвращением к жизни истощалось. Подошло военное время, началась венгерская кампания. Владимир Сергеевич попросился на театр военных действий. Все его сослуживцы в один голос свидетельствовали, что он выказывал в самых горячих делах большую храбрость, хотя это и не была истинная храбрость героя, а просто искание смерти.
Он нашел то, что искал. Он пал в жарком деле, впереди русских солдат, и в последнюю минуту, смертельно раненный, пересиливая тяжкие страдания, чувствовал себя счастливым – он наконец перестал себя ненавидеть и успокоился…
В это время молодые Горбатовы не только уже имели свои семьи, но старший, Сергей Владимирович, женившись очень рано, успел даже овдоветь.
При жизни отца они считали себя людьми очень богатыми; но, разобравшись в наследстве, увидели, что ошиблись. Владимир Сергеевич, тяготясь жизнью и думая только о том, как бы забыться, в последние годы особенно сильно предался своей страсти к картам. Уже после смерти отца, получив наследство, он должен был выплатить огромные долги, сделанные им в молодости. А умирая, он оставил новым представителям рода Горбатовых настолько запутанное состояние, что его трудно было и распутать. Имения были давно заложены, то и дело оказывались новые долги. Между тем и Сергей, и Николай не взяли особенно большого приданого за своими женами.
Узнав о смерти мужа, приехала из-за границы Катерина Михайловна для того, чтобы получить свою законную часть наследства. Когда выяснилась сумма этой законной части, она пришла в ужас. У нее тоже было немало долгов, и за покрытием их средств оказывалось вовсе недостаточно для такой жизни, какую она привыкла вести. Она сочла за лучшее остаться в России и после объяснения с сыновьями поселилась в Горбатовском доме.
Сергей и Николай служили в гвардейских полках, но ни тот, ни другой до сих пор не делали блестящей карьеры.
Вообще Катерина Михайловна убедилась, что все теперь уж не то, как было в годы ее молодости. Общество изменилось, прежние отношения порваны, дом обветшал… нужно начинать все снова.
Она не боялась того, что ее беспорядочная жизнь может ей в чем-нибудь повредить. Стоит только обновить старый, великолепный дом, дать несколько блестящих балов – и все вернется, весь Петербург у нее будет.
Она так и рассчитывала.
Но вот оказывается настолько сильное расстройство дел, что прежнего образа жизни вести нельзя. А главное, уж и в обществе ходят толки о том, что Горбатовы разорены.
Во что бы ни стало нужно заставить замолкнуть эти толки – il faut faire bonne mine au mauvais jeu[2]. Год-другой можно будет еще вывернуться, а там остается одна последняя надежда: Сергей овдовел, его нужно женить на очень богатой девушке, состояние которой могло бы помочь поддерживать блеск падающего дома.
И она стала заботиться об этом, стала высматривать для сына богатую невесту.
Через два года ей удалось достигнуть цели – Сергей Владимирович женился на прелестной и молоденькой княжне Засецкой, круглой сироте, только что выпущенной из Смольного института.
Положим, княжна принесла мужу не бог весть какое состояние, всего с небольшим полмиллиона, но у нее были самые блестящие надежды в будущем: она была единственной наследницей очень богатых и старых дядей и теток. А полмиллиона, получаемые Сергеем Владимировичем из рук в руки в бесконтрольное распоряжение, давали возможность значительно очистить дела и продержаться до получения первого наследства.
С ранней весны до глубокой осени Горбатовы жили в Знаменском имении – соседнем с Горбатовским – и это значительно сокращало их расходы.
Таким образом, семья состояла теперь из Катерины Михайловны, Сергея, его второй жены и четырех маленьких детей от первого брака и их, Николая с женою, и единственным сыном.
Вот и все сведения, какие имел о своих родных Борис Сергеевич, возвращаясь из Сибири на родину.
IV. Барский приезд
Борис Сергеевич никого не известил о своем приезде. В последние годы он время от времени получал письма от племянников и считал своим долгом отвечать им. Но это была вовсе не родственная, а чисто официальная переписка, из которой он никак не мог узнать, что такое Сергей и Николай. Они передавали ему внешние события своей жизни – и только. В последнем их письме были обычные фразы о том, что они радуются его скорому возвращению – и так далее. В своем ответе он говорил, между прочим, что о возвращении еще и не думает. Это была правда.
Но вдруг его потянуло на родину, вдруг в нем поднялось какое-то ожидание, почти даже надежда, на что он – и сам не знал. Он быстро собрался в дорогу в сопровождении своего верного, всю жизнь бывшего при нем камердинера Степана. Они на несколько дней остановились в Москве. Борис Сергеевич повидался кое с кем, устроил некоторые свои дела и поспешил в Горбатовское. Степан, однолеток своего господина, так же хорошо, как и он, сохранившийся старик, считал своим долгом заметить перед выездом из Москвы:
– А вы бы, Борис Сергеевич, уведомили молодых господ, племянничков, о прибытии в Горбатовское… Ведь они, надо полагать, в Знаменском?
– Да, в Знаменском, писали, что целое лето и осень пробудут.
– Ну, так вот и известили бы, а то нехорошо – обидятся, пожалуй, подумают: дяденька, мол, не хочет и знать нас…
– Ничего не подумают, что я им – чужой!.. Не знают меня совсем… – угрюмо проговорил Борис Сергеевич.
Степан покачал головою.
– Как же это – чужой? Кровь-то ведь своя…
Он запнулся и, видимо, чего-то смутился, а потом продолжал:
– Сереженька-то, чай, помните, малютка какой был? Ровно ангелочек, он же и крестник ваш, один у вас остался. Вот спросить-то, жаль, некого, здесь их мало знают. Да авось Бог милостив, вышел Сереженька хорошим, добрым барином, так, может, вам, батюшка, и в утешение будет под старость… Так-то! Напишите, напишите…
Из этого разговора видно было, какие отношения существовали между господином и крепостным человеком. Этот крепостной человек был лучшим другом барина и никогда не стеснялся высказать свои мнения и давать советы. Борис Сергеевич нередко следовал его советам, но на этот раз остался при своем решении и так и не известил своих племянников. Он решительно не хотел никаких встреч и приготовлений, ему было тяжело все это, ему хотелось незаметно очутиться в своем старом гнезде и оглядеться, одуматься. Он приехал в Горбатовское ясным летним вечером, и его встретила полная тишина давно покинутой барской усадьбы. Большой дом был наглухо заперт. Коляска Бориса Сергеевича остановилась у громадных ворот, которые тоже стояли на запоре. Все спали. Степану долго пришлось стучаться. Наконец со всех сторон сбежавшиеся и отчаянно лаявшие собаки разбудили людей.
– Барин приехал! – кричал Степан.
– Какой барин?
– Барин из Сибири, Борис Сергеевич.
Эта весть мгновенно облетела все дома, построенные полукругом около барского дома и служившие помещением бесчисленной дворни. Более двадцати лет эта дворня оставалась без всякого дела, даром жила, кормилась и плодилась. Успело за это время вырасти новое поколение, никогда не видавшее большого барского дома отпертым и жилым. У этого поколения уже сложилась легенда о прежних барах, барине Борисе Сергеевиче, живущем где-то за тридевять земель. Этого барина ждали, но как тридцать лет тому назад, так и теперь срок его приезда казался неопределенным и далеким, до того неопределенным и далеким, что барин уже давно превратился в какое-то сказочное существо.
Знаменских господ иногда видали. Изредка, раз в лето, они наезжали в Горбатовское. Тогда старый ключник Петр Сидорович отпирал дом и водил бар по бесчисленным комнатам, толкуя о том, что он содержит все в исправности, что ни одна вещичка не пропала в доме и все на своем месте. Дворня выглядывала изо всех щелей на нарядных господ и затем, когда они уезжали, долго шли о них разговоры.
Несколько лет тому назад, уже после смерти Владимира Сергеевича, случилось следующее происшествие: наехали знаменские господа, а с ними их матушка из чужих краев, барыня Катерина Михайловна. Ее горбатовская дворня хорошо знала, знала и недолюбливала. Тем не менее все старые дворовые сочли своим долгом выйти к барыне Катерине Михайловне, чуть не земно ей поклониться и приложиться к ее ручке.
Ох уж и изменилась же она! Ее помнили такой молоденькой, легкой, как птичка, – теперь уже не то.
Но она такая же щеголиха, и голос у нее такой же властный, и глазами она так же поводит.
Катерина Михайловна приказала вести себя в дом, первым же делом напустилась на ключника, что пыли много, а затем позвала своих людей, приехавших с господами из Знаменского, и начала отбирать многие дорогие барские вещи.
Только и слышно было:
– Вот это укладывайте! Вот это!..
«Как же так? Ведь дом-то Бориса Сергеевича, а не Катерины Михайловны, и он должен барское добро беречь пуще глаза, и никому, как есть никому, не давать к нему и прикоснуться. Как же это, не раз наезжали молодые господа, бариновы племянники, и никогда-то ни одну вещицу не тронули… Замечал он, что на многое у них глаза разбегаются, стоят, поговаривают, разглядывают, а до сей поры все же ничего не взяли. Так что же это?»
Он было заикнулся Катерине Михайловне о том, что он баринова распоряжения насчет вещей не получал. Может, управляющий, Кузьма Захарыч, что знает, так пусть уж барыня дозволит ему спросить Кузьму Захарыча.
Как закричит на него Катерина Михайловна: «Какой там еще Кузьма Захарыч! Мои это вещи, и я за ними приехала… А ты – дерзкий грубиян, скот…»
И не успел старик очнуться, как она своей барской ручкой изрядно-таки прямо его в лицо хлопнула.
Старик оробел, отошел и грустно смотрел, как чужие холопы барское добро разбирают да укладывают. Побежал он к управителю докладывать: «Так, мол, и так, есть, что ли, от барина распоряжение?»
Управитель почесал в затылке.
– Нет, – говорит, – никакого распоряжения. А только что же с ней поделаешь!..
Однако все же он съездил в Знаменское к Катерине Михайловне, переговорил с нею и, вернувшись, успокоил ключника:
– Ее это вещи, и тебе, старина, за них отвечать не придется. Да она говорит, что еще не все свое взяла, еще, мол, много осталось.
Через несколько времени управитель пошел в дом отобрать несколько ценных вещей и сказал ключнику, что везет их в Знаменское, барыне…
И вдруг – барин приехал! Это известие было так неожиданно, так невероятно, что все сразу оказались ошеломленными, будто ударом грома.
Да верно ли?.. Как тому быть? Как это – барин приехал?..
Но в тоне, каким передавалось это известие, заключалось нечто такое, что никак нельзя было не поверить. Все почувствовали это.
Барин приехал! Что из этого будет, что теперь со всеми ними станется, какая жизнь начнется? Эти вопросы не задавались еще, думать-то было некогда, но они инстинктивно возникали в каждом, сказывались в тревоге, изобразившейся на всех лицах.
Не прошло и десяти минут, как уже не было такого уголка в обширном помещении горбатовской дворни, где не произносилось бы на все лады слово «барин». Не было ни одного человека, даже ребенка, который бы не проснулся и не одевался поспешно.
– Барин… Барин приехал! – шамкали старики и старухи.
– Барин приехал, чего дрыхнешь-то! Вставай… Вставай! – будили малых ребят, тормошили их, толкали. – Барин, барин приехал!
Дети, испуганные до полусмерти, подымали рев, но матери при первом отчаянном звуке этого рева давали им колотушку.
– Что ты, аспид!.. Что ты… Никшни!.. Барин приехал… Услышит… Услышит!
И ребенок, вконец перепуганный этим уже известным, но совсем непонятным ему и казавшимся страшным словом, сдерживал свои рыдания, свой крик и начинал дрожать всем телом и прятаться куда ни попало, ожидая близкой неминучей гибели.
Но кроме детей и подростков, дрожавших от страха и прятавшихся спросонья по углам, все, поспешно одевшись, спешили к барскому дому. Менее чем за полчаса безмолвный, поросший густою травою двор наполнился сотнями человеческих фигур, туманно рисовавшихся в полусумраке летнего вечера.
Вся эта толпа остановилась в нескольких саженях от барского крыльца и, не мигая, смотрела перед собою на крыльцо, на окна.
А между тем ничего не было видно – на крыльце никто не показывался, окна по-прежнему стояли с заколоченными ставнями.
Проходили минуты. И вот дверь в барский дом отворилась, на крыльце показался управляющий Кузьма Захарыч, много лет бывший неограниченным властителем огромной дворни. Этот грозный и поразительно важного вида человек лет пятидесяти, всегда выплывавший медленно, тяжелой походкой, с откинутой головою, теперь чуть кубарем не скатился с крыльца. Он подбежал к толпе и крикнул:
– Олухи! Ну чего ж вы стоите-то?! Да идите же, дьяволы, отпирать окна. Ступайте в дом, да тише… Не топать!..
Толпа дрогнула, потом на мгновение снова как бы застыла. Еще миг – и все хлынули к дому.
Отпирались одна за другою тяжелые ставни, большая дверь барского крыльца стояла настежь, и в нее проходили мужчины и женщины. Через несколько минут приемная, освещенная наскоро зажженными двумя свечками, битком набилась этим людом. Отсюда была видна огромная зала, вся увешанная старинными портретами, погруженная почти в полный мрак. Слабое мерцание свечи, одиноко торчавшей в старинном запыленном канделябре, не могло победить этого мрака.
Все замерли, стояли не шелохнувшись и ждали. Прошло, как им показалось, немало времени.
Наконец, там вдали, в самом конце громадной залы, сверкнул свет, хлопнула дверь, по старому мозаичному паркету гулко раздались шаги… Ближе… Ближе… В зале зажглось еще несколько свечей. Кузьма Захарыч подскочил к дверям приемной и отчаянно замахал руками:
– Сюда, в залу, барин зовет… Тише!..
Толпа стала проходить в залу. Старики и старухи протискивались вперед, молодые, в робости и тревоге, отставали.
Из полумрака выделилась сухощавая небольшая фигура с длинной белой и блестящей, как серебро, бородой.
– Барин… Барин! – раздался в толпе глухой восторженный шепот.
Послышались всхлипывания. Все смешалось. Старики и старухи со всех сторон обступили Бориса Сергеевича, падали перед ним, целовали ему ноги, причитали:
– Красное наше солнышко, светик наш ненаглядный!.. Не чаяли мы тебя видеть!.. Слава тебе, Господи… Эх, батюшка, батюшка – да и не узнать тебя – уезжал ты молоденький, а вернулся-то старенький!..
– Да, старенький вернулся! – повторял он взволнованным голосом, поднимая и обнимая старых слуг. – Много времени… Вот и вы не помолодели. А дай-ка – узнавать стану… Петр!.. Марья… Акулина… Здравствуйте!..
Он всматривался, называл всех этих стариков и старух по именам.
– Батюшка, золотой, нас не забыл, помнит! – восторженно, умиленно шептали кругом, снова ловя его руки, припадая к его платью.
В первую минуту он, было, стал отнимать свои руки, не давал целовать их, но тотчас же понял и почувствовал, что это фальшь, что это бессмыслица, что это обида, и уже не отнимал больше рук, и отдавал себя всего поцелуям. Широкое, давно-давно неизведанное им чувство охватило его, и он каждого и каждую обнимал и целовал громко и крепко, от всего сердца. Он любил в эту минуту все эти сморщенные старые лица, всех этих дряхлых и бодрых людей, пропитанных запахом тесного жилья и кухни.
Наконец он перецеловал всех стариков и старух и сделал несколько шагов вперед. Вокруг него уже были совсем незнакомые лица, глядевшие на него смущенно и изумленно. На некоторых из них он прочел даже страх. И эти тоже все стали подходить к его ручке. Но теперь ему это было неприятно и неловко. Он положил руки в карманы и начал кланяться на все стороны.
– Здравствуйте, здравствуйте! – повторял он.
Его взгляд поднялся выше и скользнул по выступавшим из мрака старым портретам. Он окинул взором эту огромную залу с двойным светом, хорами, глубоким потолком, совсем уже терявшимся во мраке.
Ему стало вдруг тяжело и тоскливо; он почувствовал утомление…
– Устал, спать пора!.. – проговорил он тихо и печально.
Толпа расступилась, и он медленно, почти шатаясь, пошел из залы по скрипящему под его шагами старому мозаичному паркету.
V. Дядя и племянник
Плохо спалось в эту ночь Борису Сергеевичу. Старое родовое гнездо не успокоило и не согрело. А между тем ведь это была та самая комната, в которой он вырос и где до сих пор оставались нетронутыми многие его прежние дорогие по воспоминаниям вещи.
Но уставший старик, сердце которого, несмотря на долгую и трудную жизнь и, быть может, даже именно вследствие этой жизни, было до сих пор еще молодо, страшился коснуться этих окружавших его воспоминаний. Он чувствовал, что стоит только допустить их до себя – и они им совсем овладеют. Он напрягал все свои силы, боролся с ними, как с врагами, из простого, инстинктивного чувства самосохранения, потому что теперь ему нужно было, прежде всего, отдохнуть. Он чувствовал большую слабость, голова была тяжела, в виски стучало, лихорадочная дрожь пробегала по всем членам. Он старался ни о чем не думать, звал сон. И сон наконец пришел, но ненадолго. С первыми лучами солнца проснулся Борис Сергеевич, встал, поспешно оделся и вышел из спальни.
Глубокая, жуткая тишина стояла в огромном пустом доме. Он пошел знакомой дорогой, отпирая двери, к которым столько лет не прикасалась рука его. Он обходил комнату за комнатой. Эти разнообразные комнаты, знакомые до мельчайших подробностей, встречали его своей грустной тишиною, своей атмосферой пустоты и затхлости. Весь дом производил на него впечатление кладбища. Каждая комната была мавзолеем, на котором при его приближении выступали полустертые буквы знакомого и дорогого имени.
Бледный старик спешил дальше и дальше, не останавливаясь, не вглядываясь, чувствуя только подступавшую к сердцу тоску, с которой ему хотелось упрямо бороться. Обойдя весь дом, он вышел на стеклянную террасу. Дверь была заперта, ключа не оказалось. Борис Сергеевич постоял минуту, огляделся, растворил широкое, составленное из разноцветных стекол окно, приподнялся и легким движением перепрыгнул через окно в сад, где встретило его раннее летнее утро…
Но прогулка не освежила и не ободрила. Упрямая борьба с воспоминаниями ни к чему не привела – они одолели, и мы видели, с каким тяжелым сознанием своего одиночества возвращался старик с этой прогулки…
Теперь дверь террасы стояла отпертою, и едва Борис Сергеевич поднялся по широким ступеням, как заметил своего Степана, стоявшего почти у самой двери и с жаром что-то кому-то объяснявшего. Кому – еще не было видно. Но миг – и Борис Сергеевич различил высокую, широкоплечую фигуру щегольски одетого не то в утренний, не то охотничий костюм молодого человека лет тридцати с небольшим. Борис Сергеевич остановился, вгляделся, и вдруг у него шибко забилось сердце. Глаза его блеснули – и новым чувством, именно тем чувством, отсутствие которого так его тяготило, вдруг пахнуло на него.
– Сергей? – тревожно, смущенно и в то же время радостно проговорил он и протянул перед собою руки.
Молодой человек бросился к нему. Они обнялись.
– Дядюшка, хорошо ли это, не дать знать… – начал было племянник неизбежную, требовавшую приличия фразу, но тут же замолчал, видя, что дядя его не слушает.
Да, он не слушал, он не мог слышать. Отстраняя от себя племянника и снова его к себе привлекая, он жадно вглядывался в красивое, открытое, хотя и не отличавшееся правильностью очертаний лицо молодого человека. Ему казалось, что это лицо ежесекундно перед ним меняется. Вот сейчас он узнал в нем своего отца, узнает брата, теперь вот узнает мать… Ее… ее улыбка!.. Вот она, как живая!.. Еще миг – и он видит перед собою самого себя в прежние годы…
«На всех похож!.. Наш… мой… родной!» – бессознательно, в полузабытьи шептал он и снова привлекал к себе племянника, и снова горячо целовал его, и чувствовал, как все шире и шире поднимается в сердце теплое, отрадное чувство.
Степан, в своем длиннополом, бутылочного цвета сюртуке, с узкими, несколько короткими рукавами, в огромном клетчатом платке, обмотанном вокруг длинной худой шеи, стоял не шевелясь. Гладко выбритое лицо его, с крупным носом, маленькими светлыми глазами и большим лысым лбом, все светилось радостной улыбкой.
– Так как же это ты, как узнал о том, что я здесь?
Наконец, приходя в себя и все продолжая крепко сжимать руки племянника, проговорил Борис Сергеевич.
– Я это, сударь, с вечера еще распорядился, – сказал Степан, – послал в Знаменское. Вот и теперь Сергею Владимировичу докладываю: дяденька-то, мол, у вас чудак, каким сызмальства был – таким и остался… бывало вечно, никому не сказавшись, как снег на голову нагрянет… так вот и теперь. А Сергей Владимирович на меня не в обиде, что я от себя распорядился…
– Какой в обиде, большое тебе спасибо, любезный! – громким звонким голосом сказал молодой Горбатов, с изумлением и весело поглядывая то на дядю, то на Степана.
Конечно, он не стал объяснять, какое впечатление в Знаменском произвело посольство Степана. А дело было вот как. Совсем уже ночью прискакал, запыхавшись, из Горбатовского гонец с известием о приезде барина. Все уже в Знаменском разошлись по своим комнатам и даже погасили свечи. Не ложилась еще только Катерина Михайловна; она по старой привычке засыпала и вставала очень поздно. Когда ей доложили о гонце, она, видимо, несколько встревожилась и приказала призвать его к себе. Горбатовский дворовый вошел в горницу к барыне с большою робостью – Катерину Михайловну все горбатовские хотя и редко видали, но почему-то ужасно боялись.
– Когда приехал? – строгим тоном спросила она.
– Да уж совсем вечером, ваше превосходительство, – ответил посланный, вся фигура которого выражала не то перепуг, не то крайнее изумление.
– Что же, письмо есть ко мне или к молодому барину?
– Никак нет-с!
– Так, значит, на словах что сказать приказано? Да кто тебя послал? Сам барин?
– Никак нет-с, барин, надо полагать, започивать изволили, а это Степан Трофимыч мне наказали: ступай, мол, сейчас верхом в Знаменское и доложи господам, что барин приехал – только и всего… Я мигом и поскакал…
Катерина Михайловна сразу не сообразила.
– Какой еще там Степан Трофимыч?
Гонец совсем растерялся.
– Да Степан Трофимыч… Ихний… Барский… С барином он приехал… Наш, горбатовский…
– А! – презрительно протянула Катерина Михайловна и махнула рукой. – Хорошо… Ступай…
Посланный низко поклонился и вышел.
Она осталась одна и несколько мгновений сидела неподвижно, кусая губы и обдумывая что-то. Потом она прошла в комнаты, которые занимал ее старший сын с женою.
Все было тихо. Но из полуотворенной двери кабинета Сергея Владимировича пробилась полоска света. Катерина Михайловна заглянула – ее сын сидел у открытого окна в накинутом на одно плечо шелковом халате и курил сигару.
– Ты еще не спишь, мой друг?.. Могу я войти? – спросила Катерина Михайловна.
Он обернулся, с изумлением взглянул на нее.
– Как видите, еще не сплю, maman…[3] войдите… В спальне такая духота, а Наташа боится все сквозного ветра, запирает окна… К тому же у меня вот уже третий день бессонница – не спится, да и только! Скука такая, что просто с ума сойти можно… Вам что-нибудь угодно, maman?..
Она подошла к нему, присела рядом с ним.
– Ты говоришь: скука! А я к тебе с новостью, mon cher[4], будет и развлечение – дядя приехал!
Она передала свой разговор с горбатовским посланным.
Сергей выбросил за окно сигару, запахнул халат на своей широкой богатырской груди и добродушно усмехнулся. Когда он так усмехался, его худощавое, с несколько выдающимися скулами, тонким носом и светлыми, часто моргавшими глазами лицо делалось удивительно привлекательным. Он еще усмехнулся и наконец проговорил:
– Гм… дядя приехал!.. Ведь он и должен был приехать…
– Но ты заметь, – перебила его Катерина Михайловна, – заметь: каков! Если уж заранее не мог написать, то хоть бы теперь прислал два слова, а то ведь это его лакей распорядился известить нас…
– Так что же? Все равно! – равнодушно произнес Сергей. – Может, он нас совсем и знать не захочет и не приедет…
Катерина Михайловна нетерпеливо передвинулась на кресле.
– Нет, этого нельзя… Так нельзя, mon cher!.. Я тебя очень прошу пораньше утром к нему съездить.
Сергей поморщился.
– Увольте, maman! В самом деле – ведь он, может быть, не хочет – зачем же мне навязываться… подлизываться!..
– Пустое, пустое, мой друг! Он старший в семье, ты его крестник… ты непременно должен поехать… у него странности, я не знаю, каким он стал теперь… Но ведь ему многое надо прощать… и поверь – никто тебя не осудит – напротив, всякий поймет, оценит… c'est un vieillard… un homme malheureux après tout!..[5]
Она стала уговаривать и скоро достигла цели. Сергея уговорить было нетрудно, особенно ей – она еще не так давно сумела уговорить его вторично жениться, когда он вовсе и не помышлял о женитьбе. Ему теперь просто надоел этот разговор, упрашивания, объяснения, ему, наконец, захотелось спать – и он дал ей слово рано утром отправиться в Горбатовское. Он сдержал свое слово, но нельзя сказать, чтобы с особенным удовольствием дожидался возвращения дяди с прогулки. Ждать ему, однако, пришлось недолго, да к тому же Степан заинтересовал его. Этот смешной старик, этот «сибирский тюлень», как почему-то про себя уже назвал его Сергей, встретил его, как родного, мало того – встретил, как малого ребенка, заговорил с ним каким-то ободряющим, покровительственным и нежным тоном. И в то же время этот тон был так естественен и добродушен, что Сергей никак не мог возмутиться подобной фамильярностью со стороны крепостного человека.
Но вот появился дядя и оказался совсем не таким, каким его представлял себе племянник. Между ними, при первом же объятии, пробежала как будто электрическая искра, и Сергей, к изумлению своему, почувствовал, что этот маленький красивый старик, всегда такой далекий, такой чужой – ему близок, что его влечет к нему, что ему приятно встречаться с ним глазами и чувствовать в своей широкой, костлявой руке его маленькую и дрожащую теперь от волнения руку.
– Эхма! Да чего же я стою! – вдруг спохватился Степан. – Батюшки, Борис Сергеевич, чай, ведь отощали! Самовар давно уже на столе, да и позавтракать готово… Пожалуйте!..
Он немного согнулся и жестами любезно приглашал в дом как радушный хозяин. Борис Сергеевич взял племянника под руку и повел его в большую столовую, где широкие окна стояли настежь, наполняя всю комнату душистой свежестью и лучами солнца. Степан исчез, но тотчас же и вернулся, а вслед за ним появились два человека с завтраком.
– Пожалуйте, пожалуйте вот сюда! – подвигая стулья и приглашая садиться, суетился Степан.
Дядя и племянник сели. Тогда Степан стал хозяйничать около самовара, разлил чай. И все это он делал с приемами привычной хозяйки. Он ворчал сквозь зубы, что самовар плохо вычищен, что и подать-то господам не сумели как следует деревенские олухи.
– Ну, чего стоите!.. Да перемените же тарелки! Скорее, живо! – распоряжался он.
Молодой Горбатов был уверен, что этот «хозяин» сейчас же сядет рядом с ними и примется пить чай и завтракать; Степан, однако, этого не сделал. Он продолжал разливать чай, угощать, суетиться, распоряжаться; но сам ни к чему не прикоснулся и на минуту не присел.
Тем временем Борис Сергеевич, видимо, успокоился. Волнение его улеглось, и он начал расспрашивать племянника.
– Да, чудно, чудно, как подумаешь, – говорил он со своей тихой улыбкой. – Ведь я тебя оставил крошечным мальчиком и с тех пор, думая о тебе, так все и представлял себе тебя барахтающимся и пускающим губами пузыри карапузом! А вот ты какой огромный, не в деда, не в меня, а в отца… но, впрочем, и он был гораздо меньше ростом… Вот ты какой, мой мальчик!..
– Хорош мальчик! – усмехнулся Сергей. – Стариком я уже становлюсь, дядюшка, по утрам то и дело седые волосы выщипываю.
– Раненько, друг мой!..
– Что за раненько, четвертый десяток ведь уже пошел. Вот посмотрите моих ребят от первой жены, совсем большие…
– И то правда! – качнул головою Борис Сергеевич.
– Ну, да и пожил, немало было глупостей, теперь вот и сказываются.
Дядя тревожно взглянул на него.
– Как же так: немало глупостей! Ведь ты женился еще почти мальчиком, вдовел недолго – когда же успел делать эти глупости? Семейная жизнь должна была спасти тебя от этого…
– Ах боже мой, одно другому не мешает…
И, проговорив это, Сергей улыбнулся такой милой, такой ласкающей улыбкой, что старый дядя заметил только эту улыбку и за нею не расслышал, не понял слов племянника.
– А вот, что же это? Смотрю я, как ты одет: не в военном!..
– Да ведь я после войны сейчас вышел в отставку…
– Что так?
– А надоело! Бог с ней, с этой службой! Военное время – другое дело. Да теперь новой войны у нас, кажется, не предвидится… Повоевали – довольно! Дрались – себя не жалели… и все же – побиты…
Дрогнувшая, тоскливая нота прозвучала в голосе Сергея. Но это было только на мгновение. Он продолжал уже совсем спокойно:
– Нет, свобода лучше всего. Петербург надоел до тошноты… здесь скучно, да все же не так…
– Так ты намерен совсем поселиться в деревне? Оно, действительно, пожалуй, лучше, – теперь, Бог даст, будет и здесь много дела, и хорошего дела…
– Это вы о чем, дядя? О крепостных, об освобождении? Я, знаете, этому не верю, это все только разговоры…
– Ну хорошо, мы об этом поговорим после… Что же ты намерен? В предводители?
– Да как вам сказать, если выберут – пожалуй: но ненадолго, опять ведь обуза… И, уж во всяком случае, хлопотать я не стану…
Он хотел было сказать дяде, что мать хлопочет, что она всеми силами его уговаривает и что если он до сих пор ей не поддавался, то единственно потому, что имеет в руках очень веское возражение: дела еще далеко не устроены, не приведены в ясность, доходов мало, а положение губернского предводителя дворянства потребует больших затрат и такой широкой жизни, какая покуда еще немыслима в Знаменском. Он хотел сказать это, но воздержался, испугавшись в разговоре с дядей намека на денежные дела. «Боже мой, еще подумает, что я так сразу и тянусь к его деньгам!»
Сергей даже покраснел при этой мысли и совсем замолчал.
А Борис Сергеевич в это время, очевидно, приготавливался задать какой-то вопрос и все не решался. Наконец он себя пересилил и спросил как-то нерешительно, опустив глаза:
– А что твой брат?
– Николай? Мы со дня на день ждем его в Знаменское. Он все еще в мундире; но думаю, что тоже ненадолго…
– Что он – каков? Похожи вы друг на друга?
– Мы? – Сергей засмеялся. – Нисколько, то есть, конечно, и между нами находят некоторое сходство, но он совсем другой человек…
– Какой же он человек?
– Хороший! – проговорил Сергей.
Дядя невольно улыбнулся.
– Ты говоришь, это будто ты-то дурной человек.
– Нет, это не то… каков я, я не знаю, право, никогда об этом не думал; но между нами большая-большая разница. Да хотя бы вот, скажу его словами: я скучаю, а он тоскует. Он странный человек. С ним трудно сойтись. О нем почти всегда думают хуже, чем он есть. Ну, да что тут говорить, я знаете, анализировать не умею, определять… Приедет – увидите, судите… Я скажу еще только раз: Николай хороший человек, очень хороший!..
Дядя и племянник еще побеседовали с полчаса, и затем Сергей уехал. Решено было, что дядя отдохнет, осмотрится немного и к обеду будет в Знаменском. Проводив племянника и глядя ему вслед, Борис Сергеевич снова и еще сильнее ощутил в себе прилив давно забытого, живого чувства любви и участия к родному человеку.
Неизвестно откуда взявшийся Степан подошел и спросил радостным голосом:
– Ну что, батюшка, как нашли племянничка?.. Ведь я говорил, славный вышел барин наш Сереженька?..
– Славный, славный! – несколько раз повторил старый дядя, возвращаясь в дом, который теперь уже не казался ему таким мрачным, таким пустым. Не все еще умерло, не все еще похоронено, недаром он рвался сюда. Есть для кого жить!
И со всею силою долголетней тоски своего одинокого сердца он хватался за эту возможность жить и любить.
VI. Знаменская хозяйка
Обширная усадьба села Знаменского была теперь уже совсем не та, чем была она в те далекие времена, когда здесь безвыездно жила последняя княгиня Пересветова со своей единственной дочерью Татьяной Владимировной. В те далекие годы Знаменские палаты на всю губернию славились своей роскошью и затмевали собою соседнее Горбатово.
Но княгиня с княжной уехали и уже не возвращались. Княгиня умерла. Княжна жила в Гатчине, при дворе Павла Петровича. Правда, через несколько лет в Знаменском снова было закипела жизнь. Княжна Пересветова вышла замуж за Горбатова, и молодые покинули Петербург, с которым не имели ничего общего, переселились в деревню, стали отделывать и перестраивать заново горбатовский дом, а пока жили в Знаменском. Но недолго это продолжалось. Дом скоро был готов, на него затратились большие суммы, Горбатовское сделалось по своему богатству чуть не царской резиденцией, а Знаменское стало в запустении. Татьяна Владимировна даже перевезла отсюда все лучшие вещи.
После смерти старых Горбатовых Знаменское досталось их сыну Владимиру; но он, кажется, ни разу и не заглянул сюда. Только теперь, в самое последнее время, владельцы стали наезжать. Были сделаны кое-какие необходимые исправления, но перестроить заново большой старый дом, омеблировать и устроить его, согласно с новейшими требованиями вкуса и моды, до сих пор не удавалось – ни у Катерины Михайловны, ни у сыновей ее пока не было на это средств. Большое приданое второй жены Сергея Владимировича, как известно, почти целиком ушло на уплату старых долгов и поддержание блеска петербургского дома, а ее дяди и тетки, на которых был главный расчет, умирать до сих пор еще не хотели.
Конечно, и теперь Знаменский дом производил впечатление, на нем лежала печать широкой, богатой старины со всеми ее тяжелыми, неуклюжими, но все же смелыми затеями. Любитель такой старины пришел бы здесь в восторг: XVIII столетие, не подновленное, не подделанное, глядело из каждого угла, из убранства каждой комнаты.
Но все же и любитель старины должен был бы согласиться, что не так этот старый дом, как теперешняя жизнь в нем уже значительно указывает на упадок знаменитой фамилии Горбатовых. Теперешние представители этой фамилии жили здесь уже совсем не так, как жило предшествовавшее им поколение. Как ни велик был дом, но прежде в нем помещались только княгиня Пересветова с княжною, а теперь пришлось в нем устроиться двум семьям, с детьми, гувернантками и няньками.
Прежде княгине и княжне прислуживал такой штат, что они никак не могли всех запомнить по именам, теперь прислуги было гораздо меньше, хотя, конечно, все же чересчур много, больше, чем бы следовало, и прислуга эта была не прежняя – она уже не была так вымуштрована, не так хорошо содержалась. Одним словом, прежний, почти царский строй жизни мало-помалу и ни для кого незаметно превратился в строй жизни помещичий, все еще широкий, но уже совсем беспорядочный.
Главной причиной этому была не запутанность денежных дел, а то, что не было настоящей хозяйки, такой хозяйки, какою была княгиня Пересветова, какою была потом Татьяна Владимировна Горбатова. Хозяйкой и руководительницей дома считалась Катерина Михайловна. Поселясь с сыновьями, она ни за что не уступила бы этой роли их женам, да они и не добивались спорить с нею, а между тем Катерина Михайловна совсем не была способна хозяйничать.
Выйдя замуж почти ребенком, она очутилась среди громадного горбатовского богатства, которым заведовали старики, предоставлявшие ей только право всем пользоваться. Она даже никогда не задумывалась над тем, как это все ведется, устраивается и в Петербурге, и в Горбатовском. Ей представлялось, что вся эта огромная, сложная машина действует как-то сама собою, раз и навсегда заведенная.
И она только наслаждалась жизнью, пока обстоятельства не принудили ее покинуть Петербург и уехать за границу.
Там, на чужбине, протекла половина ее жизни. Она нигде не могла прочно устроиться. Огромные суммы, высылаемые ей из России, давали возможность не рассчитывать, и она перекочевывала с места на место. То покупала она себе палаццо во Флоренции, проводила в нем несколько месяцев, потом продавала его, конечно, с большим для себя убытком. Потом поселялась где-нибудь в хорошенькой вилле на Lago di Сото или в Швейцарии. Затем ее влекло в Париж, куда она спешила вослед за каким-нибудь новым «избранником своего сердца», нанимала дом, устраивала себе «salon», заводила блестящие экипажи, заставляла говорить о себе в продолжение целой зимы столицу мира – и снова исчезала, на этот раз в погоне за новыми впечатлениями, за новыми удовольствиями и встречами.
Иногда ей приходилось круто – все деньги истрачивались, а экстренные присылки из России почему-то (она никак не могла понять почему) становились затруднительными. Но в таких случаях всегда удавалось в конце концов устроиться: кто-нибудь ссужал деньги в долг, затем находилось в шкатулках немало очень ценных вещей, которые продавались, а тем временем, после настоятельных писем, все же из горбатовской конторы высылалась требуемая сумма.
Так и прошли долгие годы. Но вдруг Катерина Михайловна почувствовала, что устала, что ее уже никуда не тянет, что все надоело, – все эти Севильи, Парижи, Lago di Como, Флоренции… Уже не было интересных встреч… А тут – муж убит на войне, сыновья выросли… Можно вернуться в Россию, в свой великолепный дом и снова начать прежнюю жизнь, от которой она когда-то убежала. Она уже часто вспоминала теперь эту жизнь, давно желала к ней вернуться, но при муже об этом нечего было и думать. Он высылал ей огромное содержание, но только с одним уговором: чтобы она была как можно дальше, чтобы им не встречаться.
Она вернулась и на первых порах потерпела горькое разочарование: состояние расстроено. Но это разочарование мало-помалу сгладилось – Катерина Михайловна, как мы видели, нашла возможность многое устроить и приготовить посредством вторичной женитьбы старшего сына. Теперь она зажила новой жизнью: она вдруг, хоть и по-своему, все же поняла, что она – мать, бабушка, глава семьи.
Это было для нее так ново, так странно; но это ей нравилось. Кто видел ее в последние годы ее пребывания за границей и увидал бы теперь, тому трудно было бы узнать ее. Она даже перестала молодиться и покинула все ухватки модной львицы, превратилась в старуху. Почти совсем позабыв в Западной Европе русский язык, она теперь вдруг его вспомнила и незаметно для самой себя оказалась прирожденной старой русской «барыней».
Как ни была легкомысленна и бессердечна Катерина Михайловна во всю свою жизнь, но нужно отдать ей справедливость – в последние годы у нее стало изредка являться что-то похожее на упреки совести за эту беспорядочно прожитую жизнь. Конечно, эти упреки совести были не особенно мучительны и, конечно, она находила себе всегда оправдание, обвиняя во всем мужа, родных, обстоятельства. Но как бы то ни было, временами ей становилось тревожно и тоскливо.
Она очутилась одна, с недугами и усталостью приближающейся старости, без интересов, без цели, без значения. По возвращении же к семейству нашлись и интересы, и цели, и значение. Она внезапно выросла в собственных глазах, решила, что она единственная опора и спасительница семьи, что без нее все бы пропали.
Она только сожалела, что явилась слишком поздно, что уже многого нельзя спасти, что чересчур много наделано непоправимых глупостей. Прежде всего ее возмущали сыновья. Не имея никогда ни малейшего понятия об обязанностях матери, оставаясь всю жизнь равнодушной к детям, она, конечно, не была в состоянии разобрать, в чем виноваты ее дети и в чем виноваты относительно них она и ее покойный муж. Она просто была ими недовольна и не раз называла их про себя дураками.
Оба не сделали никакой карьеры, оба очень рано и глупо женились, без всякого расчета, по прихоти, по глупому мальчишескому капризу. Жена старшего сына умерла вовремя, не успев испытать на себе всю силу ненависти своей belle-mère[6]. А именно ее-то Катерина Михайловна и собиралась особенно ненавидеть: «Бесприданница! Подцепила мальчика… и каждый год ребенок, каждый год!..» Но молодая женщина умерла. Сергей Владимирович вторично женился по выбору матери, и с этой стороны Катерина Михайловна была удовлетворена. Она решила, что спасла сына.
Оставалась другая невестка, жена Николая, которая, очевидно, вовсе не желала умирать и очищать дорогу честолюбивым планам своей свекрови. Положим, у жены Николая были перед Катериной Михайловной оправдания: если она принесла с собою мало приданого, все же у нее была надежда в будущем, так как ее родители были очень стары, а единственный брат дышал на ладан, а во-вторых, за несколько лет семейной жизни у нее родился всего один ребенок, один сын. Это тоже значило немало. Но такие оправдания все же оказывались недостаточны, уж хотя бы только потому, что не Катерина Михайловна избрала ее для сына, никто даже и не спрашивал тогда ее согласия на этот брак. И Катерина Михайловна с первого же дня почувствовала к невестке большую антипатию, не особенно трудилась скрывать эту антипатию и искала всякого предлога, чтобы так или иначе уязвить молодую женщину.
Но и холодное сердце Катерины Михайловны все же запросило под старость чего-то похожего на привязанность. Если бы она осталась одинокой, она окружила бы себя какими-нибудь собачками, которых бы баловала и закармливала. Теперь не нужно было собачек – оказались внучата. Катерина Михайловна выбрала из этих внучат двух: единственного сына Николая, маленького Гришу, и дочь Сергея, Соню. Гришу бабушка выбрала потому, что с первого же взгляда на него нашла в нем с кем-то сходство, которое, вместо того чтобы устыдить ее, оказалось ей очень приятным. Затем она начала баловать Гришу, между прочим, из-за того, чтобы удалить его от матери, чтобы стать между ним и матерью.
Что касается Сони, то бабушка полюбила ее за красоту. Это была действительно прелестная девочка, и опять-таки она напоминала старухе ее собственное юное, прелестное личико, от которого теперь ничего не осталось, кроме почти забытых в петербургском свете воспоминаний да большого портрета, висевшего в одной из гостиных петербургского дома. В Соне Катерина Михайловна нашла повторение себя, она полюбила в ней себя и принялась баловать девочку самым безрассудным, самым жестоким образом.
К остальным детям бабушка была не только равнодушна, но даже подчас и очень несправедлива.
Сознавая свое значение для семьи, Катерина Михайловна не ошибалась – значение ее уже имело самые разнообразные последствия.
VII. Первые минуты
Уговорив сына сделать первый визит приезжему, Катерина Михайловна ушла в свою спальню, но долго еще не раздевалась и не ложилась. Она то ходила по комнате, то присаживалась к столу, подпирая щеку рукой, и долго так оставалась, неподвижная, будто погруженная в глубокие размышления. Но ощущений у нее было больше, чем размышлений.
Приезд Бориса Сергеевича, хотя и ожидаемый ею, сильно взволновал ее. Она не показала своего волнения перед сыном, но теперь, оставшись одна, предалась ему.
Дело в том, что Борис Горбатов был единственным человеком, с которым ей не хотелось встретиться в жизни, и в то же время он был единственным человеком, который для нее что-нибудь значит. Бессознательно, но она уважала этого человека, несмотря на то что не видела его многие годы, что расстались они молодыми, а должны были встретиться уже на склоне жизни. Он владел ее тайной, он был ее врагом – чего ожидать от этого приезда? Она представляла себе его, с его взглядами, понятиями… Он ни перед чем не остановится… А между тем нельзя уйти, нельзя избежать встречи; напротив, надо постараться всеми силами смягчить его, сделать его безвредным. Но как это сделать? Она не считала Бориса Сергеевича умным человеком. Но ведь в этом-то вся и беда, что он неумен: с умным человеком она, крайне неумная женщина, могла бы легче справиться, а с этим – нет!
«Но боже мой, – вдруг подумала она, – да ведь сколько времени прошло! Все было так давно, он мог очень измениться, он должен был измениться, может быть, он совсем другой… Ах, что-то будет завтра? Что-то будет?..»
Она понимала только одно, что должна употребить всю свою любезность, всю свою ловкость при этом первом приеме опасного родственника, а в крайнем случае должна разыграть роль глубоко несчастной женщины, искупившей долгими страданиями вину свою.
Мало-помалу она успокоилась. Как благоразумный полководец, сознавая всю опасность предстоящей битвы, она себя подбодрила и рассчитала свои силы.
Что касается Бориса Сергеевича, то и ему стало очень тяжело, когда он в назначенный час поехал в Знаменское. Он давно уже покончил с прошлым, многое забыл, многое простил и объяснил себе с тем спокойствием и беспристрастием, какие даются человеку только долгим временем, годами жизни. Он давно примирился с памятью покойного брата. Он почти никогда уже не думал об его измене, об его предательстве; думая о нем, он старался представлять его себе или юношей, с которым он был так близок, или героем, честно павшим в бою.
Но, несмотря на всю тишину, какую ощущал теперь в душе своей Борис Сергеевич, он все же не мог подавить противного чувства, каждый раз в нем поднимавшегося при мысли о Катерине Михайловне. В особенности это чувство заговорило в нем после встречи с племянником, когда он так сильно почуял в себе голос крови. Он готов был, как в годы юности, негодовать и возмущаться. Он многое простил этой женщине, простил ей свои личные обиды, простил обиды, нанесенные ею его покойной жене; но простить позор, нанесенный их старому, честному роду, он не мог.
И вот он ехал в дом, где она была хозяйкой, ехал как родной. Он сознавал, что должен подавить свои чувства, должен притворяться, играть комедию, а между тем ведь он никогда не притворялся и никогда не играл комедий!..
Полный тоски, с чувством крайней неловкости вошел он в большую, ярко освещенную солнцем залу Знаменского дома. Какая-то сухонькая старушка, с маленьким, бледным, обвисшим личиком, с длинными буклями, в которых ясно обозначалась седина, в легком, изящном летнем костюме, задрапированная кружевами, быстро пошла ему навстречу. Он остановился и невольно отшатнулся.
Кто же это? Кто эта маленькая старушка?
– Борис, боже мой, ты ли это? – проговорила она, пораженная не менее его.
Он взглянул еще раз, и раздражение и неприязнь, с которыми он ожидал этой встречи, внезапно исчезли. Это не она, и ничего, кроме жалости, не чувствовал он к этой новой, незнакомой ему и все же не чужой старушке.
– Борис, нам трудно узнать друг друга… – тихо прошептала она тоже не прежним голосом – и заплакала.
Он нагнулся, поцеловал ее маленькую сухую руку.
Первая страшная минута прошла благополучно. Катерина Михайловна почувствовала под собою почву.
Она взяла Бориса Сергеевича под руку и повела его дальше.
– Дети, дети! – звала она. – Идите скорее…
И потом, обращаясь к нему, прибавила:
– Все новое, от прежнего только мы с тобой остались…
В это время глаза Бориса Сергеевича остановились на прелестном лице молодой женщины, глядевшей на него большими, спокойными черными глазами.
– Натали, жена Сергея! – сказала Катерина Михайловна.
Он крепко сжал руку молодой женщины, ответил улыбкой на милую улыбку, и оба они невольным движением приблизились друг к другу и крепко поцеловались.
Она указывала на детей:
– Вот Соня, вот Володя, Маша, Коля.
Дедушка целовал внучат и говорил:
– Какие большие, какие славные!..
И на душе у него становилось хорошо. Он видел, как эта милая молодая женщина ласково глядит на детей, на детей своего мужа, и как дети доверчиво к ней жмутся.
Между тем Катерина Михайловна, обняв хорошенькую Соню, которая, вдруг отойдя от мачехи, к ней прильнула и лукаво выглядывала из-под бабушкиных кружев, призывала внимание Бориса Сергеевича:
– Борис, вот эта старшая, моя баловница, бедовая девочка, совсем от рук отбилась… Да, да, Сонюшка, я говорила тебе, что я буду на тебя непременно жаловаться дедушке. Да, Борис, будь с ней построже!.. Est elle gentille, cette mignonne?[7] – шепнула она ему, но так, что девочка отлично расслышала.
Борис Сергеевич погладил Соню по розовой щечке, но в то же время ему стало неловко. Чувство жалости, в первую минуту вызванное в нем переменой, найденной им в Катерине Михайловне, пропадало.
Катерина Михайловна промахнулась и вдобавок не заметила этого.
Вдруг возле Бориса Сергеевича очутился толстенький, нарядный, завитой мелким барашком мальчик. Он смело, с откровенным детским любопытством уставился на него большими черными глазенками и ловко расшаркался.
– А это вот другой баловень – Гриша! – говорила Катерина Михайловна.
Борис Сергеевич поцеловал ребенка. У него защемило сердце. Он взглянул на Катерину Михайловну вдруг блеснувшими глазами, но она выдержала его взгляд. Она спокойно указывала ему на медленно входившую в комнату молодую женщину:
– C'est Marie![8]
Он пошел навстречу этой Marie и невольно подумал: «Какая разница!»
Он сравнивал ее с женою Сергея. Как к той сразу повлекло его сердце, так эта сразу же произвела на него неприятное впечатление. А между тем что же можно было сказать против нее! Мари, жена Николая Горбатова, была еще очень молода – лет двадцати шести, не более, высокого роста, полная блондинка, с правильными, хотя несколько крупными, чертами. Она была к лицу одета и причесана. Она вошла, очевидно, не спеша, совсем спокойно; приветствовала почтенного родственника, которого видела в первый раз, любезной фразой.
Она сказала, что давно-давно хотела с ним познакомиться и узнать его, крепко сжала полной белой рукой его руку.
Все это было прилично, хорошо, решительно не к чему было придраться. Но Бориса Сергеевича не потянуло обнять и поцеловать эту молодую женщину, как он делал, здороваясь с Натали. Да и если б он вздумал обнять и поцеловать ее, то это вышло бы крайне неловко, – это, наверное, изумило бы ее, да, пожалуй, и всех.
Скоро появился Сергей, огромный, с длинными ногами, со своими большими, жилистыми руками и, несмотря на это, изящный в каждом движении, одетый, видимо, с большой тщательностью и обдуманностью.
Он улыбался во все стороны широкой, добродушной улыбкой, щурил глаза, обращался с дядей, как будто всю жизнь с ним не расставался. Дети тотчас же обступили его. Одного он подхватил под мышку, другого – под другую, поболтал их в воздухе, с третьим повертелся и наконец прикрикнул на них:
– Брысь! Довольно! Надоели!..
Он смеялся, дети смеялись, и, глядя на них, слыша этот смех, хорошо становилось Борису Сергеевичу.
– Какая у тебя жена! – улучив удобную минуту, шепнул он племяннику.
– А что, дядя?
– Хороша! Да не собой только, понимаешь… очень хороша!
Сергей прищурился.
– Тем лучше, если нравится, – проговорил он, – впрочем, она всем нравится – Наташа!
– А тебе, может, не нравится?
– Нет, и мне нравится, только… – Он вдруг сделался как бы серьезнее. – Только она, кажется, слишком хороша для меня…
В это время по всему дому послышался звонок, и Катерина Михайловна, подойдя к почтенному гостю, повела его в столовую.
За большим столом разместилось немало народу. Тут оказался гувернер мальчиков, бледный молодой француз, с выведенными в струнку усиками и почти совсем белой эспаньолкой. Две гувернантки, из которых одна, пожилая и степенного вида вдова, англичанка, носила историческую фамилию – называлась мистрисс Стюарт и держала себя как театральная королева; но, в сущности, была просто-напросто очень скучная и молчаливая дама. Катерина Михайловна выписала ее из Англии по какой-то особой рекомендации и была уверена, что только она и в состоянии дать детям «настоящее» воспитание. Мистрисс Стюарт пользовалась особым положением в доме, имела свое отдельное помещение, вставала поздно, выходила из своей спальни только к завтраку, давала детям урок английского языка и затем считала себя вправе совсем не заниматься ими. Другая гувернантка, молоденькая, с задорным, свежим личиком и быстрыми-быстрыми, довольно смелыми глазами, была русская, бедная дворяночка, Ольга Петровна Ежова. Она недавно окончила курс в Александровском отделении Смольного института и была взята в помощь мистрисс Стюарт. Вся возня с девочками лежала на ней. Дети ее, очевидно, любили и дружески называли «Лили».
Затем было еще два соседа, очень незначительного и скромного вида, которых представили Борису Сергеевичу, и целых четыре старушки, что-то вроде приживалок, что-то вроде последнего воспоминания о прежней барской жизни.
Обед обильный, разнообразный, но несколько безалаберный, проходил оживленно. Незаметно было никакой чинности, никакого стеснения, которые в прежние времена так свято соблюдались в домах, подобных дому Горбатовых.
Сергей громко смеялся, подшучивая над старушками-приживалками, заигрывая с детьми, и раза три в течение обеда пустил хлебные шарики по направлению хорошенькой Лили. Шарики каждый раз достигали назначения. Гувернантка укоризненно поднимала свои блестящие глазки на Сергея, немножко краснела, поеживалась, но, видимо, смущалась очень мало.
Борис Сергеевич, сидевший между Катериной Михайловной и Натали, не заметил этих подробностей, он с трудом вслушивался в то, что говорила ему Катерина Михайловна, для того чтобы впопад отвечать ей, и с большим интересом всматривался в свою другую соседку. Ему все в ней нравилось: вся ее небольшая стройная фигура, гладко, просто зачесанные густые черные волосы, длинные ресницы темных глаз, тонкий, хотя и неправильный, профиль, мягкая добрая улыбка, звук голоса.
От всего ее грациозного, милого существа веяло на старого, уставшего человека чем-то далеким, чем-то бесконечно милым и давно похороненным. Он искал в ней сходства с единственной женщиной, которую страстно любил в жизни, и находил в ней это сходство каждую минуту – не в чертах, не во внешности, но в чем-то неуловимом, в чем-то внутреннем, что несравненно важнее всякой внешности. Да, решительно эта милая соседка напоминала ему его Нину…
Обед был кончен. Дети рассыпались с шумом во все стороны. Сергей, несколько раскрасневшись от достаточного количества выпитого им вина, зашагал через всю комнату, шепнул мимоходом что-то такое хорошенькой гувернантке, верно, забавное, потому что она так и покатилась со смеху. Потом подошел к своей жене, разговаривавшей с Борисом Сергеевичем, нагнулся к ней и поцеловал ее в лоб.
Борис Сергеевич не спускал с нее глаз. Она взглянула на мужа, но ничем не ответила на поцелуй его, не улыбнулась ему, лицо ее оставалось спокойным, глаза ничего не сказали, и она продолжала начатый разговор. Борис Сергеевич чувствовал как будто тревогу.
Что это значит? Неужели, неужели она его не любит? Но нет, этого быть не может, это пустое!..
Собирались на прогулку, жар давно спал, солнце стояло низко, старый знаменский парк манил в свои влажные зеленые объятия.
Старик предложил руку Наташе. Она крепко, доверчиво оперлась на эту руку, и они, спустившись со ступеней балкона, пошли вдоль широкой аллеи, обсаженной могучими вековыми дубами.
– Ma foi, дядя, кажется, начинает ухаживать за Наташей! – весело говорил Сергей, обращаясь к матери и Мари.
– Ну, это не опасно! – заметила Мари, беря его под руку и улыбаясь ничего не выражавшей улыбкой.
– Помилуй, как не опасно! Да посмотри на него – ведь он совсем красавец со своей серебряной бородой!
А Катерина Михайловна думала: «Кажется, все хорошо, кажется, он поумнел, пора бы – совсем ведь старик!.. Неужели и я так постарела?»
Она глубоко вздохнула.
VIII. «Большие» и «маленькие»
Борис Сергеевич уже поздно вечером возвращался в Горбатовское. Старинная тяжелая коляска, запряженная тройкой крепких деревенских лошадей, слегка покачивала его по мягкой дороге. Дорога эта шла у опушки леса. С одной стороны в тихом сумраке летней ночи поднималась неподвижная, таинственная чаща вековых деревьев; с другой – терялись во мгле засеянные поля. На бледном небе едва видно трепетали звезды, и далекий край небосклона уже медленно загорался зарей.
Тишина вокруг стояла такая, что даже странно становилось; казалось, все замерло, застыло, окаменело, даже дорога не пылила под копытами лошадей и колесами коляски. И почти так же тихо, как в этой застывшей природе, было на душе у Бориса Сергеевича. Но то не была тишина старческой усталости, которую иногда он уже начинал чувствовать в последние годы. Нет, то была новая, спокойная тишина – и в ней все же чувствовалось биение жизни. Одинокому старому человеку, давно позабывшему все семейные радости, теперь снова истекший день посулил эти радости.
Борис Сергеевич окунулся в поток жизни, так или иначе, но все же бившей ключом в Знаменском доме, и, окунувшись в него, он почувствовал, что может приобщиться к этой жизни и сам, что найдется в ней и для него место.
Он уехал из Знаменского не только без того тягостного ощущения, с каким туда отправился, но этот день оказался для него большим праздником. Воспоминания детства и юности, от которых человек никогда не может совсем отделаться, наполняли его. Знаменское – ведь это была та жизнь, по которой он и сознательно и бессознательно тосковал в Сибири, среди совсем иной обстановки. И ему теперь было так отрадно, что даже не смущала его мысль о Катерине Михайловне, хотя он и сознавал, что не будь ее в Знаменском доме – там было бы еще лучше.
– Бог с ней, бог с ней! – шептал он.
Он думал о Сергее, он полюбил его в один день как родного сына; думал об его милой Наташе, о славных детях. Но вот пришлось подумать и о Мари. Она ему решительно не нравилась, она ему казалась теперь еще более неприятной, чем даже показалась в первую минуту. Но он остановил себя: «Быть может, я пристрастен, нужно от этого отделаться, нужно быть справедливым! Чем же, наконец, они-то виноваты!»
И все же он не мог отделаться от невольного враждебного чувства, которое вызвала в нем жена Николая и ее завитой и румяный, черноглазый Гриша. И еще менее того он мог отделаться от враждебного чувства, вызывавшегося в нем каждый раз, когда он думал о Николае.
«Как хорошо, что его нет, что он еще не приехал, что, по крайней мере, этого первого дня он не испортил».
Мало-помалу покачиванье коляски и окрестная тишина стали усыплять его. Он задремал и очнулся только у ворот горбатовского дома.
В Знаменском появление Бориса Сергеевича произвело большое впечатление. Даже дети были им заинтересованы. Еще во время послеобеденной прогулки дети оживленно и таинственно толковали о новом дедушке. Соня, Володя, Маша и Гриша чуть было даже не поссорились из-за этого нового дедушки. Маше и Грише он не понравился, а Соня и Володя были от него в восторге.
– У него такое доброе, красивое лицо, – говорила Соня, девочка очень живая, одаренная пылким воображением. – Я вот его точно, точно таким и представляла себе, даже во сне его таким видела.
– Вот и выдумываешь! – заметил Гриша. – Сама ты мне рассказывала, что он тебе приснился седой, с длинной бородой и большой-большой.
– Ну так что ж такое, он точно такой и есть.
– Как? Большой?
– Да, с длинной седой бородой, такой точно! – настойчиво твердила Соня.
Гриша презрительно пожал плечами.
– Да, большой, нечего сказать! Дядя Сережа вдвое его больше… И ведь известно, что ты, Соня, лгунья!
Он ей высунул язык и сделал гримасу.
Соня вспыхнула.
– Ты сам лгун, и я бабушке пожалуюсь, что ты дразнишься и гримасничаешь! – начиная уже всхлипывать, пропищала она.
– Да ведь это правда, Соня, – вступилась Маша, здоровая девочка, далеко не так красивая, как сестра, но все же с очень милым и задорным личиком. – Ведь это правда! Ты сама нам всем рассказывала, говорила «большой, большой!», а он маленький…
– Я с тобой совсем даже и не говорю! – окончательно озлившись, крикнула Соня и отвернулась от сестренки.
– Да полно же, как вам не стыдно! – вдруг проговорил до того времени молчавший Володя.
Этот Володя не был любимцем бабушки, не был любимцем отца, но зато был любимцем мачехи, «мамы Наташи», как дети часто ее называли. Володя был довольно странный мальчик, уродившийся, верно, в кого-нибудь со стороны своей покойной матери, потому что горбатовских черт в нем, по крайней мере, до сих пор не было совсем видно. Бледный, худенький, с рассеянными, как-то неопределенно глядящими, светлыми глазами, с прелестным серьезным ротиком, с широко раскрытыми, по временам вздрагивающими ноздрями – он производил впечатление чего-то своеобразного, загадочного.
В нем замечалась большая нервность и чересчур раннее умственное развитие. Иногда он поражал «маму Наташу» своими совсем недетскими мыслями, своими вопросами, на которые ей трудно, почти невозможно было отвечать ему, потому что он не удовлетворялся таким ответом, каким мог бы удовлетвориться другой ребенок. Он заставлял ее задумываться над ее обязанностями относительно него и начинал уже играть большую роль в ее внутренней жизни…
Он держался по большей части особняком, но иногда вдруг, под влиянием неудержимого порыва, примыкал к сестрам и двоюродному брату, оживлял их, выдумывал всевозможные забавы, рассказывал им какие-то странные истории, которые неизвестно откуда брались у него, заинтересовывал их этими историями, запугивал их даже, действовал на них как-то магнетически, так что они все находились под его влиянием.
Потом вдруг остывал, отделялся от них и начинал снова жить своей, никому не ведомой, таинственной жизнью.
Он был добрый мальчик, очень чувствительный, чуткий: но вместе с этим иногда в припадке внезапного гнева был способен прибить и сестер, и двоюродного брата, нагрубить гувернеру и гувернантке, нагрубить даже отцу, даже бабушке… В такие минуты только «мама Наташа» могла его, да и то не всегда, уговорить и привести в себя.
Дети его не любили и даже то магнетическое влияние, которое он имел над ними, было для них тягостно.
Весь этот день он был очень молчалив, ни с кем почти не сказал ни слова и только все пристально вглядывался в нового дедушку.
– Да перестаньте же! – еще раз своим тонким, властным голоском крикнул он. – Как будто не все равно: большой он или маленький! А знаете ли вы, что дедушка был сослан в Сибирь? Что он сидел в темнице долго-долго, что на нем были цепи?
Гриша, Соня и Маша раскрыли глаза и разинули рты. Этого они не знали.
– Кто тебе сказал? Откуда ты взял это? – в один голос, почему-то боязливо оглядываясь, прошептали они.
– Знаю, – спокойно и уверенно сказал Володя и так и не объяснил, откуда знает; но они ему поверили, как и всегда.
– Что же он такое сделал?
Володя пожал плечами, раздул свои тонкие ноздри и проговорил:
– Ничего дурного… Он был невиноват…
– Да кто же, кто тебе сказал все это?
– Я знаю! – опять таинственно произнес Володя, и дети больше ничего от него не могли добиться.
– Но ведь если он не был виноват, так, значит… значит, его приняли за другого! – вдруг рассудил Гриша.
– Может быть, не знаю! – рассеянно отвечал Володя и погрузился в задумчивость.
И не мог он из нее выйти во все время прогулки и потом, во время чая, и долго возился в своей постельке, решая какие-то трудные и важные вопросы. Он то и дело приподнимался, широко раскрывал глаза и оглядывал всю большую комнату, едва озарявшуюся светом ночной лампадки. Он как будто хотел и ждал увидеть что-то особенное.
Но ничего особенного не было. Направо, из-за полумрака, выделялась всклокоченная голова молодого француза, с его торчавшей белой эспаньолкой. Француз то храпел, то вдруг начинал скрежетать зубами. Это была его особенность во время сна. Володя ненавидел это скрежетанье, оно доводило его иногда до бешенства. С другой стороны была кровать Гриши. Гриша как лег, так сейчас же и заснул, и теперь лежал, разметавшись, с открытым ртом, мерно дыша, лежал во всей красоте здорового и уставшего за день ребенка…
Девочки тоже давно уже спали в своей комнате. Но прежде чем заснуть, они передали друг другу свои последние впечатления, вызванные приездом дедушки.
– А я думала, – сказала Маша, – вот приедет дедушка и привезет много-много игрушек…
– И я тоже думала, – тихонько ответила Соня, – я даже представляла себе, какие это будут игрушки; особенно мне хотелось маленькую, но, понимаешь, настоящую, самую настоящую кухню.
– А может быть, еще будут игрушки, как думаешь, Соня?
Соня подумала немного.
– Да, будут, наверно, будут; бабушка говорила, что у дедушки много, очень много денег. Подождем, он опять приедет…
Хорошенькая Лили, раздевавшаяся в это время и слышавшая их тихий разговор, подумала, что ведь нужно бы было внушить им, что думать о подарках и ждать их нехорошо; но вдруг ее мысли ушли в другую сторону, она чему-то тихонько про себя улыбнулась и ничего не сказала своим воспитанницам…
Старшие еще оставались несколько минут на балконе по отъезде Бориса Сергеевича. Они тоже думали о нем и говорили.
– Ах, как он изменился, какой старик, я бы его никогда не узнала! – произнесла Катерина Михайловна.
– Что же удивительного, – заметила Наташа, – ведь годы его немолодые, а жизнь какая была? Боже мой, на каторге, в ссылке, всю жизнь изгнанник… Потерял жену… Детей… Остался один на свете… Что же может быть ужаснее такой жизни? И еще надо удивляться, как он так бодр и свеж…
– Да, удивительно бодр и свеж! – сказал Сергей. – Глядя, каким гоголем он выступал с тобой под ручку в парке, никак нельзя было сказать, что это такой несчастный человек…
– Tu exagères, Natalie[9], – заметила Катерина Михайловна, – ведь у каждого в жизни потери, каждый переживает трудные минуты.
– Тут не минуты, maman, а годы…
– Э, друг мой, люди везде живут, и в Сибири, и на краю света. Ведь он рассказывал, как там у них хорошо было… и потом – привычка…
– Нет, это не то, совсем не то!.. – упрямо повторяла Наташа. – Совсем особенная, высшая жизнь, и я никогда еще не видала такого интересного человека…
– Ну да, совсем заобожала, как в Смольном у вас, – смеясь, проговорил Сергей, кладя руку на плечо жены, – институтка ты моя неисправимая! Вот Мари небось не видит ничего особенного такого в дяде и чрезвычайного?
– Конечно, – ответила до сих пор молчавшая Мари, – что в нем особенного – красивый старик… Насколько он умен – сразу судить нельзя, в особенности мне, так как он со мной почти двух слов не сказал. Вот одно в нем разве удивительно: как это, всю жизнь прожив в дикой стране, бог знает с какими людьми, он все же сохранил приличные манеры.
– Да, – усмехнулась Катерина Михайловна, – и я еще больше могу удивить тебя, представь – он теперь стал гораздо приличнее, он теперь гораздо лучше себя держит, чем в молодости, когда я его знала.
На этом кончился разговор о Борисе Сергеевиче. Все простились и разошлись по своим спальням.
IX. Магнит
Случилось то, чего никак не ожидал старый изгнанник, возвращаясь на родину, но что между тем было очень естественно. С первого же дня его стало тянуть в Знаменское, и не прошло и двух недель, как он там совсем освоился. Он уже несколько раз и в Горбатовском принимал всех знаменских жителей, от мала до велика.
В старом, еще так недавно заколоченном каменном доме и вокруг него все очень быстро изменялось. Целый день в открытые окна врывался свежий воздух, врывались солнечные лучи и вытесняли годами накопившуюся сырость и затхлость. Парк расчищался. Появился выписанный из Москвы садовник. Каждый день вырастали новые куртины и клумбы с цветами.
Борис Сергеевич по привычке вставал очень рано и до полудня работал, разбираясь в своем огромном, сложном и запутанном хозяйстве, так долго остававшемся на руках разных управителей, которые почти без исключений злоупотребляли своим положением и из которых многие, начавшие ни с чем, были теперь богачами.
Борис Сергеевич работал и приводил все в ясность с большим жаром и имел при этом вид человека с затаенною мыслью и планами, которых до поры до времени не хотел никому поверять. Да так оно и было.
Но как только пробьет полдень на старинных огромных часах рабочего кабинета, у дверей уже стучится Степан и объявляет, что готов завтрак. Борис Сергеевич складывает все бумаги и счета, запирает их на ключ в бюро и идет завтракать. Степан радуется, глядя на своего барина, и думает: «Ну, слава богу, все отменно хорошо, другим стал Борис Сергеевич… И кушает больше прежнего… И ведь такой добрый, улыбаться стал, смеяться. После Нины Александровны таким еще его никто не видывал!.. Отменно хорошо!..»
– Прикажете закладывать? – спрашивал он барина. – В Знаменское поедем али к нам гости будут?
– Поеду, поеду, – рассеянно, но весело говорил Борис Сергеевич.
– Да что это вы, сударь, все туда да туда, – во время одного из таких завтраков сказал Степан, – к нам бы почаще дорогих гостей звали. Ишь ведь какой, обо мне небось не подумаете, вам-то хорошо, весело, а я тут один, как сыч! Жадный вы нынче стали, сударь, вот что! Все себе одному… А я бы вот на нашего Сереженьку порадовался, на супругу ихнюю, малых деточек… Ведь как намедни наехали, зазвенели деточки по всем комнатам, забегали – так-то радостно стало!..
– Так поезжай со мной в Знаменское, Степан, что же тут.
Но Степан нахмурился и покачал головою.
– Нет, батюшка Борис Сергеевич, не поеду! – решительно и упрямо сказал он.
– Что так?
– Сами знаете, не приходится мне к Катерине Михайловне ездить. Я для нее холоп и дальше прихожей носу не смею высунуть… Намедни вот я с Володенькой поговорить вздумал да по головке его погладил, а она и входит: тотчас отвела его от меня и внушает ему по-французски, будто я не понимаю… А я очень-таки разобрал: «Не связывайся, мол, со старым лакеем, он тебя грязными руками запачкает».
Степан невольно взглянул на свои старые, красные, но очень чистые руки, и вдруг его доброе и в то же время спокойное и серьезное лицо сделалось злым и неприятным. Он, очевидно, хотел что-то прибавить, но замолчал.
Поморщился и Борис Сергеевич.
– Ну, погоди, Степан, еще недельку-другую, – сказал он. – Вот приведем все в порядок в доме, тогда и гостей чаще звать можно будет.
– Да чего тут приводить в порядок, батюшка, все у нас, кажется, и так в порядке. Вы сравните-ка теперь наш дом да Знаменский! Этот вот двести лет еще будет стоять и ничего с ним не сделается, потому – каменный он и не по нынешнему строен. Стены-то, стены – ведь их никакими пушками не прошибешь! А тамошний дом что – совсем рухлядью стал. Я как поглядел, так и обмер, не узнал даже, покосился весь, покривился, штукатурка-то валится, черные бревна изо всех дыр выглядывают… Давно бы пора его разобрать совсем да новый выстроить… Мне вот так сдается, что даже господам нашим, внучатам папеньки вашего покойного, Сергея Борисовича, в дому таком и жить-то не приличествует… Аль не на что новые хоромы вывести… Это господам-то Горбатовым? Ведь не может такое статься?
И он вопросительно и внимательно взглянул на Бориса Сергеевича.
– Ну, однако, вели же закладывать! – с нетерпением перебил Борис Сергеевич, не отвечая на вопрос его.
Степан был прав, вовсе нечего было ждать каких-нибудь еще новых исправлений, улучшений в горбатовском доме для приема гостей, и со стороны Бориса Сергеевича это была пустая отговорка. Просто ему приятнее было ездить в Знаменское, чем принимать родных у себя. Когда они сюда приезжали – его счастливое настроение то и дело портилось. Ему тяжело было видеть здесь, в этой обстановке, полной воспоминаний, Катерину Михайловну, а там, в Знаменском, хотя она и считалась хозяйкой, но он как-то переставал замечать ее.
Она вовсе ему не навязывалась, иногда по целым часам ее не было совсем видно. Она любила теперь проводить почти целые дни, особенно когда было жарко, в своих комнатах со спущенными занавесками, разбирая и перебирая сундуки, которые наполняли эти комнаты и где были сложены самые разнородные предметы, начиная со всевозможных заграничных вещиц, дорогих кружев, старых нарядов, запасов тончайшего белья, изумительно расшитого и разукрашенного крепостными мастерицами, и кончая даже самым ненужным тряпьем.
Катерина Михайловна по часам стояла на коленях перед каким-нибудь сундуком, все из него выкладывала, разглядывала, свертывала и перевертывала и снова укладывала на старое место или из сундука в сундук. Если ее спрашивали в это время по какому-нибудь делу, она сердито гнала всех прочь и говорила, что занята и чтобы ей не мешали.
Она допускала, при этом неустанном перебирании сундуков, только присутствие Сони и Гриши. Они, конечно, бывали очень рады оставаться в бабушкиных комнатах и разглядывать вместе с нею ее вещи. А бабушка вдобавок еще иногда им что-нибудь и дарила из своего хлама…
Мари тоже не надоедала Борису Сергеевичу. Нельзя сказать, чтобы антипатия между ними была взаимная, Мари даже очень бы хотелось быть поближе к Борису Сергеевичу; при других обстоятельствах она была бы не прочь позаботиться об этом, насколько то было в ее средствах. Но теперь в ней говорили обида и зависть – предпочтение, оказываемое стариком Наташе, было чересчур явно.
В первые дни Мари очень этим раздражалась, выходила из себя, но, по своему обычаю, молча и не показывая никому вида. Затем ей скоро надоело раздражаться и выходить из себя, так как она пуще всего дорожила своим спокойствием. Она махнула рукой и утешила себя мыслью, что это ненадолго. Наташа ведь взбалмошная и нетерпеливая, наверное, ей скоро надоест возиться со стариком, и вот тогда и она им займется.
И не думая больше о присутствии Бориса Сергеевича в доме, Мари стала продолжать свой обычный образ жизни. Она просыпалась очень поздно, пила кофе в кровати, потом еще час-другой нежилась, дремала и потягивалась. Затем медленно, с помощью двух горничных, начинала одеваться и причесываться. Выходила к завтраку нарядная, пышная, белая, со своими медленными, вялыми движениями, с заспанными глазами, с остатками зевоты. Между завтраком и обедом она обыкновенно сидела в тени на террасе с французским романом и выходила из своего спокойствия только в том случае, если гувернер или гувернантка приходили жаловаться на какую-нибудь Гришину проказу. Тогда она призывала Гришу и говорила ему строгим голосом:
– На тебя опять жалуются, ты опять дурно ведешь себя… Ты непременно хочешь сделаться совсем негодным мальчишкой, ни дня нет спокойного у меня с тобой. Иди в классную и сиди там до обеда, не смей играть с детьми и знай, что ты сегодня без пирожного…
Гриша выслушивал все это довольно равнодушно, во-первых, потому, что он каждый раз от своей матери слышал одни и те же слова, как будто раз навсегда заученные ею. А во-вторых, потому, что он ничуть не боялся последствий этих слов. Вместо того чтобы идти по приказу матери в классную, он кидался к бабушке, начинал жаловаться ей на несправедливость гувернера или гувернантки, уверял, что совсем не виноват, хныкал, принимал самый несчастный вид.
– Ну, ступай, ступай! – говорила Катерина Михайловна. – Я попрошу на этот раз, чтобы тебя простили, чтобы тебе позволили играть с детьми. Но знай – это в последний раз.
Мальчик чмокал руку бабушки и выбегал от нее довольный.
А Катерина Михайловна покидала свои сундуки и отправлялась на террасу к Мари.
– Мари, – говорила она, – опять вы мучаете Гришу!
– Чем? Кто его мучает? – отзывалась Мари, неохотно отрываясь от своего романа.
– Все вы его мучаете! Я тебе давно говорю: нельзя так накидываться на ребенка!.. Этот Рибо просто его ненавидит: его любимец Володя, тому всегда все он спускает, а Гриша всегда во всем виноват, ты же только потакаешь этим несправедливостям, никогда не разберешь дела как следует…
– Да ведь это моя обязанность, maman, его наказывать, когда на него жалуется учитель…
Катерина Михайловна с презрением пожимала плечами.
– Обязанность!.. Я думаю твоя обязанность, прежде всего, не портить его характера, чтобы он не чувствовал несправедливости… Извини меня, ты совсем, совсем не умеешь воспитывать!..
Мари несколько изменилась в лице, видимо, желала сказать что-то, но все же обыкновенно воздерживалась от всякого ответа. К таким разговорам и объяснениям она уже давно привыкла. Сначала она давала понять Катерине Михайловне, что, во всяком случае, не у нее ей брать уроки воспитания. Но Катерина Михайловна за подобные «оскорбления» поднимала такую перепалку и потом столько времени всячески придиралась к невестке, что Мари наконец перестала возражать и язвить, чтобы только ее оставили в покое, – да и к тому же ведь, в сущности, ей было решительно все равно, наказан ли Гриша или нет.
– Ах боже мой, да делайте, что вам угодно! – говорила она. – Прощайте его, если хотите, если находите, что он не виноват…
Она потягивалась, зевала и принималась снова за чтение.
Катерина Михайловна уходила с террасы, звала Гришу, разрешала ему играть с детьми и за обедом есть пирожное. Если же ей попадался Рибо и начинал объяснять виновность Гриши и необходимость наказать его, она своим презрительным, горделивым тоном отвечала французу:
– Mon Dieu, il faut être indulgent. Le petit est si nerveux et puis – il m'a promis d'être sage…[10]
Француз замолкал и только позволял себе, за спиною Катерины Михайловны, пожимать плечами. Он знал, что идти ему против нее нельзя, а в доме ему было хорошо, жалованье пока платили исправно…
Он только старался не замечать торжествующих и довольно дерзких мин, которые ему делал Гриша, убеждаясь в своей окончательной безнаказанности.
После обеда, если была хорошая погода, Мари имела обычай прогуливаться в парке и любила гулять одна. Она шла медленно, все по одной и той же, ею излюбленной аллее, шла как-то осторожно, будто бережно неся свою пухлую красивую фигуру. Потом, почувствовав усталость, она садилась в беседку, опять всегда на одну и ту же скамейку, и сидела так с час, глядя прямо перед собою, с застывшим выражением на лице. Затем она медленно поднималась, возвращалась домой, пила чай и ужинала, отвечала, когда к ней обращались с разговором, но сама ни с кем никогда разговоров не заводила.
Когда наставало время расходиться, она удалялась в свою спальню, раздевалась, ложилась в постель и опять читала французский роман, пока строчки не начинали сливаться перед ее глазами. Тогда она закрывала книжку, тушила свечу, переворачивалась на другой бок и спокойно засыпала.
И так изо дня в день, и эта жизнь была ей совсем по сердцу. Она никогда не скучала и никто в это последнее время ни разу не слыхал от нее нетерпеливого замечания, что вот муж до сих пор не едет.
Сергея Владимировича часто не бывало дома, он решительно не был в состоянии вести какой-нибудь определенный образ жизни. Иной раз он спал до полудня, так что даже опаздывал к завтраку, а то вдруг поднимется часов в пять утра, оденется на скорую руку, велит оседлать лошадь – и ускачет. Мчится по целым часам неведомо куда и зачем, не жалея лошади. А то завернет на село, учинит переполох, поднимет на ноги всех ребятишек и собак, заберется в какую-нибудь избу, болтает со стариками и старухами… Или отправится на работу, смеется с парнями и девками… Крестьяне ничуть его не боялись и даже любили. Бестолково, зря, но он все же помогал многим, раздавал деньги, угощал часто водкою…
– Ничего, добрый барин, – говорили про него, – шальной только, да и девок вот от него подальше прятать надо…
Но упрятать было трудно…
Любил также Сергей Владимирович забраться иногда верст за двадцать, за тридцать от Знаменского, к какому-нибудь мелкопоместному соседу в маленький старосветский домик. И всюду ему рады, встречают с улыбками, с поклонами. Он знает слабую струну каждого, знает с кем о чем говорить надо, чтобы доставить удовольствие… Любят его старички и старушки, любят его молодые женщины и девушки, не любят только молодые мужчины и особенно мужья, у которых недурные жены.
«Греховодник, у какой греховодник!» – идет далеко от Знаменского молва о молодом Горбатове.
Греховодник – но ничего обидного не слышится в этом определении, всех-то он околдовывает своей милой улыбкой, простотою обращения и безалаберной добротой. Даже совсем забывают, что у этого греховодника молодая жена-красавица…
А он возвращается в Знаменское после своих набегов и приключений все с тою же скукой. Принимается возиться с детьми, подзадоривает хорошенькую гувернантку и вдруг присмиреет, уйдет к себе, заляжет на диван, вытянет свои длинные ноги и зевает – зевает без конца, всей могучей грудью, повторяя свою любимую поговорку:
«О-хо-хо-хо! Грехи наши тяжкие!»
Подойдет к нему Наташа, слабо улыбнется, скажет:
– Ну чего ты вздыхаешь, что с тобой?
Он притянет ее к себе, обоймет, да вдруг и отпустит.
– Знаешь ли ты, Наташа, что я ведь ужасная дрянь… я не стою тебя, совсем не стою, право!
– Знаю!
Она улыбается ему, как балованному ребенку, и, конечно, не приходит ей в голову, что он говорит искренно и серьезно…
При таких привычках знаменских жителей в распоряжении Бориса Сергеевича, главным образом, оставалась Наташа и отчасти дети, из которых, не без влияния Наташи, он особенно заинтересовался Володей. Первое впечатление, произведенное на старика молодой женщиной, росло с каждым днем, и он радостно отдался своему новому чувству. Он перенес на Наташу, внезапно и бесповоротно, всю свою нежность. В ней теперь воплощались для него все дорогие ему существа, отнятые от него судьбою, – и мать, и жена, и дочь. Сила этой внезапно вспыхнувшей старческой привязанности была так велика, что не могла не подействовать на Наташу. Она ее почувствовала, приняла с благодарностью и сама привязалась к одинокому старику с дочерней нежностью.
Она ждала его появления, сторожила его, встречала первая, с доброй, ласковой улыбкой на прелестном лице. Она почти не отходила от него все время, когда он бывал в Знаменском. И теперь, через две недели знакомства, они уже хорошо знали друг друга. Он передал ей почти все обстоятельства своей жизни, и она сделала то же самое. Каждый из них думал, что у другого нет от него тайны, а между тем оба они все же обманули друг друга, потому что каждый хранил про себя свою главную тайну.
Как бы то ни было, Борис Сергеевич из живых рассказов Наташи узнал всю несложную историю ее детства и первой юности.
Она помнила себя в большом богатом петербургском доме отца своего, князя Засецкого, помнила себя единственным балованным ребенком. Она рассказала ему о своем первом горе, о смерти отца, умершего вдруг, во время парадного обеда, от разрыва сердца. Этот нежданный удар так поразил ее мать, бывшую всегда слабого здоровья, что молодая вдова стала чахнуть и через несколько месяцев умерла от скоротечной чахотки.
Наташа вспоминала этот год, как тяжелый, ужасный сон, который кончился для нее бредом и болезнью. Когда выздоровела – она была все в том же доме; но теперь она его очень боялась. Она дрожала, кричала, звала отца и мать. Ее родственники боялись, что болезнь повторится, и поспешили отдать ее в Смольный институт, рассчитывая, что, окруженная подругами, среди совсем другой жизни, она скоро развлечется и забудет о своих утратах. Конечно, оно так и случилось. Детское горе, как бы глубоко оно ни было, забывается, смывается временем.
Наташа рассказывала Борису Сергеевичу о своих любимых подругах, об учителях, об институтских проказах, посещениях института покойным государем, которого все институтки обожали. Она рассказывала, как государь обыкновенно уезжал от них без платка, с оборванными пуговицами мундира, и как они по его отъезде спорили и даже чуть не дрались из-за его пуговиц, из-за кусочков его платка. Рассказывала, как он один раз угощал их персиками и сам ел с ними и как они потом собрали все косточки от его персиков и хранили их как святыню. Ей хорошо и весело было в институте, у нее и теперь еще глаза горели, когда она вспоминала все наивные приключения и интересы этой детской жизни…
Ну а потом… детство кончилось, к детским интересам прибавились иные мечты о будущем, ждалась жизнь новая, долгая, волшебная, счастливая…
Институт покинут, княжна у родных, все ее так любят, все так ласковы с нею, ее наряжают и вывозят в свет. Она рассказала изгнаннику вечную историю первых бальных ощущений молоденькой девушки…
– Как же ты встретилась со своим мужем? Как ты полюбила его, Наташа? – спросил Борис Сергеевич. – Это нескромный вопрос, я знаю, и ты можешь не отвечать на него… Но, нет, – прибавил он, – ведь ты мне расскажешь… я не смутил тебя своим вопросом?
Она подняла на него большие темные глаза и тихо заговорила:
– Как я встретилась с Сергеем? На большом придворном балу… Я не помню, кто ко мне подвел его, он танцевал со мной мазурку… Потом, на другой день, приехал с визитом к тете Анне. Потом стал бывать у нас… все чаще и чаще…
– Ну и что же ты?
– Я всегда бывала рада его видеть. Он был такой веселый, такой милый… только он немножко пугал меня своим пристальным взглядом… уставится… глядит!.. Вы знаете этот его взгляд, заметили?.. Так прямо, прямо в глаза и как будто спокойно, и не можешь не глядеть на него… И вдруг почему-то становится его жалко…
– Да, я знаю этот взгляд! – задумчиво сказал Борис Сергеевич.
И теперь он понял, что было особенного в этом взгляде Сергея: именно когда он так глядел, ему почему-то становилось жалко.
– Ну а потом, – продолжала Наташа, – стала я замечать, что тетя Анна подружилась с Катериной Михайловной. Прошел еще месяц… Сергей написал письмо к тете Анне… Она мне прочла его, спросила, согласна ли я… я заплакала и сказала: согласна…
Во время этого разговора они сидели в парке у пруда, в полуразрушенной беседке, в той самой беседке, где когда-то давно-давно, еще в прошлом столетии, прозвучали первые наивные слова любви между отцом Бориса Сергеевича и его матерью.
Наташа замолчала.
– А зачем же, – ласково выговорил старик, – зачем же ты заплакала, когда сказала: согласна?
Она подумала и хотела отвечать, но в это время, запыхавшись, весь красный, к ним подбежал Володя.
– Дедушка! Мама! – крикнул он, едва переводя дыхание. – Дядя Николай приехал!
Наташа опустила руки и так побледнела, что будто вся жизнь сбежала с лица ее.
Борис Сергеевич испуганно взглянул на нее.
– Наташа, что с тобою?
Она вздрогнула и очнулась.
– Ничего, – сказала она, – ничего… пойдемте, дядя… Николай приехал…
X. Страшный племянник
Борис Сергеевич имел достаточно времени приготовиться к этой встрече, ожидавшейся со дня на день, но все же в первую минуту у него сильно застучало сердце, и он готов был бежать отсюда, к себе домой, в Горбатовское. И не так приезжий страшил его, как присутствие Катерины Михайловны.
«Если она там – я не могу!» – с отвращением и страданием подумал он, приближаясь к дому.
Но Катерина Михайловна была настолько предусмотрительна, что скрылась вовремя. Ее не было видно, когда Сергей подводил брата к дяде.
Борис Сергеевич, чего с ним никогда не бывало в жизни, вдруг как-то странно засуетился, зажмурил глаза, не глядя, поцеловал Николая Горбатова и прерывающимся голосом сказал что-то вроде того, что он рад его видеть, что давно ждал…
Когда он наконец открыл глаза, то встретился с прямо и спокойно устремленным на него взглядом этого нового племянника.
Сергей был прав, говоря, что они нисколько не похожи с братом. Николай чуть ли не на целую голову был ниже его ростом, стройный и красивый в своем белом кителе с аксельбантами. У него были светло-каштановые волосы, вьющиеся от природы, и большие черные глаза; выражение лица уставшее и в то же время холодное. Но Борис Сергеевич уже был доволен тому, что не нашел в нем сходство, найти которое так боялся.
– А где же Наташа? – вдруг спросил Сергей. – Она ведь была с вами, дядя?
Борис Сергеевич с изумлением оглянулся, но в это время Наташа уже входила. Николай поспешил к ней, поцеловал ее руку, она слегка прикоснулась губами к его лбу, и они в первую минуту не сказали ни слова друг другу – они даже не взглянули друг на друга.
Борису Сергеевичу было не до наблюдений; но если бы он стал наблюдать, то заметил бы между ними большую принужденность, заметил бы, что и Николаю, и Наташе не по себе, что им почему-то неприятно встретиться. Однако оба они хорошо владели собою и через две-три минуты совсем оправились. Наташа спокойным голосом стала задавать приезжему вопросы о своих петербургских знакомых. Он отвечал ей таким же спокойным голосом.
Вошла Мари обычной своей, медленной и ленивой, походкой, с таким же, как и всегда, застывшим лицом. Она позвала Николая; он молча поднялся и послушно последовал за нею; но скоро вернулся, подсел к дяде, и Борис Сергеевич, сам того не замечая, вдруг отошел от всех своих ощущений и мыслей и с большим интересом стал слушать Николая. Они машинально вышли из гостиной, прошли террасу, спустились в сад и, тихо бродя по старой аллее, продолжали разговаривать.
Борис Сергеевич уже не раз слыхал от домашних, что Николай бывает часто молчалив, что от него иной раз по целым дням нельзя добиться слова, но что зато когда он оживится и начнет говорить, то говорит так, что всякий его заслушается. Это оказалось справедливым. Борис Сергеевич, привыкший к уединению, долгие годы проживший в одиночестве или с людьми, менее всего обладавшими красноречием, невольно увлекался теперь.
Николай резкими, выпуклыми штрихами обрисовывал перед ним картину теперешнего Петербурга. А Петербург был интересен: в нем началось большое оживление, в нем закипала новая деятельность. Молодой государь начинал свое царствование целым рядом блестящих планов, уже не бывших тайной и захватывавших все слои общества. Приготовлялись реформы, из которых главной, конечно, было освобождение крестьян.
Николай говорил, что это уже решено бесповоротно, что уже приступают к серьезным работам, привлекаются свежие силы…
– Слава богу! Давно, давно пора! – оживляясь, проговорил Борис Сергеевич. – Еще отцы, еще деды наши думали об этом… Наконец-то!..
Но Николай вдруг переменил тон, вдруг как будто устал и совсем новым голосом сказал:
– Отцы и деды! Да ведь они не думали, а мечтали только… и теперь многие мечтают (он сделал особенное ударение на этом слове)…
– Да ведь ты же сам говоришь, что эти мечты превращаются в действительность!
– Да, только что из этого выйдет?
– Как что выйдет? Неужели ты против освобождения?
Николай пожал плечами.
– Вы мне задаете трудный вопрос, но я постараюсь вам искренно на него ответить. Быть против освобождения! Это страшно сказать! Но не могу же я все видеть в розовом цвете… Я не мечтатель, дядя, и уже не юноша, я не теоретик, не ученый, не литератор; я много ездил по России, знаю деревню, имею понятие о нашем народе – конечно, насколько это возможно в моем положении… И я боюсь, что эта прекрасная, благородная реформа слишком дорого обойдется и нам, и народу…
Борис Сергеевич с изумлением взглянул на него, но он продолжал убежденным, грустным тоном:
– Нам, видите, особенно после войны, очень стыдно стало перед Европой, стыдно за то, что мы варвары, рабовладельцы, азиаты. Нам во что бы то ни стало хочется быть европейцами, а они не признают нас себе равными, сажают за отдельный стол!.. Ну вот мы и должны доказать им, что мы не хуже их…
– Как, только это? – уже начиная волноваться и даже сердиться, перебил Борис Сергеевич. – А принцип… принцип?!
– Что же я могу возражать против принципа? Я хорошо знаю, что положение ненормальное, что человек должен быть свободен и, в конце концов, будет непременно свободен, хотя прибавлю: с ограничениями, непременно с ограничениями, и очень-очень большими. Я был бы крайне доволен, если бы теперь уже наш народ был освобожден от крепостной зависимости. Мне мои крестьяне не нужны, какой же я помещик… Но я все же настаиваю на том, что мы спешим, ужасно спешим, ради мнения Европы. Освободить крестьян! Чего же лучше. Но весь вопрос: как и когда, настало ли теперь время для этого, можем ли мы это сделать так, вдруг, сразу? И я говорю: нет, нет, не можем при том экономическом положении России, которое всем известно. Я боюсь, что, поспешив, мы в конце концов окажем плохую услугу народу, а что уж себя-то уничтожим – это наверное; а мы именно спешим. Мы так нетерпеливы, так хотим скоро вырасти!..
Борис Сергеевич задумался.
– Я здесь еще вновь, мне многое еще трудно сообразить, – наконец выговорил он. – Может быть, ты и прав отчасти. Я знаю только то, что я должен сделать, и знаю, что лично я не ошибаюсь.
– Вы хотите освободить и устроить ваших крестьян? – спросил Николай.
Борис Сергеевич с изумлением заметил, что проговорился, что высказал этому человеку, с которым вовсе не рассчитывал быть откровенным, то, чего еще не говорил никому.
Но он не пошел назад, не стал отказываться.
– Да, я это сделаю…
– Так вы – другое дело, дядя! Это частный пример и, ведь вы знаете, далеко не первый, таких примеров давно уже немало. Ведь и по-моему так: это значит подготовлять почву – про что же я и говорю! А ведь мы в один миг устроим реформу, на которую нужны годы. Мы, то есть не мы, конечно, а государство отдаст больше, чем у него есть. Что же из этого выйдет?..
– И вот, – прибавил с улыбкой Николай, – теперь вы можете смотреть на меня, как на «крепостника», «отсталого человека» – эти слова теперь в моде, на меня так уже многие смотрят… Я как-то не выдержал и высказался en haut lieu[11] – и на меня косятся даже те господа, которые не только со мною согласны, но идут гораздо дальше, чем я… Вы думаете, что многие из тех, кто теперь там суетится, кричит, хлопочет, приготовляется работать, проникнуты необходимостью этой работы?! Ах боже мой, боже мой! Только подлаживаются под тон, а на сердце кошки скребут! Все фальшь, и, может быть, у нас теперь в Петербурге больше фальши, чем когда-либо… Просто задыхаешься!.. Это не жизнь…
– Ты не доволен жизнью? Какой же бы жизни ты хотел? – спросил Борис Сергеевич.
Николай нахмурился и потом взглянул на него с печальной улыбкой.
– Вот я говорил, – начал он, – что я не мечтатель, а ведь это неправда… Да, конечно, я вовсе не мечтатель в известном отношении, я не увлекаюсь утопиями и терпеть не могу предвзятых взглядов, но зато в другом – я большой мечтатель, и с детства!.. Знаете ли, дядя, что я не раз завидовал вашей жизни! Мне кажется, что, несмотря на все печальные обстоятельства и потери, вы прожили до сих пор гораздо здоровее, гораздо полнее нашего. Вокруг вас не было этой фальши, лжи, условности, вы были ближе к природе…
И снова разгорячась и увлекаясь, Николай стал рисовать картину той жизни и тех отношений, среди которых, по его предположениям, находился долгие годы «изгнанник».
Борис Сергеевич вслушивался с изумлением, с постоянно возраставшим интересом – и, наконец, не выдержал.
– Да откуда ты знаешь все это? – воскликнул он. – Ведь почти все, что ты мне рассказываешь, верно! Так и есть, так оно и было!.. Ты как будто сам прожил долго в Сибири со мною, как будто и ты пережил все, что мне пришлось пережить!
– Значит, я много думал о вас и вашей жизни, значит, я хорошо ее себе представил…
– Но ты обладаешь большими познаниями…
– К моему горю, большими познаниями я не обладаю – я ничего не знаю как следует; но я много читал, читал с детства. Ведь вы знаете дедушкину петербургскую библиотеку… Бывало, я запирался в ней и просто глотал книги…
Борис Сергеевич невольно улыбнулся.
– А со мной не встречался ты в этой библиотеке? – спросил он.
– Я именно сейчас и хотел сказать вам, дядя, что познакомился там с вами. У вас хорошая манера, которую я перенял, отмечать на полях книг свои впечатления, мысли… вы даже часто подписывали их вашими буквами… Я то и дело натыкался на эти ваши заметки и знакомился с вами…
– Отчего же ты не написал мне никогда о нашем знакомстве?
– Отчего? Право – не знаю… Признаться – даже ведь и собирался не один раз сделать это, да все как-то не выходило… Да, я читал много, – продолжал он, – теперь у меня самого составилась уже своя собственная порядочная библиотека… но беда в том, что у меня никогда не было хорошего учителя… Ведь я одно время мечтал даже попасть в университет…
– Что же помешало?
– Покойный отец.
– Да ведь мы с ним сами были в Московском университете!
– Только в другое время, дядя… В мое время университеты были в загоне, в пренебрежении… в сущности, их все же побаивались… Одним словом, отец решил, что Горбатову не следует компрометировать себя и портить себе университетом карьеру… Карьеру можно было сделать только на военной службе… «А затем, – сказал мне отец, – если ты уж такую нежность чувствуешь к университету – тебе, может быть, нетрудно будет стать попечителем какого-нибудь учебного округа… вот ты и будешь во главе университета».
– Что же ты ему на это?
– Я, конечно, возразил, что как же это я могу управлять учебным округом, не получив научного образования и зная только военное дело? Он и говорит: «А так, как другие… Увидишь – поймешь… Если захочешь для симметрии поставить в храме науки десятую музу – ставь смело… студенты будут смеяться… а ты, чтобы не смели смеяться, держи их в ежовых рукавицах – и будешь примерным ревнителем и хранителем отечественного просвещения!» Засмеялся отец – и ушел… Я хорошо помню этот разговор… О, он отлично все понимал, он был умен… только…
– Что только? – видя, что Николай запнулся и улыбается нехорошей усмешкой, спросил Борис Сергеевич.
– Только он совсем о нас не думал, совсем нас не знал… мы были ему как чужие… и я много страдал от этого… Вообще, нерадостная была юность, дядя!
И, будто желая отогнать от себя скорее грустные мысли и воспоминания, Николай вернулся к сибирской жизни «изгнанника» и опять увлекся.
Борис Сергеевич продолжал изумляться перед этим даром блестящего флигель-адъютанта воспроизводить никогда им не виданное и только воображаемое, и вдобавок, такое, что, по складу его жизни, должно было ему быть совсем чуждым.
И не заметили они, беседуя, взад и вперед ходя по старой аллее, как пришло время обеда, и обычный звон колокола стал сзывать всех в столовую. Они повернулись к дому. Николай поспешил вперед, а Борис Сергеевич остановился в раздумье. Он был как в тумане, все еще под впечатлением этого долгого, нежданного разговора. В его ушах все еще звучали слова Николая, и тон этих слов – горячий, убежденный, доходивший иногда почти даже до какого-то вдохновения.
Он очнулся, услышав возле себя голос Наташи. Он улыбнулся ей, а она как-то робко не то спросила его, не то просто сказала:
– Познакомились с Николаем?
– Да, – отвечал он, – или, вернее, только начал знакомство. Он такой человек, с которым познакомишься нескоро и нескоро разглядишь его.
Она насторожилась.
– Почему?
– Потому, что он из людей, встречающихся редко в жизни; эти люди не подходят под привычную и обычную мерку…
Что-то неуловимое блеснуло в лице Наташи и тотчас же погасло.
– Так вы считаете его особенным человеком, дядя?
– Да, особенным. Но что скрывается за этим огнем и блеском, за этими дарованиями, которые прорываются, несмотря на печальное воспитание, полученное им, – вот этого-то я еще не знаю, а хотелось бы мне знать. Хотелось бы знать, каково его сердце!
– Придет время, и это узнаете! – почти таинственно выговорила Наташа.
А Борис Сергеевич думал: «Боже мой, откуда берется это?! Несчастные, покинутые мальчики, распущенность, печальные примеры перед глазами, пустота светской жизни… и ему с небольшим тридцать лет!.. Когда же успел он узнать все, что знает? Когда успел читать, думать, учиться?..»
«И отчего это Сергей не такой?» – заключил он свои мысли и вздохнул невольно.
Сергея-то он уже довольно разглядел за это время, и хотя вспыхнувшее в нем к нему чувство не потухло, но он с грустью начинал видеть то, чего никак не желал бы видеть.
XI. Старая грешница
Укладывая и перекладывая свои сундуки с тряпьем, Катерина Михайловна за последние дни обдумывала положение. Пока все обходилось благополучно, все шло даже так хорошо, как она и не надеялась. Она очень боялась, что отношения ее семьи к Борису Сергеевичу останутся натянутыми, что он ограничится соблюдением приличий. А между тем и в такое короткое время вот уже он вошел в семью, привязался к ней. Катерина Михайловна очень хорошо видела, что главным образом привязывали его Наташа и отчасти Сергей, что Борис Сергеевич к Мари относится очень холодно, к Грише тоже.
«Ну что же, – не раз говорила она себе, – пусть хоть им будет счастье, пусть хоть они будут богаты».
А между тем она никак не могла успокоиться на этих мыслях. В ней вдруг поднималось нежное чувство к Грише, и не только к Грише, но даже и к Николаю. Ей казалось, что это несправедливо относительно их. Ей, наконец, начинало неудержимо, капризно хотеться, чтобы все это прошлое, которое так долго ее нисколько ни мучило, но теперь, с появлением Бориса Сергеевича, начинало мучить, забылось и не существовало более. Она пуще всего страстно хотела теперь возвращения прежнего богатства, блеска и значения для всей горбатовской семьи, которой она признавала себя главою.
«Нужно победить изгнанника, нужно забрать его в руки».
Она понимала, что не может достигнуть этого сразу, что нужно действовать осторожно. Так она и действовала – не выставляясь, стушевываясь.
Но если был опасен первый день их встречи, то еще опаснее был, конечно, день приезда Николая. Борис Сергеевич ни разу с ней о нем не заговорил, а когда при нем упоминали имя Николая, она хорошо видела, что он опускает глаза, смущается, что лицо его хмурится – и при этом ей самой, никогда не смущавшейся прежде, теперь становилось неловко. А между тем ведь их встреча неизбежна, и только тогда, когда на сцену уже явится Николай, можно будет приступить к порабощению изгнанника.
И вот Николай приехал. Катерина Михайловна, поздоровавшись с ним, поспешно скрылась в своих комнатах и не выходила до самого обеда. Она была в волнении, даже очень резко прогнала Соню, которая было к ней прибежала.
Она вдруг, будто по чуду какому-то, вернулась к прежней позабытой жизни. Ей чудилось, что она снова молода, в Петербурге, в старом горбатовском доме, за несколько месяцев до рождения Николая. Она снова будто переживала свою капризную страсть к Щапскому, который потом поступил с нею очень неблагородно – покинул ее за границей и затем ни разу не встретился с нею в жизни.
Она как будто снова переживала все прежние сцены: ужасное объяснение с Борисом, потом объяснение с мужем, во время которого она так хорошо сыграла свою роль. Впрочем, она до сих пор не могла решить вопроса, кто тогда лучше играл роль – она или ее муж: ведь он, очевидно, тогда сделал вид, что поверил всем ее объяснениям…
Но странное дело – тогда, когда в действительности происходило все это, она чувствовала себя только несчастной и даже обиженной. Она ненавидела Бориса, и если бы было возможно, она бы, кажется, убила его с наслаждением. Теперь ненависть к изгнаннику в ней заглушилась чувством невольного страха, который все сильнее и сильнее начинала она испытывать к этому кроткому человеку, так хорошо встретившемуся со всеми ними. Да, она боялась его, хотя, несмотря на все страхи свои, все же рассчитывала его победить.
Но пуще страха в ней говорила тоска, начавшая время от времени появляться в последние годы и достигавшая теперь иногда мучительных размеров. Она называла это «тоскою», она не могла найти другого определения тому, что испытывала в присутствии Бориса Сергеевича, и особенно в те мгновения, когда произносилось имя Николая.
Это чувство в этот день было так сильно, ей сделалось так тяжело, когда раздался звонок, сзывавший к обеду, что она почти совсем решила сказаться больной и не выйти.
«Но, боже мой, ведь если не сегодня, так завтра, ведь невозможно избегнуть этого! Да и зачем?.. Пустое! Надо преодолеть себя!..» – и она преодолела.
Она вышла к обеду. Она была бледнее обыкновенного, ее маленькие, сухие руки по временам нервно дрожали; но никто ничего не заметил. Ей пришлось сидеть за обедом против Бориса Сергеевича, и как она ни подбодряла себя, а первые минуты были для нее просто пыткой. Она не могла решиться взглянуть на него. Наконец все же взглянула.
Он смотрел в сторону. Но вот их глаза встретились. Он глядел прямо на нее… Он хочет истерзать ее своим взглядом.
«Нет, она не поддастся!»
Она сделала над собою усилие, не отвела своих глаз, только придала им то выражение, какое нашла самым подходящим, и Борис Сергеевич прочел в ее взгляде тоску, муку, мольбу, к нему обращенную. Вот слезы показались на ее глазах. Она вытерла их тихомолком.
Борис Сергеевич отвернулся, и ему опять, как в первую минуту свидания с нею, стало невольно жаль эту бывшую Катрин, эту грешницу, эту маленькую, сухонькую старушку, очевидно, искупившую теперь тяжелыми страданиями вину свою.
Катерина Михайловна справилась со своей тоскою и поняла, что начала игру удачно.
К концу обеда она совсем успокоилась и решила, что нужно действовать, не откладывая ни минуты. Она успела заметить, что Борис Сергеевич с интересом и без всякого враждебного чувства глядит на Николая.
Она узнала из общих разговоров, что они долго беседовали вдвоем в парке. Все складывалось самым лучшим образом.
«Николай умен, интересен, – думала она, – но трудно было ожидать, чтобы он сразу мог с ним справиться. Теперь последний, решительный удар – и он будет совсем побежден!»
Она припомнила некоторые минуты своей жизни, когда ей приходилось вывертываться из тяжелого положения, дурачить людей – ей всегда это удавалось. Должно удасться и на этот раз.
После обеда, когда все, по обыкновению, перешли на террасу, улучив удобную минуту, она шепнула Борису Сергеевичу.
– Будь так добр, Борис, пойдем ко мне, мне надо поговорить с тобою…
Он даже вздрогнул. Но она подняла на него такой скорбный взгляд, что, не говоря ни слова, он последовал за нею.
Да и как бы мог он отказать ей?
«О чем это она может говорить со мною? Что ей нужно?.. – думал он. – Впрочем, может быть, какое-нибудь денежное затруднение… денег попросит… Сколько угодно… Сколько угодно! Только поскорее бы!»
Она его провела в свои комнаты, где он до сих пор не был еще ни разу. Он с изумлением увидел этот странный беспорядок, эти всюду наставленные сундуки. Он помнил Катрин, вечно окруженной самой изысканной роскошью, вечно заботившейся о том, чтобы вокруг нее и у нее было все лучше, чем у кого-либо.
«Но разве это Катрин?»
Она знаком пригласила его сесть в большое старое кресло, сама присела в другое, подняла на него глаза все с тем же скорбным выражением и молчала. Ему стало ужасно неловко.
– Что тебе угодно, Катрин? – запинаясь, произнес он.
Она как будто хотела начать говорить, но вдруг слезы блеснули на ее глазах, и с тихим, сдавленным старческим рыданием она закрыла лицо руками.
Борису Сергеевичу стало еще невыносимее.
«К чему эта комедия?»
– Катрин, успокойся! – сказал он. – Если бы я не знал, что все благополучно, я бы подумал, что случилось какое-нибудь несчастье – но ведь ничего такого нет?
– Прости! – наконец выговорила она. – Конечно, это глупо… я не справилась с собою. Но, боже мой, ведь есть невидимые несчастья, и они тем тяжелее, что их никто понять не может, не может о них догадаться. Мое несчастье можешь понять только ты… ты его знаешь… ты один его знаешь на свете. Я долго не решалась, но вижу, что должна говорить с тобою. Я многое дала бы, если бы могла избегнуть этого; но нет, нельзя… нужно это… Мы должны раз навсегда поговорить… Борис, вернемся к старому… к ужасному времени!..
Он побледнел и даже поднялся с места.
– Зачем? – с ужасом и все возраставшим отвращением воскликнул он. – Зачем?.. Ради бога, оставьте это… Я надеялся, что именно между нами не будет никаких разговоров о прошлом!.. Я надеялся, вы поймете, что нам самое лучшее никогда не касаться этого прошлого… Вы, кажется, видели: я приехал, пришел в ваш дом как родной, я полюбил вашу семью, у меня явилась надежда, что и меня полюбят… Что же вы хотите, чтобы я ушел?.. Кому вы этим принесете пользу?
Он весь даже изменился, говоря это, – глаза его заблестели, в голосе звучали те страстные ноты, которых она не слыхала столько лет. Если бы не эти седые волосы и не эта седая борода, она подумала бы, что вернулось прежнее время, что перед нею прежний Борис, такой точно, каким он вдруг очутился перед нею после того, как стал невольным свидетелем ее тайны.
Но уже раз начала, она не хотела отступать. Она собрала все свои силы и снова почувствовала в себе прилив какого-то театрального вдохновения.
– Ах боже мой, – простонала она, заломив руки, – да неужели мне-то это легко? Да я бы все отдала, чтобы не вспоминать старое, чтобы его не было! Я знаю, Борис, я ужасно виновата перед тобою, ты имеешь право и презирать, и ненавидеть меня… Но ведь ты добр, ты благороден, ты именно, ты поймешь многое, чего не понял бы другой…
– Что же тут понимать? Прошу вас прекратить это, будет самое лучшее… отпустите меня! – произнес он.
– Борис, Борис! – повторяла она. – Да взгляни же на меня, ведь я не та, не прежняя… Вся жизнь прошла… пожалей же несчастную старуху… пожалей, Борис, и выслушай…
Еще миг – и она, кажется, стала бы перед ним на колени. Он почти упал в кресло и опустил голову.
Она заговорила горячо и страстно, то и дело переходя на французский язык, на котором ей легче было объясняться.
– Мне нет оправданий, и я не хочу себя оправдывать! – говорила она. – Я грешница. Но если бы знал ты, какой ценой я искупила и искупаю до сих пор грех свой! И потом, ведь все же не одна я виновата… Ты знаешь, я вышла замуж ребенком, избалованным ребенком, не знавшим жизни… из меня тогда можно было сделать все, что угодно. Если бы я попала в руки другому человеку – и я была бы другая; но твой брат – он не исправить мог меня, а испортить… и испортил…
– Оставим мертвых! – мрачно произнес Борис Сергеевич.
– Да ведь я ему давно все простила… Но что правда, то правда… Он был дурным мужем… Он никогда не любил меня… Он изменял мне с первого же года. Ты, может быть, не знаешь этого, но я знаю…
Борис Сергеевич знал это и потому молчал. Он сознавал, что она права, что его покойный брат был, действительно, дурным мужем и мог ее только испортить.
– Я не судья вам, – сказал он, – и, конечно, не стал бы и тогда даже вмешиваться в ваши дела… если бы не было последствий… Но что вы сделали с нашим именем? Нет, увольте, оставьте меня!.. Зачем, и именно сегодня, вы заговорили об этом? Мне и так тяжело…
Перед ним мелькнуло прекрасное, оживленное лицо Николая.
– Оставьте меня, позвольте мне уйти, – повторял он.
Она испуганно встала, его удерживая, и каким-то торжественным голосом твердо проговорила:
– Если бы, действительно, были последствия, я бы не решилась возвращаться к старому… я бы не могла теперь смотреть на тебя… Последствий нет!.. Николай – сын моего мужа… он твой племянник…
И, говоря это, она прямо, смело глядела ему в глаза и удерживала его своими дрожащими руками.
– Пустите! – почти с бешенством в голосе крикнул Борис Сергеевич и решительно направился в двери.
– Я не пущу тебя… нет, не пущу! Ты меня должен выслушать, а потом делай как знаешь… Уходи… не верь мне, покинь хоть навсегда этот дом… но ты меня выслушаешь!
Его бешенство упало. Он с презрением взглянул на нее, даже усмехнулся.
– Какая жалкая комедия! Что ж, если вам угодно играть ее, играйте, я насильно убегать не стану… Я готов вас слушать… играйте…
Она была возбуждена в высшей степени: все, что в ней оставалось жизни, силы, – все теперь заговорило. Нервное возбуждение вызвало обильные слезы, которые так и лились по ее маленькому и бледному, морщинистому лицу.
– Я знаю, Борис, – сквозь эти слезы говорила она, – что иначе вы не можете мне ответить, в этом-то и заключается весь ужас моего положения…
– Да что же? Теперь, более чем через тридцать лет, вы будете уверять меня, что я не слыхал того, что слышал своими собственными ушами? Впрочем, говорите, я молчу, я не стану перебивать вас.
– Борис, конечно, в тот ужасный день ты слышал то, что я говорила, конечно… Я говорила этому извергу, этому моему убийце Щапскому, что мой будущий ребенок – его ребенок… Я ему лгала, лгала потому, что была безумно влюблена в него, потому что хотела удержать его и видела в этой лжи единственное средство достигнуть цели, видела связь, которая должна нас соединить навеки… Так я мечтала, несчастная, жалкая, обманутая и обманувшая женщина!.. Да я была преступна, я изменила мужу… Но ребенок был его, и он хорошо знал это, и он бы теперь подтвердил тебе это… Да и, наконец, ты уже теперь несправедлив к брату – он был способен на многое, у него были большие, ужасные недостатки, но ведь он был тоже Горбатов. Если бы он не был уверен, что ребенок его, он бы не признал его своим сыном – а ты знаешь, он признал его…
– Много бы я дал, чтобы вам поверить, – прошептал Борис Сергеевич, – но я не могу… я не верю…
Катерина Михайловна безнадежно опустила голову…
– Тем хуже для меня… тем хуже для меня! – повторила она. – Мне больше ничего не остается; какие же я могу представить доказательства? Я искупаю свою вину… О, если бы ты знал, как я несчастна, ты бы пожалел меня!.. Ты не веришь, Борис… Но господи! Если ты даже и не веришь, чем же виноват этот несчастный ребенок?
– Конечно, он ничем не виноват, и оттого-то это все так и ужасно, – печально произнес Борис Сергеевич.
А она между тем продолжала:
– И ведь ты добр, ты добр, у тебя высокое, благородное сердце… Ты христианин, Борис, поверь мне – я не солгала тебе… Но если не веришь… прости… прости, как Бог велит, и люби их… моих детей… Я тебя измучила этим объяснением, я не внушила тебе веру в мои слова, но я исполнила мой долг… Я не держу тебя…
Она едва договорила это. Она сидела перед ним, опустив руки, видимо, измученная и обессиленная, с бледным, увядшим лицом и жалким видом.
– Мы все нуждаемся в прощении, – тихо проговорил Борис Сергеевич. – Мне жаль тебя, Катрин; твоя жизнь, действительно, должна быть тяжела, и ты, верно, много страдаешь.
Он остановился на мгновение, потом протянул ей руку, пожал холодные пальцы и уныло вышел из комнаты.
Она несколько минут продолжала сидеть в том же положении, с тем же уставшим выражением в лице. Она горько вздохнула.
«Не верит, – подумала она, – но все же я поселила в нем сомнение, довольно и этого – дело сделано…»
На большее она и не рассчитывала, она была довольна, что объяснение это кончилось так, а не иначе… А между тем тоска давила ей грудь, и жизнь, которую она когда-то так любила, за которой она гонялась, представилась ей теперь жалкой и противной. Если бы можно было вернуть прошлое, она, может быть, жила бы иначе – но вернуть ничего нельзя.
И она стала жадно хвататься за мысль о будущем – это будущее могло быть блестящим, но только с помощью Бориса Сергеевича.
XII. Ошибка
Прошло всего два дня с приезда Николая Горбатова, но от оживления, замечавшегося в нем в первые минуты, ничего не осталось; даже внешность его совсем изменилась. Он уже не казался красивым, франтоватым флигель-адъютантом, ходил сгорбившись, с потемневшим лицом и тусклым взглядом, молчал по целым часам и, если кто-нибудь обращался к нему с каким-нибудь вопросом, он отвечал односложно и спешил скорее отойти. Его, видимо, раздражали детский смех и крики. Брат звал его на охоту – он отказался.
Мать стала было объяснять ему, что он непременно должен хорошенько поговорить с управляющим и пересмотреть счета, которые кажутся ей неверными. Но он резко объявил, что не намерен толковать с заведомым мошенником.
– Сергей не намерен, ты не намерен – что же это, наконец, будет? – сказала Катерина Михайловна. – От этого у нас так хорошо дела и идут… Я ничего не смыслю, оно и понятно, но ведь ты еще в прошлом году вникал в хозяйство… Ты все так легко соображаешь… Неужели трудно заняться… да и, наконец, ведь в этом твои же интересы, твои выгоды…
Он ничего не ответил, нахмурился и ушел.
Катерина Михайловна отправилась к Мари.
– Сделай милость, ma chère[12], объясни мне, что такое с Nicolas[13]? Он становится просто невозможен, с ним говорить нельзя… Я того и жду – кричать станет. Ты, что ли, его так раздражила?
Мари подняла на нее свои заспанные глаза и проговорила:
– Ничем я его не раздражала. Ведь вы его знаете – он всегда такой…
– Уговори же его – нельзя так вести дело, пусть он хоть немного займется, а то нас кругом обворовывают, и все эти мошенники видят, что нет хозяина, что можно делать все, что угодно.
– Нет, maman, извините, я ни в чем его не стану уговаривать, потому что ничего из этого не выйдет. Да и, наконец, это не мое дело – я прошу только одного, чтобы меня не вмешивали в эти дрязги.
Катерина Михайловна махнула рукой, совсем рассерженная ушла к себе и стала рыться в своих сундуках.
Между тем Николай, несмотря на знойную полуденную пору, вышел в парк и долго бродил, не замечая дороги. Его давила тоска, мучительная тоска. Он очень часто ее испытывал, и она в последнее время становилась иногда просто невыносимой. В разговоре с дядей он был искренен; ему, действительно, тяжело жилось и дышалось в Петербурге, среди деятельности, к которой он не чувствовал особенного призвания, среди людей, с которыми имел мало общего. В эти последние недели, оставшись один в огромном горбатовском доме, он совсем истомился и ждал не дождался возможности уехать в отпуск. Подъезжая к Знаменскому, он испытал большую радость. Ему так хотелось всех увидеть, снова очутиться среди своих домашних. При этом его заинтересовало свидание с незнакомым дядей, о котором он нередко думал. Но уже вечером, когда все разошлись и он очутился в спальне с женою, с ним произошла внезапная перемена.
Мари была ласкова и предупредительна насколько возможно. Она по-своему радовалась возвращению мужа. Она выложила сама и приготовила все его любимые вещи, и в то время как он раздевался и приготовлялся ложиться спать, задавала ему много, хотя неинтересных, но понятных в первый день приезда вопросов. Он отвечал ей обстоятельно, но потом вдруг как будто перестал даже слышать то, о чем она спрашивала.
Она рассердилась.
– Что же, вы не можете даже мне отвечать? – сказала она.
– Ах боже мой, да ведь, кажется, уже все объяснил, рассказал… Ну чего, чего ты повторяешь?.. И потом, по правде, я ужасно устал, я спать хочу… оставим до завтра…
Мари села перед кроватью и пригорюнилась.
– Ну да, вечно одно и то же – устал, хочу спать… Что же это, наконец, такое? Почти два месяца не виделись – и вот какая встреча!.. Это называется любовь… Да поздоровался ли ты со мною как следует, приласкал ли ты меня?
Он неопределенно посмотрел на нее.
– Разве тебе это нужно?
– И это любовь… и это любовь!.. – повторяла она.
Он подошел к ней и обнял ее рукой за шею.
– Перестань же, Мари, мы не дети… право, пора спать… прощай.
Он поцеловал ее. Поцелуй этот был очень холоден.
Она хотела было сказать ему, что когда-то, и не после двухмесячной разлуки, он целовал ее иначе. Но вдруг сама почувствовала, что самое лучшее теперь – спать. Она поспешно разделась, улеглась и тотчас же заснула.
А он не спал. Он лежал, вытянувшись, вдыхая в себя крепкий запах духов, которыми Мари любила пропитывать все белье. Этот запах раздражал его, он его ненавидел. И ему казалось, что он теперь не может заснуть именно от этого запаха.
Чего же он рвался сюда? Он дома, в семье, с женою. Но он чувствовал себя более чем когда-либо одиноким. Эта женщина, с которой он прожил более девяти лет, которая имела на него такие неоспоримые права, была ему совсем, совсем чужою.
Каким же образом случилось это? Ведь он сам выбрал себе ее в подруги всей жизни, его никто не принуждал, и, женясь на Мари, он был далек от всякого денежного расчета…
Да, все это так, конечно; но ему всего было тогда двадцать два года. Он встретился с нею в свете, где она только что показалась, совсем еще юной, едва оставившею уроки и куклы. Ей только что исполнилось семнадцать лет, хотя высокая, пышная, с рано развившимися формами, она казалась старше своего возраста. Ее признали все очень хорошенькой. И действительно она была красива в первом расцвете юности, когда за свежестью, нежностью и яркими красками трудно подметить что-либо другое, когда о внутреннем содержании будущей женщины никто еще не может думать. И уж тем не менее не мог об этом думать такой неопытный юноша, каким был Николай Горбатов. Выросши вне влияния родителей, служа в гвардии, находясь в самом центре петербургской блестящей молодежи, он испытал уже все, что мог испытать гвардейский офицер в его годы. Но в противоположность брату Сергею, который наслаждался жизнью, наслаждался кутежами, легкими победами, продажной любовью, Николай не мог удовлетвориться всем этим. То, что его брат и товарищи называли веселой жизнью, очень скоро ему надоело. Детство и отрочество, проведенные в большом пустом доме, близкое знакомство с огромной библиотекой и, конечно, прежде всего, природные свойства развили в нем иные потребности. Он стал мечтать о совсем иной жизни, чем та, какая его окружала, и вдруг пришел к убеждению, что для начала этой новой жизни ему нужна добрая, верная подруга, которая не имела бы ничего общего с теми легкомысленными, так скоро надоедающими женщинами, каких он знал до сих пор.
Ему нужна была подруга, которая принадлежала бы ему одному всецело, жизнь которой началась бы с минуты их встречи и затем, до самого конца, была бы их общей жизнью. Эта юная и красивая графиня Натасова, с детской улыбкой, с манерами девочки, еще чувствовавшей себя неловко в длинном платье, показалась ему именно такой подругой.
Со свойственной ему откровенностью и жаром Николай принялся ухаживать за нею. Он стал искать всех способов как можно чаще видаться с Мари. Но тут он встретился с большим затруднением – бывать у Натасовых не оказалось никакой возможности. Родители Мари, хотя по имени и родству и принадлежали к высшему обществу, но давно перестали посещать его. Они жили то в деревне, то в Москве. Был у них сын, лет на десять старше Мари. Сначала он служил в гвардии, но вел себя очень дурно, имел много неприятных историй и, наконец, кончил тем, что был разжалован и сослан на Кавказ за то, что во время одного парадного обеда пустил хлебный шарик, случайно или нет, но как бы то ни было попавший прямо в нос важного генерала.
Были у Натасовых еще дети, но все умерли. Осталась младшая, Мари. Ее привезли в Петербург, отдали в какой-то пансион, поручили ее вниманию одной из родственниц, да и забыли о ней. Вспомнили только тогда, когда она выросла и когда тетка, тоже графиня Натасова, старая девица, настоятельно стала требовать, чтобы Мари взяли из пансиона и подумали об ее будущности.
Натасовы приехали в Петербург. Это оказалось им кстати, так как у старого графа было дело той зимою в Петербурге. Мари, года четыре не видавшая родителей, была очень поражена тем, что ее встретило. Ее отец нанял небольшой домик на Васильевском острове, домик очень бедно меблированный, даже грязный. Навезли с собою из деревни совсем дикую прислугу, трех лакеев с небритыми и немытыми лицами, с вечно продранными локтями, несколько горничных, бегавших босиком в затрапезных платьях.
Мари, по праздникам посещавшая тетку, жившую очень хорошо и поддерживавшую связи в большом свете, очень возмутилась такой нежданной родительской обстановкой, тем более что она считала своего отца богатым человеком. Она знала, что у них в Москве большой собственный дом, в котором они прежде и живали, да и вотчина в Тульской губернии доходная. Более же всего смутил ее вид отца. Он казался совсем под стать привезенной прислуге. Он носил какой-то длиннополый, потертый по всем швам сюртук, и имел вид старого приказного. Мари вспоминала:
«Да ведь этого прежде не было! Отец был человек, как и все, даже молодился, даже красил седеющие свои волосы – что же значит все это?»
Она решилась спросить отца, что это значит. Он ответил, что все переменилось, что они разорены, что они бедные люди. Она повесила голову.
Не менее ее была изумлена и ее тетка, с той только разницей, что Мари, услыша родительский ответ, поверила ему и на этом остановилась, тетка же стала добиваться: как, что и почему? Оказалось, что граф Натасов проигрался в карты.
– Да сколько же ты проиграл? – настаивала сестра.
– И не спрашивай, матушка, не спрашивай, язык не повернется сказать.
– Послушай, друг мой, да ведь дом-то московский, ведь ты его не продал – он твой?
– Мой! Да все равно, что и не мой – заложен…
– Ну а Натасовка?
– Тоже заложена – жить нечем…
– Да как же Машенька-то, ведь нужно о ней подумать. Ведь ее замуж надо выдать…
– А уж это как Бог даст, для нее вот и маешься, нищенствуешь, каждый грош считаешь…
Старая девица задумалась и в конце концов решила, что тут что-то да не то. Она обратилась к графине Вере Павловне:
– Что это брат говорит: вы разорены? Он проиграл? Как такое могло статься?!
Вера Павловна захлопала глазами и закатилась своим резким смехом, который всегда шокировал несколько чопорную и очень сдержанную старушку.
– А ты ему и веришь, мать моя? Или до сих пор не научилась понимать своего любезного братца? Врет он все, ничуть не разорены. Проиграл он – это верно… и вот с тех пор дурь на себя напустил, представляется разоренным, перед всеми хнычет… Рехнулся он совсем, мать моя, вот что…
Старушка-графиня, хотя и знала за своим братом всякие чудачества, но все же не могла прийти в себя от изумления.
А Вера Павловна продолжала:
– Гляди, каким нищим вырядился… Поверишь ли, ведь в город нарочно ездил придумывать себе такую одежду, у старьевщиков шубу купил…
– Фи! – с невольным отвращением воскликнула старушка. – Неужто ему самому не противно?
– А это ты его самого и спроси… И ведь все почему? Мне на смех! Я ведь хотела одна сюда приехать, порядочно устроиться, взять Машу, повеселить ее… Ему смерть не хотелось из деревни. А как узнал: нет, говорит, я поеду. Ну вот и приехали, вот и устроились, видишь, как по-барски!
– Да ведь он и впрямь сумасшедший?
– А то нет!..
– Как же ты-то, сестрица, допускаешь это?
Вера Павловна опять закатилась смехом.
– А мне что, пускай себе потешается. Эх, матушка, надоело мне все хуже горькой редьки, а пуще всего Петербург ваш – терпеть его не могу, вот возьму да и уеду опять в деревню, а за мной и он потащится и дела все забудет…
– Как же Мари?
– Маша-то – да я уж и не знаю… как ты рассудишь, сестрица?..
Тетушка задумалась…
– Незачем вам было и приезжать, – проговорила она.
– Слова твои верны, мать моя, незачем – и я говорю, незачем было приезжать сюда…
Тетушка уехала, повторяя: «Да ведь это сумасшедший дом, сумасшедший дом!»
Но тут было, пожалуй, еще хуже, чем сумасшествие.
Граф Натасов смолоду ничем не отличался от людей его звания. Служил он в гвардии, кутил напропалую. Затем, рано лишившись родителей, вышел в отставку и приехал в свое наследственное имение. Объездив соседей, он встретился с Верой Павловной. Она считалась одной из самых богатых невест той местности, собой была нехороша, но зато бойка, за словом в карман не лезла, хохотала без устали, не чинилась с молодежью. А молодому графу чуть не с первого раза объявила, что он ей нравится.
Между ними внезапно установились какие-то шумные школьнические отношения. Они бегали, гонялись друг за другом.
Дело было летом, он наезжал часто, по соседству. И вот в один прекрасный день чересчур долго пробегали они в парке, ловя друг друга, даже к обеду опоздали; наконец вернулись с очень странными и смущенными лицами.
После обеда граф просил руки Веры Павловны и получил ее.
Свадьбу устроили очень скоро. Да что-то уж чересчур скоро прошел и медовый месяц. Всем было видно, что молодые живут неладно друг с другом. И, действительно, чуть ли не на другой день после свадьбы они оба поняли, что неизвестно зачем сошлись, зачем женились, зачем связали свою судьбу навеки. Но оба не возвращались к прошлому. Оба знали, что цепи, их связывавшие, нерасторжимы: муж и жена – и конец, и нечего говорить об этом!
Они возненавидели друг друга самым откровенным образом, и чем дольше жили вместе, тем более усиливалась эта ненависть. Однако она все же была какая-то странная, она не мешала им чуть не ежегодно производить на свет детей, жить в одном доме, наконец, она сделалась почти единственным содержанием их жизни, единственным занятием.
Они оба изощрялись всячески делать друг другу неприятности, воевать. Посторонних в свои отношения они не вмешивали и, насколько возможно, соблюдали приличия. Собиравшиеся у них в деревне и в Москве гости могли только заметить, что они никогда не глядят друг на друга и не разговаривают между собою. И при посторонних и наедине они обращались друг к другу не иначе как «вы – граф» и «вы – графиня» и часто заканчивали какое-нибудь неизбежное хозяйственное объяснение такими комплиментами: «Позвольте вам заметить, граф, что я даже и от вас не ожидала такой глупости!» – обдавая супруга язвительной усмешкой говорила графиня.
Он поводил на нее глазами, щетинил усы и бурчал ей в ответ: «Извините меня, графиня, ведь известно, какой у вас язык: если собакам его бросить – так и те есть не станут!»
Они расходились и снова начинали придумывать, чем бы вывести из терпения один другого.
Между тем в их взаимной жизни происходили иной раз большие странности. Как-то граф заболел лихорадкой, да такой лихорадкой, что она не отпускала его два месяца, совсем истощила, и, наконец, доктора стали опасаться за жизнь его. Графиня во все время этой болезни не отходила от него ни на минуту, проводила у его постели все ночи, по нескольку дней не раздевалась. А когда он выздоровел, стала еще с большим рвением придумывать ему всякие неприятности.
Один из соседей, зная их семейные нелады, как-то вздумал в разговоре с графом неуважительно отнестись к Вере Павловне. При первом же слове граф, сидевший, по своему обыкновению, развалясь и куривший из длиннейшего черешневого чубука, вдруг вскочил, как будто под него подложили несколько пучков иголок и, не говоря худого слова, из всех сил принялся колотить соседа чубуком. Их разняли, но сосед вызвал графа на дуэль. Тот с ним дрался и даже вдобавок к чубуку ранил его в руку. Рана была незначительна. Дело замяли. Но в губернии знали об этой дуэли и много смеялись.
Как бы ни был граф зол на жену и какие бы неприятности ни говорил ей, но стоило ему только заметить, что кто-нибудь из многочисленной дворни относился к графине не с должным, как ему казалось, почтением, он немедленно производил строжайшую экзекуцию над провинившимся. И хотя вообще он не был жесток, но в таких случаях нечего было ждать от него пощады.
Ни разу в течение долгих лет самой невозможной семейной жизни ни графу, ни графине не приходило в голову о том, что ведь можно сделать эту жизнь сносной, что если они так уж не выносят друг друга, то самое лучшее им разъехаться. Это было тем более возможно, что средства их и обстоятельства позволяли сделать это без всякого скандала. Графиня могла жить в Москве или в Петербурге с дочерью, а граф – остаться в деревне, к которой он давно уже привык и где дичал с каждым годом.
Да, впрочем, очень может быть, что если бы они и решились разъехаться, то затосковали бы без этих перепалок и вечно измышляемых супружеских каверз.
Таким образом, графиня Вера Павловна имела право говорить, что муж ей «на смех» вырядился старым подьячим и завел в Петербурге скудную обстановку.
Но все же на этот раз она несколько ошибалась. Сделавшись в последние годы крайне скупым и испугавшись своего крупного проигрыша, граф пожелал, разыгрывая роль обнищавшего человека, выхлопотать для себя кое-какие милости. В конце концов это и удалось ему. Его знали лично, и кончилось тем, что он получил превосходные земли, якобы на льготных условиях, но, в сущности, даром.
Как бы то ни было, положение Мари становилось тяжелым. О веселостях и приемах в родительском доме, где бегали босоногие девчонки, где отец и мать то и дело воевали друг с другом, нечего было и думать. Тетушка предложила взять Мари к себе, но отец этому воспротивился.
– Кормить еще могу, пусть живет дома, – сказал он на все объяснения сестры. – А если тебе уж так хочется, чтобы она плясала, так и вывози ее сама… Я этому не мешаю…
И тетка стала вывозить Мари.
Николаю Горбатову иногда удавалось застать девушку у старушки. Но этого ему было мало. Он шел прямо к цели. Он настаивал, чтобы ему позволили явиться к графу. Тетка начала вести войну с братом.
– Помилуй, да ведь ты совсем с ума сходишь, ты изверг, а не отец… Ты хуже всякого зверя… Дело не шутка – жених такой, что лучше и не надо… За что ты хочешь лишить Мари ее счастья?
– Ничего не хочу! – бурчал граф. – Если этот молокосос свататься хочет – ну что же, пусть сватается… не откажу…
– Да как же ты его принимать станешь в такой грязи, ведь срамота! Ведь всякий как увидит – отступится. Ведь ему, я думаю, и во сне ничего подобного не снилось…
– В таком случае, значит, он подбирается к Машиному приданому. Если это настоящий жених, так он должен знать, что берет за себя бедную девушку, и я пыль в глаза пускать не стану… Каков есть, таков есть… вольному воля!..
Делать было нечего, пришлось наконец принять Николая Владимировича в маленьком грязном домике. Старушка-графиня очень осторожно объяснила молодому человеку, что с ее брата взыскивать нечего, что в нем большие странности, да и не в нем одном, но и в жене его. Мари очень несчастна в семье. Графиня даже всплакнула при этом и произвела должное действие.
Николай сделал визит графу и графине и уехал от них в негодовании, с твердым намерением как можно скорее «спасти» Мари, вырвать ее из этой невозможной обстановки.
XIII. Ученица
В это время Владимира Сергеевича Горбатова не было в Петербурге. Николай написал ему и получил в ответ краткое и холодное, как всегда, письмо, в котором отец говорил, что если не имел ничего против женитьбы старшего сына, то ничего не может иметь и против женитьбы Николая. Вообще глупо жениться в такие молодые годы, но если уж он решился на эту глупость, то пусть берет на себя и все последствия.
«Во всяком случае, – заканчивал Владимир Сергеевич, – благословляю тебя заочно, так как ты спешишь, а я в скором времени в Петербурге быть не могу. Вместе с этим письмом посылаю приказ в контору. Если желаешь оставаться в доме, то сделай нужные распоряжения».
Николай не стал смущаться и раздумывать над этим письмом, оно казалось ему естественным – между ним и отцом не было ничего общего, они были чужие друг другу. Еще, слава богу, что отец не противится его счастью, не мешает, не стесняет в средствах.
Николай был на верху блаженства. Брат Сергей и его первая жена, тогда еще совсем здоровая, молоденькая и веселая женщина, были очень рады этой женитьбе, этому новому оживлению, наполнившему их огромный дом. Тотчас же приступили к устройству помещения для молодых. Николай торопил, насколько было возможно.
И вот он женат. С каким блаженством вводил он свою юную подругу под сень старого горбатовского дома! Он был уверен, что отныне начинается для него совсем иное, счастливое, существование, что осуществляются все его мечты. Он с верой и нетерпеливым ожиданием глядел в глаза красивой Мари, и эти глаза, на время потерявшие свое заспанное выражение, ему улыбались. Молоденькая девочка, почти ребенок, не могла не поддаться обаянию первых дней любви. Все было для нее так ново, неожиданно, непонятно. Да и сама, хотя уже значительно обветшавшая, но все же почти царственная обстановка старого дома производила на нее впечатление, особенно после пансиона и грязного домика, нанятого ее родителями.
Она была уверена, что очень любит своего мужа. Он такой нежный, такой хорошенький. Он так старается отгадать всякое малейшее ее желание и тотчас же его исполняет.
Только с первых же дней он показался ей чересчур порывистым, пылким и не совсем понятным. Она была с ним ласкова и поддавалась его ласкам. На его поцелуи отвечала поцелуями. Когда он ее спрашивал, любит ли она его, она отвечала: «люблю».
Между тем всего этого ему было как будто еще мало, как будто он хотел еще чего-то. Но чего же ему еще? Какой странный!
А он все ждал.
Когда туман первых дней прошел, когда мало-помалу началась обычная жизнь, он стал торопить это счастье, о котором грезил. Он стал вызывать в жене не только женщину, но и друга. Он стал рассказывать ей себя, открывал перед нею все заветные уголки своей души, своего сердца. Передавал ей все свои мысли, грезы, планы. Сначала она слушала его довольно внимательно, но затем, и именно в ту минуту, когда он был особенно торжественно и трогательно настроен, когда голос его звучал почти вдохновением, а на глазах блестели слезы, она вдруг засмеялась. Он остановился пораженный и недоумевающий.
– Чего же ты смеешься?
– Ах, Nicolas, – ответила она, – помилуй, да как же не смеяться! Я думала – ты совсем взрослый, серьезный человек, а ты болтаешь глупости, как маленький ребенок.
– Как глупости? Как ребенок? – запинаясь, прошептал он.
– Да, конечно!.. Ну статочное ли дело так смешно фантазировать?.. И потом, я думала, ты добрый, а ты совсем злой. За что ты бранишь всех людей, считаешь их и глупыми, и бессердечными, и фальшивыми? Что они тебе сделали?..
Она приняла вид рассудительной женщины, журила его:
– Все у тебя есть, здесь в доме так хорошо, все тебя любят, все с нами ласковы… жить можно очень весело, а ты ничем недоволен… и ко всему еще недоволен и мною! Кажется, не на что пожаловаться!.. Оставь лучше все эти бредни и позвони – мне пора одеваться, а то мы опоздаем в театр…
Он замолчал, дернул сонетку и, выйдя от жены, стал бродить по пустым, огромным комнатам. С каждой минутой ему становилось тяжелее.
«Что же это?» – повторял он про себя и не находил ответа.
Наконец ему пришло в голову, что он сам виноват, что он слишком спешит, что отчаиваться смешно и глупо. Ведь Мари так молода, ведь он же знал это и именно рассчитывал на ее молодость. Что она может понимать? К чему подготовлена? В каких руках была? Он должен терпеливо «создать» ее и образовать, научить тому, чему сам научился… тогда она поймет его, и они заживут общей жизнью, станут «едино тело и един дух».
Да, он будет учить ее, читать вместе с нею и мало-помалу передаст ей все…