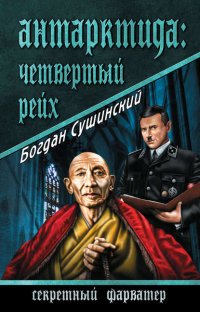Читать онлайн Опаленные войной бесплатно
- Все книги автора: Богдан Сушинский
1
Солнце прожигало вершину холма, выплавливаясь в нем, словно в гигантском горне – огромное, багряно-лиловое, апокалипсически вещее.
Вот оно зависло на срезе холма, как на алтаре. Самое время «помолиться на восход солнца». Однако никто из взиравших на него с берегов этой реки и окрестных полей войны не бросил оружие, не отказался от жестких помыслов, не стал на колени и не сменил гнев на милость.
- Снова солнце взойдет,
- Совершим мы намаз,
- И лавины врагов
- Вновь нахлынут на нас… —
…вспомнились еще в школе из «Кавказских войн» вычитанные строки. «Вот именно: и лавины врагов…»
Открыв дверь дота, Громов долго и пристально всматривался в багровое пламя солнца, и на суровом, застывшем лице его, словно лике краснокожего вождя непокоренного племени, отражались блики протуберанцев воинских костров, мужество последнего защитника крепости, и гордое пренебрежение к смерти, которое только приближало его собственную гибель. А ведь первые кровавые лучи-струи, протянувшиеся по склону прифронтовой Голгофы к излому днестровского берега, всего лишь намечали новую тропу войны, подниматься по которой нужно было, только возвышаясь в собственном бесстрашии.
– Товарищ лейтенант, – возник за его спиной Петрунь. – Из соседнего дота звонят. Медсестра. Напоминают.
Снаряд, разорвавшийся на макушке холма, был послан артиллеристами прямо в огнедышащую сердцевину этого божественно-провидческого пламени, а султан глухого взрыва на какое-то мгновение разметал его по поднебесью, пытаясь снова вернуть мир в напряженное спокойствие предрасветья, в благостную всемилостивость ночи.
– Сообщи: сейчас прибуду, – жестко ответил Громов. – Если поинтересуется комбат, доложишь.
Выручил его командир маневренной роты старший лейтенант Рашковский – рослый, розовощекий и в то же время на удивление нервный, суетливый парень, что никак не гармонировало с его комплекцией.
Узнав, что Громову нужно доставить санинструктора, он выделил ему один из четырех своих мотоциклов, с водителем, и при этом даже пожалел, что не может наведаться в городишко вместе с ним: был предупрежден о возможной высадке в тылу укрепрайона десанта, а потому обязан находиться на своем НП, располагавшемся неподалеку от батальонного дота Шелуденко.
Отдавать мотоцикл он вроде бы тоже не имел права, однако сам себя успокоил тем, что привезти санинструктора – значит усилить боеспособность дота, а следовательно, всего укрепрайона. Именно в таких генштабистских выражениях он и объяснил свою щедрость Громову.
– Нам сражаться рядом. Не подведу, – скупо поблагодарил Андрей, чтобы не распространяться о дружбе и долгах.
На той стороне бои шли уже где-то за грядой ближайших холмов. На самом берегу отчетливо просматривалось скопление подвод и машин. Толпы беженцев панически сливались с колоннами отходящих частей. Все это обозно-тыловое месиво устремлялось к мосту, который сегодня немецкая авиация почему-то не бомбила. Похоже, что германское командование проверяло древний постулат воителей: «Хочешь победить – укажи противнику путь к отступлению».
Проезжая по дороге, идущей вдоль речной долины, Громов видел, как, не рассчитывая больше на мост, саперы чуть ниже него по течению возводили понтонную переправу. А между мостом и этой переправой солдаты и беженцы уже переплывали Днестр на лодках, плотах, на всем, что могло держаться на воде. Несколько десятков кавалеристов переправлялись вплавь вместе с лошадьми.
За те полчаса, пока они добирались до дота полевой дорогой и улочками пригородного поселка, фашистская артиллерия дважды открывала огонь по городу; появились и несколько самолетов противника. Но, как ни странно, и артиллерия, и бомбардировщики держались подальше от моста, атакуя в основном правый берег и стихийную переправу. Словно бы инспектировали отработку красными переправы.
Пробившись, наконец, к реке, Громов попросил сделать небольшой круг и подъехать к мосту. Хотелось посмотреть, что там происходит и как на самом деле налажена охрана.
По обе стороны дороги, на подходах к мосту, еще кипела работа: углублялись окопы, сооружались два новых дзота, настороженно принюхивались к небу окаймленные мешками зенитные орудия и спаренные пулеметы. Однако во всей этой оборонной поспешности уже улавливались неуверенность и почти бутафорная бесполезность. Каждый из окапывающихся здесь прекрасно понимал: высшее командование даже не помышляет о том, чтобы остановить врага на данном рубеже. Так, сдержать его натиск на день-два, проредить ряды авангарда, сбить спесь… Да, и спесь – тоже…
– Кто такие? – грубовато поинтересовался ими какой-то майор, высунувшись из легковушки, остановившейся возле мотоцикла Громова.
– Комендант дота лейтенант Громов. Знакомлюсь с обстановкой и местностью. Готовлюсь к огневой поддержке.
– Ах, дота… – Майор устало отыскал глазами возвышавшийся на вершине холма дот Томенко, очевидно, решив, что Громов является его комендантом, и, сняв фуражку, зло размазал по лбу стекавший на глаза пот. – Ничего, будет и вам работенка. Притом очень скоро. Только не вздумай палить по моим хлопцам.
– Я не из этого, я – из соседнего дота. Будем прикрывать вас заградительным. Мои орудия дотянутся.
– Ах, ваши орудия, Бонапарт… – артистично поиздевался над ним майор. – Как их нам будет здесь не хватать!
– Вам не кажется странным, товарищ майор, что за два артналета противник ни разу не попытался поразить мост? А самолеты даже не приближаются к нему.
– Да? Самолеты даже не приближаются? – удивленно переспросил он, подозрительно как-то оглядывая боевые порядки охраны моста.
– Вот именно, – мстил ему за «Бонапарта».
– А что в этом удивительного, лейтенант? Для себя берегут. Он им, гнусавым, самим позарез нужен будет. Попробуй заново такой отгрохать. Да только черта лысого они его получат. Пусть похлебают водицу с подручных средств. А самолеты еще и зениток боятся. Двоих мои зенитчики уже «приголубили».
– Извините за навязчивость, товарищ майор, но мне кажется, что здесь все сложнее.
– В смысле?..
– Гитлеровцы что-то замышляют. Надо бы усилить бдительность охраны.
– Они это давно замыслили, лейтенант. Задолго до 22‑го июня. Еще в Берлине. По штабам-рейхстагам. Жаль, мы их вовремя не раскусили.
– А не раскусив, проиграли половину сражения. Еще до его начала.
– Что-что?!
– Да это я так… По части военной теории.
– Ах, военной теории, мой Бонапарт…
– Мост они конечно же не трогают из уважения к таланту мостостроителей. Уже за это мы должны уважать их.
– Ну, ты наглец, комендант. Посмотрим, как ты и твои дотники будете выпендриваться завтра, когда немцы выкатят орудия на обрывы, на прямую наводку.
– Зачем же так оглуплять противника, товарищ командир! – И, смерив друг друга уничижительными взглядами, они разъехались.
Томенко показался Громову угловатым подростком. Худенький, почти хрупкий, с золотоволосым школярским чубчиком, которого младшóй все время энергично взъерошивал, чтобы тот выглядел пышнее, чем есть на самом деле, он уже ждал Андрея у входа.
Обняв лейтенанта как старого знакомого и покровительски похлопывая по плечу, он сначала показал свое убогое «хозяйство» – пулеметную и артиллерийские точки. Проделал он это с гордостью коменданта мощной крепости, неприступной твердыни. Вот уж над кем потешился бы майор-бонапартист! «Ах, ваши неприступные бастионы, мой Бонапарт!»
– Давно обживаешь? – поинтересовался Громов.
– С третьего дня войны.
– Старожил. А я только принял командование. Как считаешь, надежный пункт? – это был вопрос так, для поддержания разговора. Однако младший лейтенант отнесся к нему со всей возможной серьезностью.
– Если во фронтовой обороне, то да. Бетон крепкий, запас снарядов имеется. Автономность деятельности при пополняемом гарнизоне… Но ведь нас наверняка оставят «держаться до последней капли крови». А для круговой обороны ни мой, ни твой, ни все прочие доты не приспособлены. В самой инженерии своей не рассчитаны: мертвая зона, легко простреливаемые врагом подходы к доту, отсутствие окопов и дзотов системы прикрытия… – поняв, что увлекся, Томенко вопросительно взглянул на коллегу.
– Мыслим мы с тобой одинаково… – задумчиво успокоил его Громов.
– При одинаковой-то судьбе…
– И приказ отходить вместе с фронтом для нас не последует.
– Они ведь там, по штабам, полагаются лишь на толщину стен. Хотя инженера, заложившего в устройство дота такую непростреливаемую мертвую зону, следовало бы расстрелять перед строем – как бездаря или как предателя.
– Может, со временем и расстреляют. Только нас это не спасет.
Умолкли они лишь потому, что зашли в командирский отсек, где, скромно притихшие, ждали их, сидя за столом, девушки.
– Угадывай, лейтенант, которая твоя. Но учти: не угадаешь – оставлю ее здесь.
– Медсестра Мария Кристич, – будто испугавшись, что Громов действительно может не угадать, подхватилась одна из них – черноволосая смуглолицая девушка, с четко очерченными, пухлыми губами «бантиком» и слегка выпяченным подбородком. Она преданно смотрела на Громова большими темно-коричневыми глазами, уже самим взглядом своим умоляя: «Забери ты меня, ради бога, поскорее отсюда! Забери же, забери!..»
– Лейтенант Громов, комендант «Беркута». Садитесь, санинструктор.
– Что за строгости, лейтенант? – снова похлопал его по плечу Томенко. – К чему? Завтра бой. Переправа в огне. А мы – последние, кто будет сражаться за этот берег. Так сказать, последний оплот державы.
– И я о том же, – опешил от его окопно-панибратской философии Громов.
– Ну вот… Знакомься: Зоя Малышева. Медбог сто девятнадцатого дота. Лучший санинструктор Подольского укрепрайона и всей действующей армии.
– Зачем вы так, товарищ младший лейтенант?.. – вобрала голову в плечи-крылышки Малышева.
Она была под стать своему командиру – маленькая, хрупкая, только в отличие от него болезненно бледная. Лицо, волосы, глаза – все какое-то неприметное, бесцветное. Сравнив этих двух девушек, лейтенант сразу же понял смысл взгляда Марии. Все то время, которое Кристич пришлось провести в доте, младший лейтенант использовал, чтобы уговорить ее остаться и конечно же покорить. Во что бы то ни стало – покорить. Громов представил себе, как при этом должна была чувствовать себя невзрачная Зойка Малышева, имевшая неосторожность привести сюда Марию.
«Неужели они не понимают, в какой ситуации, у какой черты окажутся уже завтра, а может быть, через два-три часа? – думал Громов, замечая, как, ревниво оттесняя Марию, Малышева накрывает скудный солдатский стол, для которого уже все было приготовлено, и как младший лейтенант призывно посматривает на Кристич, не скрывая при этом своего восхищения. – Да нет, понимают… И все же продолжают подходить к жизни с теми же запросами и измерять ее теми же мерками, что и до войны. А ведь и в самом деле… Неужто и дальше все будет так же, как было: любовь, ревность, измена, свадьбы? И все это во время войны – среди огня, крови, между страхом смерти и самой смертью? А миллионы гибнущих? А скорбь миллионов калек, сирот, обреченных? Разве все это не должно сделать всех нас, оказавшихся в эпицентре войны, терпеливее, сдержаннее, добрее? Скорбь… Великая скорбь должна вселиться в наши души. Только она способна изменить наше естество. Только она способна вытравить из наших помыслов зародыши злодейства и направить нас на путь борцов-мучеников, страдающих и гибнущих за Отчизну…»
«Очнись, – резко, почти грубо, оборвал нить своих размышлений Громов. – Что за семинаристские бредни? Ты – солдат. И вокруг тебя война. Взялся за оружие – значит, оставайся воином и не монашествуй в грехоискуплениях».
Они подняли кружки с водкой: «За победу!» Но выпил свое лишь Томенко. Остальные пригубили и поставили. Бутерброды сжевали, но к двум банкам консервов никто не прикоснулся. И конечно же не до веселья им было. Слишком уж непривычными, неподходящими казались и это сыроватое подземелье, и КП – с телефоном, окулярами перископа и патронными ящиками, – для застолья. И лишь когда Томенко взял в руки гитару и запел какой-то старинный русский романс, все немножко оживились. Мария даже попробовала подпевать, хотя слов и не знала. А пел младшо́й неплохо. Больше всех это открытие поразило «богиню 119‑го дота» Малышеву, и без того очарованную своим командиром. Однако и Громова гитарист заставил ревниво вздрогнуть и подозрительно взглянуть на богиню своего собственного дота: «Вроде бы не очень увлекается, но все же…»
– Запомните эту нашу встречу, ребята, – растроганно молвила Зоя, когда они поднялись, чтобы прощаться. – Она у нас, может быть, получилась не совсем такой, как хотелось, но вы ее запомните. И вспоминайте, куда бы ни забросила вас судьба… Ведь это же наше последнее, мирное… ну, пусть даже полумирное, застолье.
Мария поцеловала ее, потом, немножко поколебавшись, поддавшись на подзадоривающее Томенково: «Ну, ну… твой лейтенант не приревнует», чмокнула в щеку и младшего лейтенанта.
– Не обижай Зою, – вертела пуговицей у него на гимнастерке. – Она действительно хорошая медсестра и очень добрый человек. Сбереги, если сможешь.
– Постараюсь, обязательно постараюсь, – поугасшим голосом пообещал младший лейтенант. Вместе с Марией этот дот оставлял и весь его кураж. Громову уже был знаком этот тип людей: они готовы на все, на любой подвиг, любые мучения, но только в присутствии публики. Или хотя бы кого-то одного, ради которого стоит рисковать репутацией и жизнью. Смерть и страдания в одиночестве – не для них. И кто знает, как младлей поведет себя, когда окажется замкнутым в своей каменно-бетонной гробнице. Когда и куражиться, и исповедоваться придется только перед самим собой.
– Приходите еще сегодня вечером, – срывающимся голосом попросил Томенко, с трудом переводя взгляд с Кристич на Громова, да и то лишь ради сохранения приличия. – Вдвоем… приходите.
– Вряд ли это удастся, – холодновато ответил лейтенант. – Время такое… Вечерние посиделки придется отменять.
– Да почему отменять, лейтенант? – вновь положил руку на плечо Громова, и тот с трудом удержался, чтобы не смахнуть ее и не напомнить младлею, как вести себя со старшими по званию. Хотя дело, конечно, было не в звании. Просто панибратства – такого вот, скороспелого – он никогда не терпел. – Сколько нам жить осталось…
– Столько, – прервал его Громов, – сколько будем вести себя на фронте как подобает офицерам.
– Все-все, – мило улыбаясь, вклинилась в их спор Кристич и деловито, будто забирала с вечеринки мужа, сказала: – Вы правы, товарищ лейтенант, нас уже, поди, заждались. Засиделись мы тут, в гостях.
2
Выйдя на поверхность, они еще какое-то время стояли в окаймляющем дот окопчике, любуясь неярким, подернутым туманной дымкой солнцем и вдыхая доносящуюся от реки прохладную влагу июньского покоя.
После мрачного, угарного подземелья дота этот пронзительный аромат реки пьянил и очаровывал. Никуда не хотелось идти, как, впрочем, и ничего не хотелось замечать такого, что напоминало бы о войне. Тем более что на какое-то время весь правый берег Днестра вдруг охватило редкое для военного времени спокойствие. Странное и подозрительное. Ни взрывов, ни выстрелов, а колонна бойцов, движущаяся вперемежку с повозками и машинами, воспринималась отсюда с такой безучастностью и отстраненностью, словно она восставала на экране полевого армейского кинотеатра.
Даже группка солдат из гарнизона Томенко, расположившаяся с бутыльком самогона и нескудной, пока еще не пайковой, закуской на лужке посреди каменистой россыпи, почему-то приумолкла, напряженно уставившись на вышедших из дота офицеров и на речное, забитое войсками замостье.
– Что там? – поинтересовался Громов у появившегося со стороны моста мотоциклиста, которому он на полчаса предоставил свободу действий.
– Да что-то не то, – мрачно ответствовал тот. – Войска бегут, город бежит, а по ту сторону непонятное спокойствие. Не понятно, от кого бежим.
– Ну, это нам очень скоро объяснят, – «успокоил» его Томенко.
– Не знаю, не нравится мне все это.
– А кому нравится? – почесал затылок младлей. Полоса хандры длилась недолго, и теперь к нему вновь возвращался озорной азарт любимца публики. – Но форсировать эту реку придется не нам, а германцу. И доберутся до этого берега немногие.
…Подъезжая к мосту, Громов обратил внимание, что поток беженцев и солдат уже схлынул. Вот по мосту прошла группка бойцов с носилками. Затем еще группка – с двумя пулеметами, причем один пулемет, с длинным ребристым стволом, явно был трофейным.
– Что, посмотрим, как рванут? – спросил водитель мотоцикла, видя, что охрана оставляет ближние от моста окопы и ячейки.
– Думаешь, уже будут рвать?
– Самое время.
– Может быть. Отходят, очевидно, последние.
– Только любоваться здесь нечем. Надо поскорее вырываться из этой пробки. Боюсь, что сейчас всю эту вереницу накроет артиллерия.
– Э-гей! – прокричал раненый боец, семенивший вслед за группой пулеметчиков. – Погодите взрывать! Там еще какая-то часть! Целая часть идет! Там, за холмом!
– Какая часть?! Откуда она взялась?! – офицера, выскочившего из блиндажа, Громов узнал сразу. Это был тот самый майор-бонапартист. – Там уже не должно быть никакой части!
– Может, с севера подошли. Там моста нет.
– Разве что с севера.
– Да вон они, командир! – во всю глотку заорал офицер, возглавлявший последнюю группу отходивших. – На подводах и строем! Не менее батальона!
– Неужели сняли заслон?!
– Не положено! Заслоны еще на холмах.
– Выясним, Бонапарт, выясним…
– Слушай, парень, – скомандовал Громов водителю. – Заверни-ка ты в переулок. Подождем еще минут десять. Что-то мне в этой истории не нравится.
– На том берегу всего лишь заслон, и все? – ошарашенно спросил водитель, пораженный тем, что он услышал.
– Если он действительно есть.
– Значит, уже сегодня на том берегу Днестра будут немцы?
– И румыны – тоже, – мрачно уточнил заросший грязной щетиной солдат, подошедший прикурить. – Севернее города они и так уже на мелководье плещутся. Еще вчера вечером вклинились. А туда дальше, – махнул рукой на юг, – они давно на левом берегу реки. Так что, братки-браточки, самый раз уколдошиваться отсюда, пока в мешок не сунули.
– Ну ты, паникерша в обмотках! – прикрикнул на него водитель, косясь на сошедшего с мотоцикла Громова. – Никаких «мешков» не будет, понял?
– Мне что? Спросили, я ответил.
– Лучше скажи, как они там вообще… неужели в наглую прут?
– Завтра сам увидишь, – не мог простить ему своей оплошности пехотинец и, так и не дождавшись огонька, попросту забыв о нем, побежал догонять своих.
Лавируя между повозками и машинами, мотоцик-лист с трудом пробился через переезд и начал медленно отъезжать от моста по дороге, ведущей вдоль железнодорожного полотна, чтобы где-то там подождать его.
Громов видел, что Мария все время оглядывается и как будто хочет что-то крикнуть ему. И хотя крикнуть она так и не решилась, Андрею все же показалось, что они расстаются навсегда, что должно произойти нечто такое, что сделает их встречу невозможной. Был момент, когда он еле сдержал себя, чтобы не побежать за мотоциклом.
Тем временем позади, у моста, неожиданно раздались выстрелы. И сразу же кто-то в конце колонны закричал: «Немцы! Братки, это же немцы, только в нашей форме!»
«Вот это оно и есть!» – со странным облегчением сказал себе Громов, найдя наконец объяснение тому предчувствию, которое все утро не покидало его.
Услышав панический крик: «Немцы!», десятка два проходивших рядом бойцов рванулись в пылившийся рядом переулок, но, выхватив пистолет, лейтенант бросился им наперерез.
– Назад!
– Куда это назад! – огрызнулся какой-то сержант.
– Туда, к мосту! За мной! – и, понимая, что пробиться через паникующую колонну будет трудно, метнулся к ближайшей калитке.
Он не видел, все ли красноармейцы подчинились его приказу, но топанье нескольких пар ног позади себя все же слышал. Поэтому, прорываясь через двор, мимо заскулившего от страха пса, Громов не оглядывался, а лишь жестко повторял:
– К мосту! Там прорвались немцы! К мосту!
В соседнем переулке, у разнесенного снарядом дома, он увидел облепленную солдатами повозку. Среди них было несколько легкораненых.
– Слушай меня! – бросился к ним Громов. – Кто способен сражаться? На мосту немцы! Все за мной! Оружие – к бою!
За развалинами крайнего дома Громову бросилось в глаза, что в окопах и между блиндажами уже разгорается рукопашная схватка. Но со стороны тянувшихся вдоль берега окопов на помощь «мостовикам» бежит около роты бойцов. Другая группа красноармейцев залегла на железнодорожном полотне и на боковой автомобильной дороге, пытаясь блокировать съезды и не дать колонне переодетых фашистов вырваться из узкой горловины моста.
А еще ему запомнилось, как на мосту рвались из упряжки раненые кони, а между ними, избиваемый копытами, метался какой-то человек в красноармейской форме, но с совершенно седой головой. Не по-солдатски седой.
Теперь уже Громову нетрудно было представить себе, что произошло. Фашисты шли в строю и ехали на нескольких повозках. Все выглядело вполне естественно: еще один батальон отходит на этот берег. Но как только голова колонны достигла его, почти сотня немцев бросилась на окопы и пулеметчиков, чтобы смять охрану и захватить мост. Теперь стрельба слышалась и на правом берегу. Очевидно, часть немцев пыталась с тыла уничтожить остававшийся там жиденький заслон. И только теперь прояснился смысл того затишья, что царило в течение часа в районе моста и его окрестностей. Немцам хотелось усыпить бдительность русских, а главное, они опасались накрыть огнем своих.
Да, гитлеровцами все было продумано довольно четко. Вот только само нападение оказалось не настолько стремительным и неожиданным, как они предполагали. К тому же, очевидно, сыграло свою роль недоумение, с которым встретил появление колонны майор: откуда, мол, взялась эта часть?!
Под ливневым огнем, обрушившимся на них с трех сторон, основная масса уцелевших немцев уже начала отходить к мосту. Но все же бой еще только разгорался.
По группе, которую вел Громов, тоже ударили из пулемета. Очередь прошла у Андрея над головой, но он услышал, как позади него кто-то вскрикнул, кто-то зарычал от боли и зло выругался… Сам лейтенант все же сумел перемахнуть через вторую линию окопов и тотчас же его чуть было не прошил штыком какой-то здоровенный детина в бесцветной, прожженной на плече гимнастерке, пытавшийся вырваться из этого окопного кольца. Лишь в последнее мгновение Громов успел метнуть туловище вправо, пропустил штык мимо себя и, перехватив винтовку, подножкой сбил нападающего на землю.
Еще не будучи до конца уверенным, кто это – свой или враг, он в падении несильно ударил этого человека кулаком в висок и прокричал по-немецки: «Все! Не сопротивляться!» Однако, повернувшись на спину и пытаясь схватить его за шею, тот, в красноармейской форме, в ответ зло прохрипел: «Русиш швайн!» И вот за это оскорбление он ему был признателен.
Резким ударом обеих рук Громов развел руки фашиста, поднялся и, пока гитлеровец не успел что-либо сообразить, всем своим весом упал на него, ударив коленями в живот.
– Эй, эй! – топтался вокруг них какой-то солдатик. – А который тут свой? Который тут свой?!
– Все свои, браток! – ответил Громов, переворачивая фашиста на грудь и заламывая ему руки. – Кроме этого, переодетого. На, держи его. Удержишь?
– А как его, как?
– Аккуратно. Хватай.
Но солдат, как-то странно передернувшись, вдруг подался на него и, оседая, упал прямо на ноги диверсанту.
Громов еще раз оглушил немца рукояткой пистолета, приподнял красноармейца и, поняв, что тот уже мертв, оттащил на несколько шагов в сторону.
В ту же минуту у самой реки кто-то архиерейским басом скомандовал:
– Взрывай! Взрывай, Христос на небеси! Танки уже у моста!
А вот теперь, понял Громов, начинается самое «интересное». Теперь-то она и начинается, та самая, настоящая, война.
Все еще не желая расставаться со своим пленником, Громов рванул немца на себя и потащил в ближайший окоп.
– Лейтенант, вы?! – почти вместе с ним спрыгнул в окоп водитель мотоцикла. – А я уж думал – все, нет вас!
– Рано подумал, мыслитель. Охраняй его здесь. И всем кричи, что ты свой. Всем! А то пристрелят и спишут на немецкие потери, – объяснил Громов, выглядывая из окопа.
У моста по-прежнему свирепела стрельба. Часть диверсантов залегла прямо на мосту, а часть – у самой воды, очевидно, где-то за обрывом, откуда их не так-то просто будет выкурить.
* * *
Громов выбрался из окопа и, держа наготове пистолет, пополз к берегу. В небольшой ложбинке корчились в предсмертных судорогах двое солдат. Из живота обоих струилась кровь. Рядом же валялись их винтовки с окровавленными штыками.
«Неужели одновременно проткнули друг друга?!» – пораженно осмотрел их Громов, однако определить, кто из них красноармеец, а кто немец, так и не смог. Да и не к чему это уже было.
По дороге к окопу ему попалось еще несколько убитых. На одном из них сквозь расстегнутую гимнастерку лейтенант увидел ворот вермахтовского кителя. Судя по знакам различия, этот диверсант был офицером.
В нескольких сантиметрах от плеча Андрея отстучала поминальную морзянку автоматная очередь, и он запоздало, слишком запоздало, отпрянул в сторону.
– Лейтенант, сюда! – раздался чей-то знакомый голос.
Громов оторвал от земли исцарапанную щеку и увидел рядом с собой, над бруствером окопа, окровавленную голову майора. Того самого.
– Вас ранило? – рывком перебрался к нему Андрей.
– С чего ты взял?
– Так висок весь в крови.
– Да? – Майор растерянно мазнул себя по виску, посмотрел на ладонь. – Чепуха. В рукопашной саданули. Прикладом. И, по-моему, свой же, архаровец.
– Хорошо, что не проткнул.
– Этого еще не хватало. Хотя… Поди разбери в этой кутерьме, где тут свой, где чужой.
– Что там происходит у реки?
– Все то же… Засели вон человек двадцать. У крайней опоры, за обрывом. На вооружении – пулемет, автоматы. Еще и гранатами пошвыривают.
– Прячь за-а-ды, око-о-пники! – высоким гнусавым голосом сельского дьячка пропел высунувшийся из блиндажа с телефонной трубкой в руке боец-связист. – Мост взрывают!
– В воздух его, в воздух, к чертовой матери! – рявкнул майор так, что Громов содрогнулся. – Пока их танки своих же давят! Падай, лейтенант!
Но Громов только присел, и сквозь щель в бруствере видел, как одна за другой оседали три срединные опоры моста, как взлетали на воздух и опадали в воду части пролетов, как завис на оставшемся у противоположного берега осколке моста фашистский танк, но не удержался и, кувыркаясь, тоже полетел в кипящий вихрь воды и металла. И уже там, в речной глубине, раздался взрыв – очевидно, сдетонировали снаряды.
Потом вдруг наступила странная, неестественная в этой ситуации тишина. Из окопов медленно прорастали головы бойцов. Все удивленно осматривали два оставшихся у берегов пролета, разрушенные опоры, барахтающихся в воде людей, по которым пока никто не решался открывать огонь.
– Сколько же жизней примет нынче эта река… – задумчиво проговорил Громов.
– Она и дарит ее, она же и отбирает, – сухо ответил майор. – Пусть теперь эти вояки сунутся на переправы!
– Сунутся, – скептически охладил его Громов.
– Конечно, сунутся, куда ж им деваться? Но только это уже будет другая война… мой Бонапарт! – Никак не мог расстаться с приклеившейся к нему при чтении какой-то книги тенью Наполеона.
– Там, в окопе, я оставил пленного.
– Какого еще пленного? На кой черт он здесь нужен? – отмахнулся майор, держа в левой руке окровавленный платочек, которым только что зажимал рану на голове.
Тишина длилась недолго. Где-то за железнодорожным полотном прозвучал винтовочный выстрел. Кто-то из уцелевших у моста фашистов сразу же ответил автоматной очередью. И снова началась стрельба, но уже более жидковатая.
Оставшись отрезанными, фашисты – и те, что залегли на пролетах, и те, что у воды, – заметно подрастерялись. Операция сорвалась, бой проигран. Что дальше?
– Э-гей, не стрелять! – неожиданно скомандовал майор, никак предварительно не объясняя свой поступок. – Я сказал: не стрелять!
– Не стрелять, – поддержало его сразу несколько голосов.
Из блиндажа сразу же вынырнул солдат и ткнул ему в руки рупор, благодаря которому майор, очевидно, не раз наводил здесь порядок.
– Эй, вояки хреновы! – вновь заорал майор, когда стрельба немного поутихла. – Все равно всем хана! Сдавайтесь!
Ответом ему была долгая, злая автоматная очередь, пули которой ударили в бруствер возле самой груди майора. Тот обстоятельно выругался, вытряхнул из рупора комки глины и прямо в рупор заматерился.
– Изысканная дипломатия, – устало ухмыльнулся Громов. – Дайте-ка мне эту говорилку, – и, не дожидаясь согласия, почти вырвал из руки майора усилитель.
– Германские офицеры и солдаты! – прокричал он по-немецки. – Вы отрезаны! Операция по захвату моста провалилась! Сдавайтесь в плен, и мы гарантируем вам жизнь.
– Э, да ты вот так, запросто, по-немецки?! – удивился майор. – Это ж почему?!
Но Громову некогда было отвлекаться на объяснения.
Теперь уже по их окопу ударило сразу несколько автоматов – и с моста, и от реки.
Громов пригнулся, переждал, пока гитлеровцы угомонятся и, не поднимаясь, прокричал:
– Красноармейцы, слушайте приказ! Огонь по врагу из всех видов оружия! Огонь!
– Гордащенко, Свиридов! – поддержал его майор. – С гранатами – к обрыву! Забросать их!
– Связь с ближайшим дотом у вас есть? – спросил его лейтенант.
– Должна быть.
– Прикажите ударить по остаткам моста. Он у них хорошо пристрелян.
Майор бросился к дзоту. И буквально через две-три минуты первый снаряд, чуть перелетев уцелевший пролет, взорвался в воде. Второй лег по ту сторону реки, сразу за мостом, где уже скапливались вермахтовцы. Наконец, два взорвались на пролетах. Однако снаряды 76‑миллиметровых орудий оказались слишком мелки, чтобы разнести их.
– Прекратить огонь! – вновь скомандовал Громов, хотя старшим здесь оставался майор. И уже намного увереннее прокричал: – Германцы! Сдавайтесь! Предлагаю последний раз!
С полминуты длилась томительная пауза, наконец от моста донеслось корявое:
– Рус, не стреляй! Плен! Плен!
В доте, очевидно, не успели вовремя принять команду майора, и оба орудия выпустили еще по снаряду.
– Лучше пусть бьют по правому берегу! – подсказал Громов майору.
– И пусть.
Громов видел, как несколько немцев поднялись и начали спускаться с полотна в их сторону, понимая, что командир охраны находится именно здесь. Но на той стороне дороги вдруг ожил пулемет, длинной очередью ударивший им в спину. В то же время у опоры моста один за другим прогремели два гранатных взрыва.
– На том берегу вражеские танки! – оповестил офицеров кто-то из бойцов.
– А, черт! – Громов поднес рупор ко рту и осмот-релся. Нет, дальше тянуть уже было нечего. Немцы могли начать переправу. – Слушай приказ! По фашистам огонь! Огонь!
Последние слова его потонули в грохоте взрыва. Это прямой наводкой ударило по их позициям орудие немецкого танка.
– Товарищ майор, – бросился Громов к дзоту. – Мое время истекло. Дальше командуйте сами. Пора в дот. У меня там самые переправоопасные места.
– Какой еще дот?! Пересиди, пока не угомонятся танкисты. Сейчас пушкари их отгонят. У меня связь с дивизионом.
– Да? – засомневался Громов, но не в налаженности связи майора, а в том, стоит ли торопиться. – Возможно…
Дуэль продолжалась минут десять-пятнадцать. Несколько снарядов разорвалось прямо у дзота. Но в этой артиллерийской суете пушкари из дота Томенко продолжали методично делать свое дело. Отдав танки батареям прикрытия, они добивали гитлеровцев, засевших на пролетах моста, а заодно разрушали и сами пролеты.
Тем временем несколько снарядов, посланных танкистами, попали в окопы, и один из них разворотил блиндаж метрах в ста от дзота – теперь оттуда доносились стоны и кто-то тонким, почти нежным голоском, словно сонный ребенок – маму, звал санитаров.
«А ведь это уже не стычка с диверсантами, это твой первый настоящий бой, – только теперь понял Громов всю важность того, что происходило сейчас у руин моста. – Первая схватка, первое пороховое крещение, первый взятый пленный…»
Лейтенант Громов по-разному представлял себе этот бой. Однако то, что произошло у моста, не могло родиться ни в каких его фантазиях.
Наконец пальба, несколько затихнув, все же сместилась севернее – вражеские танкисты и пришедшая им на помощь артиллерия теперь уже расстреливали беззащитный городок, дым над которым становился все гуще и гуще.
– Ладно, все самое интересное уже позади. Пошлите со мной бойца, пусть возьмет пленного, – предложил Громов майору, понимая, что прощание с «мостовиками» и так слишком затянулось.
– А что, появился пленный? – удивленно спросил бонапартист, словно впервые слышал о нем.
– Я же докладывал.
– Интересно-интересно… А ну, мой Бонапарт, давай-ка его сюда, – выскочил он из окопа вслед за лейтенантом. – Поглядим, что у них там за диверсанты. Заодно выясним, что за часть и где их, бездарей, готовят.
– Уж не думаете ли вы, что они бросили сюда, на убой, выпускников разведывательно-диверсионных школ?
– А что, мост того стоит…
– Переодели обычный маршевый батальон, придав ему несколько русских из числа белогвардейцев.
– А вот это мы сейчас узнаем… мой Бонапарт.
3
Громов хорошо помнил, что оставил пленного и водителя у изгиба траншеи. Теперь же оказалось, что они сидят в какой-то полузасыпанной, обрамленной воронками яме. Причем с обеих сторон окоп был тщательно перепахан снарядами.
– Ну и наделили ж вы меня, лейтенант, пленничком, – попытался было выплеснуть свое неудовольствие младший сержант-мотоциклист, но, услышав грозный окрик Громова: «Отставить разговоры!», тотчас же умолк.
– Кто он такой, попытались выяснить?
– Да нет.
– А следовало бы, товарищ младший командир. На войну как-никак собрались. А перед вами – десантник. Что тут у вас происходило?
– Как что? – огрызнулся мотоциклист. – Не видите: будто специально по нас целились, – проговорил, едва сдерживая дрожь. Он все еще сидел, упершись штыком в грудь пленного и таким образом прижимая его к стенке окопа. Но самое любопытное, что рядом, и тоже с винтовкой в руках, полустояла-полусидела Мария, которую Громов до поры как бы не замечал. Время от времени над ними безумно высвистывали долетавшие с противоположного берега пулеметные очереди, поэтому все трое предпочитали не высовываться. – Да еще этот гад… – продолжал плакаться мотоциклист, – бросился на меня. Если бы не Мария…
– Ну при чем тут я?! – перебила его девушка, почувствовав себя неудобно за слабоволие младшего сержанта. – Только прикладом по голове, чтоб не очень…
– Мой санинструктор, – представил ее Громов майору. – Последняя надежда гарнизона.
Тот придирчиво оглядел девушку, на какое-то мгновение просветлел, но, встретившись со взглядом Громова, понял, что флиртовать слишком опасно, и сразу же вспомнил о ране.
– Болит слегка, – прижал к голове запятнанный подсохшей кровью платок.
– Давайте, перевяжу, – предложила Мария.
– Ладно, бинты марать. Имея такого санинструктора, я бы пооберегся лезть под пули, – посоветовал он Громову.
– И все же, давайте перевяжу, товарищ…
– Майор, – подсказал тот. – Вообще-то, можно и перевязать. А ты, лейтенант, веди этого мерзавца к моему блиндажу. Желаю задать ему, сукиному сыну, несколько принципиальных вопросов. Если только согласишься побыть переводчиком. Ты-то по-немецки неплохо шпаришь.
– Пробую…
– «Пробую»! – хмыкнул майор. – Мне бы так. Когда ты заорал на немецком, я, признаться, даже вздрогнул: «Сам-то он не ихний ли?» – объяснил мостовик уже по дороге к командирскому блиндажу, оставшемуся по счастливой случайности неразрушенным.
– Но когда я скомандовал: «Огонь!» – успокоились.
– Только тогда, – простодушно признался майор.
Пленный шел спокойно, но заложить руки назад отказался. Это был рослый крепкий парень лет двадцати семи. Худощавое аристократическое лицо его чуть-чуть искажал приплюснутый боксерский, очевидно уже претерпевший пластическую операцию, нос. А густые, черные, слегка волнистые волосы и смугловатый цвет кожи указывали на то, что в нем бурлила кровь предков далеко не арийского происхождения.
У блиндажа пленный остановился и с прощальной тоской взглянул на тот берег. Он видел, что там уже хозяйничают немецкие части, и, наверное, проклинал изменившую ему удачу. А еще был миг, когда Громову показалось, что диверсант решается: «Не попробовать ли прорваться к реке?»
Возможно, он и попытался бы сделать это, но из окопов и блиндажей на него смотрели десятки вооруженных людей. И пленный понял: «Не удастся!»
– Товарищ командир, – подбежал к майору какой-то сержант. – Гранатами забросали… В плен так никто из них и не сдался. Последний, пулеметчик, по-моему, застрелился. Двое бросились в воду, но их накрыло снарядом.
– Воюй, Бонапарт, воюй, – пробасил майор уже из входа в блиндаж. – Начинаешь неплохо. А пленный у нас уже образовался. – И, считая, что похвалу сержанту он выдал, тут же предложил Громову: – Знаешь, давай поговорим с ним прямо здесь. Там у меня темновато. А я его видеть должен. Всего, насквозь.
Лейтенант приказал пленному сесть на ступеньку. Водитель тотчас же предусмотрительно прилег на бруствере у него над головой. Сам майор остановился у дверного косяка. Воспользовавшись ситуацией, Мария достала из сумки санпакет, но подойти к майору не решалась. Так, с пакетом в руке, она и стояла возле Андрея.
– Ну, перевязывай, перевязывай, – подбодрил ее бонапартист. – Челюсти-то у меня будут свободны. Спроси его, лейтенант, в колонне были и русские? Я отчетливо слышал русскую речь, – сказал майор, уже не обращая внимания на санинструктора.
Андрей перевел вопрос пленному.
– Были, конечно, – неохотно ответил немец. – Человек двадцать.
– Перебежчики, что ли? – удивился майор.
– Из эмигрантов. Их специально готовят для заброски в ваш тыл.
– Значит, это был целый батальон диверсантов? – ошарашенно уточнил майор. – То-то, я вижу, в рукопашном по-нашему дерутся.
– Можете называть их и так, «диверсантами», – невозмутимо согласился пленный. И Громова удивило, что германец не отказывается отвечать, не становится в позу. При этом, правда, не скрывает своего пренебрежения к допрашивавшим, но это уже не имело значения.
– Какова была ваша личная задача? Как вы оказались в этой банде?
– Я буду отвечать только на вопросы, касающиеся русских, – вдруг ответил немец, объясняя Громову свое предыдущее поведение, и презрительно сплюнул. – Особой тайны это не составляет.
– Ваше звание? – спросил его Громов. – Вы офицер?
– Офицер, естественно, – неожиданно ответил тот по-русски. – Если уж это так важно.
Майор и Громов удивленно переглянулись.
– Так он, Бонапарт, еще и по-русски шпрехеншпандолит! – первым отреагировал мостовик.
– И почти без акцента.
– Чего ж молчал? – переговаривались они так, словно самого диверсанта при этом не было. – А ведь это меняет ситуацию. Теперь им и в штабе заинтересуются.
Громов успел заметить, что пленный говорил почти без акцента. Можно было подумать, что говорит украинец, довольно хорошо знающий русский.
– Выходит, тоже из эмигрантов? – снова включился в разговор майор, обращаясь теперь уже прямо к пленному.
– Я – ариец, – с вызовом ответил тот и поднялся во весь свой почти двухметровый рост.
– Врешь, – помахал пальцем майор. – Ариец! Знаем мы таких «арийцев». Из этих, из белогвардейцев небось. Из недобитых.
– Впервые в жизни мне не верят, что я ариец. До сих пор верили.
– И все же, кто вы на самом деле? – спросил его Громов по-немецки. Ему казалось, что на вопросы, задающиеся на его родном, немецком, пленный будет отвечать охотнее. Кроме того, ему хотелось поупражняться в языке противника.
– Что вас удивляет, лейтенант? – ответил тот. – Что немец говорит по-русски? Я же не удивляюсь, слыша, как вы довольно свободно говорите по-немецки. Вы готовили своих людей, мы – своих.
– Меня никто специально к войне не готовил.
– Еще бы. Вас конечно же готовили к защите родины, – иронично ухмыльнулся пленный. – Но, по сути, к одной и той же цели. Кстати, пленных у вас расстреливают, лейтенант?
– Нет. Поступают согласно конвенции. Если, конечно, вы соответственно будете вести себя в плену.
– Ложь, лейтенант, – желчно улыбнулся пленный. – Мне хорошо известно, как у вас поступают с пленными.
Громов хотел перевести это майору, но тот жес-том остановил его, дав понять, что уловил смысл разговора. Как оказалось, он тоже немного владел немецким.
– Когда ваши собираются форсировать реку? – спросил он немца по-русски.
– На этот вопрос я отвечать не буду.
– Не желаешь, значит?
– Не желаю.
– Слушай, ты!.. Еще раз спрашиваю, когда вы будете форсировать? – спокойно повторил вопрос майор. – И ты обязан отвечать, иначе я тебя тут же…
– Хорошо, отвечу. Форсировать будут сегодня, – молвил пленный по-немецки. – Уже к ночи ваши трупы будут плавать в этой реке. Можете в этом не сомневаться. – И выждав, пока Громов переведет ответ майору, вскинул руку в фашистском приветствии.
– Отправьте его в комендатуру, майор, – посоветовал Громов. – Пусть допросят основательнее. Нужно узнать, что там у них за спецподразделение. Думаю, речь идет об одном из батальонов полка особого назначения «Бранденбург». – Громов умышленно назвал полк, чтобы показать пленному, что они уже знают о существовании такой части. – Эти самые «бранденбуржцы» уже промышляли в нашем тылу.
– Откуда такие сведения? – удивился майор. – Да к тому же у рядового коменданта дота?
– Сам с ними сталкивался. Успел. Ну, мне пора в дот.
Будто не желая выпускать его из окопа, на противоположном берегу затявкал пулемет, и пули просвистели несколькими сантиметрами выше голов пленного и Громова. Вместе они и присели, почти уткнувшись лицами друг в друга.
– Господин лейтенант, – обратился к нему пленный после того, как по правому берегу ударили орудия и пулемет снова умолк. – Пристрелите меня, ради бога. Если уж принимать смерть – то от руки офицера. Храброго офицера.
– Этого удовольствия я вам доставить не могу.
– Боитесь понести наказание от своего командования?
– Какое тут командование и какое наказание…
– Вот именно, – приободрился Штубер, переходя на русский. – Кто этим будет заниматься?
– Ну, во-первых, я сомневаюсь, что вы действительно офицер, – решил воспользоваться ситуацией Громов.
– О Господи, неужели я мог бы выдавать себя за офицера, не будучи им?
– А почему не мог бы?
– Это не по законам войны.
Громов удивленно уставился на него.
– Какие еще «законы войны»? Можно подумать, что вы пришли сюда не убивать и выжигать эту землю, а блистать своим германским рыцарством.
– В таком случае вы забыли, что древние блистали своим рыцарством не на балах и дипломатических раутах, а… на войнах, во время которых они, увы, убивали и выжигали.
– В общем-то тоже верно.
Если майор и терпел этот их диспут, то только потому, что Мария слишком старательно забинтовывала ему голову и, похоже, бонапартисту приятно было как можно дольше задерживать ее возле себя. Вместо того чтобы вмешаться и прекратить их совершенно неуместную, на его взгляд, военно-полевую полемику по поводу истоков рыцарства, он благоденственно вдыхал запах волос этой красавицы, легкий, но все равно пьянящий аромат ее тела, настоянный на резковатом, но таком знакомом букете одеколона «Сирень».
– В моем положении логичнее было бы скрывать, что я офицер, а тем более – офицер СС, нежели повышать себя в чине. С рядового-то каков спрос?
– И какой же у вас чин, позвольте полюбопытствовать?
– Оберштурмфюрер СС.
– А в переводе на обычный армейский язык?..
– Приравнивается к вашему старшему лейтенанту. Обер-лейтенант войск СС.
– Божественно.
– Теперь вы согласны исполнить мою просьбу и, как офицер офицера…
– Я ведь сказал, такого удовольствия доставить вам не могу. Ситуация позволяет переправить вас в тыл, а значит, это мы и сделаем. В принципе, пленных у нас, как я уже сказал, не расстреливают.
– Даже офицеров СС?
Громов замялся, не понимая, почему пленный так упорно выделяет тот факт, что он офицер СС.
– Честно говоря, я не знаю, существуют ли какие-либо инструкции относительно офицеров СС. Лично меня с ними не знакомили.
– «Честно говоря», – повел подбородком оберштурмфюрер. – Странно слышать такое в окопах коммунистов, очень странно…
– Только что вы рассуждали о рыцарстве и законах войны, этим рыцарством порожденных.
– Э, бонапарты, я уже не понимаю, кто кого здесь допрашивает, – недовольно проворчал майор и, потершись свободной от бинта частью щеки о руку Марии, дал понять, что бинтоэкзекуция завершена. – Понимаю, лейтенант, что с первым пленным офицером общаться приятно, то есть, – спохватился он, – я хотел сказать «интересно». Но только ни черта вы из этого своего допроса из него не выудили. Он вас допрашивал дольше и успешнее. И никакой он не немец. Из наших, видно, из белоэмигрантов.
– Не думаю. Впрочем, он в вашем распоряжении, – пожал плечами лейтенант. – Главное, что мы выяснили: он владеет русским и принадлежит к полку «Бранденбург», в котором проходят стажировку их диверсанты. Все остальное для нас, полевых офицеров, особого интереса не представляет. Зато там, в штабах повыше, такой информацией будут наслаждаться. Вы закончили, санинструктор? – обратился к Марии, не давая майору вставить хотя бы слово.
– Как видите.
– В таком случае разрешите отбыть в распоряжение своего гарнизона, товарищ майор.
Уловив, что Громов обиделся, майор по-крестьянски покряхтел и искоса взглянул сначала на Кристич, а затем на оберштурмфюрера.
– Ну, не будем портить отношения из-за этого поганца, – сказал он. В эти мгновения он казался лейтенанту эдаким добряком, которому неудобно стало от того, что из-за какого-то пустяка чуть было не поссорился с соседом. – Можешь еще остаться. Немцы попрут нескоро. Теперь им следует готовиться к переправе по-настоящему. С мостом у них явно не получилось.
– Теперь надо сделать так, чтобы и с переправой у них тоже не получилось.
4
Когда мотоциклист вывел свою машину на каменистую дорогу, уходящую за гребень прибрежного холма, Громов вдруг с тоской подумал, что ведь по существу он везет сейчас Марию Кристич туда, откуда ей уже не вырваться, то есть обрекает ее на гибель. Однако, убедив себя, что обрекает не он, а обстоятельства, решил впредь, до самого дота, думать о ней не как о бойце дота, а о привлекательной женщине. В этом было его спасение. Пока что Кристич действительно воспринималась им как явление романтических грез. Как-то еще сложатся отношения с ней, как она поведет себя, когда ему захочется уложить ее на свою комендантскую лежанку…
«Уложить на комендантскую лежанку?! – не упустил возможности поиздеваться над самим собой. – Это где, в доте, на виду у взвода солдат?!»
Громов скосил глаза на безмолвно сидящую в коляске девушку и ухмыльнулся своим каверзным мыслям. Мария то ли уловила ход мыслей, то ли почувствовала на себе этот взгляд коменданта. Слегка запрокинув голову, чтобы видеть его на заднем сиденье, она внимательно, сосредоточенно посмотрела на лейтенанта.
Кристич и в самом деле представала в его фантазиях как нечто романтическое, за грезами о котором нет никакого будущего. А ему вдруг захотелось простой смертной женщины, не только способной дарить ему близость, но и наслаждаться этой близостью вместе с ним.
– Сегодня мы уже понюхали пороха по-настоящему, как полагается на войне, а, товарищ лейтенант? – неожиданно вторгся в его сладостные размышления голос мотоциклиста.
– Если это называется: «понюхали». Боюсь, что нюхать этот самый порох нам еще придется очень долго.
– Может, свернем в городок? Глянем на него в последний раз, да… – он не договорил. Слева, в просвете между кронами деревьев, им открылась дорога, уходящая на восток, в глубь холмистой Подолии, и они увидели, что вся она запружена потоками людей, машин и подвод. Эта едва проторенная полевая дорога лишь до поры до времени казалась умиротворенно пустынной, поскольку уводила в сторону поймы реки, а значит, как бы в сторону противника.
– Уходит твой городок, парень, – с грустью молвил Громов.
– Да это уже не городок уходит. Это исход всей Бессарабии и Буковины, всего Заднестровья.
– Так что придется отложить до мирных времен, – «успокоил» его Громов и вспомнил, как и сам мечтал наведаться в городок, а теперь неизвестно, представится ли случай. – Сворачивай вправо. Уходим в сторону укрепрайона.
Прежде чем повернуть мотоцикл, водитель еще несколько мгновений смотрел на открывавшуюся колонну, размышляя о чем-то своем. И лишь появление в небе тройки вражеских самолетов, на низкой высоте уходящих в ту же сторону, что и колонна беженцев, заставило его быстро свернуть с этого проселка на пастушью, но все еще пригодную для мотоцикла тропу.
– Господи, хотя бы они колонну не бомбили, – как молитву проговорила Мария.
– Беженцами они уже брезгуют, – зло ответствовал водитель. – Громят тех, кто еще пытается упираться, кто не бросил винтовку.
– Тебе что, приходилось видеть тех, кто бросил свои винтовки? – почему-то задело Громова. Это уже была реакция офицера, на которого тоже ложилась какая-то доля ответственности за этот позорный драп.
– Лично мне не приходилось.
– Потому что никто и не бросает, – поддержала Громова медсестра.
– Тогда какого черта все драпают? – огрызнулся мотоциклист. – И какая разница: с оружием или без? Парализованы они все там, в наших штабах. От страха паралич разбил. Видел здесь, на этом берегу, кто-нибудь хоть одного генерала? Который бы осмотрел все, прикинул, подсказал и приказал, самим появлением своим приободрил?.. Где они все? А я знаю где: за сотни километров отсюда, где-нибудь на Южном Буге или на Днепре.
Громов и Мария удрученно переглянулись и промолчали. Лейтенант, конечно, мог бы обвинить мотоциклиста в том, что он, дескать, распространяет панические слухи, и заставить умолкнуть. Но ведь парень прав. И, как всякий солдат, которого оставляют здесь «стоять насмерть», а точнее, бросают на произвол судьбы, он вправе задаться и такими вопросами.
5
Отпустив мотоциклиста и попросив Марию спуститься вниз, к доту, чтобы обезопасить ее в случае артналета, Громов остановился на верхней террасе склона. Хотелось еще хотя бы раз вот так, свободно, не кланяясь снарядам и не прячась от пулеметных очередей, осмотреть с этой высоты берег реки, позиции своих и вражеских подразделений, и попрощаться со всем тем мирным и первозданным, что еще сохранилось в этом обрамленном холмами, раскрашенном синевой реки и красками порыжевших июльских лугов уголке украинской земли.
Долина Днестра напоминала сейчас большой строительный котлован, в чаше которого тысячи людей поспешно и слаженно возводили то ли гигантскую дамбу, то ли еще какое-то очень важное, всем до единого нужное и, возможно, увековечивающее их труд сооружение.
Противоположный, теперь уже захваченный врагом, берег был значительно выше и круче; да что там… отсюда он казался огромным, хотя и довольно доступным горным хребтом. И немцы максимально использовали преимущества своих господствующих позиций. Даже без бинокля Громов видел, как на гребне склона фашисты рыли окопы и устанавливали орудия, и как по всему склону, от гребня – до реки, лихорадочно отрывались укрытия и оборудовались пулеметные точки. При этом учитывались все складки местности, изгибы реки и вся естественная маскировка, которую им предоставлял опоясанный террасами и по-хуторски застроенный усадьбами участок долины.
Впрочем, на этом берегу тоже закреплялись. Появилась еще одна линия окопов метрах в ста от проходящей вдоль реки, но теперь уже совершенно изрытой дороги. Справа и слева от дота, в зарослях и каменистых расщелинах склона, оборудовали свои позиции минометчики. Вырисовывались еще три пулеметных гнезда. А вновь прибывший полк – судя по внешнему виду бойцов, из тех, истрепанных боями, что отошли с правобережья, из Буковины и Молдавии, – окапывался в нескольких метрах от склона. Еще дальше, в перелеске и небольших рощах, срочно создавались небольшие укрепленные зоны, которые должна была поддерживать невидимая отсюда вторая линия дотов укрепрайона.
Однако за всеми этими приготовлениями не чувствовалось основательности. Не чувствовалось прежде всего потому, что не было свежих, не измотанных боями подкреплений. Наоборот, здесь оставались самые обескровленные части, вся задача которых заключалась в том, чтобы задержать противника на сутки-двое, пока отойдут, вырвутся из образовавшегося котла все остальные, более боеспособные войска.
«А ведь действительно, почему бы здесь, на участке от Подольска до Ямполя, не создать мощную группировку, усиленную дотами укрепрайона? – думал лейтенант Громов. – И черт с ним, что где-то там, левее и правее, враг ушел далеко вперед. Река, доты, крутой берег и пару зениток… На таком “пятачке” врага можно сковать как минимум на месяц. Неужели этого не видят и не понимают в штабах дивизии, армии, фронта? Или, может, действительно все деморализованы, настроены на бегство и уже смирились с поражением?!» Ответов на эти вопросы он не знал, как не знали их сейчас, очевидно, и в Москве, в Генштабе.
Дух временности и обреченности – вот что витало сейчас над левым берегом этой реки. А значит, и над берегом его, лейтенанта Громова, солдатской судьбы.
Чуть впереди «Беркута», подковообразно упираясь флангами в крутой склон первой террасы, спешно врывалась в землю маневренная рота старшего лейтенанта Рашковского.
«Судя по всему, маневры для роты кончились, – подумал Громов, глядя, как Рашковский нервно прохаживается возле дота, время от времени поглядывая на него и, наверно, не понимая, чего это комендант маячит там, дразня фашистов. – Очевидно, этой роте и суждено будет оставаться возле дота до конца. Как последнему и единственному прикрытию. Жалкому… прикрытию».
Рашковский, конечно, уже понял это и теперь по-черному завидует ему и его гарнизону. Все-таки бойцы дота будут в надежном укрытии, в подземелье, защищенные от бомб и снарядов. А он со своими стрелками – в простреливаемой со всех сторон низине.
Где-то севернее опять гремела артиллерийская канонада. Налетела и сбросила на город бомбы шестерка бомбардировщиков, которую зенитчики хотя и попытались рассеять, но так ни одну машину не сбили. Доносилось эхо разрывов и с юга, из-за изгиба речного каньона. Но здесь, на участке «Беркута», вот уже более получаса не прозвучало ни единого выстрела. Словно было заключено некое перемирие, согласно которому противники договорились друг друга не тревожить!
– Товарищ лейтенант! – вдруг появился рядом незнакомый старшина. – Наш младший лейтенант пытають, дэ тут 120‑й дот.
– Какой еще младший лейтенант? – удивился Громов и только теперь заметил выдвигающуюся из ложбины небольшую и не очень стройную колонну солдат.
– Та ж командир роты нашей стрелковой. Ото вона и есть. А он, впереди, младший лейтенант Горелов. Раненый весь.
– Так уж и весь?
– Еще, конечно, воюет, – обескураженно уточнил старшина, удивленный и обиженный этим замечанием офицера.
– Здесь дот, внизу. Я – комендант. Что вы хотите мне сообщить?
– Товарищ младший лейтенант, сюда! Тутычки комендант! – замахал рукой старшина. – Как раз угадали!
Младшему лейтенанту было за тридцать. Он был ранен в левое плечо, поэтому простреленная и окровавленная гимнастерка оставалась расстегнутой. Лицо его казалось землистым, но, очевидно, не столько от потери крови – рана, судя по всему, была не очень тяжелой, – сколько от длительного недосыпания и смертельной усталости.
– Ну, здравствуй, лейтенант, – поздоровался Горелов так, словно они уже знакомы, но только давно не виделись. – Показывай свое хозяйство. Приказано охранять твой дот, как царский дворец.
– Божественно. Уже завтра здесь будет пекло. А главное, на этом участке фрицы обязательно попробуют организовать переправу.
– А что, место удобное. По всем канонам военной науки.
– Где ваши остальные? На подходе?
– Какие остальные? – мрачно поморщился Горелов, легонько массажируя предплечье.
– Но вы же вроде бы командуете ротой.
– Принял командование остатками роты. И вся она перед тобой, лейтенант: сорок два бойца и два младших командира о двух пулеметах. Все, что осталось от роты. Зато начальство доложит наверх, что боевые порядки обороняющихся усилены маршевой ротой.
– Да уж… «Усилены».
– Ребята, конечно, обстрелянные. От самой границы порохом нас обкуривают. Только, гляжу я, народца у вас тут совсем жидковато.
– Обстановку, младший лейтенант, вы знаете и без моих объяснений, – сразу же перешел на официальный тон Андрей, не желая обсуждать с ним перспективы обороны. – Через два-три дня мы окажемся в полном окружении.
– То-то и оно, – возбужденно вздохнул Горелов, близоруко вглядываясь в правый берег. Бинокля у него не было. – Что посоветуешь? Какой фланг тебе прикрыть?
– Вон мой дот. Как видите, одна рота, тоже до основания потрепанная, уже располагается ниже него, подковой. Просьба к вам: здесь, сзади, у дота мертвая зона. Как только фашисты прорвутся с тыла, они сразу же сядут нам на голову. Так вот, пусть часть бойцов окопается в этой излучине, впереди линии окопов. А часть – вон на той, нижней террасе, в ложбинах по обе стороны дота. Это чтобы фашисты ночью не прорвались по террасе и не забросали нас гранатами.
Младший лейтенант окинул местность оком колхозного бригадира, подергал себя здоровой рукой за мочку уха и признал:
– А что, правильно планируешь, лейтенант. Именно так и надо бы расположиться.
– И мой вам совет: дот пристрелян. Вся местность тоже. Думаю, разведка фрицев поработала заранее. Уверен также, что долбить доты они будут денно и нощно. Поэтому, как только начинается артналет, сразу уводите людей за гребень, в заранее отрытые щели. Здесь оставляйте только наблюдателей. И еще. Побыстрее дайте связь с дотом.
– Связь будет, лейтенант. Щели тоже. Только для начала скооперируюсь с командованием полка. Мы ведь остались бесхозными. Даже кухни своей нет.
– Скооперируйтесь, – скептически усмехнулся комендант. – Но опасаюсь, что под вашим командованием уже не остатки роты, а остатки полка. Связи со штабом у вас нет уже более суток?
– Почти угадал. Ты сам-то еще не был на фронте? Не обстрелян?
– Мне еще только представится случай, – не стал разочаровывать его Громов сообщением о бое у моста.
– Воздух! – вдруг заорал кто-то у реки.
– Воздух! – стоголосо отозвались по всей долине и перелескам: – Воздух! В укрытия!
Уже сбегая вниз, к доту, Громов увидел, как тройка бомбардировщиков заходила на соседний, прилепившийся ниже по течению на крутом изгибе каньона, словно ласточкино гнездо, 121‑й дот.
6
Что-то там у русских не срабатывало, что-то не ладилось – оберштурмфюрер СС Штубер уловил это сразу. И покаянно притих, демонстрируя покорность и смирение. Он-то понимал: когда не ладится, пленного проще всего пустить в расход. А тем временем из разговоров и перебранки русских барон фон Штубер понял, что из комендатуры машину так и не прислали. То ли не оказалось там свободной, то ли сочли, что захваченный у моста пленный особого интереса для разведки уже не представляет. Тем более что пленные стали поступать и с других участков обороны. Машина майора тоже почему-то вышла из строя.
Правда, из комендатуры посоветовали связаться с особым отделом укрепрайона. Если пленный их заинтересует, они пришлют своего человека или машину с охраной. Но майор связаться с этим отделом не смог, была повреждена линия. Он и сам уже считал, что захваченный – птица невысокого полета, однако расстреливать его не решался. В конце концов он сделал то единственное, что мог сделать в этой ситуации: приказал двум бойцам отвести и сдать немца в городскую комендатуру. Сейчас тут не до него.
Штубер все еще оставался в красноармейской форме, и все, кто видел в городе эту тройку, считали, что задержан очередной дезертир, а это было не в диковинку. Конвоиры знали, что он немец, однако их не предупредили, с кем они имеют дело. И поскольку пленный вел себя смирно и подчинялся безропотно, то конвоиры даже чисто по-человечески подтрунивали над ним, мол, повезло же фрицу: война еще только начинается, а он уже будет дожидаться ее конца где-нибудь в тыловом лагере военнопленных! И никакой ненависти к нему они не питали. Если бы арестованный оказался дезертиром, наверняка относились бы к нему жестче: дезертиров их учили презирать.
Они уже почти подходили к центру города, когда над его кварталами вдруг появились немецкие самолеты. Рассыпалась идущая навстречу колонна красноармейцев, вздыбились тянувшие санитарную повозку кони, растерянно засуетились конвоиры. Только Штубер, хищно оскалившись, молча, напряженно ждал удобного момента, и момент этот очень скоро настал.
Как только один из самолетов показался в конце длинной, пересекавшей город из конца в конец улицы и конвоиры застыли в растерянности, не зная, что предпринять, Штубер ударил ближнего солдатика ногой и, пригнувшись, ринулся в поток разбегающихся по дворам красноармейцев.
Конвоиры сразу же бросились вдогонку, но застряли где-то у калитки, возле которой уже топталось около полувзвода солдат. А прорвавшись через нее, пробежали двор, считая, что немец проскочил на соседнюю улицу, поближе к своим.
Тем временем Штубер не стал залегать в садике, как это сделали многие красноармейцы, а, оббежав дом, ударом сапога вышиб доску в ограде и, метнувшись через улицу, с которой только что сбежал, оказался по другую ее сторону.
Пилоты устроили над городом настоящее «чертово колесо», засыпая забитые войсками и беженцами улицы небольшими бомбами и пулеметным свинцом. И в этой кроваво-огненной кутерьме мало кто мог обратить внимание на красноармейца со связанными солдатским поясным ремнем руками, все дальше и дальше уходившего огородами и садами к спасительной окраине.
В одном из довольно пустынных переулков Штубер увидел забегавшего во двор мальчишку и бросился вслед за ним.
– Хлопчик! – вскочил он в сени прежде, чем мальчишка успел закрыть дверь. – Кто в доме, хлопчик?!
– Никого. Мать на работе. Отец – на войне. А вы кто?
– Красноармеец, как видишь. Нож у тебя есть?
– Да есть, в хате. А зачем вам?
– Давай его сюда, быстро. – Он вошел вслед за мальчишкой в комнату и осмотрелся. – Бери нож. Разрезай ремень.
Мальчишка испуганно поедал его глазами и не двигался с места.
– Я сказал: бери нож! – повысил голос Штубер. – И делай, что тебе говорят. Ты же видишь, что я не немец, а свой. У твоего отца такая же форма, как у меня?
– К-кажется, да, такая, – заикаясь, подтвердил юный абориген этого городка.
– Вот и помоги красноармейцу. Когда наши вернутся, тебе орден дадут, за спасение солдата.
– Кто ж вас… связал? – мальчишке было лет восемь-девять. И нож он держал неумело, сразу двумя руками.
– Будто не знаешь кто! Фашисты, кто же еще?! Десант они высадили. В лесу. Меня схватили. Еле удалось убежать. Ну, разрезай же, режь!
Пока мальчишка возился с ремнем, Штубер терпеливо и теперь уже обстоятельнее объяснял, что десантники схватили его вместе с несколькими другими красноармейцами, но те бойцы погибли, а он сумел спастись и сейчас спешит в штаб, чтобы предупредить, что в лесу бандитствуют враги.
Где-то поблизости разорвалась бомба, и от воздушной волны вылетело оконное стекло, осыпав осколками грудь Штубера. Совсем рядом захлебывались огнем спаренные зенитные пулеметы. Мальчишка верил «красноармейцу» и старался изо всех сил, однако старание его казалось гостю слишком медлительным.
Когда же руки наконец оказались свободными, Штубер вырвал у мальчишки нож и, сунув себе за голенище, выглянул в выходящее во двор окно. Он не мог допустить, что офицер и двое солдат, остановившиеся вблизи калитки, ищут именно его, но предстать перед ними без документов, ремня и пилотки было бы самоубийством. С силой оглушив мальчишку кулаком по голове, Штубер метнулся в соседнюю комнату, вышиб стулом остатки стекла и выскочил в сад.
– Браток, рули сюда! Сюда подкатывай! – позвал его в соседнем дворе боец, высунувшись из погреба, что уцелел рядом с разрушенным домом. – Еще минут пять, и они уберутся!
Штубер увидел несшийся прямо на него «мессершмитт» и впервые понял, что для него эти самолеты сейчас не менее опасны, чем для любого русского. Метнувшись к подвалу, он почти скатился по лестничке, чуть не сбив с ног красноармейца-«зазывалу».
– Что носишься как угорелый? – проворчал кто-то из угла подвала. – Приказа не знаешь: во время налета – в укрытие?
– Какое укрытие?! Немец вон прорвался на наш берег.
– Где прорвался?! – враз спохватился тот, что по-командирски ворчал на Штубера.
– Как где? У города! На окраине германцы захватили переправу и прорвались. По мосту не вышло – так они там…
– Неужели? Должны же были задержать… – Офицер уже, очевидно, знал про попытку немцев захватить мост, поэтому сообщение пришельца никакого особого недоверия у него не вызвало. А главное, Штубер отвлек этим советского офицера от лишних расспросов. – Где ж его, фрица, еще останавливать, как не на Днестре?
– Вот и я так мозгую. Да только город наши оставляют.
– Тогда я сбегаю найду старшину и остальных наших, – занервничал красноармеец-«зазывала», вновь поднимаясь по лестнице. – А, товарищ лейтенант?
– Пересиди налет. Не видишь, что ли?
– Да вы здесь побудьте, я по-быстрому, – и Штубер понял, что зазывала явно настроился бежать не только из подвала, но и из города.
– Сейчас все уйдем! – рявкнул на него офицер, тоже не поверивший, что боец вернется. Но тот уже был на поверхности и слов его не слышал.
– Думаю, еще часок их на окраине подержат, – успокоил Штубер лейтенанта, когда они остались вдвоем. – А лес недалеко, уйти всегда успеем.
– Почему сразу «уйти»? – Лейтенанту было под сорок. И с красноармейцами он привык говорить только командирским, не терпящим возражений, тоном. «Из запаса. Очевидно, из руководящих работников», – определил Штубер. Принципы комплектования офицерского корпуса Красной армии из числа «запасников» тайной для него не были. – Вдруг поступит приказ держать город до последней возможности? А поступит – значит будем держать.
– Если поступит – тогда, конечно… Тогда удержим, – вытянулся в струнку Штубер. Но как только, подозрительно смерив его взглядом, уж не насмехается ли над ним этот верзила, лейтенант ступил на лесенку, оберштурмфюрер сбил его оттуда хорошо натренированным ударом в затылок и тотчас же ударил ребром подошвы в глотку.
Минут через пять диверсант осторожно выглянул из подвала. Никого. Уже в форме лейтенанта Красной армии, с кобурой на ремне, Штубер выбрался из этого случайного убежища и, перепрыгнув через полуразрушенную изгородь, пристроился к веренице выходивших из города солдат. А еще через несколько минут один из бойцов потеснился на подводе:
– Присаживайтесь, товарищ лейтенант. Еще натрете мозоли, до самого Буга топая.
– Прекратить панические разговоры! – осадил его Штубер. – Под трибунал захотел, в «пособники врага»?
– Какой же я «пособник»? – отшатнулся от него красноармеец. – Господь с вами!
– То-то же! Да успокойся, – тот час же решил подружиться с ним лейтенант. – Про «пособника» – это я так, для острастки. Как полагается командиру.
– Спасибо, что всего лишь для острастки, – все еще обиженно поблагодарил красноармеец.
– У нас, в тридцать седьмом, половину села расстреляли да по лагерям пересажали, – проворчал раненый в обе ноги артиллерист, полулежавший за спиной Штубера. – И тоже, видать, «для острастки».
«Ну что ж, – хладнокровно обдумывал свое положение оберштурмфюрер, подергиваясь (еще давала знать о себе боль в брюшине) на тряской повозке. – Выходит, это был не мой мост, не моя судьба, а главное, своего шанса я не упустил».
– Неужели действительно будем отступать до самого Буга? – как бы про себя усомнился седоусый возница в гражданском, не придавший никакого внимания демагогии отступавшего вместе с ними лейтенанта.
– Я же сказал: остановим.
– Как? Вот вы – офицер. А с вами уже ни одного солдата. «Где солдаты?» – спросят вас на Буге.
7
После всего того, что произошло на мосту, дот представал перед Громовым последним и единственным пристанищем для каждого, кто сумел уцелеть в этом растерзанном мире и кто твердо решил, что залитые кровью берега реки – не для него.
В какую-то минуту лейтенант даже показался сам себе сбежавшим с поля боя. Ему не хотелось сейчас ни храбрости, ни победы, ни славы. Забиться в подземелье, затаиться, пересидеть… Хоть сутки, но отсидеться.
– Поберегитесь, лейтенант, – потеснили его на пересечении тропинок вынырнувшие из оврага два безбожно навьюченных металлом пулеметчика. – Последняя надежда фронта идет.
– Похоже, что последняя…
Разорвавшийся на берегу снаряд заставил эту «надежду фронта» на какое-то время остановиться, присесть и так, в полуприсяде, оцепенеть. Второй снаряд взорвался значительно ближе дота. Громов понял: это пристрелка и что самое время скрыться за массивной дверью «Беркута» или хотя бы в окопчике у входа. Однако не сделал этого. Не сделал только потому, что пулеметчики не могли бы нырнуть вслед за ним. А ему не хотелось, чтобы эти двое красноармейцев посмотрели вслед ему с ехидной завистью: «Хорошо им там, за бетонными стенами, отлеживаться!»
Но как только лейтенант все же вошел в дот, сразу же позвонил майор Шелуденко. Он словно поджидал, когда комендант наконец появится в своем подземелье.
– Где это ты пропадаешь, лейтенант?! – набросился на Громова.
– Я здесь, у дота.
– Что «здесь», что «здесь», петрушка – мак зеленый?! Я уже трижды звонил. У тебя что, не нашлось бойца, которого можно было бы послать за санинструктором?! И сколько можно ее везти? Или ты с ней еще и в ресторан заглянул?!
– Именно так все и было, товарищ майор, – невозмутимо ответил Андрей. Он, конечно, мог бы оборвать Шелуденко, заставить его вспомнить, что говорит с офицером и что подобный тон вообще недопустим, но это ли тема для разговора с командиром батальона, когда немцы окапываются у тебя под носом? – Правда, я еще успел заглянуть на мост. Именно в то время, когда там оказался батальон переодетых немцев. Ваш коллега, командир охраны моста, майор, может это подтвердить.
– Постой, постой… – сразу поостыл Шелуденко. – Так ты что, был у самого моста?
– Так уж получилось. Дот, в котором находилась санинструктор…
– Да погоди ты со своим санинструктором! Там что, действительно целый батальон немцев прорывался в нашей форме? А то тут один младшой лейтенант расписал мне целую мостовую баталию. Но я решил, что он что-то напутал. Или приврал.
– Прорывался. Только не удалось. Правда, мост, как вы уже знаете, пришлось взорвать.
– А куда денешься? Пол-Украины в воздух высаживать придется, пока темп наступления собьем.
– Уже сбиваем. Там, у моста.
– Молчи, стратег, – раздосадованно осадил его Шелуденко. И Громов понял, что сожалеет майор не по поводу моста, а потому, что не отвел душу той взбучкой, которую готовил своему новому лейтенанту.
Судя по словам Томенко, майор и в самом деле частенько позволял себе «отвести душу». Всего лишь «отвести», серьезно наказывал редко и по начальству, как правило, никогда не докладывал.
– Считай, что на этот раз выкрутился, петрушка – мак зеленый. Только приказ: с этой минуты никому, ни одному человеку без моего разрешения из дота не отлучаться. И еще, к тому, с чем ты столкнулся на мосту, добавлю: поступила ориентировка. Немцы наводняют ближние тылы и сам укрепрайон своими агентами. В нашей форме, в гражданском… Троих уже удалось задержать: двоих – в городе, одного, под видом пастуха, вблизи 108‑го дота.
– И одного – у моста. Правда, в составе переодетого батальона, но прорывался он сюда явно для ведения разведки.
– Тем более, лейтенант. Не исключено, что они попытаются под видом заблудших, прибившихся невесть откуда солдат засылать своих головорезов прямо в доты.
– А ведь точно. Я об этом тоже подумал.
– Особенно, когда начнутся бои и солдаты будут проситься к вам. Поэтому ни один человек из посторонних, не известных тебе, не должен побывать в твоей крепости. Гарнизон солдатами из ближайших подразделений не пополнять.
– Но если…
– Не пополнять!
– Есть, не пополнять, – ответил Громов, прекрасно понимая, что пополнять все же придется. Не из совсем уж приблудших, но придется.
Впрочем, это не тема для полемики, как только немцы окажутся на левом берегу, действовать придется, исходя из ситуации, невзирая ни на какие приказы.
– Есть данные разведки, что гитлеровцы готовятся к переправе чуть южнее тебя, неподалеку от консервного завода, в пространстве между двумя дотами. К тому же там их прикрывает островок. Пусть артиллеристы еще раз пройдутся по карте, подберут данные для стрельбы по этому участку.
– Понял, пристреляемся. Будем засекать все возможные ориентиры. А как вообще ситуация, товарищ майор? Что вокруг нас происходит?
Шелуденко помолчал, но, видимо, не потому, что вопрос оказался неожиданным для него. Просто не знал, как получше ответить подчиненному. По идее, он обязан был бы сейчас ободрить Громова, по должности. Но и сказать неправду офицеру, вместе с которым через несколько часов придется принимать бой, ему тоже не хотелось.
– Соображаю, поступит приказ отходить, – наконец тяжело засопел в трубку командир батальона. – Не нам. Общий приказ, который нас касаться не будет. Если бы хоть десятую часть тех войск, что уходят через район, оставили здесь, нас бы отсюда фрицы и через полгода не выкурили. При таких дотах, таком взаимодействии, такой пристрелке и такой связи, да на такой местности… Словом, что тебе объяснять?
– Почему же их не оставляют? – не сдержался Громов, хотя прекрасно понимал: не ему, командиру батальона, следует задавать подобные вопросы.
– Окружения боятся, – резко ответил Шелуденко. – Панически боятся окружения. А ведь свою землю нужно защищать всегда, и в окружении – тоже. Ты вот что… когда немцы попрут, держи постоянную связь с дотами Томенко и Радована. Подстраховывайте, поддерживайте друг друга огнем.
– Это мы наладим с первых минут боя.
* * *
Сразу же после разговора с комбатом Андрей вызвал к себе на командный пункт старшину Дзюбача и сержанта Крамарчука. Сержанту он приказал взять бинокль и, пока фашисты дают им передышку, внимательно осмотреть все, что только можно засечь на стороне противника. А старшине – перевести своих пулеметчиков в орудийные капониры и в течение ближайшего часа, под руководством командиров орудий, отрабатывать с ними действия согласно расписанию орудийных расчетов. В течение же второго часа ознакомить артиллеристов с работой пулеметных номеров. Потом час отдыха – и все повторить сначала. При этом он жестко потребовал, чтобы все, включая повара, механика и санинструктора, владели всем имеющимся в доте оружием.
– В девять вечера, – завершил он этот разговор, – проведем учебную тревогу, если только не придется проводить боевую. Это будет проверка на взаимозаменяемость. И запомните: с этой минуты все свободное время должно быть посвящено учебе, тренировке и отработке методов ведения боя в доте. Самого же свободного времени должно быть как можно меньше. Всякие отлучки из дота запрещаю.
– Товарищ лейтенант, но еще сегодня, в пос-ледний раз… – попытался было смилостивить его Крамарчук.
– Отставить! С просьбами об увольнении не обращаться. Так и передайте своим бойцам. Что еще?
– Тут, товарищ лейтенант, дело одно, – начал старшина, почесывая затылок. – Даже не знаю, как сказать. Оно вроде бы похоже на то, что…
– Да трусит тут один, – перебил его Крамарчук. – Красноармеец Сатуляк. Подносчик патронов второго пулемета. И у меня точно такой же есть, заряжающий Конашев. Но тот про себя трусит, сдерживается. А Сатуляк все время скулит. То наружу просится, то часами просиживает у амбразуры.
– Стоп-стоп. Что значит: «трусит»? Он немцев, смерти боится, или же ему страшно оставаться в доте?
– Точно так, в доте, – согласился Дзюбач.
– Не все ли равно, как он трусит? – удивился Крамарчук. – Главное, трусит.
– Но важно знать, в чем это проявляется, – заметил Громов. – Пробовали поговорить с ним?
– Я со своим, кажется, так «поговорю», что он навеки забудет, что такое страх, – саркастически улыбнулся Крамарчук.
– Э, нет, с моим так нельзя, – возразил старшина. – Сатуляк – человек в возрасте, степенный, четверо детей.
– Так что советуешь, отпустить его с миром, пусть еще четверых наделает? – окрысился Крамарчук. – Ты же сам предлагал позвонить комбату, чтобы его заменили!
– Я это и сейчас предлагаю. Лучше взять хлопца с маневренной роты, добровольца. Обучить его – раз плюнуть. А Сатуляка перевести к Рашковскому. И Конашева твоего – тоже.
– А я против. Трусам потакаем. Все захотят на волю, под кустики. Там ведь и отступить можно, и драпануть, коли чего. А здесь надо до конца. Поэтому они и трусят. Он, видите ли, не может находиться в подземелье! Его что-то по ночам душит. У него привидения. Он боится оставаться один в отсеке…
Какое-то время Громов нарочно не вмешивался в перепалку командиров точек. Он понял, что те не хотели докладывать ему о трусах, но конфликт назревал, и на душе у Крамарчука постепенно накипало. А еще Громов почувствовал: только выслушав их до конца, он поймет, что, собственно, происходит с теми двумя бойцами на самом деле.
– Замечена эта хандра только за двоими? – не выдержал наконец Громов, умышленно подкинув младшим командирам слово «хандра», чтобы заменить им «трусость». – От других бойцов подобных жалоб или просьб не поступало?
– Отпустить бы наверх Сатуляка… – ответил старшина. – Все остальные стерпят.
– Остальные возмутятся, – обронил Крамарчук. – Им тоже на волю захочется.
– Стерпят, сказал.
– Все, прекратили этот спор, – помирил их лейтенант. – Разберемся. Учебную тревогу проведем ровно через час. А пока – выполнять приказ.
Ничего странного в том, что двое бойцов, как принято было выражаться в их доте на Буге, «захандрячили», Громов не видел. Он помнил, как при первой же тревоге, с перекрытием всех заслонок, отключением света и одеванием противогазов, один солдатик из его гарнизона захандрячил так, что дело дошло до истерики. Убежал с нижнего этажа, с орудийного подвала, на первый (как и в этих, «днестровских», там доты были двухэтажные, и все службы находились на нижнем этаже), рванулся к бронированной двери… Его, понятное дело, остановили, но силой. А сразу же после тревоги хотели вызвать на ротное комсомольское собрание, угрожая исключить из комсомола. При этом активисты были уверены, что у коменданта, не терпевшего ни малейшего проявления трусости, найдут полную поддержку. И были удивлены, что Громов сумел отговорить комсорга роты от этой затеи. А на следующий день он поступил по-своему. Оставил этого парня с собой, в доте, с ним еще двух бойцов, которые бы помогли привести дот в «тревожное» состояние, а остальных отправил наверх, на строевые занятия.
Шесть раз объявлял он газовую тревогу и шесть раз выполнял все положенное по инструкции вместе с бойцом-«хандриком», ни на шаг не отступая от него. Кроме того, после каждой тревоги вместе с ним открывал одну из заслонок и проигрывал ведение боя в противогазах и без них. Причем все это делал весело, озорно, показывая бойцу, что хотя «враг» и прижал их, но все же они выжили и еще дадут ему бой.
Громов помнит, что в тот день парень вконец измотался, но, когда тревога была объявлена в шестой раз, он с такой злостью и такой самоотверженностью бросился к спаренному с орудием пулемету, что комендант поневоле пожалел, что там, на равнине возле дота, нет настоящего врага. С этим парнем они действительно дали бы ему бой.
Потом еще несколько дней Андрей организовывал «химические учения» специально для этого горемыки-солдатика и вообще держал его поближе к командному пункту, превратив то ли в ординарца, то ли в дублера коменданта. У некоторых бойцов это вызывало возмущение или насмешки: «Какого черта возиться с таким?! Списать его с дота, пусть роет окопы». Однако Громову все же удалось отстоять этого парня, заставить его победить свой страх. И когда это стало ясно даже неисправимым скептикам, – возгордился. Тайно, естественно.
Нечто подобное Андрею хотелось теперь проделать и в «Беркуте». А вдруг подействует и на сей раз? Тем более что отныне все тревоги обещали быть боевыми.
* * *
Минут через пять после ухода Дзюбача и Крамарчука в командном отсеке появился младший сержант Ивановский.
– Товарищ лейтенант, слух дошел, что намечается учебная тревога. Вроде бы даже химическая. По всем правилам, на выдержку.
– Это уже не слух. Это приказ, – ответил лейтенант, не отрываясь от окуляра перископа. Он отчетливо видел, как отделение солдат противника (похоже, это были румыны), пригибаясь, перебежками добралось до еле обозначенного на местности оврага и скрылось в нем. Овраг тянулся к реке, и не нужно было слыть провидцем, чтобы догадаться, что именно в нем лучше всего накапливаться подразделениям, готовящимся к форсированию Днестра.
– Перед вашим приходом я принес дивизионные газеты. Некоторые бойцы уже прочли. Но надо бы поговорить. Там описано несколько подвигов наших солдат по ту сторону Днестра.
– Божественно. Будем считать вас политруком дота. Думаю, тридцать минут вам хватит?
– Должно хватить.
– Вечером соберемся в «красном уголке» и поговорим более обстоятельно. Нужно настроить людей. Возможно, это будет последний более-менее спокойный вечер.
– Похоже, что последний. Наши «беркутовцы» встречались с бойцами Рашковского. Так вроде бы слух такой, что нас уже обошли с обеих флангов.
– Ну, допустим, обошли, и что?
– Так вроде бы слух такой, что все войска уходят, а мы…
– Все это тоже не слухи, Ивановский, а реальная обстановка. И то, что мы остаемся здесь до конца и будем уходить последними, – тоже правда. Войска действительно уходят, и, думаю, через пару дней последует приказ об отходе всех подразделений самого укрепрайона. Кроме гарнизонов наших дотов и прикрытия, разумеется. Для командования сейчас важнее сохранить эти воинские части, не позволив врагу взять их в окружение. Они понадобятся на другом рубеже обороны.
– Но ведь мы же не должны говорить об этом бойцам, товарищ лейтенант. В моей пулеметной точке подобные разговоры я просто-напросто пресекаю.
– Почему не должны? В таких ситуациях солдатам нужно говорить только святую правду. Они имеют право знать, что их ждет. Должны понимать свою роль в этих боях и даже в этой войне. Другое дело – панические разговоры.
– Так что… Так и будем говорить, как есть? – неуверенно переспросил Ивановский, выходя из отсека. – Все, как оно?..
– Чем больше знают они сейчас, тем меньше вопросов возникает во время боя, – улыбнулся Громов своей сдержанной, жесткой улыбкой. – А бои здесь будут страшные. И умирать солдат должен за правду. Веря командиру. Вот и вся наша окопная политнаука.
Когда Ивановский вышел из дота, Громов вновь взялся за «штурвал» перископа, однако припадать к окуляру не спешил. «Что за панический страх перед окружением?! – возмутился он, все еще пребывая под впечатлением разговора с младшим сержантом. – “Прорвались севернее, прорвались южнее!.. Обошли! ” А если они обойдут нас по берегам Ледовитого океана и Черного моря, что тогда, всем срываться со своих позиций и бежать за Урал?! Мы – у них в тылу, за линией фронта? Тем хуже для них: пусть думают, как от нас избавиться. Как же плохо готовили нас к современной войне! Да и готовили ли… к современной, фронтово-партизанской?»
8
…Принять участие в операции по захвату моста Штубер вызвался сам. Собственно, мост его не интересовал, хотя участие в этой авантюре, несомненно, зачислилось бы ему и, очевидно, было бы отмечено наградой. Просто оберштурмфюреру казалось, что вместе с двумя солдатами из своего отряда особого назначения он довольно легко сумеет смешаться на левом берегу с отступающими красноармейцами, пройдет с ними по укрепрайону, а потом дождется своих на одной из явочных квартир, на окраине Подольска, где давно осел их агент – из местных, надежно завербованный и наглухо «замороженный».
С помощью этого агента Штубер должен был внедрить двух своих людей в подполье, которое – он в этом не сомневался – русские обязательно оставят в городе и в прилегающих поселках. В нужное время эти двое должны были предстать перед руководителями подполья или партизанского отряда как окруженцы из оставленной для прикрытия части, не сумевшей пробиться к своим. И, само собой, агент, человек, вызывавший доверие у местных партийцев, подтвердил бы их легенду.
Сначала все шло хорошо. Прикрытие на том берегу пропустило их без особых подозрений, они уже, по сути, прошли мост… На последних метрах его, как и было условлено с подполковником Зерштофом, руководившим этой операцией, Штубер со своими людьми выдвинулся в первые ряды колонны… Не хватило всего лишь нескольких минут, чтобы сбежать с моста и оказаться вне перестрелки. Но им всем не повезло. У кого-то из германских солдат просто-напросто сдали нервы. Красноармеец из охраны подался к нему, чтобы что-то спросить или попросить табачка, а тот, не зная языка и не понимая, чего пулеметчик добивается от него, вдруг с винтовкой наперевес бросился на пулеметный расчет[1].
Уже в те мгновения Штубер понял, что операция сорвана и, как только прозвучал первый выстрел, залег под перилами, пропуская мимо себя всех, кто должен был смять охрану моста, захватить позиции и удерживать их до подхода танков с десантом на броне.
По замыслу командования армии, этот диверсионный налет дарил один-единственный шанс спасти мост через Днестр от разрушения русскими. Или, если мост все же будет взорван, без особых потерь захватить плацдарм для форсирования.
Впрочем, в то время Штубера мало интересовали замыслы штабистов. У него были свои планы, которые, из-за трусости какого-то жалкого идиота, не сумевшего справиться со своими нервами, тоже рушились.
Потеряв из виду командира, побежали вместе с солдатской лавиной и двое его агентов. Скорее всего, там, в перестрелке, оба они и погибли. Штубер, конечно, мог бы попробовать вернуться на левую сторону моста, но побоялся, что русские взорвут его раньше, чем он достигнет берега – так оно, собственно, и случилось. Поэтому оставалось только одно: прорываться в тыл русских, в город.
Вот тогда он и бросился вслед за батальоном, переступая через трупы своих и чужих, пробиваясь через сутолоку рукопашной. И если бы не тот лейтенант, несомненно, хорошо подготовленный не только к рукопашному бою (очень странно, что он оказался всего лишь комендантом дота; или, может, это следует воспринимать как маскировку, «легенду»?), Штубер, конечно, прошел бы через позиции и проник в Подольск. И то, что не сумел этого сделать, – заставляло оберштурмфюрера всерьез задуматься над своей диверсионной подготовкой.
Правда, в конце концов он все-таки оказался в городе, но лишь спустя два часа после постыдного плена. Впрочем, Штубер решил, что распространяться о своем пленении не стоит. Свидетелей нет, протокола допроса в русском штабе или комендатуре тоже не осталось. Но чтобы этот вопрос вообще не мог всплыть, чтобы у командования не возникло даже подозрения, нужно было разведать участок укрепрайона южнее Подольска.
Уже трижды разведотдел армии посылал туда своих лазутчиков, к операции подключили двух агентов абвера из местных, но все они странным образом исчезли. Ни один не вернулся, ни один не вышел на связь. Не многое дал и неудачный разведывательно-диверсионный парашютный десант. Так что теперь, после провала операции «Мост», провести основательную разведку этого района и вернуться к своим – значит вернуться героем.
…В пригородном поселке оберштурмфюрер СС Штубер незаметно отстал от колонны красноармейцев, с которой вышел из города, и, добравшись до его южной окраины, не постучав, открыл дверь первого же дома.
– Я слегка контужен и чертовски устал, – жестко объяснил он довольно привлекательной хозяйке лет тридцати, стоявшей перед ним с недочищенной картошкой и ножом в руке. – Мне нужно хотя бы пару часов поспать.
Женщина удивленно посмотрела на офицера.
– Поспать?!
– Да, поспать. Что в этом удивительного?
– Сейчас? Кто же из военных сейчас спит?
– Все, кто может. Самое время.
Женщина пожала плечами и, слегка замешкавшись, провела в небольшую комнатушку, где и показала на застланную кровать.
– Здесь и поспите. Только скажите, когда разбудить.
– Сам проснусь. Зовут вас как?
– Оляна.
– Оляна? Необычное имя.
– Это по-нашенски. По паспорту – Елена.
– Оляна лучше. Есть что-то в этом имени от славянской древности. Мужа, конечно, мобилизовали?
– В армии, как и вы, – неохотно ответила женщина, пряча под фартук потрескавшиеся почерневшие руки. Что-то не нравилось ей в этом пришельце, что-то в нем таилось такое, что заставляло Оляну настораживаться.
– И давно… в армии?
– С первого дня, считайте. Как и вы. Хотя нет, вы из военных.
Говорила она с заметным, хорошо знакомым Штуберу украинским акцентом, нараспев. И голос ее сам по себе тоже был удивительно певучим. Хотя слова, которые она произносила своим милым голоском, отзванивали страхом и ненавистью. – Немцы эти, проклятые… Их, говорят, как саранчи. Всех забрали: и моего, и соседских. А вернутся ли?
– Ну, все, все, успокоилась, – остановил ее Штубер, внимательно осматривая спальню. – Где он, вояка твой, служит?
– Да пока что здесь, недалеко. Почти возле дома.
– Это в дотах, что ли? – насторожился гость.
– Точно, в дотах! – обрадованно подтвердила женщина. – Вы, наверное, тоже оттуда?
– Если бы… Из-за реки я. От самой границы воюем-топаем. Твоему еще повезло, – проворчал он, и так, в форме, даже не расстегнув ремня, уселся на постели. – Прохлаждается в своем доте. Ни бомбы, ни осколки его не берут. Мне бы такую службу. Он кем там, пулеметчиком?
– Да нет, вроде при пушке.
– У них что, и пушки есть? – осторожно уточнил Штубер.
– Говорил, что даже две. И три пулемета. Их там, считай, тридцать человек.
– Тогда чего тебе бояться? Две пушки, три пулемета… – «Если бы она еще знала системы орудий и пулеметов, – злорадно ухмыльнулся оберштурмфюрер, – цены бы ей не было». – До них там и черт не доберется. Где именно находится его дот? Далеко отсюда?
– Считай, километра три. Там неподалеку консервный завод.
– Ну? Мать честная! Именно туда меня и направили. Правда, не в дот. Мы рядом будем, в окопах. Как хоть фамилия его, может, встречу?
– Ой, как было бы хорошо! Ой, как было бы… – засуетилась женщина. – Если можно, я через вас еды ему передам. А фамилия его Крамарчук. Он там за сержанта. Спросите – сразу скажут.
– Сержант – конечно, сержанта все должны знать, – язвительно подыграл Штубер. – Кстати, кто там у них, в доте этом, за старшего?
– Новенького какого-то прислали. Лейтенанта вроде бы. Так Николай мой говорил. Строгий, говорил, ну, этот, лейтенант ихний.
– Самой в доте бывать не приходилось?
– Самой – нет. Молодуха тут одна к своему ходила. Он из другого, соседнего дота. Да только в средину ее не пустили. Не положено – сказали. Хоть и жена – а не положено. А мой – так вообще запретил появляться там.
– И правильно сделал. Дело военное. Фамилии этого лейтенанта Николай не называл? Может, я его знаю, служили вместе?..
– Нет. Я и не спрашивала. Не из местных он, все равно ведь не знаю.
– А все остальные в этих дотах – из местных?
– Остальные – да. Почти все. Вот как забрали их, так всех по дотам и пораспихивали. А кого – и возле дотов, по окопам. Чтобы немец через реку не прошел.
– И не пройдет, – решительно молвил барон, покачивая носками своих запыленных офицерских сапог. – А если и пройдет, то не здесь и не скоро.
– Дал бы Бог.
Штубер обратил внимание, что Оляна совершенно не опасается его как мужчины. В ее больших голубоватых глазах, в доверчивой улыбке и в непринужденности поведения таилось что-то обезоруживающее, что заставляло воспринимать ее как женщину, но не как самку…
Когда она вышла, Штубер взял дверь на крючок, приоткрыл окно и, сняв сапоги, прилег. В этом доме он чувствовал себя спокойнее, чем на квартире самого надежного агента. При всей своей «надежности» агент давно может находиться под наблюдением или оказаться перевербованным. А эта женщина оставалась вне подозрения.
Пока оберштурмфюрер спал, хозяйка сварила вареники с картошкой. Угостив его на прощание, еще десятка два вареников Оляна пыталась передать мужу в обвязанном платком котелке. Однако брать котелок Штубер деликатно отказался: не пристало ему, командиру, ходить с «пастушьими обедами». Идя к двери, он добродушно ухмыльнулся:
– Вареники у вас, конечно, вкусные – что есть, то есть. Готовьте еще, думаю, скоро увидимся.
– Увидимся? – приложила женщина руку к груди. – Когда ж это мы увидимся? И как?! Господи, да погибнем мы все. Слышите, что там деется – за рекой, в лесах, по всему миру? Это же погибель наша, я уже чую ее… Как на Страшном суде – чую.
Она оказалась слишком близко. Штубер чувственно улавливал зарождающиеся от нее запахи – чистого, ухоженного женского тела, подсолнечного масла и настоя трав, в котором она, очевидно, мыла свои пышные темно-русые волосы. Обычные крестьянские запахи, знакомые Штуберу по воспоминаниям детства (их родной замок был окружен бауэрскими хозяйствами), они возбуждали в нем ностальгическую потребность остаться в этом доме, найти в нем постоянный приют, отстраниться от ужаса, который надвигается на берега этой украинской реки. А сама близость женщины, налитое, пышущее здоровьем тело которой напоминало некий до предела созревший, в любую минуту готовый взорваться жизнесеющим семенем плод, вызывало в нем неодолимое мужское влечение, круто замешанное на неистребимо наивном любопытстве.
– И все же мы увидимся, – проговорил он, жадно сглотнув врезавшийся ему в горло комок. – Не может быть, чтобы в последний раз…
– Нет, нет… Когда же? Не увидимся. Вы уйдете. Все уйдете, все погибнете. Все это мне уже чудится. По ночам, – шептала она, слабо, еле заметно сопротивляясь мощным, бесстыдно вцепившимся в ее талию рукам гостя.
– О видениях – потом, – мягко, но в то же время, по смыслу сказанного, жестко прервал ее мужчина, все оттесняя и оттесняя к высокой, застланной подушками кровати. – Молитвы, видения, предвидения – все потом.
И не был он с ней ни нежным, ни хотя бы элементарно по-человечески добрым. Грубо повалил ее, переломив на изгибе кровати так, что она чуть не задохнулась, и молча, бесцеремонно устранил все, что мешало ему насладиться ее телом. Но Оляна словно и не ждала, не имела права ожидать от этого пришельца, этого огрубевшего, проникнувшегося черствостью предсмертного страха мужчины, иного обхождения. Тем более – в такое судное время.
– Бог меня простит. Бог всех нас простит и спасет, – шептала она слова, которые мужчина должен был воспринимать, как слова самой душевной нежности. – Это грех, я понимаю… Только не надо карать за него. Ты и так покарал нас…
– Оставь в покое Бога! – прорычал рассвирепевший мужчина, железной хваткой впиваясь в плечи женщины и осаждая ее на себя с такой страстью, словно хотел вгрызться ей зубами в глотку. – Оставь Его! – рычал он, упиваясь страстью и в то же время вздрагивая от рева проносившихся над домом пикирующих бомбардировщиков.
– Он спасет нас, – не слышала и не могла, не хотела слышать его слов Оляна. – Спасет и помилует. Я – грешная. Но, может, и ему… и моему… какая-нибудь другая… вот так же… в любви и страхе… И он тоже простит меня. Тоже простит.
– Простит, простит… – неожиданно смягчился и сжалился над ней барон фон Штубер. – Потому что весь мир покоится сейчас на любви и страхе.
Бомба упала совсем рядом, оповестив о себе могучим взрывом. Дом качнуло вместе со склоном долины, на которой он стоял, и женщина отчаянно, хотя и несколько запоздало, закричала: то ли от страха, то ли от жгучего наслаждения и раскаяния. Но скорее всего было в этом крике и то и другое.
Потом, уже понемногу остывая, Штубер вдруг заметил ее широко раскрытые, испуганные глаза и, все еще продолжая бормотать какие-то нежности, вдруг поймал себя на том, что бормочет-то он их… по-немецки! Эти-то непонятные, на чужом языке сказанные слова и заставили Оляну поначалу замереть, а потом слегка, насколько позволяло мощное тело Штубера, приподняться, чтобы получше всмотреться в глаза своего искусителя.
– Лежать! – прохрипел Штубер, почувствовав, что женщина догадывается, с кем свела ее судьба в этой греховной постели. – Ты ничего не слышала! Лежать!
– Бог рассудит тебя, – шептала женщина, провожая его за порог. – Бог нас обоих рассудит.
Уже держась за ручку двери, Штубер холодно смерил ее взглядом. Поняла она, что перед ней не русский немец, а тот, «гитлеровский», или нет? Если поняла – надо бы тотчас же отправить ее на тот свет. К милостивому Богу, охотно принимающему молодых грешниц.
– Бог простит и помилует тебя лишь в том случае, если у тебя хватит ума забыть обо всем, что здесь происходило. Ты поняла меня? Молчать – и молиться. Молиться – и молчать!
– Я буду, буду… молиться, – не в страхе, а в каком-то религиозно-фанатическом экстазе проговорила Оляна. И только Богу было известно, о чем будут ее молитвы.
Штубер взглянул на часы. Начало седьмого. Уже вечерело. Пожалуй, в районе дотов нужно было бы появиться чуть-чуть раньше, к вечеру всегда опаснее. Зато легче будет пробраться к реке. А для него это главное.
«Хотя бы она ушла отсюда! – вдруг возродил он в памяти глаза Оляны в тот миг, когда она поняла, что мужчина, одетый в форму красного командира, заговорил по-немецки. – Неужели не понимает, что с ней – молодой и по-женски сочной – станут проделывать те десятки солдат, которые пройдут через ее дом во время захвата этого берега?!»
Он вдруг поймал себя на том, что ему уже небезразлична судьба этой женщины. И что, уподобляясь светскому ревнивцу, он готов пристрелить каждого, независимо от его формы и знаков различия, кто отважится повести себя с ней точно так же, как только что вел себя он сам.