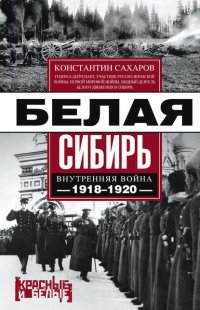
Читать онлайн Белая Сибирь. Внутренняя война 1918-1920 гг. (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Константин Сахаров
© «Центрполиграф», 2018
Белая Сибирь. Внутренняя война 1918–1920 годов
Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.
Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных. Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, которым и своя шейка – копейка, и чужая головушка – полушка.
А. С. Пушкин. Капитанская дочка
От автора
Пользуясь первым выпавшим мне свободным временем, я намерен записать, хоть коротко, последовательный ход событий в восточной части России за 1918, 1919 и 1920 годы. Как один из участников и очевидцев этих событий, я не вправе, понятно, произнести какой-либо приговор, не собираюсь также изрекать истин, делать окончательных выводов. Истина лежит вне усилий единоличных, приговор скажет беспощадная и справедливая история, а правильные выводы сделает сама жизнь.
Моя цель – исполнить только мой долг: записать для моих соотечественников, совершенно правдиво и беспристрастно, те условия, в которых проходила борьба антибольшевиков, то есть побуждающие причины, что двигали и управляли этой борьбой, раскрыть состояние и настроение народных масс, показать приемы борьбы и те обстоятельства, которые повлияли на ее неуспех.
Глубокая вера живет в нас всех, что Родина – великая Россия не может исчезнуть, что она возродится, несмотря на все противодействия, от кого бы они ни исходили. Народ, сумевший в течение своей тысячелетней истории образовать величайшую в мире империю, давший человечеству дары блестящего гения, вынесший из своей массы плеяды мировых писателей, ученых, художников и композиторов; страна, спасавшая не раз Европу и общечеловеческую культуру, воспитавшая в себе дух самопожертвования, поставившая искание правды и нравственной справедливости превыше материальных благ; народ, всегда искавший Бога, – такие страна и народ не могут погибнуть или ассимилироваться с другой культурой, чуждой русским историческим путям и задачам.
Возрождение России будет скорее, чем многие предполагают; оно придет изнутри, из масс самого народа. Наша общая вера в нашу Родину и ее судьбы оправдается; наша общая работа и великие жертвы русского народа не пройдут безрезультатно.
Восстанавливать свой разрушенный дом мы должны сами, своими руками. Преступно рассчитывать, что кто-то может сделать это за нас. Нет сомнения, мы имеем друзей среди других стран, народов и наций. Но не надо ни на минуту забывать, что все эти друзья заняты своими собственными делами и заботами, почти никто из них не уясняет да и не может уяснить себе истинного состояния масс и необъятных пространств России и не знает ни исторического хода развития нашего государства, ни лежащего теперь перед ним правильного и исторически-естественного пути. Да кроме того, обычно эти иностранные друзья при своей помощи восстановлению государства Российского руководствуются своими эгоистическими целями. И эти скрытые цели всегда противоположны интересам России, вредны для нее.
Нам самим зачастую трудно понять и уяснить происходящее. Ведь от разности этого понимания и затянулась так гражданская братоубийственная война, – от разности понимания или от незнания, незнакомства со многими событиями, настроениями и руководящими целями.
Чтобы успешно действовать, строить, надо правильно оценить условия и взять верное направление; а чтобы правильно судить, необходимо знать возможно подробнее и полнее о той совокупности внутренних и внешних факторов, которые влияли на жизнь нашей страны. Надо знать правду о России. Чтобы людям правильно выполнить свою задачу завтра, им необходимо быть осведомленными о том, что было сделано сегодня и вчера и как было сделано.
Цель настоящей книги – раскрыть это вчерашнее. Предмет ее – описание событий в Восточной России с осени 1918 до весны 1920 года.
Все написанное является результатом лично пережитого. Мне пришлось работать в исключительных условиях, находясь почти в самом центре этого огромного русского напряжения, среди больших русских людей и патриотов.
Очень хотел бы этой книгой помочь и иностранцам, расположенным искренне к России, желающим принести ей пользу, и всем друзьям нашей Родины, – разобраться немного в русском вопросе и получить представление о том, что нужно России и русскому народу. Для этой цели необходимо показать тот, может быть невольный, но большой вред, какой принесла русскому народу пресловутая интервенция союзников-иностранцев. Представляю факты, встречи и действия в их неприкрашенном виде; пусть это не будет истолковано как результат недружелюбного чувства, как результат каких-либо ориентаций. Нет, но при описании такого сложного процесса борьбы, при беспристрастном рассказе событий нет возможности все хвалить или обходить неприятные стороны молчанием.
А мое стремление – дать полный очерк всего хода событий и беспристрастное описание их. Если невольно, местами иногда проявится мое личное чувство и излишние подробности, прошу снисходительности, так как все пережитое очень еще свежо и слишком больно затронуло оно каждое русское сердце.
Нью-ЙоркОктябрь, 1920 г.
Мой труд, написанный по свежей памяти и с использованием части сохранившихся и собранных документов, пролежал два с половиной года. Многие обстоятельства делали его опубликование преждевременным и нежелательным.
Теперь, когда препятствия эти устранились, я имею возможность напечатать книгу о Белом движении в Сибири, руководимый той целью, о которой говорю выше.
Некоторые собственные имена мною поставлены лишь в инициалах, – из-за опасения повредить людям досягаемым для Чрезвычаек 3-го Интернационала. Но все эти фамилии у меня имеются, и, когда придет время, они займут в книге свое место. Точно так же я нахожу еще рано давать подробности и освещение некоторых фактов, останавливаться более детально на характеристиках и оценке деятельности отдельных лиц, равно и опубликовывать часть документов, оставляя все это до другого раза.
При выполнении настоящего труда я начал подбирать и систематизировать материалы, касающиеся Белого движения в Сибири, и буду продолжать это дело; буду весьма признателен, если кто-либо из участников Гражданской войны в восточной части России найдет возможность поделиться со мною новыми документальными данными. Со своей стороны, все собранные документы, включительно до нескольких собственноручных адмирала А. В. Колчака и других деятелей, будут мною переданы в русский официальный архив, когда таковой снова появится после свержения в России власти большевиков.
Рисунки, помещенные в этой книге, принадлежат карандашу поручика Михайловского стрелкового полка Л., давшего их мне еще летом 1919 года. Его, лиц, помогших мне доставлением документов и в подыскании новых, а также всех, оказавших помощь при печатании моего труда, прошу принять мою искреннюю благодарность.
МюнхенИюль, 1923 г.
Глава 1
Борьба за власть
1
После долгих и трудных странствий, частью верхом, частью на телеге, через киргизские песчаные степи, приехали мы с женой из Астрахани в Уральск, дважды перейдя красный фронт. Впервые после почти годового пребывания в Советской России и после шестимесячного заключения в большевицкой тюрьме я попал в город, где свободно развевался русский национальный флаг. Была осень 1918 года. По всей шири Руси от Карпат и до Тихого океана вспыхнули восстания против большевиков. Самые разнообразные слои, классы и национальности русского народа поднялись против угнетателей и кровавых тиранов, захвативших власть в стране именем народа и для народа. Русь восстала против интернационала.
Эти восстания были разрозненны и неорганизованны. Это было чисто стихийное движение. Только на Волге и к востоку от великой русской артерии восстания русских людей нашли помощь и поддержку в Чехословацком корпусе, примкнувшем к ним в своем стремлении пробить путь на восток.
Отрывочные сведения обо всем этом доходили и в большевицкий стан, достигали и Астраханской тюрьмы, где нас сидело свыше ста офицеров; сердца были полны надеждой, казалось, что все мы, русские люди, довольно уже научены пережитой революцией, чтобы не делать снова ошибок, чтобы объединиться для общей работы по очистке нашего дома России от большевицкой нечисти.
Уральск напоминал растревоженный муравейник. Все население жило одним общим интересом – разбить красные полчища большевиков, отнять у них Саратов и Астрахань для соединения с Добровольческой армией генерала Деникина. В станицах проходила мобилизация, и все мужчины шли в ряды сражающихся; не хватало винтовок, шашек и пик, – шли с вилами и косами, составляя особые отряды для поддержания первой линии.
Все политические лозунги были отброшены. Одна мысль управляла этим народным движением: покончить с большевизмом и тогда заняться разрешением вопросов внутреннего устройства. В этом казаки сходились с самарскими и саратовскими крестьянами и соединились с ними для борьбы против общего врага.
В Уральске впервые пришлось узнать отголоски правдивого положения на новом белом фронте. Грустными, похоронными аккордами прозвучали известия с Волги.
– Казань отдали большевикам…
– Сколько там погубили людей. Какие огромные запасы оружия и военного имущества оставили красным…
– Пал Симбирск…
– Самарское правительство не желает поддерживать казаков и Сибирскую армию…
Помню заседание Уральского казачьего круга и доклад на нем делегатов, вернувшихся из Уфы с так называемого Государственного совещания. Зал наполнен серьезными бородатыми казаками, только отдельными пятнами мелькают пять-шесть молодых безусых лиц; глаза у всех смотрят пытливо и напряженно; так искренно, с таким страстным желанием найти правильный путь, путь объединения в борьбе. И иметь в ней успех. Полная тишина и порядок, в отличие от всех шумных и говорливых собраний 1917 года.
Два казака, приехавшие из Уфы, делают доклад. Тихо и медленно говорят они по очереди; каждое слово их звучит в этой тишине так четко, как благовест ночного колокола.
– …Образовали Российскую директорию из пяти лиц: Авксентьев, генерал Алексеев, Чайковский, Астров и Вологодский; так как некоторым прибыть сейчас нельзя, то будут их заместители; сейчас состав такой: председатель директории Авксентьев; члены: генерал Болдырев, Вологодский, Зензинов и Виноградов.
Порешили на совещании, что вся полнота власти сосредоточивается у директории. Все остальные правительства должны подчиниться ей…
Мы подписали за уральское казачество это обязательство, чтобы Россия могла объединиться в борьбе против большевиков.
Ни слова возражения. В глазах и на лицах спокойная радость удовлетворенных ожиданий и окрепшей надежды.
– Согласен ли круг и одобряет ли действия избранных делегатов? – спрашивает председатель.
– Согласны, согласны… – проносится дружное эхо всего круга…
Из Уральска я отправился автомобилем в Бузулук, чтобы оттуда проехать через Самару в Уфу, в новый Главный штаб для получения назначения.
Путь до Бузулука, сам этот городок самарских черноземных степей, дальше тряский вагон до Самары, набитый пассажирами так, что в четырехместном купе нас уплотнилось десять человек, – все дышало какой-то сумятицей, взволнованностью, неуверенностью. Крестьяне бузулуцкого большого села Марьевка, где мы остановились на ночлег из-за поломки автомобиля, жаловались мне на чехов и на новое правительство учредителей за то, что те произвели жестокую экзекуцию этого села.
– Вишь ты, ваше благородье, или как тебя называть, не знаем, – у нас некоторые горлотяпы отказались идти в солдаты, ну, к примеру, как большевики они. А мы ничего, мы миром решили идти. Скажем так: полсела, чтобы идти в солдаты, а полсела – против того.
Пришли зато две роты чехов и всех перепороли без разбору, правого и виноватого. Что ж, это порядо-ок?
– Да еще как-то пороли! Смехота! Виновных-то, самых большевиков, – не тронули, а которых хорошие мужики – перепороли. Вон дядя Филипп сидит, сидеть не может, а у него два сына в солдаты в Народную армию ушли.
Крестьяне сочувственно и безобидно засмеялись, а дядя Филипп неловко заерзал на лавке.
– Что ж, барин, и когда конец будет этому? Кто порядок-то установит? – обратился ко мне с вопросом старый крестьянин в армяке и лаптях.
Все сдвинулись ближе.
Я старался объяснить им, что теперь порядок можно установить только самим нам, всем сообща, покончив с большевиками. Слушали крестьяне молча, а в конце дядя Филипп ответил за всех:
– Эх, не то, барин, – нам бы какая власть ни была – все равно: только бы справедливая была, да порядок бы установила. Да чтобы землю за нами оставили. Если бы землю-то нам дали, мы бы все на царя согласились.
– Да уж чего тогда бы лучше! – раздались голоса в толпе.
Меня, как жившего в Самарской губернии раньше, до войны, не удивил этот заключительный аккорд, так как тамошние крестьяне всегда отличались большим, почти святым почитанием царя; все они большие хлеборобы, и редкий делал запашку меньше чем двадцать – двадцать пять десятин. Постоянная мечта их была разжиться землицей, прикупить ее; ну а здесь такая благодать – даром свалилась.
Но меня поразило, что наши дивные черноземные самарские степи, эта житница России, лежали теперь почти нетронутыми. Десятки верст пробегал автомобиль, далеко, до самого горизонта уходила волнистая плодородная степь, и только редкими местами попадался табор пахарей или плуг в работе среди черного блестящего вспаханного поля. В прежние годы, в сентябре, бывало, вся степь была черным-черна, вся грудь ее распахана для нового весеннего посева.
В селе Марьевка несколько тысяч населения и, несмотря на будни, почти все оставались дома. На мой вопрос о причинах такой перемены как раз теперь, когда они завладели всей землей, крестьяне ответили так:
– Видишь, барин, нам это неспособно: одно дело, кто землю-то нам продал? Неизвестно. Какие они права имели землю-то отдавать? Ее распашешь, а потом отвечай. А другое дело война, – все равно пропадет. Ты посеешь, потрудишься, а Красная армия придет, половину стравит, а другую половину отнимет…
В Бузулуке я увидел 1-й полк новой Народной армии. Без погон, со щитком наподобие чешского на правом рукаве, почему-то с георгиевской ленточкой, вместо кокарды, на фуражке. Вид полутоварищеский. Сам городок, обычно шумный, центр одного из наиболее хлебородных уездов России, жил теперь тихой, спрятанной жизнью, точно дом, из которого уехали главные хозяева.
В вагоне пришлось ехать вместе с несколькими офицерами. Два из них сидели, а одному места не хватило, стоял. В углу же разместился какой-то железнодорожник с яркой желто-голубой «украинской» ленточкой в петличке и на утрированно хохлацком жаргоне разглагольствовал о «самостийной Украине». Слушал его поручик, слушал да и говорит:
– Вот что, пане добродию, вылезайте-ка из угла, я хочу сидеть. Дорога-то ведь наша русская, да и Самарская губерния тоже Россия, ей в Украину не попасть.
– Как так? Позвольте, какое вы имеете право? – перешел на литературный русский язык желто-голубой железнодорожник.
– А такое, пане добродию, что я русский, значит, здесь дома у себя, хозяин. Вот поезжайте на Украину, там и посидите. Ну, вылезайте!
Сконфуженно оглядываясь, под смех остальной публики вышел новоявленный украинец из купе и даже из вагона.
Ехали и делились впечатлениями, интересами текущих дней, событиями войны с большевиками. Офицеры Народной армии высказывали недовольство отношением к ним и их полкам Самарского правительства, что развели опять политику, партийную работу, скрытых комиссаров, путаются в распоряжениях командного состава; начали чехословаков втягивать во внутреннюю политику, проводя среди них то же, что Керенский проводил в 1917 году в русской армии для ее развала.
Выяснялось, что Самарское правительство учредителей пропагандирует всячески против Сибирского правительства и Сибирской армии, называя их «монархическими и контрреволюционными»; а в то время если что и можно было поставить в вину сибирякам, то это их слишком сильный крен в сторону социалистов-революционеров.
Оказалось, что много надежд возлагалось в то время русскими людьми на союзников. Как раз в то время прозвучали торжественно на весь мир ноты английская, французская, итальянская, японская и американская. Все они призывали русский народ к продолжению войны против Германии и «их прислужников и агентов, большевиков». Все они заявляли о своей готовности активно поддержать в этом Россию и клялись, что не преследуют никаких личных целей, что ни одна пядь Русской земли не будет никем занята.
До чего была сильна и наивна эта вера русских в помощь союзников! Одна девушка-курсистка, ехавшая из Бузулука на высшие курсы в Самару, уверяла, что на Волгу направляются пять японских дивизий, что «в Самару приехали уже триста японцев-квартирьеров»…
Подтверждались тревожные слухи с Волжского фронта. Передавали об ужасной ситуации в Казани, где Лебедев и Фортунатов, два партийных работника, забрали власть в свои руки, митинговали с рабочими во время боев, вели переговоры с большевиками и предали армию.
Самара произвела жуткое впечатление. Большой город, центр торговли Поволжья, с несколькими стами тысяч жителей, казался обреченным местом, ждущим своего приговора и часа. Огромная толпа, улицы полны народом, но все двигается тихо, без обычного шума. Почти на всех лицах написано боязливое, тревожное ожидание и мольба о спасении.
Многие из слухов подтвердились. Я нашел здесь своего однокашника по кадетскому корпусу, полковника С. А. Щелихина, который исполнял должность начальника штаба Народной армии при командующем Волжским фронтом, чешском поручике Чечеке, произведенном учредителями в генерал-майоры. Вот какими приемами искали они себе опору и сторонников!
Положение было хуже 1917 года; чехи под влиянием пропаганды уже разваливались, воевать не желали; Народная армия была крепка только офицерами и добровольцами, да и то в частях, к которым эсеры получали доступ, там исчезала дисциплина, а с нею вместе и боеспособность. Только отряды полковников Каппеля и Степанова оказывались всюду сильны и духом, и боевыми качествами, так как эти начальники не подпускали и близко к своим войскам социалистов.
Они брали Казань, Симбирск. Каппель проявлял прямо чудеса маневра со своим маленьким отрядом. Но в Казань, сейчас же по взятии ее, нагрянули эсеры и так все перепортили, что наши едва успели уйти, некоторые там и остались большевикам. Бросили одного сукна на пятимиллионную армию, более ста аэропланов с огромным имуществом, массу пулеметов, патронный завод; в Симбирске оставили огромный инженерный парк всей императорской русской армии.
А все оттого, что учредители мешали и противодействовали вывозу: боялись, что все это может попасть в руки Сибирской армии. А понятно, по Волге почти все можно было вывезти.
От других офицеров пришлось слышать рассказы о таких же непорядках в Хвалынске, Вольске, Николаевске. Офицерство и добровольцы были возмущены до крайности.
– Мы не хотим воевать за эсеров. Мы готовы драться и отдать жизнь только за Россию, – говорили они.
– Такое предательство, хуже 1917 года, – горячо рассказывал мне капитан, трижды раненный в германскую войну и два раза уже в боях с большевиками. – Как только успех и мало-мальски прочное положение, они начинают свою работу против офицеров, снова натравливают массы, мутят солдат, кричат о какой-то контрреволюционности. А как опасность, так офицеры вперед. Посылают прямо на уничтожение целые офицерские батальоны…
Когда я приехал в Самару, оттуда шла уже спешная и довольно беспорядочная эвакуация, управляемая чешскими комендантами.
– Завтра[1] будут брать места в поездах уже с револьверами в руках…
2
С большими трудностями и неудобствами, бесконечно долго простаивая на самых маленьких станциях, добрались до Уфы.
Здесь на вокзале стоял оцепленный чешскими часовыми поезд, состоявший из шести классных пульмановских вагонов. Часовые никого не пропускали, образовав на платформе около вагонов большой свободный полукруг.
– Чей это поезд? – спросил я одного чеха.
– Нашего генерала Дитерихса.
– Какого Дитерихса, русского генерала?
– Ну да, а теперь он нами командует, наш генерал.
– Могу я его видеть?
– Да, только его сейчас здесь нет, он поехал в город автомобилем на совещание с директорией.
Отправился я в штаб Верховного главнокомандующего генерала Болдырева, члена директории. И штаб, и директория, и все ее канцелярии помещались в большой «Национальной гостинице». Здесь сразу пришлось окунуться в обстановку, напоминавшую до жуткости недоброй памяти дни лета и осени 1917 года. Та же беспорядочно снующая без дела толпа, масса юрких штатских брюнетов с горбатыми носами, всюду грязь, неубранный сор, стучат пишущие машинки, здесь же доступный для всех телеграф с армейскими аппаратами Юза.
Шел длинными коридорами, ни от кого не мог добиться толку, как пройти к начальнику штаба. Наконец в самом конце коридора, при входе в ресторанный зал один офицер мне помог.
– Да вон он сидит у стола, генерал Розанов, начальник штаба.
Опять старый знакомый, еще с довоенного времени, с которым вместе сражались в памятных героических Люблинских боях августа 1914 года. Тепло встретились. Оказалось, что генерал Розанов только несколько дней сам прорвался через большевицкий фронт.
– Шел в красной рубахе, как простой крестьянин. Сначала свои пускать не хотели, взяли под подозрение.
Рассказал коротко ему и мои злоключения у большевиков в тюрьме, случайное спасение и как дважды пробирался через их фронт.
Здесь же встретил своего давнего приятеля, полковника Генерального штаба Д. А. Лебедева, который работал на Дону вместе с генералами Корниловым и Алексеевым, а теперь пробрался сюда из Добровольческой армии через Москву. Затем вскоре подошел уральский казак, генерал-майор Хорошкин, оказавшийся однокашником по кадетскому корпусу.
Оба они были в Уфе уже несколько недель, с самого Государственного совещания. Несколько часов проговорили мы; оба они по очереди, один дополняя другого, нарисовали мне обстановку, военную и политическую, среди которой родилась Российская директория.
Из рассказов еще многих очевидцев тех дней и из тогдашних уфимских газет устанавливается такая картина. После начала восстания, когда отряды русских офицеров и добровольцев, поддержанные чехословаками, свергли иго большевиков и рассеяли их красноармейские полки, образовалось много местных правительств. В Самаре знаменитый Комуч (Комитет членов Учредительного собрания, или, как тогда больше называли, учредиловки), в Уральске – казачье правительство, в Оренбурге – атаман Дутов с Оренбургским казачьим кругом, в Екатеринбурге – Уральское горное правительство, образованное евреем Кролем и имевшее всего один уезд территории, в Омске – Сибирское правительство, в Чите – атаман Семенов, на Дальнем Востоке, в Харбине и Владивостоке одновременно три правительства: генерала Хорвата, еврея Цербера и коалиционное.
В то же время отряды чехов были рассредоточены по всей линии Великого Сибирского пути, от Волги до Тихого океана, их военное начальство и политический комитет отдавали свои распоряжения и пытались также управлять.
Получалась полная разноголосица и сумбур. Тогда было созвано в Уфе Государственное совещание для выбора единой авторитетной российской власти.
В совещание вошли представители большинства перечисленных правительств, все наличные члены первого эсеровского Учредительного собрания, партии меньшевиков, эсеров, умеренных социалистов, кадетов и представители от некоторых казачьих войск. Состав крайне пестрый, не выражавший народных масс (как и все собрания начиная с марта 1917 года) и с сильным преобладанием партийных социалистических работников; последние определенно вели линию этого совещания за признание Комуча как правительства Всероссийского.
Но на это не шли остальные члены совещания – несоциалисты. Дело чуть не расстроилось.
Вот тогда-то выступили на сцену чехи. Их политический руководитель доктор Павлу заявил на этом совещании от имени Чехословацкого корпуса, что если не будет образована единая власть, то чехи бросают фронт; причем было произведено им еще одно давление на совесть собравшихся и заявлено: чехи полагают, что единственным законным и революционным правительством будет то, которое признает Учредительное собрание первого созыва и которое будет в свою очередь признано и поддержано этими «учредителями». Для всякого русского было ясно, что под этим подразумевались социалисты-революционеры, то есть партия, ввергшая под руководительством своего лидера Керенского в 1917 году Россию в бездну разрушения, позора и гражданской войны.
Заявление Павлу, однако, заставило всех пойти на открытые уступки, оставив втайне свои истинные намерения. Очень быстро было достигнуто соглашение, которое и подписали все участники Уфимского государственного совещания.
В качестве всероссийской власти признавалась избранная этим же совещанием директория из пяти лиц под председательством Авксентьева, ближайшего сотрудника и партийного товарища Керенского. Далее следовал пункт, что директория ответственна в своих действиях перед Учредительным собранием первого созыва и что, как только соберется определенное число членов его (помнится, 250), директория обязана передать всю полноту власти этому кворуму учредиловцев.
Директория вступила во власть, то есть начала на бумаге отдавать распоряжения, писать к народу воззвания, выпускать международные декларации. Собиралась образовывать кабинет министров, причем еще на совещании было обещано взять готовый аппарат министров от Сибирского правительства в Омске. Почти все соглашение сделано в угоду Комучу, который примазался к Народной армии, восставшей на борьбу против большевиков.
Имея в своем составе более 60 процентов иудеев, учредиловцы, с присущим своей партии апломбом, не постеснялись еще раз назваться избранниками русского народа, не остановились перед преступной игрой еще раз на русской крови. Какое самодовольство звучало в словах – фронт Учредительного собрания!
И как раз теперь, когда все было сделано по их вожделениям, когда власть вторично после революции попадала в руки той же партии, она показала себя совершенно неспособной к какой-либо не то что творческой, а просто плодотворной работе.
Падали один за другим города на Волге. Отданы Хвалынск, Вольск, Сызрань, Самара, дальше отступили и очистили Нинель, Бугульму и подходили к Уфе. Вся местность, громко называвшаяся «территорией Учредительного собрания», оказалась уже к началу октября в руках большевиков.
Директория спешно укладывала чемоданы и готовилась к переезду. Куда? Вот вопрос, вставший перед всеми. Сначала хотели в Екатеринбург, как центр Урала и, так сказать, независимый город. Но казалось, слишком близко от боевого фронта и слишком ненадежно. Решено было ехать в Омск, в столицу Сибирского правительства, хотя здесь как-то сама собою напрашивалась всем мысль, что директория едет в гости, на готовое к сибирякам, у которых был уже сконструирован работоспособный аппарат управления, образована сильная армия; мобилизация среди крестьян и рабочих Сибири прошла так успешно, что была несомненна полная поддержка Сибирского правительства всем населением.
В Уфе я на несколько лет расстался со своим верным другом, – моя жена решила ехать в Саратов к оставшимся там детям, чтобы попытаться их вывезти ко мне на восток. Надежным путем была доставлена она в Нинель, где проходил тогда отступавший чешско-учредиловский фронт, оттуда на лошадях направилась в Самару. Исчезла надолго в кровавом тумане, которым социалисты-большевики окутали Русскую землю…
По приезде в Омск директории и разноцветной толпы беженцев сразу обнаружилось течение масс не в ее пользу; с другой стороны – директория оказалась настолько несостоятельной, что почти никто с нею не считался. Один раз, например, вечером в гостиницу «Европа», где жили члены директории, явились несколько человек из партизанского отряда Красильникова с криками, что они пришли арестовывать директоров. Этот скандал удалось локализировать только самому Верховному главнокомандующему генералу Болдыреву; но никаких мер воздействия, никакого наказания виновных фактически в государственном преступлении директория провести не могла. Власть была до того бессильна, что на вопросы генерала Болдырева к некоторым из кадровых офицеров «Какое место вы желаете занять?» он получал в ответ: «Я не желаю вовсе служить здесь, с эсерами…»
В народных массах к директории относились совершенно безразлично, слои интеллигентные неодобрительно, а армия на фронте буквально начинала ее ненавидеть и глухо волновалась, спрашивая, за кого же и для чего она будет проливать кровь и жертвовать жизнями, раз нет веры и нет малейшей очевидности, что новая мифическая власть может спасти и оздоровить Россию.
А признаки, подтверждавшие этот печальный вывод, все сгущались и увеличивались. Директория была в Омске более двух недель и все еще не могла сговориться об образовании общего российского аппарата министерства. Делами продолжал управлять Сибирский кабинет, причем один из его самых энергичных членов, сибирский военный министр генерал Иванов-Ринов, поехал в Читу и на Дальний Восток, чтобы там на местах наладить формирование армии и дело снабжения ее нашими русскими запасами и присланными от союзников.
В Омске шли долгие переговоры, различные персональные перестановки в проекте состава кабинета. Но дело не двигалось.
Адмирал А. В. Колчак (сидит), А. В. Тимирева (сидит рядом), генерал А. Нокс и английские офицеры Восточного фронта
В конце сентября приехал в Омск из Харбина адмирал Колчак в качестве частного лица и даже в штатском платье. Я был у него на третий день приезда, и мы проговорили целый вечер. Адмирал рассказывал мне подробно о своих поездках в Америку и Японию, о положении на Дальнем Востоке, о роли разных союзников-интервентов, причем смотрел он на все мрачными глазами. Он тогда, еще в октябре 1918 года, высказывал мысль, что союзники преследуют какие-то скрытые цели, что поэтому мало надежды на помощь с их стороны.
– Знаете ли, мое убеждение, что Россию можно спасти только русскими силами. Самое лучшее, если бы они совсем не приезжали, – ведь это какой-то новый интернационал. Положим, очень уж бедны мы стали, без иностранного снабжения не обойтись, ну а это значит попасть им в зависимость.
Я намерен пробраться в Добровольческую армию и отдать свои силы в распоряжение генералов Алексеева и Деникина, – закончил адмирал Колчак.
Около того же времени прибыл особым поездом, с пулеметами и целой командой, одетой в новенькую солдатскую форму с сине-белыми погонами, член Комуча Роговский. На вопросы, что означает такой приезд и каково назначение сине-белого отряда, Роговский давал ответ:
– Я прибыл в качестве министра полиции нового кабинета, а отряд мой есть кадр новой полиции, которую я начну образовывать по всей территории.
– ?!
Оказалось, что председатель директории Авксентьев дал в Уфе обязательство своей партии обеспечить портфель министра полиции для члена Комуча, которым и был намечен Роговский. Шито было слишком белыми нитками. Несомненно, что если Роговский образует всюду свою полицию, партийную эсеровскую, то фактически вся власть в стране попадает в руки опять этой злосчастной партии. На это никто не шел. Соглашение, почти достигнутое с сибиряками, вновь расстроилось.
В те дни часто произносилось незнакомое для меня имя генерала Нокса, причем многие говорили: вот подождите – приедет Нокс… Как будто его приезд, этого английского генерала, мог многое изменить, создать и дать опору. Я недоумевал, искал объяснения и не мог найти.
– Погодите, вот приедет Нокс – увидите, – отвечали мне.
3
Вскоре генерал Нокс прибыл в Омск в особом довольно скромном поезде в сопровождении небольшой свиты. Ему устроили почти царскую встречу, директория в полном составе была на вокзале, город и станцию разукрасили флагами, национальными и новыми сибирскими, бело-зелеными. Шпалерами стояли и парадировали молодые сибирские войска, одетые в шинели из мешочного холста.
В этот день, проходя по мосту через речку Омь, я встретил двух офицеров в английской форме. Один из них был полковник британского Генерального штаба Нильсон, мой хороший знакомый по могилевской Ставке в августе 1917 года, настоящий офицер; другой – русский полковник П. Родзянко, принятый на службу англичанами. Обрадовавшись друг другу, обменялись первыми фразами, – так много воды утекло с памятных нам Корниловских дней. Нильсон взял с меня обещание прийти к нему на чашку чая в тот же день вечером.
Генерал А. Нокс
Надо сказать, что между офицерами всех армий, настоящими офицерами, существует особая связь, стирающая в обычное время даже национальные грани. Недаром социалисты называли офицерство враждебно-презрительно кастой. Да, каста-корпорация, общество культивированной чести, самопожертвования и даже подвига. Без этого не может существовать ни одна армия, а значит, и ни одна страна. Этот дух культивировался веками и представляет одно из самых ценных составных человеческой цивилизации. Дух этот общий, присущий всем нациям. Оттого-то и чувствовали себя офицеры разных армий как бы членами одного ордена, братьями по духу, носителями одних традиций. Очевидно, оттого-то на русских офицеров и направился первый и полный ненависти удар со стороны разрушителей старой мировой христианской культуры, социалистов.
Генерал Нокс оказался очень общительным человеком: типичный англичанин, высокого роста, с моложавым не по летам лицом, в высшей степени smart, довольно хорошо говорил по-русски. От него я узнал, что Англия готова помогать антибольшевицким русским армиям оружием, патронами, всяким военным снабжением и обмундированием на 200 тысяч человек; кроме того, посылает в Сибирь несколько сот своих офицеров в качестве инструкторов на помощь нам, русским офицерам. Для активной помощи направляется два батальона английских войск, Мидлсекский и Хэмпширский, и целая дивизия в полном составе из Канады.
Прямо в глазах зарябило от таких цифр. Чисто британский жест. Ведь это все обещало действительную помощь в восстановлении нашей Родины, великой России, и давало нам полную надежду.
В поезде генерала Нокса встретил нашего русского генерал-майора Степанова, тоже старого знакомого еще в Ставке в дни совместной борьбы против развала армии комиссарами и комитетами Керенского. Генерал Степанов приехал с Ноксом из Владивостока, подтвердил все, сказанное им, и от себя добавил много интересного о личности этого генерала, его исключительно дружественных чувствах к России, о его планах, как лучше осуществить эту помощь нам.
В это время с фронта приходили тревожные вести. С одной стороны, чехи отказывались воевать, ссылаясь на усталость и на то, что они хотят ехать драться против немцев на Французский фронт; а с другой стороны, наша новая, молодая русская армия, теперь объединенная номинально под командованием генерала Болдырева из частей Сибирской и Народной армий, волновалась все больше и больше неопределенностью в Омске, медлительностью формирования правительственного аппарата. Раздавались оттуда уже открыто голоса о необходимости установления единоличной военной власти, при которой эсеры не могли бы снова делать свои кровавые опыты над армией и страной.
«Дайте нам работать, не мешайте нас в политику», – было общее желание офицерства.
Полковник Д. А. Лебедев объехал фронт, побывал у генералов Дитерихса, Ханжина, Голицына и Гайды; все ему говорили о необходимости скорейшей замены директории единоличной военной властью. Но кем? Будь здесь генералы Алексеев или Деникин, тогда все сходились бы на них…
В Омске образовался политический центр, в который вошли все общественные и политические деятели от народных социалистов и правее. Этот политический центр пришел также к выводу, что директория не способна сдвинуть воз и довезти его до места, что необходимо ее заменить единоличной военной властью.
Действительно, бедная директория была подобна классической курице, высидевшей утят и бегавшей беспомощно по берегу, когда ее птенцы плавали, ныряли и плескались на водном просторе. Роды кабинета министров происходили очень мучительно. Наконец стал помогать, засучив рукава, и генерал Нокс, – подействовала его угроза, что работа по снабжению не будет начата, пока не установится власть.
Долго камнем преткновения был самозваный министр полиции Роговский со своим сине-белым отрядом. Председатель директории Авксентьев выкручивался вовсю; говорил, что он обязан был пойти на это назначение в Уфе, иначе бы соглашение не состоялось, чехи ушли бы с фронта.
– Да они и так уходят! А потом все равно они с сентября уже не воюют и всю местность от Волги до Уральских гор отдали большевикам, – отвечали ему.
Тогда Авксентьев попросту умолял согласиться на Роговского, обещая недели через две его прогнать и заменить другим, приемлемым лицом. Долго спорили из-за этого пункта. Наконец пришли к соглашению, Роговского не назначать; на этих условиях кабинет сформировался, и А. В. Колчак вошел в него как военный и морской министр.
На радостях директория устроила пышный банкет, достали даже вина. Говорилось много речей на всех языках, раздавались призывы к дружной, энергичной работе, трещали фразы о демократиях всего мира; директора и общественность на карачках ползали перед высокими иностранцами.
Социалисты-революционеры к этому времени основали свои штаб-квартиры в Уфе и Екатеринбурге. В первом городе они пробовали мутить среди нашей русской армии, устраивая митинги и формируя русско-чешские батальоны «защиты Учредительного собрания», а в Екатеринбурге они близко объединились с родственным им по составу Чешским национальным комитетом и действовали здесь вовсю, разлагая чехословацкие полки.
Все эсеры сгруппировались теперь около Виктора Чернова, их вождя и одного из самых вредных деятелей, который шел всю революцию вперегонки с Керенским; обладая безграничным личным честолюбием, Чернов не останавливался ни перед чем, чтобы перещеголять своего конкурента и товарища по партии.
И вот в середине октября, как раз ко времени этого банкета, был выпущен в Уфе «манифест» партии социалистов-революционеров ко всему населению России, подписанный В. Черновым и его ближайшими сотрудниками; в этой листовке повторялось в сотый раз, что «завоевания революции в опасности», что «новое правительство и армия стали на путь контрреволюции»; а потому все население призывалось к оружию и к повсеместной партизанской войне против правительства и его армии.
Неслыханная и небывалая подлость! Ведь это самое правительство-директория была избрана и составлена самими эсерами; они подписали на Уфимском совещании обязательство всячески ее поддерживать. Кроме того, председателем директории был их же человек, член их партии Авксентьев, и два члена директории, Аргунов и Зензинов, были тоже партийные эсеры. Выходило, что или и они трое повинны в этом предательском воззвании, как члены партии, или предательство направлено и против них. Эта прокламация-манифест широко распространилась и попала в армию. Волнение поднялось страшное. Требовали суда над преступниками.
Посыпались обращения к новым министрам, к Авксентьеву, к генералу Болдыреву; те возмущались и говорили, что примут меры. Но ничего не делалось, а Авксентьев на поставленный прямо вопрос не мог дать никаких объяснений; так и осталось невыясненным, участвовал ли он в этом воззвании, которое было на руку только большевикам. Впрочем, о выходе своем из партии Авксентьев, Зензинов и Аргунов не заявляли, да и сейчас состоят в ней.
Кабинет министров присоединился к мнению армии и Политического центра о необходимости и своевременности замены директории единоличной военной властью и обратился к генералу Болдыреву, как Верховному главнокомандующему, с предложением взять полноту всей власти на себя. Болдырев соглашался с мотивами и жизненной необходимостью такой замены, но отказался ее осуществить, ссылаясь на несвоевременность.
А волнения в армии все разрастались, увеличивалась и неуверенность в завтрашнем дне, в способности директории быть действительной, твердой властью.
В конце октября мне пришлось объехать большинство частей нашего фронта. Я ездил вместе с генералом Ноксом, будучи командирован ставкой Верховного главнокомандующего.
Чехи всюду были выведены с фронта в ближайший тыл. Русские молодые части стояли в передовой линии, одновременно ведя бои и формируясь. Работа, которую несли русские офицеры, была выше сил человеческих. Без правильного снабжения, не имея достаточных денежных средств, при отсутствии оборудованных казарм, обмундирования и обуви приходилось собирать людей, образовывать новые полки, учить, тренировать, подготавливать их к боевой работе и нести в то же время караульную службу в гарнизонах. Надо еще прибавить, что все это происходило в местности и среди населения, только что пережившего бурную революцию и еще не перебродившего; работа шла под непрекращающиеся вопли социалистической пропаганды вроде приведенного выше воззвания Чернова.
Под влиянием такой пропаганды в сентябре и октябре было сделано несколько попыток восстаний среди воинских частей тыловых гарнизонов. Офицерам приходилось жить почти безвыходно в казармах, чтобы предохранить людей от провокаторов и пропаганды. Не надо забывать, что вся Россия представляла тогда бурлящий котел, не было ничего установившегося, настроения масс не определились и легко поддавались самым неожиданным колебаниям. Жизнь тысяч этих скромных безвестных русских работников, строевых офицеров, была в постоянной опасности.
В Челябинске видел смотр и парад 41-го Уральского горных стрелков полка. После месяца работы полк представился как настоящая воинская часть; видна была спайка офицеров и солдат, хорошее знание строевого учения, умение нести боевую службу в поле. Но внешний вид был очень жалкий: более чем у половины людей отсутствие шинелей и сапоги – одна сплошная заплата. Командир полка, молодец-полковник Круглевский, настоящий заботливый командир, делал все, что мог, добывая снабжение и у интендантства, и у состоятельной части населения.
– Приходится, – говорил он, – прямо выпрашивать. Ведь у меня половина людей осталась в казармах, не в чем выйти. На несколько человек одна пара сапог, по очереди ходят на учение, в столовую и на двор.
В Челябинске же встретился с М. К. Дитерихсом, впервые с осени 1917 года, когда он вернулся в Ставку после неудачного похода на Петроград генерала Крымова. Работая вместе с Дитерихсом и под его начальством с 1915 года, я хорошо знал его раньше; и теперь прямо не узнал: генерал постарел, исхудал, осунулся, не было в глазах прежней чистой твердости и уверенности, а ко всему он был одет в неуклюжую и невоенную чешскую форму, без погон, с одним ремнем через плечо и со щитком на левом рукаве. Он состоял начальником штаба у командующего чешскими войсками генерала Яна Сырового.
– Много пережить пришлось тяжелого, – сказал мне М. К. Дитерихс, – развал армии, работа с Керенским, убийство Духонина почти на моих глазах. Пришлось скрываться от большевиков. Потом работа с чехами…
Мрачно и почти безнадежно смотрел генерал Дитерихс на предстоящую зиму.
– Надо уходить за Иртыш, – было его мнение, – вы не можете одновременно формироваться и бить большевиков, да и снабжения нет, а англичане когда-то еще дадут. Чехи… – он махнул рукой, – чехи воевать не будут, развалили их совсем.
На следующий день я был на похоронах доблестного солдата, чешского полковника Швеца. Он воевал на Германском фронте, затем поднял восстание против большевиков и сражался неутомимо с ними. Полк его обожал. Но развал шел среди всех чехов, и, когда коснулся полка Швеца, тот пробовал бороться, сдержать массу, один из всех продолжал со своим полком вести боевые действия на фронте. Но вот полк отказался выполнить боевую задачу, решительно потребовал увода в тыл и образования комитета. Полковник Швец собрал солдат, говорил с ними, грозил, что он обращается к ним в последний раз, требуя полного подчинения и выполнения боевого приказа. Полк не подчинился.
Тогда полковник Швец вернулся в свой вагон и застрелился. На похоронах его в Челябинске собралась многотысячная толпа и было немало искренних слез. На могиле этого героя политиканы, русские и чехи, говорили звонкие речи и лили крокодиловы слезы… Может быть, они и не сознавали тогда, что истинными убийцами этого честного солдата были они, виновники развала.
Генерал М. К. Дитерихс
Много пришлось видеть разных людей и картин чехословацкого воинства в Сибири, но, чтобы не отвлекаться, оставлю это для отдельной главы.
Из Челябинска я проехал вместе с генералом Ноксом в Екатеринбург, в город, который стал для русского народа местом величайшей святыни и небывалого позора. Еще сидя в большевистском застенке, летом 1918 года мы прочитали в местных «Известиях» официальное сообщение Московского совдепа об убийстве государя; там же была заметка, в которой комиссары лживо и лицемерно заявляли, что царская семья перевезена ими из Екатеринбурга в другое, безопасное место.
Больно ударила по душе эта ужасная, злая весть всех русских офицеров и простых казаков, – более ста человек было нас заключено в городской тюрьме Астрахани. Как будто отняли последнюю надежду и вместе с тем надругались над самым близким и дорогим, надругались низко, по-хамски, как гады. Даже красноармейцы, державшие в тюрьме караул, и астраханские комиссары казались в те дни сконфуженными, – ни один из них ни словом, ни намеком не обмолвился о злодеянии; точно и они чувствовали себя придавленными совершившимся ужасом и позором…
Генерал Нокс имел неофициальное поручение от своего короля донести возможно подробнее о Екатеринбургской трагедии.
Со стесненным сердцем входили не только мы, русские, но и бывшие с нами английские офицеры в Ипатьевский дом, в котором царская семья томилась два последних месяца заключения и где преступная рука посягнула на их священную жизнь.
Нас сопровождал и давал подробные объяснения чиновник судебного ведомства Сергеев, который и вел в то время следствие по делу цареубийства. Из его слов тогда уже вставала картина жуткой кровавой ночи с 16 на 17 июля.
Когда белые впервые заняли Екатеринбург, все цареубийцы и их главные сообщники бежали заблаговременно; кое-кого из мелкоты – нескольких красноармейцев внешней охраны, родственников убийц и даже сестру чудовища Янкеля Юровского – удалось захватить и привлечь к следствию с первых же дней; с самого начала все дело было взято в свои руки группой строевых офицеров и ими-то были получены первые нити, по которым установлено почти полностью преступление.
Весною 1919 года во главе следствия были поставлены генерал Дитерихс и следователь по особо важным делам Н. А. Соколов, которые с помощью специальной экспедиции тщательно обследовали всю местность вокруг города по радиусу в несколько десятков верст. Обшарили почти все шахты, собирали каждый признак, шли по самому малейшему намеку, чтобы рассеять мрак, нависший над концом царской семьи. Мне пришлось быть еще два раза в Екатеринбурге и беседовать с обоими; вывод их был тот же, который сообщил нам осенью 1918 года Сергеев: в ночь на 17 июля нового стиля государь император Николай Александрович и его семья были зверски умерщвлены в подвале Ипатьевского дома.
Кроме Сергеева, тогда же довелось подробно говорить с доктором Деревенько, лечившим наследника, с протоиереем Строевым, который был большевиками дважды допущен в дом заключения служить обедню, и еще с рядом лиц, живших в Екатеринбурге.
Навсегда осталось в памяти то общее из их рассказов, что светит, как венцы мучеников из старорусских Четьих миней; каждый штрих, всякая подробность говорили о том величавом смирении, с которым царственные узники переносили тяжелый крест страданий, всевозможные лишения и даже надругательства большевиков.
Все осмотры и ознакомления с материалами следствия за этот приезд в Екатеринбург легли в основу донесения об убийстве царской семьи, посланного тогда же генералом Ноксом в Лондон.
Дом екатеринбургского горнопромышленника Ипатьева – небольшой особняк на площади против собора – был окружен двумя стенами; вторую, сплошной деревянный забор, вышиною более сажени, большевики построили специально для того, чтобы еще более отделить высоких заключенных от внешнего мира.
Караулы неслись самые строгие, причем наружный, вокруг дощатого забора, был из красноармейцев, внутренний же состоял из чекистов-инородцев (иудеи и латыши) и нескольких человек русских, самых отъявленных мерзавцев, каторжан. При этом внутреннем карауле имелись два пулемета, стоявшие всегда наготове в окнах верхнего этажа, чтобы отразить возможное нападение. Комиссары жили все время под опасением, что русские люди освободят своего царя из их хищных кровавых рук.
Настроение народных масс Екатеринбурга хотя и было придавлено террором, но поднялось бы и смяло кучки святотатцев во главе с Янкелем Юровским, если бы только в народ проникли слухи о возможности того страшного конца, который эти выродки готовили царской семье. Оттого-то комиссары не доверяли красноармейцам внутреннего караула, по той же причине они постарались покрыть такой тайной свое злодеяние и затерять следы его. Лишь через несколько дней после 17 июля 1918 года пополз шепотом рассказ о том, что неслыханное совершилось. Но наряду с этим выросли тогда же легенды, будто царская семья вывезена из Екатеринбурга, что кто-то и где-то видел их проезжающими в направлении на Пермь.
Записываю отрывочные воспоминания того, что запечатлелось тогда в Екатеринбурге. Несомненно, появятся подробные отчеты следствия, вероятно также, что люди, жившие в этом городе лето 1918 года, дадут полную картину тех тяжелых недель и страшных дней. Здесь уместно отметить лишь, что с первых же часов занятия белыми Екатеринбурга были приложены все усилия, чтобы не только открыть правду, как бы ужасна она ни была, но и собрать все предметы-реликвии, сохранившиеся от царской семьи; все собранное было потом опечатано и при описях отправлено на английский крейсер «Кент».
За время правления директории все это делалось по частному почину русских людей, не встречая не только сочувствия, а иной раз так даже скрытое противодействие; но настроение офицерства, солдат и крестьянской массы было таково, что эти разрушители государства Российского не смели открыто препятствовать.
После того, как эсеровская директория была заменена единоличной властью адмирала А. В. Колчака, следствие пошло в порядке государственного дела. И только тогда чешский генерал Ганца принужден был спешно выехать из Ипатьевского дома, который он занимал для своего штаба.
Задача будущего поколения – открыть все полностью: и великий, единственный в мировой истории подвиг мученичества нашего государя и его семьи, и неслыханную мерзость их мучителей-убийц, и низость безвольного непротивления тех, кто мог в те дни противостоять убийцам. Все будет открыто. И недалек тот день, когда перед обновленной Россией развернется вся картина и встанут и засияют образы царственных великомучеников.
Но многое еще придется пережить до того и нашей стране, и нам, современникам.
В Екатеринбурге в то время, в октябре 1918 года, были два энергичных генерала: русский – В. В. Голицын, формировавший 7-ю дивизию горных стрелков Урала, и чех Гайда с очень молодым длинным лицом, похожим на маску, с почти бесцветными глазами с твердым выражением крупной, хищной воли и двумя глубокими, упрямыми складками по сторонам большого рта. Форма русского генерала, только без погон, снятых в угоду чешским политиканам. Голос его тихий, размеренный, почти нежный, но с упрямыми нотками и с легким акцентом; короткие, отрывистые фразы с неправильными русскими оборотами.
Гайда проводил такую точку зрения:
– Русский народ совсем не может иметь теперь, немедленно, парламентаризма. Я в этом убедился, пройдя всю Россию и Сибирь в два конца. И от революций все устали, хотят только порядка. По моему мнению, России нужна только монархия и хорошая демократическая конституция. Но теперь нельзя. Надо скорее военную диктатуру. Я поддержу своими полками, если найдется русский генерал, который возьмет власть на себя.
Так говорил Гайда в октябре 1918 года в вагоне у генерала Нокса. Но и он был бессилен удержать свои части на фронте и поневоле требовал замены их дивизией генерала Голицына.
На наших глазах эта смена и происходила. Русские полки и батальоны, которые пришлось видеть на фронте, поражали своей малочисленностью, скудным снабжением, плохим обмундированием.
Непостижимо, как могли при тех условиях наши отряды и молодые полки не только держаться на фронте, но и вести наступление, очищать от большевиков огромные пространства Сибири и Урала. А это было так, сама действительность тому свидетельство. Горячая любовь к Родине, выносливость русского человека да всеобщая ненависть к большевикам делали это дело. А выносливость прямо единственная в мире! Легкие, ветром подбитые шинели, рваные сапоги, отсутствие белья. В передовой линии генерал Голицын представил Ноксу одного молодого капитана, как наиболее отличившегося и дважды раненного. И у него не было второй нижней рубахи на перемену. Никогда не забуду этой картины, как розовый, хорошо упитанный английский генерал, одетый щеголем, похлопал по плечу этого героя капитана, с худым, изможденным лицом и впалыми глазами:
– Ничего, ничего, мы вам дадим белья.
Как огнем, вспыхнуло краской лицо капитана, сверкнули гордо глаза.
– Покорно благодарю, мне ничего от вас не надо. Вот солдатам, если привезли, дайте.
Полураздетую армию одеть было необходимо.
– Наши интенданты – красные, – говорили генералы Голицын и Вержбицкий, – что от них заберем в боях, то и имеем; с тыла ничего еще не получали.
Дух и внутренняя спайка среди этих частей были замечательные. Офицеры и солдаты жили в общих землянках, зачастую обер-офицеры стояли в строю и в бою, как рядовые. Тяжелая боевая служба среди начавшейся уже зимы неслась в высшей степени добросовестно, без отказа. Жила среди всех нас большая вера в справедливость своего дела. Между всеми было полное доверие; никаких недомолвок, недоговоренностей. Та отчужденность и подозрительность к своему офицеру, которую старательно привили и раздули наши политиканствующие социалисты в 1917 году, исчезли совершенно и заменились нормальными отношениями, чувством взаимной дружбы, что ведь так естественно между сынами одного народа, между офицером и солдатом одной армии.
Маленький, весь сплошной нерв, генерал Вержбицкий, стоявший со штабом у самых передовых частей наиболее опасного направления, так говорил генералу Ноксу на вопрос его о снабжении и о нуждах:
– А вот, ваше превосходительство, посмотрите сами. Одеты в лапти и зипуны. Винтовки? Есть и винтовки, – у красных отняли. Патроны? Патронов мало. Ну, ничего, добудем, добудем, ваше превосходительство… Обещаете дать? Что ж, спасибо, большое спасибо. Не откажусь. – Он побарабанил нервно маленькой крепкой рукой по столу и после молчания продолжил: – Это все герои, ваше превосходительство, они прошли от самого Иркутска, очистили Сибирь и Урал. И дальше пойдем. Надо весь Урал очистить.
И он здесь же, на карте, развил основу стратегического плана; ясно и просто показал положение красных и их затруднения из-за малого количества путей в горах Урала, оценил направления, силы…
Все генералы и офицеры жаловались на неустройство тыла, что политические распри там отзываются тяжело на боевой армии, что необходимо как можно скорее установить такую власть, которая могла бы наладить порядок в тылу; все они представляли себе и верили, что это по плечу только единоличной военной власти.
По возвращении в Омск я получил назначение во Владивосток, чтобы там, на Русском острове, собрать 500 офицеров и 1000 солдат и подготовить из них кадр для будущего корпуса, причем генерал Нокс обещал всевозможную помощь этому делу.
В Омске волнения и политический муравейник продолжали кипеть все больше. Черновское воззвание оставалось без всякого ответа. Вследствие этого были даже сделаны попытки отдельных офицеров и воинских частей арестовать его сообщников, но благодаря чехам и попустительству директории Чернов спасся и ускользнул с другими эсерами прямо в Советскую Россию, к большевикам.
Политический центр на своих заседаниях, даже мало и скрываясь, пришел к решению, что необходим переворот и вручение всей власти одному лицу – адмиралу Колчаку.
Вместе с генералом Степановым и Ноксом 2 ноября я выехал во Владивосток.
4
При проезде по железной дороге – а ехали мы с остановками в некоторых городах – создавалось такое впечатление, будто едешь не по одной стране, а попадаешь из одного удельного княжества в другое. Центральной власти, какого-либо объединения и единого управления на общее государственное благо, на общее дело не было. Местная власть действовала всюду на свой образец, преследуя только те задачи, которые ей казались нужными и важными.
Это отражалось на всем. Всего хуже было то, что даже те запасы, которые имелись в обширной Сибири, не могли распределяться правильно между ее частями; каждый думал только о своем районе, как бы обеспечить его нужды. То же явление наблюдалось и в отношении армии.
Русь! Однажды тебя погубило такое раздробление на уделы, свернуло с твоего исторического пути и ввергло на несколько столетий в темное татарское иго. Много страданий пережила тогда родная страна и гибель нашей чисто русской, славянской культуры. Только живой инстинкт народа, соединив его вокруг московского великого князя, спас Россию, воскресил страну; она окрепла и веками сумела образовать великое государство Российское. Не для того же, чтобы снова распасться на отдельные уделы и ввергнуться в гибельное состояние расчленения, подпасть под иноземную власть, новое иго, горше татарского.
В Иркутске был губернатором (или, как тогда еще называли, губернским комиссаром) Яковлев, партийный эсер, ведший очень ловко свои дела, но личность очень темная, по отзывам местных людей. Меня посетил старый боевой друг, полковник Лабунцов, раненный в одном бою со мною, под Люблином, и брат по Георгиевскому кресту. Он развернул ужасную картину того, что творилось во всей округе; Яковлев положительно развращал народ и молодые войска, всячески затрудняя их работу; он не отводил казарм и квартир, умышленно тормозил дело снабжения. Население здесь волновалось, местами вспыхивали восстания, которые раздувались всячески исподтишка губернской властью.
В то же время про Читу и управление атамана Семенова шли самые лучшие рассказы из разных источников; то, что мы увидали, въехав в Забайкалье, подтверждало эти рассказы. На станциях порядок, правильное движение поездов, удовлетворение нужд всех слоев населения. Город Читу проехали ночью, не останавливаясь.
Были уже и тогда люди, которые, наоборот, с пеной у рта доказывали, что в Чите творились безобразия; эти люди постоянно связывали имя атамана Семенова с японцами. Среднего мнения не было, – или полная похвала, или неистовая брань и подтасовка фактов; с самого начала здесь плелась интрига и провокация. Мне лично пришлось познакомиться и узнать близко атамана Семенова только в феврале 1920 года, уже тогда, когда я с армией пробился через всю Сибирь в Забайкалье. Об этом я буду подробно писать в одной из последующих глав.
А здесь сделаю некоторое отступление, чтобы была яснее связь некоторых дальнейших событий. Еще когда я был в большевицкой тюрьме в Астрахани, все мы, читая коммунистические газеты, встречали чаще всех имена Корнилова, Дутова и есаула Семенова. Невыразимая злоба и самая отборная ругань сопровождала каждое упоминание их на столбцах совдепской прессы. Для нас же, заключенных и обреченных на смерть русских офицеров, эти имена были отдаленными родными огнями, которые освещали мрак большевистского ужаса, окутавший всю Россию. Они поддерживали в нас надежду на возрождение Родины. Атаман Семенов начал есаулом, по своему почину, за свой риск и страх, борьбу против разрушителей-большевиков, и вел он эту борьбу неослабно, не выпуская из рук оружия. Он оказывал поддержку всем остальным антибольшевицким борцам, шел с ними на соединение. Но, понятно, передавать дело эсерам или другим бессильным людям для нового опыта и провала атаман Семенов не хотел и не мог. Поэтому он хотя и признал номинально директорию, но твердо держал власть в своих руках.
Атаман Г. М. Семенов
В Харбине и полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги управлял генерал Хорват, старый и опытный администратор, знавший отлично местные условия и весь край, пользовавшийся большим авторитетом даже среди китайцев. Он признал директорию, но, понятно, продолжал вполне самостоятельно управлять Дальним Востоком.
Грустно было видеть русское положение в Харбине мне, бывшему здесь в последний раз в 1905 году, перед заключением Портсмутского мира. Город шумел теперь праздной, хорошо одетой и сытой толпой; сюда стеклась, кроме невольных беженцев от большевиков, масса спекулянтов и укрывавшихся от воинской повинности; преобладали горбатые носы и говор с бердичевским акцентом. Китайцы, прежние «ходи», смотрели и держали себя вызывающе, выказывая как бы свое превосходство над нами в нашем несчастии.
Владивосток – жемчужина России. Как говорил генерал Нокс, это самый красивый и живописный город в мире по своему расположению, только неблагоустроенный и грязный.
– Если бы он попал в хорошие руки… – добавил он.
Упаси господи! Будут и русские руки хорошими, будут еще, может быть, самыми лучшими; для Владивостока и для всей Русской земли, во всяком случае.
Владивосток представлял собой какой-то хаос, еще не установившийся после свержения там большевиков; беспорядок и неустройство здесь были самые большие из всех мест. Какая-либо русская власть, которая могла бы наладить жизнь и урегулировать отношения, отсутствовала. Был губернатор Циммерман, был комендант крепости полковник Бутенко, но оба оказывались бессильными и тратили все время и силы на то, чтобы лавировать между самыми разнообразными и противными друг другу элементами, что нахлынули сюда.
Дело было так. Большевиков выгнали из Владивостока чехи под командой генерала Дитерихса при помощи и поддержке японских частей; на помощь к чехам направлялся и отряд русских офицеров, но чехи их не приняли и даже требовали разоружения. Тотчас же вслед за свержением советской власти во Владивостоке образовалось с одной стороны правительство эсеров, еврея Цербера и земское, а с другой стороны междусоюзнический совет из неполномочных и случайных иностранных офицеров, оказавшихся в Владивостоке; миссии тогда еще не прибывали. Когда русский отряд полковника Бурлина все же пришел во Владивосток, приехал также сюда генерал Хорват, чтобы объединить власть во всем крае Дальнего Востока, то этот случайный «союзнический» совет по настоянию эсеров потребовал разоружения отряда Бурлина. На Русской земле разоружали русскую воинскую часть, состоявшую почти сплошь из офицеров! И этот позорный акт совершился. И совершили его именем союзников России, опираясь на их авторитет и силу. Когда через несколько недель начали прибывать настоящие представители союзников, то дело решили поправить и оружие вернули.
Самозваное правительство Цербера, не опиравшееся ни на один слой населения, пало само собою, безболезненно. Во главе управления Дальним Востоком стал генерал Хорват, который и переехал из Харбина во Владивосток. Сюда же был назначен Ставкой генерал Ю. Д. Романовский, как представитель центральной власти при иностранных союзнических миссиях. Здесь же находился в это время и генерал Иванов-Ринов, который по сформировании в Омске нового кабинета перестал быть военным министром, оставаясь номинально командующим Сибирской армией.
Во Владивосток прибывали да прибывали союзники. Здесь были воинские части японцев, высадились английские Мидлсекский, а затем и Хэмпширский батальоны, канадские войска и американцы. Был образован международный совет, причем главное командование союзными войсками и председательствование на этом совете было номинально вручено, как старейшему, японскому генералу Отаки. Фактически же распоряжался каждый по-своему, мало считаясь не только с русскими людьми, но и с русскими интересами.
Больные и обидные воспоминания! Как раз в пути между Читой и Маньчжурией было получено известие о заключении перемирия на Французском фронте между союзниками и центральными империями, о революции в Германии, о бегстве кайзера и т. д.
Долгожданная победа была достигнута; четыре года страданий и великих жертв принесли свои плоды. И русская кровь, пролитая так обильно на полях всего света, служила вместе с другими тем фундаментом, на котором теперь должны были утвердиться мир, право и справедливость. Ведь из-за них воевало человечество?..
Английские офицеры шумно радовались победе. Они выражали с чисто офицерской искренностью мнение, что без России и ее жертв никогда бы им не получить этой победы. Да, верно, истина. Но из-за этих-то великих жертв и из-за медлительности, из-за затяжки войны, из-за того, что от России потребовали слишком большого напряжения, наша страна не выдержала и впала в такое несчастье, в степень гибельного разорения. А понятно, если бы Россия не вступила в войну или, вступив, не жертвовала так беззаветно, то Антанте никогда не выиграть бы войны.
Как теперь отнесутся к нам бывшие союзники? Во что теперь выльется их призыв к русскому народу? Вот вопросы, которые вставали перед нами. Понятно, все, что обещалось, будет выполнено; несомненно, останутся прежние отношения к вам как к нашим близким союзникам, – так отвечали англичане.
Но то, что пришлось видеть с первых шагов во Владивостоке, било не по самолюбию даже, а по самой примитивной чести. Каждый иностранец чувствовал себя господином, барином, третируя русских, проявляя страшное высокомерие. Было впечатление, что теперь, когда долгая война окончилась, им совсем не до нас; что они делают величайшее одолжение, приехав сюда, оставаясь здесь.
Надо отдать справедливость, что лучше всех относились японцы; их офицеры и солдаты проявляли самую большую, почти полную корректность; чувствовалось даже искреннее, чуткое и дружеское понимание нашего несчастия и временного характера его. Хуже всех было отношение домашних, так сказать, интервентов, войск сформированных из наших бывших военнопленных.
Лучшие здания в городе, все вагоны, места в поездах отдавались иностранцам; наши соотечественники как бы согнули спину и тащили на себе их, ожидая спасения. Ведь им была обещана помощь, призывали к совместной войне с немцами и большевиками. Немцы выбыли из строя врагов, в Версале собралась мирная конференция, но другой-то враг, большевики, остались. И русские люди ждали от интервентов помощи, верили в нее.
В первой половине ноября прибыл во Владивосток со своим штабом французский генерал Жанен. Ступил он на Русскую землю, приветствуемый как избавитель, как заранее признанный герой. На приветственные речи Жанен отвечал определенно и довольно ясно, обещая поддержку, самую активную, выражая веру в успех общего дела. Сюда же прибыл французский батальон, что-то около взвода их колониальных цветных войск, да одна батарея. И вслед за английскими батальонами французы двинулись по железной дороге на запад, к нашим боевым линиям.
Когда генерал Нокс объезжал фронт, его повсюду встречали не только дружественно, но торжественно. Выставлялись почетные караулы, оркестр играл английский гимн, предоставлялось все лучшее, что только было у самих. На его слова о помощи заранее благодарили, почти везде просили прислать хоть взвод английских солдат, – необходимо было показать нашим солдатам и офицерам, что давние обещания союзников о помощи не одни слова. Атаман Дутов в тяжелые дни Оренбурга прислал телеграмму ему в Омск: дайте мне одну роту французских или английских войск, и я отстою Оренбург, а то казаки уже не верят словам о помощи союзников.
В ответ мы слышали, что помощь будет, но не сейчас, что надобно подождать, не все еще готово; войска еще в пути. Мы ждали и верили.
5
В это время в Омске разыгрывались центральные события, имевшие важное значение для всего дальнейшего хода борьбы. Адмирал Колчак, как военный министр, объехал фронт, посетил войсковых начальников и убедился, что организация армии и ее снабжение поставлены в условия совершенно неудовлетворительные; не было ни общего плана, ни согласованной работы, не было надежды при существующем порядке наладить интендантство. Кроме этого А. В. Колчак получил уже лично теперь заверения от войсковых начальников, что дальше так идти не должно, что армия может сама сделать переворот, а это было бы гибельным для фронта; что в директорию совершенно никто не верит, ждут замены ее единой властью и хотели бы видеть ее в лице адмирала.
Вслед за тем выехал на фронт Верховный главнокомандующий, член директории генерал Болдырев; и они разминулись, – генерал Болдырев ехал в Уфу, а адмирал Колчак возвращался из Екатеринбурга в Омск.
А в новой столице в то же время шли совещания кабинета министров, на которых решалось, как следует произвести смену директории; о том, что ее надо сменить, вопрос был уже решен, так как выяснилась не только совершенная бесполезность и бессилие этой власти, но и ее чрезмерный склон на сторону социалистов-революционеров, то есть той партии, которая ей же объявила войну и призвала к ней население. Ясно было, что при оставлении у власти директории произойдет взрыв; вспыхнут восстания, которые не только погубят начатое успешно Сибирским правительством дело, но ввергнут страну в состояние анархии и еще худшего большевицкого разгула, чем было до лета 1918 года.
Адмирал А. В. Колчак
Совет министров пришел к решению передать всю полноту власти адмиралу Колчаку, как верховному правителю и Верховному главнокомандующему. Это было вечером 17 ноября, а в ночь на 18 ноября полковники Сибирского казачьего войска Волков и Катанаев со своими казаками окружили квартиры председателя и членов директории и арестовали их. Так что, когда Совет министров пришел к адмиралу Колчаку объявить о своем решении и просить взять на себя тяжкое бремя высшей власти, директории фактически не существовало; она вся была арестована, а генерал Болдырев находился в Уфе.
Мне известно совершенно достоверно, что адмирал А. В. Колчак не только сам не добивался власти, но и уклонялся от нее. Личность верховного правителя вырисовывается исключительно светлой, рыцарски-чистой и прямой; это был крупный русский патриот, человек большого ума и образования, ученый-путешественник и выдающийся моряк-флотоводец. Александр Васильевич Колчак как человек отличался большой добротой, мягким и даже чувствительным сердцем; его волевой характер, надломленный революцией, был очень вспыльчив. Настроения быстро менялись под давлением незначительных событий и первых известий, амплитуда колебаний от полной надежды до упадка ее проходила легко и быстро. В дни подъема настроения влияние его на людей было почти неограниченно; прямой глубоко проникающий взгляд горящих глаз умел подчинить себе волю других, как бы гипнотизируя их силою многогранной души. Адмирал принял на себя тяжесть власти, как подвиг, руководимый чувством самопожертвования во имя чести и спасения Родины; и все дальнейшее его служение до конца было проникнуто сильной любовью к России и высокоразвитым сознанием долга.
18 ноября 1918 года адмирал Колчак был поставлен перед совершившимся фактом. Он подчинился ему и принял на себя всю полноту верховной власти.
Генерал В. Г. Болдырев
Последовал чисто комический конец директории. Арестованные Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговский провели тревожную, полную беспокойства ночь. Когда их наутро посетили прокурор и следователь, чтобы начать дело против офицеров, арестовавших их, то бывшие директора предстали бледные и дрожащие, прося спасти их жизнь. Им было заявлено, что им нечего бояться, что офицерам, произведшим арест, грозит военно-полевой, суд. На вопрос прокурора, что хотели бы директора, они заявили:
– Отправьте нас поскорее в безопасное место.
А пока не отправят, просили держать их под арестом и под стражей, так как «иначе их может убить толпа». Вот как верили эти правители в народ, во главе которого имели наглость встать.
Всем им выдали деньги в иностранной валюте для поездки за границу и на жизнь там и отправили. Генерал Болдырев проехал прямо во Владивосток, а оттуда в Японию; остальные не рискнули ехать через Сибирь, а пробрались каким-то кружным путем через Китай. Все они дали честное слово жить за границей тихо и в политическую жизнь России не вмешиваться. Но это слово оказалось «клочком бумаги».
Почти с первого дня появления за границей все они начали свою деятельность, мутя еще больше ту международную тину, что с первых дней революции создалась около имени Россия.
Полковники Волков и Катанаев были преданы военно-полевому суду, который вынес им оправдательный приговор, приняв во внимание то, что настоящими государственными преступниками были директора – так как выяснилась их связь с большевицкими организациями – и что офицеры действовали исключительно в интересах страны и народа. Около здания суда весь день стояла густая толпа, приветствовавшая оправданных офицеров радостными криками и устроившая им овацию.
Верховный правитель в первый же день вступления на свой пост издал указ к войскам и населению, разъяснявший обстоятельства и самый порядок вручения ему власти. Были посланы извещения о том же всем союзным представителям. Затем последовал короткий и точный приказ, запрещавший какую-либо пропаганду среди войск и населения, призывавший всех к работе, самой горячей и дружной, для возрождения Родины; с первого же дня почувствовалась другая рука, честная и прямая, тогда казалось и твердая, которая поведет армию именно на спасение русского народа и его прав, а не для пресловутых и ложных завоеваний революции.
Затем была опубликована декларация, основ которой покойный А. В. Колчак держался до самого конца; сущность была в том, что он берет на себя всю полноту власти, чтобы сбросить большевицкую тиранию, восстановить право народа и его свободу, дать порядок и возможность каждому заниматься его трудом. После этого им было обещано передать в Москве всю власть вновь избранному народом Национальному Учредительному собранию.
Как раз на другой день после переворота я приехал в первый раз с Русского острова во Владивосток, утром зашел в штаб крепости и там узнал об этих событиях из полученного по телеграфу указа. Наверху, над штабом помещалась британская военная миссия. Я заглянул к генералу Ноксу, который встретил меня очень взволнованный и сказал, что теперь будет плохо, что союзники могут даже прекратить помощь.
Пришлось долго доказывать и убеждать в естественной последовательности этих событий, в их неизбежности, что об этом, в сущности, было известно в Омске еще до нашего отъезда, напомнить ему поездку на фронт, все встречи там, даже слова чешского генерала Гайды; объяснить, что директория фактически не могла остаться, так как тогда развалилась бы армия.
Генерал Нокс обещал поддержку и сейчас же поехал к Жанену. Что они говорили и какое было сначала отношение союзников к совершившемуся перевороту, мне неизвестно. Но, без сомнения, не такое трагическое, как представлялось с первого раза главе британской военной миссии. Даже чехи, по спинам которых взгромоздилась на высокое место директория, даже и они только частично поволновались, но и пальцем не двинули.
Через несколько дней после ареста директории была сделана из Куломзино, рабочего предместья Омска, попытка произвести восстание, организованное и подготовленное эсерами. Бунтовщикам удалось было захватить тюрьму, выпустили оттуда преступников, надеясь с их помощью развить действия; но с этим легко и быстро справились, восстание ликвидировали. Характерно и показательно, что английский батальон, стоявший в Омске, пришел в эту ночь, чтобы охранять адмирала Колчака, к его дому.
Черновское наследие в Уфе и оставшиеся там еще кое-кто из членов Учредительного собрания выпустили от себя манифест, снова призывая народ и армию к восстанию, пробовали опереться на чехов и поднять русские части, но эта попытка не удалась совершенно, хотя и доставила несколько неприятных дней. Пришлось посылать специальный отряд из Челябинска в Уфу, так как чешские начальники не позволяли арестовывать бунтовщиков. И большинство их ускользнуло за линию фронта на соединение с большевиками.
Едва ли найдется кто-либо сомневающийся в том, что руководило с самого начала и руководит действиями социалистических партий и их работников. Им важна не Россия и не русский народ, они рвались и рвутся только к власти, одни, более чисто убежденные, фанатики, – чтобы проводить в жизнь свои книжные теории, другие смотрят более практически, и им важна власть, чтобы быть наверху, иметь лучшее место на жизненном пиру. Борьбу между собою социалисты большевики и эсеры подняли исключительно из этих побуждающих мотивов, до России и народа им по-прежнему дела было меньше всего. И вот когда они увидали, что в этой борьбе власть попадает к самому народу, к наиболее активной, подготовленной и искренней его части, они кончили на время свои семейные счеты, и эсеры пошли помогать большевикам.
Генерал Д. Л. Хорват и военные представители Антанты во Владивостоке в 1918 г.
Русская армия была не только на стороне новой власти, она долго ждала ее, желала и, так сказать, сама она вызвала эту власть к жизни. Страна всюду и сразу подчинилась ей.
Генерал Хорват, бывший во главе всего края Дальнего Востока, послал от себя телеграмму в день переворота, что он признает законность его: всецело подчиняется верховному правителю. Генерал Иванов-Ринов, как командующий Сибирской армией и атаман Сибирского казачьего войска, телеграфировал всем высшим войсковым начальникам и атаманам, что в дни напряжения народной воли и силы к освобождению Родины от предателей-большевиков необходима немедленная и полная поддержка верховного правителя в тяжелом деле, принятом им на себя.
Целый ряд общественных организаций, городских учреждений, многие сельские сходы присылали в Омск телеграммы с выражением своей радости в перемене и уверенности в успехе дела, все предлагали верховному правителю свою готовность поддержать его в русском национальном деле; вскоре последовали многочисленные адреса и депутации от крестьян, рабочих, железнодорожников с выражением тех же чувств к новой власти.
Молча примирились с переворотом и союзные миссии, а через них и правительства Антанты. Признания своего они в эти дни не высказали, да не высказали его и до конца, в течение целого года. Факт с этим «признанием» – необъяснимая на первый взгляд и, во всяком случае, странная сторона отношения наших бывших союзников к русскому делу, а следовательно, и к русскому народу.
Оказывалась самая действительная материальная помощь, то есть присылались в нашу армию орудия, винтовки, боевые припасы, обмундирование, обувь и проч. Сибирь полна была иностранными представителями, и военными, и гражданскими; были здесь и иностранные войска, все же как-никак помогавшие нам, – они несли охрану железной дороги. Выходило, что союзники не только признают, но и помогают новому русскому правительству, как своему союзнику. А вот самое слово «признание» громко, прямо и открыто не произносилось. При этом надо заметить, что акт этого официального признания висел все время в воздухе, как призрак, то приближаясь, то удаляясь, то подходя снова почти вплотную. Он, как болотный блуждающий огонь, дразнил и манил к себе. Естественно, что чем дальше, тем больше разгоралось желание Омского правительства быть признанным; под конец это сделалось чуть ли не главным, руководящим стимулом его усилий и действий.
Много зла принесла такая двойственная неопределенная политика уже тем одним, что иностранцы использовали ее для своих целей, чуждых русскому национальному делу; не раз получались от союзных миссий такие заявления: «Сделайте то и то, так как наше правительство находит это необходимым для признания». Так было не раз с выпуском «либеральных, демократических» деклараций; хотя и не столь ясно, но такое же давление было при избрании неправильного операционного направления для главного удара на Пермь, Вятку, Котлас.
Но как бы то ни было, союзники фактически неофициально признавали новое правительство, помогали ему и желали удачи.
Русские армия и народ подчинились повсеместно, кроме Читы и стоявшего во главе ее атамана Семенова. Этот эпизод надо рассказать несколько подробнее, чтобы понять самое возникновение его, подкладку этого непризнания и неподчинения.
6
К тому, что сказано было об атамане Семенове, следует добавить, что между ним и адмиралом Колчаком были недоразумения еще в ту пору, когда адмирал был в Харбине, перед приездом в Омск, летом 1918 года. Эти недоразумения возникли из-за того, что адмирал потребовал тогда подчинения себе Маньчжурского отряда атамана Семенова, отряда, который был им сформирован совершенно самостоятельно, куда входили добровольцы, всецело преданные атаману и верившие в него. Последовал отказ, в ответ на что получилась угроза не давать в будущем отряду никаких снабжений. Затем на одной из станций, где одновременно оказались поезда адмирала и атамана, адъютант последнего напутал и не доложил ему; в результате вышла неловкость и обида в том, что атаман не явился к адмиралу.
Теперь после переворота 18 ноября 1918 года в Омске были получены сведения о том, что атаман Семенов не собирается признать адмирала Колчака как верховного правителя и главнокомандующего. Не знаю, какие были основания для такого заключения, но мне известно следующее: атаман Семенов не получил ключа к шифру между директорией, ее ставкой и Владивостоком. Когда произошел в Омске переворот, Чита не могла расшифровать телеграмм, видела в то же время, что между Владивостоком и Омском идет усиленный обмен ими. Наконец атаман Семенов получил короткую телеграмму без шифра, что директория смещена и власть единолично перешла в руки адмирала Колчака. Атаман Семенов запросил тогда подробности переворота, а также кто именно вручил адмиралу власть. Но в то же время, как мне рассказывал позднее сам атаман Семенов, дожидаясь ответа, он приказал заготовить и подписал телеграмму о признании власти адмирала Колчака, как верховного правителя. Но в Омске поспешили и сделали очень большую оплошность; атаман Семенов, не имея ответа на свой запрос и не успев отправить своей телеграммы о признании, получил по телеграфу же знаменитый и так нашумевший приказ № 61. Этот приказ гласил, что атаман Семенов единственный отказался признать верховного правителя, не подчинился ему и поэтому отрешается от всех должностей, как «изменник Родине».
Пусть каждый поставит себя на место атамана Семенова и ответит себе, что он испытал бы при подобных обстоятельствах. Офицер, который с первых дней большевизма начал против него борьбу и создал большой отряд из ничего, затем очистил целую область от красноармейских банд, установил порядок, начал раньше всех других получать поддержу от союзников, – такой офицер объявляется изменником. И главное в тот час, когда он готов все, сделанное им, принести, как составную часть целого Русского, и подчинить только что появившейся власти.
После приказа № 61 атаман Семенов отменил телеграмму о признании и вместо нее послал другую, что он готов был подчиниться, но теперь этого не сделает, так как считает себя, своих помощников и свой отряд незаслуженно оскорбленными и опозоренными. Действительно, офицеры и казаки всех частей Забайкалья были сильно возмущены приказом № 61 и волновались.
Загорелся костер чисто русской вражды и деления на два лагеря. Большие русские патриоты, единомышленники по убеждениям и действиям, разошлись и заняли непримиримую позицию. А тут нашлось немало досужих людей, готовых подкидывать дрова в огонь. Полетели доносы о задержанных якобы Читой поездах с военным снаряжением и боевыми припасами для армии, о случаях самоуправства. Люди, которым было выгодно и раньше очернение атамана Семенова, работали вовсю. Клевета шла главным образом из вражеского стана, от большевистских агентов и их сторонников; действовали ловко и скрытно, так что казалось, будто обвинения идут из нейтральных, непартийных источников и из союзных кругов.
Сначала в Омске решили заставить атамана Семенова подчиниться силой, открыв против него военные действия. Был сформирован отряд под командой генерала Волкова. Не успел последний доехать до Иркутска и приступить к выполнению плана, как японцы заявили, что они не могут допустить столкновения в Забайкалье и если Волков начнет военные действия против Семенова, то японцы оставляют за собою свободу действий и, вероятно, выступят, чтобы помочь Чите.
Совершенно неожиданный результат конфликта. Само собой разумеется, что на разрыв с японцами, одними из союзников, и на враждебные действия с ними пойти не могли; Омск отставил приказ о наступлении на Читу. Японское вмешательство как бы предупредило новое братское кровопролитие. Но после этого японцы продолжали вмешиваться в конфликт, а досужие люди, кому это было на руку, стали говорить, что даже они его создали, раздувают и поддерживают.
Одно из несчастий нашего лихолетья, и именно на белой, антибольшевицкой стороне, заключалось в так называемых иностранных ориентациях. Были: японская ориентация, английская, американская, появилась привезенная с Юга России германская ориентация. Не приходилось мне встречать в Белом движении ориентации на французов; слишком уж много с этой стороны было печальных фактов, отвергнувших совершенно симпатии русских людей и масс. Достаточно назвать одесскую эпопею, когда русская армия и целый большой город оказались в безвыходном положении, попали совсем неожиданно, в два дня, во власть большевиков, вследствие странных, если не сказать хуже, действий французского штаба в Одессе. Затем политика французов в Малороссии со стремлением создать самостийность Украины, рассказы о возмутительно скверных отношениях к русским беженцам и офицерам. Еще в Сибири это не так было заметно, а все русские, приезжавшие из Добровольческой армии и из Европы, не могли говорить о французах без пены у рта, – так переболело оскорбленное чувство.
Упоминая о каком-либо мало-мальски выдающемся русском человеке, начинали прямо с того, что «он такой-то ориентации». Редко приходилось встретить мнение, которому одному надлежало быть в эту пору, в годину народного испытания и святой борьбы за Русь. Только одна ориентация может быть у русских людей – чисто русская, ориентация на Россию – и должна быть у всех. Остальные отношения вытекают уже из нее; если иностранная нация желает искренне восстановления и возрождения России, – она наш друг; если она к тому же помогает нам в борьбе против большевиков, – она наш союзник. Так ясно и естественно.
Но на деле было иначе. Это коренная ошибка, происходящая от слишком мягкого и доверчивого русского характера да от старой привычки смотреть на Европу снизу вверх. Но и иностранные миссии старались немало над этим, чтобы навербовать побольше своих сторонников и ревниво смотря за их симпатиями.
После того как Омское правительство отказалось от плана подчинить Читу силой, начались переговоры. Атаман Семенов выставил одно условие: пусть будет отменен приказ № 61, и он всецело подчинится. Из Омска же шло требование сначала подчинение, а затем уже отмена приказа № 61. Оттуда были посланы в Забайкалье комиссии для выяснения, насколько справедливы обвинения в задержании атаманом поездов с военными грузами, и для проверки всей его деятельности. Комиссии долгое время сидели в Чите, были допущены к полному контролю и в результате выяснили, что все обвинения являлись выдумкой или клеветой.
Ездил в Читу генерал Иванов-Ринов, была телеграмма от атамана Дутова с просьбой кончить конфликт.
Но, к несчастью, долго еще тянулась эта история, отвлекая много внимания, людей и сил, тормозя невольно общую работу. Не раз делались верховному правителю представления от целого ряда лиц, от совещаний высших начальников о необходимости кончить дело примирением. Но переговоры затягивались и часто прерывались оттого, что японская миссия находила для себя возможным выступать и ставить условия; так ими указывалось, что необходимо при ликвидации конфликта сохранение за атаманом Семеновым всей власти в Забайкалье на правах командующего армией, они-де заинтересованы в этом, вследствие долгой и крупной помощи, оказанной ими за все время в этой области и материально, и военными действиями. Необходимо отметить, что части японской армии с ее традициями представляли лучшие и наиболее дисциплинированные среди иностранных войск в Сибири. И не раз они выполняли первое слово, сказанное в начале интервенции, об активной помощи. Кровь японских офицеров и солдат была пролита на полях Сибири вместе с русской армией; отношение японских войск к нашему населению было не только вполне лояльное, но отличалось предупредительностью и сочувствием. К несчастью, их дипломатия всех видов полна была такой же неясностью, запутанностью и перекрещивалась со скрытыми международными замыслами, которые и до сего времени подернуты дымкой двусмысленности.
Наконец в исходе зимы произошла отмена приказа № 61, конфликт был кончен и примирение состоялось. Но трещина осталась, и, как будет видно ниже, осталась она до самого конца.
7
Не все было благополучно и на остальном обширном пространстве Сибири. Партии социалистов-революционеров и меньшевиков ушли в подполье, спрятались, тщательно замаскировались, но не прекратили свою губительную работу. А где было можно, там они действовали и в открытую.
Таким обетованным местом для них являлся Владивосток, благодаря интернациональному характеру, приобретенному этим городом с 1918 года от массы наехавших туда интервентов. К декабрю 1918 года здесь были уже полностью все военные миссии, прибыли высокие иностранные комиссары, в Сибири сосредоточились войска японские, британские, американские, немного итальянских и чехи, а на рейде стояли военные суда всех наций. При этом чем дальше шли переговоры в Версале, тем неопределеннее и запутаннее было отношение здесь этой разношерстной массы. Как-то вышло, что войска бывших союзников, прибывшие в Сибирь, чтобы образовать общий с русскими фронт против немцев и большевиков, теперь на этот фронт не шли, – война с немцами была кончена, а «вмешиваться в наши внутренние дела» союзники не желали.
Вместе с тем во Владивостоке некоторыми из союзных представителей допускался прямой контроль именно над чисто внутренними распоряжениями русской власти, здесь как раз и было вмешательство в наши внутренние дела. Особенно отличались этим два лица одной из дружественных наций, генерал Грене и его начальник штаба полковник Робинсон. Так с их стороны последовал форменный протест, когда генерал Иванов-Ринов арестовал ряд вредных лиц, бывших в связи с большевиками[2] и ведших пропаганду среди населения, призывавших его открыто к восстанию против правительства. Господа Грене и Робинсон заявили, что они не могут допустить этого ареста и настаивают на освобождении, оставляя в противном случае за собою свободу действий. Затем с их стороны последовал новый протест, когда из Омска военный министр хотел сместить коменданта Владивостокской крепости полковника Бутенко, офицера в сущности неплохого, но впавшего слишком в сильную ориентацию на эту нацию и объединявшегося раньше с эсерами. Когда полковник Генерального штаба Чубаков, служивший в этой иностранной миссии и работавший одновременно в противоправительственных партиях, был вызван в Омск для отчета в своих действиях, то от генерала Гревса, представителя дружественной нации, последовал ряд телеграмм с отказом. В конце концов он потребовал гарантии личной безопасности Чубакова и непредания его суду. А после этого Чубаков перешел при первом удобном случае на сторону большевиков и в Красноярске вошел крупным лицом в Чрезвычайную следственную комиссию (большевистская Чека).
Можно было бы написать несколько томов, приводя все случаи подобного «невмешательства», – так их было много. Были даже документально установлены сношения с американской военной миссией некоторых шаек, восстававших с оружием в руках в районе Сучанских копей и бывших фактическими большевиками.
Много, может быть и невольного, зла причинили России эти представители интервенции, Грене и Робинсон, но немало зла причинено ими и своему отечеству; ибо по их действиям судили русский народ и общество о всей стране их. А в связи с другими агентами и мелкими представителями ее в Сибири, извращенно представлявшими здесь интересы своей страны, мнение о ней среди русских составилось крайне отрицательное.
Это отразилось и на местной прессе; газеты день ото дня все едче и остроумнее писали о действиях этих интервентов и об их хозяйничании на Дальнем Востоке. И вот в один день начальник миссии Грене приехал к генералу Иванову-Ринову, как помощнику Хорвата, и просил, нельзя ли подействовать и надавить на газеты для прекращения неприятных фельетонов. Это уж совсем не вязалось с его прежними протестами, что он и его войска прибыли во Владивосток защищать всяческие свободы. Но надо оговориться, что эти газеты были правого лагеря.
Нет сомнения, что многие из этих господ действовали по незнанию и полному непониманию того, что происходило в России, ни наших настроений, ни верований и надежд; но был, несомненно, и умышленный, организованный вред.
В декабре, будучи по делам во Владивостоке, я заехал отдать визит полковнику Робинсону, посетившему на Русском острове мою военную инструкторскую школу. Робинсон вышел, радостно улыбаясь во всю ширину лица, и начал меня поздравлять; когда, видимо, на моем лице отразилось недоумение, он быстро скрылся и вернулся с переводчиком. Начался разговор.
– Поздравляю вас, генерал, скоро будет конец вашей Гражданской войне. Мы получили известия из Версаля.
– ?!
– Союзники решили пригласить на Принцевы острова все русские партии: от большевиков, от генерала Деникина, от адмирала Колчака, от Юденича и из Архангельска, а также и от народа.
– С какой целью?
– Чтобы вы могли сговориться и кончить войну.
Долго мне пришлось доказывать полковнику Робинсону всю нелепость этого плана и его неосуществимость; почти полтора часа затянулся мой визит, а в конце его почтенный полковник Робинсон с ясной улыбкой заявил мне:
– Нет, все это не так. Вот послушайте, что мне пишет миссис Робинсон из дому о том, как там у нас говорят ваши русские! – И он вытащил из письменного стола пачку писем своей жены. – А миссис Робинсон у нас пишет даже в газетах!
Аргумент такой веский, что отбил у меня охоту говорить с ним когда-либо впредь.
Весьма характерный случай среди этого разговора. Зная несколько английский язык, я следил внимательно за словами Робинсона и за тем, как переводчик переводил ему мои мысли. В одном месте почти в начале разговора, когда я разъяснял Робинсону задачи нашей армии и всего дела борьбы, я обнаружил, что переводчик отклонился в сторону и плел уже от себя. Я остановил его и по-английски сказал, что моя мысль была совсем не та. Переводчик смутился и задал мне невольный вопрос:
– А вы разве говорите по-английски?
Он тоже был русский, но Моисеева закона – из Польского края либо из Шклова. И большинство переводчиков в Сибири были из того же изгнанного племени. Как они путали и перевирали, часто явно умышленно! Один английский офицер, капитан Стевини, отлично говорящий по-русски, – он воспитывался в Москве, – передавал мне такой факт. Только что пришел на одну большую сибирскую станцию эшелон войск одной державы; их офицеры встречены нашими; радушные рукопожатия, улыбки, и начинается разговор при помощи переводчика. Наши говорят, он переводит по-английски, – те ответят или зададут вопрос, он к нашим обращается по-русски.
