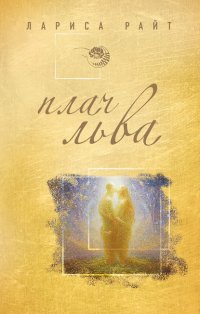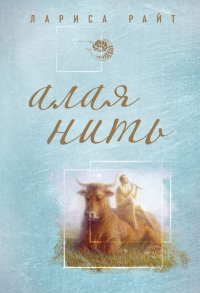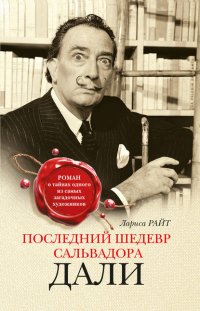
Читать онлайн Последний шедевр Сальвадора Дали бесплатно
- Все книги автора: Лариса Райт
© Райтбурд Л., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
«Меня зовут Сальвадором – Спасителем – в знак того, что во времена угрожающей техники и процветания посредственности, которые нам выпала честь претерпевать, я призван спасти искусство от пустоты».
Глава 1
Каталония, весна 1970 г.
Утреннее солнце заполнило бедную комнатушку, и при ярком веселом свете нищенская обстановка показалась еще более убогой и жалкой. Пыльный, ветхий комод будто сник под метким прицелом лучей, потрепанный палас съежился, фотографии в самодельных рамках навевали печаль, хотя улыбающиеся на снимках люди, казалось бы, соответствовали хорошей погоде.
Анна резко села в постели, край одеяла, вывалившийся из разорванного пододеяльника, задел одну из рамок на поцарапанном, измазанном краской столе, и она полетела на пол. Стекло разбилось. Анна нехотя нагнулась, выудила из осколков фотографию и посмотрела на нее почти с отвращением. Разбилась – и хорошо. Она уже и не помнит, когда это было. Да и какая разница, если этого уже никогда не случится.
Мать, отец и она – Анна – стояли, обнявшись, на соборной лестнице и беззаботно улыбались такому же яркому, как сегодня, весеннему солнцу. Мать – стройная, хорошенькая, в длинном светлом платье с рукавами-фонариками, в туфлях на невысоком каблуке, с небрежно накинутой на собранные в строгий пучок волосы кружевной косынкой и довольно большой плетеной сумкой-корзиной в руках выглядела как барышня, сошедшая с полотна Ренуара. Отец – высокий, широкоплечий, облаченный в свой единственный, но зато по-настоящему парадный костюм с отпаренными лацканами и блестящими пуговицами пиджака и восхитительно ровными стрелками брюк, с задорным взглядом и открытой белоснежной улыбкой одной рукой заботливо поддерживал под локоток жену, другой крепко прижимал к себе дочь. Дочь в объектив не смотрела. Девочка задрала голову с копной веселых темных кудряшек, выбивающихся из короткой косы с огромным бантом, вверх и любовалась родителями. На девочке было длинное белое платье, туфли на малюсеньком, но все же каблучке, а на туфлях – серебристые пряжки, увитые гирляндами сверкающих бусинок. Ради этих туфелек мать сдала в ломбард старинную брошь, доставшуюся ей от бабушки, – свое единственное, кроме тонюсенького обручального кольца, украшение. Анна бы никогда не узнала, если бы не подслушала, как мама пожаловалась подруге, что, если бы не причастие дочери, она бы никогда… Ей очень хотелось возненавидеть туфли и отказаться от них. Но увы! Они были настолько прекрасны и сказочно невероятны среди всей самой обычной и даже довольно бедной одежды в ее шкафу, что расстаться с ними было выше ее сил. Анна нашептала отцу про брошь. Он ничего не ответил, только едва наметившаяся морщинка на его лбу стала на долю секунды глубже и выразительнее.
А потом настал тот День первого причастия. Анна шла к собору вместе с другими такими же гордыми и счастливыми жиронскими мальчишками и девчонками и думала о том, что таких изумительно сверкающих пряжек нет ни у кого. А когда все закончилось и они вышли из церкви, и фотограф уже произнес сакраментальное: «Внимание! Снимаю!» – отец вдруг, извиняясь, вскинул вверх руку, попросил подождать и, будто фокусник, выудил из кармана ту самую старинную брошь! Он приколол ее на платье матери и замер, поддерживая жену и обнимая дочь. А Анна любовалась родителями. В глазах изумленной, пораженной, восхищенной матери застыл немой вопрос: «Как?» С лица влюбленного отца не сходила гордость и самодовольство. А десятилетняя Анна просто улыбалась, глядя на них и нисколько не сомневаясь в том, что так будет всегда.
Прошло всего восемь лет, а кажется, что целая вечность. По ощущениям Анны все это было в прошлой жизни. Она брезгливо откинула снимок, стараясь выбросить из головы счастливые картины прошлого. Все это как будто не про нее. Давно не про нее. Вот как раз эти самые восемь лет не про нее.
Отца сократили на фабрике. Это стало ударом. На фоне постоянных разговоров о наконец растущей экономике, которые слышались повсюду: из радиоприемников, в кафе, на рынке, – на фоне кричащих об экономическом подъеме заголовков газет и журналов потеря работы угнетала еще больше. Мать снова заложила брошь (о выкупе уже не было речи) и набрала вдвое больше заказов. Мать была неплохой портнихой и копеечку зарабатывала всегда. Отец раньше гордился этим, всегда с упоением облачался в тот самый парадный костюм с блестящими пуговицами и на каждом шагу рассказывал о том, что это творение его ненаглядной Елены. А теперь от него даже пахло раздражением от собственной несостоятельности из-за постоянно сгорбленной за швейной машинкой спины жены. Он все больше молчал, реже улыбался, замыкался в себе и лежал на диване, отвернувшись к стене.
– Папочка болен? – Анна почему-то сторонилась отца, который теперь казался угрюмым и озлобленным.
– Немного, солнышко.
– А что у него болит?
– Душа.
– Понятно. – Анна шла в свою комнату, брала кисти и краски и рисовала больную папину душу – темный вихрь черно-красной бури, поднимающейся из пепла разбитых иллюзий и уходящей в бездну темно-зеленой болотной тоски. Мать пугали эти картины.
– Что это за полосы и круги? Нарисовала бы лучше что-то понятное. Яблоки, например, или цветы. И зачем, вообще, это рисование. Иди лучше – я тебя шить научу.
Швеи из Анны не получилось. Она только больно колола руки. Слез было много – толку мало, и мать, в конце концов, оставила ее в покое. Их альянс рухнул. Мать теперь коротала время с машинкой, отец с диваном, Анна за самодельным мольбертом, который отец смастерил для нее несколько лет назад. Все свободное время Анна проводила в художественной школе, вполуха выслушивая недовольство матери:
– Кому нужна эта мазня? И зачем только я отвела тебя туда? Художник – разве профессия? Кого она кормит?
– Сальвадора!
– Анна! Не смеши меня! Где ты и где Дали?
Анна не смела перечить, уходила от конфликта, но все же шептала себе под нос:
– По крайней мере, мы оба каталонцы.
Примерно через год отец устроился на новую фабрику, но радости матери это не принесло. Новое место – новые знакомые, которые были поглощены идеей смещения Франко. Отец, наоборот, воспрянул духом, расправил плечи, заговорил лозунгами и уверовал в светлое будущее. Мать же, напротив, еще больше согнулась и тихонько нашептывала, что он закончит свои дни в тюрьме.
– Не каркай! – возмущался отец и миролюбиво просил родить ему второго ребенка.
– Одного еле тянем, – вздыхала мать и отводила глаза. Второго ребенка она тоже хотела: непременно мальчика, и чтобы такой же высокий, и умный, и, конечно, чтобы потом с образованием, чтобы не так, как родители. Ну и не как сестрица, конечно, возомнившая себя художником. Какой художник в Жироне, где, кроме художественной школы, и выучиться дальше негде? Мальчика хотелось отчаянно, но решиться было невероятно сложно. Матери казалось, что отца если не посадят, то непременно снова уволят за радикальные взгляды и ей придется одной тянуть уже не одного ребенка, а двух. А двое детей во времена Франко для испанца, что и говорить, это настоящая роскошь, а для ее семьи – роскошь непозволительная. И все-таки материнский инстинкт взял верх. Анне было почти пятнадцать, когда ей сообщили о скором пополнении в семье. Она, конечно, обрадовалась. Не то чтобы она мечтала о братишке или сестренке – она мечтала рисовать. И ей казалось, что мать с появлением малыша смирится и отпустит ее, Анну, в Академию художеств в Мадрид. Ненадолго в доме воцарилась атмосфера счастливого ожидания. Семейные ужины снова проходили идиллически спокойно и тихо. Не было ни революционных лозунгов отца, ни нервных слез матери, ни желания Анны скрыться в своей комнате и выплеснуть смятение на холсте. Родители постоянно обсуждали мужские имена, потому что «девочка просто не может появиться, непременно будет мальчик, уж мы-то знаем». Анне было немного обидно, ей казалось, что и она по ошибке заняла место какого-то мальчика, которого мать хотела с той же невероятной силой, но не случилось. Она рискнула высказать свои опасения вслух, и, чтобы избавить ее от волнений, родители даже согласились на выбранное ею для брата имя, а мать сказала, пересилив себя:
– В конце концов, если все-таки снова окажется девочка, не надо будет беспокоиться об имени. Алехандро, Алехандра – какая разница!
Родился Алехандро. У Алехандро нашли муковисцидоз. Отец как-то сразу сник, он избегал подходить к тяжело дышащему ребенку и заранее настроился на скорый конец. Мать же, напротив, словно ополоумела в своем желании перехитрить судьбу. С горящими глазами, нервно перебирая пеленки и распашонки, она внушала Анне:
– Врачи говорят, при хорошем уходе он может дожить и до сорока! Только надо очень много белка, и витаминов, и ингаляции, да, непременно ингаляции, и еще, конечно, антибиотики, потому что воспаления легких будут почти постоянно. И физкультура, и массаж. Конечно, все это так дорого. Но государство помогает, и мы же работаем, и мы еще совсем не старые, мы поднимем мальчика. А медицина ведь идет вперед. Кто знает, что будет лет через двадцать, возможно, найдут лекарство. Уже сейчас говорят о будущей трансплантации легких, представляешь?
Анна не представляла. В ту ночь ей приснилась картина: пара легких, опутанных ядовито-зеленой паутиной, вырывалась из грудины. Одно стремилось вниз, где бушевало намеревающееся поглотить его пламя, другое будто хотело воспарить и исчезнуть в надвигающейся на него сверху акульей пасти. А вокруг этой ужасающей сумятицы летали мухи, копошились змеи и прыгали кузнечики. В правом нижнем углу стоял автограф, который Анна не могла не узнать. Подпись «Дали» была написана так четко и читалась так явно, что сон отступил. Нет-нет, Анна замотала головой. Гений не мог нарисовать кузнечиков. Это одна из его фобий, она сама читала интервью, как в школе, зная о его страхе, одноклассники издевались над Сальвадором и подкладывали ему за шиворот ненавистных кузнечиков. Дали не стал бы их рисовать. Это ее – Анны – сюрреализм. Девочка услышала за тонкой стеной гулкий, хриплый кашель младенца и усмехнулась. О нет! Это ее реализм. Она подошла к холсту и написала свое сновидение. Отец будет работать, мать заниматься братом, и, может быть, они все же отпустят Анну в Мадрид. В конце концов, они не так уж возражали против художественной школы. Им нравилось слушать, что у дочери есть талант.
– Пусть ходит. Тем более уроки бесплатны – так говорили родители. И хотя Анна помнила, что профессию художника они профессией не считали, она очень надеялась, что сумеет убедить их, используя в качестве аргумента бесплатное обучение. «В академию можно пройти по конкурсу, а на другие факультеты мне не попасть – я всю жизнь рисовала и больше ничего не умею, да и не хочу уметь» – такой была заготовленная ею фраза, которую она намеревалась произнести через два года.
Через два года, аккурат перед школьным выпускным Анны, отец получил производственную травму: необратимый перелом позвоночника. Он снова лежал на диване, только отвернуться уже не мог. Он вообще ничего не мог. Только плакать, когда жена и дочь переворачивали его обездвиженное тело, пытаясь избежать пролежней. В тот день, когда отца выписали из больницы на «доживание», Анна сняла с мольберта картину, над которой трудилась два месяца. Это было изображение церкви в Фигерасе. Она намеревалась отправить работу в приемную комиссию Мадрида – туда требовался городской пейзаж. Ей оставалось съездить в Фигерас раза три-четыре, и пейзаж был бы закончен. Анна убрала картину на шкаф. Она убрала туда все картины, кисти и краски. Все! Не до живописи! Не до мечты! Не до жизни!
– Анна, подумай! – Ее пожилая учительница в художественной школе едва сдерживала слезы. – Разве эти руки, – она сжимала длинные, тонкие пальцы девушки, – созданы для работы на заводе? Твои кисти рождены для создания картин!
– Я уже все решила, – упрямо твердила Анна. – Нам нужны деньги, а на завод нужны люди.
– Анна, это неправильно. То, что случилось в твоей семье, конечно, ужасно, но жертвовать своей мечтой – это неправильно.
Если бы Анна видела себя со стороны в тот момент, она бы заметила, что всего на мгновение на ее лбу промелькнула такая же морщинка, как была у отца, когда он услышал о заложенной броши.
– Время покажет, – откликнулась Анна.
Но время будто остановилось. Дни проходили, одинаково однообразные, судьба словно издевалась над Анной и ее семьей. Девушка работала на фабрике укладчицей керамической плитки. Иногда она заглядывала в художественный цех и, затаив дыхание, несколько секунд наблюдала за работой художников. Они вручную наносили рисунок, придуманный важным и строгим дизайнером, на дорогую плитку. О, если бы только Анне выпал шанс стать (нет, конечно, не дизайнером, об этом она и не мечтала) хотя бы одной из этих художниц, что часами сидели на одном месте и торжественно выписывали завитки, лепестки и веточки. Минимум творчества, минимум фантазии, но все же они рисовали. А Анна приходила домой полумертвая, а нужно было еще посидеть с отцом, вымыть его, накормить, мать ведь тоже совсем без сил – разрывается целый день между двумя инвалидами. Поиграть с Алехандро – малыш ни в чем не виноват, он всего лишь ребенок, которому нужно внимание. Так говорила мать, и Анна делала то, что от нее ждали. Она уже забыла, что сама совсем недавно была ребенком со своими заоблачными мечтами и радужными планами. Ей было бы легче, если бы мать проявила сочувствие, жалость или хотя бы поинтересовалась тем, что реально хотела от жизни ее дочь. Но матери казалось, что ни у кого на свете не может быть других задач, кроме как продлевать жизнь ее драгоценному сыну. И Анна продлевала смиренно, не ропща.
Продлевала, сколько могла. Два года. Два долгих года пыли, грязи и тяжести. Два тяжелейших года постоянного кашля, ингаляций, таблеток, уколов. Два года материнской надежды и почти безумной веры. Они закончились одним днем. Анна вернулась с работы и по скупой слезе, скатившейся по молчаливой щеке отца, поняла, что все кончено. Матери дома не было. И Анна даже обрадовалась, что какое-то время можно не плакать и не стенать. Плакать совсем не хотелось. Она казалась самой себе противной, омерзительной, человеком с уродливой, немилосердной душой. Ведь чувство огромного облегчения и пьянящей свободы обуревали ее гораздо больше тоскливой жалости к умершему брату. «Ему уже все равно, – стучало в ее голове, – а я буду жить, жить, жить».
В замке повернулся ключ. Анна хотела броситься к матери, заключить ту в объятия, поплакать друг у друга на плече, наконец, поговорить о том, как все это было неимоверно тяжело и, возможно, даже лучше, что то, что случилось, случилось раньше, чем могло бы. Но мать опередила ее:
– Довольна?
Поседевшие немытые пряди висели сосульками вдоль лица. Глаза сверлили Анну тяжелым, почти умалишенным взглядом.
– Я не… – Анна закрыла лицо ладонью, словно пыталась защититься от этих глаз.
– Довольна! – Мать затрясла головой и захохотала истерическим смехом, больше похожим на плач. – Ты должна быть довольна. Ты ведь сразу мечтала об этом. Думаешь, я не видела? Думаешь, не понимала?
– Мама! Что ты такое говоришь?! Мне просто было тяжело, вот и все.
– Тяжело?! Да что ты знаешь о том, что такое тяжело?! Это у меня умер сын! У меня! У меня! – Мать прошла мимо Анны. – Это ты отняла его! – Анна не смела больше произнести ни слова. Молча стояла и думала об отце, который вынужден беспомощно слушать все это и мучиться от невозможности что-либо изменить. – Считаешь, я не замечала, с какой тоской ты посматриваешь на свой дурацкий шкаф? Я давно хотела выкинуть все это художество – только пыль собирает, все руки не доходили, но ничего, я с этим разберусь, я еще…
Дальше Анна слушать не стала. Ушла в свою комнату, встала на стул, сняла со шкафа кисти, краски и холст с изображением церкви, любовно провела рукой по полотну, прошептала:
– Я дорисую тебя, завтра же.
* * *
Анна собиралась сдержать свое обещание. Она осторожно положила снимок, который все еще держала в руках, на комод. «Все-таки хорошо, что фото не пострадало». Да, она плохо помнит те счастливые времена. Но ведь существует фотография, а значит, и счастливое детство Анны – вовсе не мираж. Она прислушалась к тишине дома. Единственным звуком, что доносился из соседней комнаты, был мерный и тягучий храп отца. Девушка взглянула на простенький будильник у изголовья кровати. Восьмой час. Она проспала почти десять часов. Когда такое было в последний раз? Ложилась поздно, вставала рано, а по ночам то и дело просыпалась от натужного лающего кашля брата. Наверное, и отец все еще спал именно потому, что впервые за два года никто и ничто не тревожили его ночного сна.
Анна выглянула из своей комнаты. Одеяло на кровати отца вздымалось и опускалось под аккомпанемент свистящих хрипов. Постель матери осталась нетронутой.
– Мам? – Анна на цыпочках пробежала через комнату и заглянула в маленькую кухоньку. Она был пуста. Девушка вспыхнула и закусила губу от злости. Ну конечно! Мать решила погрязнуть в горе: отправилась бродить по Жироне, или проливать слезы в больнице, или ставить свечки в соборе. Да где бы она ни была – не важно! Важно то, что ее нет в доме. Отличный способ не дать Анне уйти. Мать прекрасно знает, что Анна не решится бросить отца. Такое своеобразное наказание: хочешь оставить завод – сиди дома. Разве не видишь, у нас тут беспомощный человек, а твое дело – забота о нем. Анна скривилась. Ну уж нет! Бросить она никого не бросит, но оставить на какое-то время – почему бы и нет? «Хватит жить чужой жизнью! – повторила она слова своего мастера. – Пора жить своей!»
Через полчаса Анна уже спешила к вокзалу. Отец был вымыт и накормлен. Рядом с его кроватью на столике лежали свежие газеты, стояла бутылка воды, несколько бутербродов на тарелке были накрыты салфеткой, радиоприемник тихонько напевал голосом Рафаэля. Душа Анны была спокойна. Ей не в чем было себя упрекнуть. Разве только в том, что спустя всего несколько часов после смерти брата она, почти пританцовывая, шагала по улице и тоже тихонько напевала себе под нос:
– Сердце, не может быть! Ведь не хочешь меня ты убить![1]
Анна и сама не понимала, с чего к ней привязалась эта романтическая мелодия о неразделенной любви. Скорее всего, это была просто тщетная попытка успокоиться, чтобы сердце стучало не так сильно. Но оно прыгало, скакало, трепыхалось и пело. Пело, когда Анна дрожащим голосом попросила в кассе билет до Фигераса, пело, когда она вбежала на перрон, пело, когда села в вагон, пело, когда поезд тронулся и, набирая скорость, стал уносить ее все дальше от Жироны туда, где каким-то шестым чувством девушка надеялась встретить чудо.
Анна смотрела в окно на стремительно меняющийся пейзаж. Довольно пыльные, жухлые от солнца и какие-то безрадостные окрестности Жироны вскоре сменились яркими, плотными зелеными красками почти французской Каталонии. Глядя на эту удивительно вкусную, притягательную, словно нереальную природу, девушка неожиданно вспомнила картину «Испания»[2] своего обожаемого Дали. Да, художник изобразил страну, страдающую от гражданской войны. Но тем не менее краски, которые он использовал на холсте, были обычны и для облика современной Испании: растянутая испанская равнина цвета кофе с молоком – смешение грязи, пыли и хаоса. На линии горизонта небо. Но не яркое и не синее, а какое-то тусклое, сумрачное, будто неживое и унылое от того, что приходится переживать стране. А в центре полотна – сама страдающая Испания в образе странной тумбы с открытым ящиком, из которого свисает окровавленная тряпка, и обнаженная женская рука, словно выросшая из лошадиной головы и фигур других зверей и военных, беспорядочно снующих по картине.
Испания давно не воюет, но так ли уж она изменилась? Для Анны и вовсе нет. Она и сама напоминала себе этот образ серости и тусклости, тоскливый и безрадостный.
Под Фигерасом стоял утренний туман – легкая, нежная дымка, за которой угадывались и яркость солнца, и глубокая синь небес, и сочный аромат повсюду бушующей зелени, и шелест живых горных ручьев. Такую Испанию Дали не писал. Он предпочитал жить в ней. А писать? Зачем? Идиллия – сюжет для умов ограниченных. Что ж, Анна не претендует на гениальность. Она счастлива и тем, что дышит одним воздухом с Сальвадором. И с удовольствием напишет ту Испанию, в которой живет маэстро.
Фигерас встретил девушку теплыми лучами весеннего солнца и ароматом свежеиспеченных круассанов (давала о себе знать близость французской границы). Анна легко подхватила мольберт и тубу с кистями и красками и быстро зашагала к церкви Святого Петра. За два года пейзаж не поменялся. Анна физически чувствовала измождение голодного человека, которому слишком долго не давали есть, а теперь подвели к столу, уставленному яствами, и предложили сделать выбор. С чего же начать? Писать глубокое ясное небо или разобраться с неоконченным западным крылом церкви? Или, может быть, добавить на холст этого рыжего кота, что нахально умывается прямо на столике таверны? Да, почему бы и нет? Отличный намек: обыденное рядом с божественным. И эту пару старичков, которые пьют утренний кофе и улыбаются солнцу, уже отвоевавшему себе кусок площади. Надо поторопиться. Часа через три оно заполнит все пространство, свет поменяется, да и работать станет слишком жарко.
Анна решила начать с крыла церкви. Она боялась, что могла потерять дар точного воспроизведения. Кто знает, не замыливается ли глаз, не путаются ли руки после многомесячного бездействия. Девушка начала работу именно так, как кормят человека, который долгое время обходился без пищи. Неторопливо, маленькими мазками, останавливаясь, присматриваясь, ощущая дивный вкус каждого штриха, Анна наносила на холст каменные очертания церкви. Как всякий человек, увлеченный своей работой, она не замечала ничего вокруг. Но не услышать этот возглас было невозможно. Сначала слева что-то стукнуло, затем раздался громкий возмущенный голос:
– Манипулировать! Кем? Мной? Непозволительно, возмутительно и крайне опрометчиво! Что они себе возомнили?!
Анна даже не поняла, что привлекло ее внимание. Эти слова, дошедшие до сознания, или то, что вся площадь разом замерла и обернулась в направлении голоса. Девушка тоже посмотрела в ту сторону и застыла в немом изумлении. Нет, ничего слишком эпатажного в громко говорившем человеке сегодня не было. Обычный темный костюм. Разве что брюки чрезмерно заужены и галстук выбран нарочито яркий, чтобы его отовсюду было видно. Длинноватые до плеч волосы тщательно зачесаны назад и уложены гелем, изящная трость возмущенно постукивает рядом с начищенными до блеска дорогими туфлями. Видимо, этой тростью ее владелец и стукнул по каменной стене разрушенного театра. Практически рядовой, хорошо обеспеченный испанец. Пусть их не так уж и много, таких богачей, по нынешним временам, но они есть. И наверняка носят дорогие туфли, франтоватые пиджаки, яркие галстуки и отутюженные дудочки. Но этого гражданина нельзя было спутать ни с одним из них. Его узнала не только Анна. Вся площадь сверлила его взглядами, готовилась приподнять шляпу или вежливо поклониться в приветствии. Эти глаза слегка навыкате, эти лихо закрученные вверх длиннющие усы… Он говорил, что отрезает кончики, а потом снова приклеивает их медом. Усы растут, лихо закручиваясь вверх, и делают внешность своего обладателя неповторимой и легко узнаваемой везде.
– Сеньор Дали! – Арка разрушенного театра словно завибрировала от громкого голоса, и оттуда выбежал запыхавшийся человек. – Сальвадор! – Он догнал известного художника и почти решился дотронуться до его локтя, но вовремя одумался. Рука застыла в воздухе, а слова в горле. Он так и стоял рядом с человеком, приковавшим к себе всеобщее внимание, и твердил, как заведенный:
– Сеньор Дали, Сальвадор!
Художник нетерпеливо ждал продолжения, постукивая своей тростью, и, так и не дождавшись, шутливо поклонился то ли своему собеседнику, то ли благодарным зрителям и громко отрекомендовался:
– Сальвадор Доме́нек Фелип Жасинт Дали и Доме́нек, маркиз де Дали де Пу́боль.
– Неееет, – простонала Анна слишком громко, и художник обернулся к ней, иронично подняв бровь. Он щелкнул туфлями, склонил голову и подтвердил, усмехнувшись:
– Собственной персоной.
– Не может быть! – Это Анна уже произнесла еле различимым шепотом. Губы слиплись, в горле пересохло, девушке показалось, что даже церковь на холсте, а может, и на площади, покосилась от удивления. – Сальвадор Дали! – Анна сжала кисть, которую держала в руке так, что костяшки пальцев побелели, ногти до боли впились в ладонь.
Если разобраться, эта встреча была не такой уж невозможной. В конце концов, Фигерас – родной город художника. Здесь он родился, вырос, здесь жил его отец, наверное, живет семья сестры. Да и у самого Дали вполне может быть здесь квартира или даже дом. Хотя, насколько Анна помнила, в газетах писали, что он построил замок для своей жены в Пуболе. Возможно, там они и живут. Или, как раньше, в Порт-Льигат. Как бы то ни было, но все эти места совсем недалеко от Фигераса. Дали – свободный человек, гораздо более свободный, чем другие. И уж точно может себе позволить оказаться там, где ему заблагорассудится. Наверное, если бы в прошлом году объявили, что Армстронг высадился на Луну вместе с известным каталонцем, Анна была бы поражена меньше. Хотя, конечно, само по себе это предположение невероятно и совсем не в духе художника. Дали очень трепетно относится к своему здоровью, к вопросам безопасности и самосохранения. Он вполне мог решить, что космос кишит неизведанными бактериями. Но если бы его уговорили надеть скафандр и объяснили бы, что полет станет самым грандиозным событием в истории человечества (а как же может столь грандиозное событие обойтись без самого Дали?), то король эпатажа мог бы и воспользоваться предложением для очередного головокружительного выхода. Но на Луну художник не летал. Зато стоял здесь, в центре Фигераса, в нескольких шагах от Анны и ее мольберта, небрежно опирался на трость и смотрел на своего спутника с выражением крайнего неудовольствия. И эта неожиданная близость гения, это прекрасное мгновение, о котором Анна не могла грезить даже в самых смелых своих мечтах, казалось настолько нереальным, что девушке пришлось даже несколько раз закрыть и открыть глаза и больно ущипнуть себя за руку, чтобы поверить: это не сон и не мираж.
Произведя должный эффект, художник забыл об окружающем мире и целиком обратил внимание на остановившего его мужчину. Тот что-то тихо, торопливо говорил Дали. Даже на расстоянии Анне было видно, как волнуется этот пожилой, довольно полный человек: на лбу его выступила испарина, лицо покраснело, руки непрерывно двигались в каком-то безудержном танце, призванном убедить художника в правоте собеседника. Слов было не разобрать, зато Анна заметила, как одна из танцующих рук задела кисть Дали, и тот тут же брезгливо дернулся, достал из кармана белоснежный платок и торопливо вытер ладонь (художник испытывал патологический страх перед микробами). Однако собеседник художника ничего не заметил и продолжал засыпать того неведомыми аргументами. Анна понимала, что поступает некрасиво, но не могла себя заставить отвести взгляд и неотрывно следила за происходящим. Ей не было видно лица художника, но почему-то казалось, что тот слушает невнимательно и даже пренебрежительно. Наверное, она была права, потому что очень скоро Дали взмахнул руками, будто пытался оттолкнуть от себя мужчину, и сказал довольно резко и громко:
– Это возмутительно! Они хотят невозможного! Никогда! Ты слышишь?! Этого не будет никогда!
Собеседнику Дали, очевидно, надоели уговоры, он тоже перешел на повышенные тона и на всю площадь продекламировал по слогам:
– По-ду-май, Саль-ва-дор! Ты шел к э-то-му де-сять лет. Бу-дет о-бид-но, ес-ли…
– Прочь! – яростно завизжал Дали и махнул тростью, едва не задев спутника. Мужчина отшатнулся и побледнел. Потом взял себя в руки и, коротко кивнув: «Как угодно» – круто развернулся и зашагал обратно к театру. Через несколько секунд он уже скрылся за каменными развалинами. Художник остался один.
На площади было полно народу. Одиннадцать часов – время кофе для всей Испании. А уж при хорошей погоде столики в уличных кафе в это время никогда не будут пустовать. Даже нахальному рыжему коту пришлось уступить свое место любителям волшебного напитка. Таинственная утренняя тишина сменилась вкусными запахами, громкими звуками, торопливым настроением. Городок ожил, заспешил, засуетился, и в этой короткой паузе за обшарпанными деревянными столами под лучами весеннего солнца никому не было никакого дела до худого человека, одиноко стоявшего на площади. Он растерянно оглядывался по сторонам, будто искал утешения. Анна почувствовала, как в душе разливается жалость к художнику. Как правило, большинство известных личностей тяготит невнимание к их нескромным персонам, а уж Дали такое поведение публики должно было пугать, раздражать и просто приводить в ярость. Он оглядывался по сторонам с неудовлетворением хищника, упустившего добычу. Его напряженный взгляд натолкнулся на жалостливые глаза Анны. Художник двинулся в сторону девушки. Сердце ее заколотилось. Кровь прилила к щекам. «Господи, помоги! Что же делать?» Анна повернулась к мольберту и принялась наносить на холст беспорядочные мазки. При этом она понимала, что рискует испортить пейзаж, но не могла заставить свою руку остановиться.
– Одиннадцать, – раздалось за ее спиной через мгновение. Анна не решилась обернуться, и художник продолжил:
– Работать в это время преступление.
– Я… я… – нерешительно проблеяла девушка, – знаю.
Она взяла себя в руки и, обернувшись к художнику, пояснила:
– Через час из-за солнца изменится свет, и я не успею закончить.
– Значит, закончите в другой раз, – поморщился Дали. – Время пить кофе. А у вас для этого самая подходящая компания. – Художник наклонил голову, подтверждая приглашение.
«Даже если я завтра умру, – внезапно мелькнуло в голове Анны, – жизнь прожита не зря». Трясущимися руками она сложила мольберт и, не в силах вымолвить ни слова, уставилась на Дали, нерешительно кивнув в сторону полной таверны.
– Пфф. – Дали фыркнул в усы. – Дали?! Сюда?! Пойдемте за мной и поторопитесь. Я крайне огорчен и раздражен. Да что там говорить: я вне себя! И мне просто необходимо выговориться. К тому же, я смотрю, вы кое-что смыслите в живописи… Значит, гений Дали вам знаком и вы просто обязаны понять его.
Анна слышала о привычке художника говорить о себе в третьем лице. И теперь она удивлялась тому, как органично это звучит. Совсем не режет слух и не вызывает отторжения. Как будто так и надо. Действительно ведь – скажешь, что ты гений, и немедля вызовешь неудовольствие и скепсис окружающих. А «Дали – гений» – это уже аксиома, не вызывающая сомнений.
Художник привел ее в ресторан отеля «Дюран».
– Здесь лучшая винная карта в городе, – хвастливо объявил Дали, распахивая дверь перед Анной. В одиннадцать, милочка, совсем не обязательно накачиваться кофе. Вполне можно позволить себе пропустить стаканчик. Выбирайте столик. Только вон тот у винных бочек не занимайте. Это территория Гала́, – в голосе послышалось придыхание, взгляд посветлел, – а она неприкосновенна.
– Может быть, тут? – Анна, едва дыша, указала на первый же столик у окна. Она не знала, как сделать и шаг в этом заведении: белоснежные скатерти, тяжелые подвесные люстры, стулья, больше напоминающие троны, стены, усыпанные керамическими тарелками. Разве что заполняющие пространство бочки с вином позволяли немного расслабиться и говорили о том, что она не на королевском приеме, а всего лишь в ресторане. Пусть и в таком, в каком никогда не была, но никогда не говори никогда. «Стоп! Как это не на приеме? Она на приеме у маэстро Дали. Ей выпало такое счастье, а она стоит и рассматривает ресторан. Да какая разница, куда ей сказали прийти и сесть, если сказал это сам Дали. А ей еще и выбрать предложили».
К ним уже спешил официант, улыбаясь и раскланиваясь. Спутница Дали если и вызвала у него удивление, то профессионализм ничем его не выдал.
– Меню? – Он вежливо поклонился.
– Мне только кофе, – испугалась Анна.
– Попробуй консоме. – Дали легко перешел на ты. – Гала его обожает.
– Я не голодна. – Анна старалась успокоить свои ноги, ходившие ходуном под столом.
– Как хочешь. Потом передумаешь. Будешь стесняться – никогда не станешь гениальным художником. Нужно верить в свой талант, и окружающие тоже в него поверят. А будешь походить на пугливого зайца с дрожащими коленками – так и останешься любителем, выписывающим церкви на площади.
Анна и не думала обижаться. Ну, кто она по сравнению с Дали. Любитель – любитель и есть.
– Мне «Ботифару»[3] и бокал «Бина Реаль Плато». И, пожалуй, я готов съесть свежий апельсин, – сделал заказ художник. – А кофе, я уверен, ничем не полезен. Скорее наоборот. Гораздо лучше вишневый компот.
Официант отошел, и Дали тут же огорошил девушку фразой:
– Они сволочи и тупицы!
– Кто? – Анна сконфузилась, подумав об официанте. Он показался ей вполне любезным и совсем не глупым.
– Мэрия Фигераса и эти ужасные мадридские чинуши.
– О! – только и произнесла девушка.
– Вообразили меня… Меня! Дали! Мальчиком на побегушках, который будет делать все, что им заблагорассудится. Решили, что раз я десять лет вел разговоры о музее, мною можно вертеть, как начинающим писакой. Гала будет вне себя!
Анна поерзала на стуле и выдавила из себя:
– Что произошло?
– Что?! – Художник закатил глаза. – Она еще спрашивает что! Это не «что»», это «что-то». Они наконец согласились подписать бумаги и позволить мне создать Театр-музей, но условия, условия! – В негодовании он вынул из кармана свой белоснежный платок и промокнул лоб. – Они требуют оригиналы картин!
– О! – снова изрекла Анна. В красноречии ее было не упрекнуть. Да и что еще сказать, она не знала. Не говорить же, что любой музей вправе рассчитывать на подлинники произведений. А уж если музей будет создавать сам автор, то к чему размещать там копии?
– Оригиналы гораздо хуже фотографий. – Дали словно услышал ее вопрос. – Фотографии четче и современней. Именно их и надлежит показывать публике. А в оригиналах она еще успеет разочароваться. Десять лет мэрия Фигероса стойко сражалась с Главным управлением изящных искусств в Мадриде и убеждала этих упрямцев финансировать проект. Десять лет тяжб, переписок, бесконечного ожидания. Десять лет надежды. И что теперь? Мне говорят: либо оригиналы, либо никакого тебе музея.
– О! – Анна уже готова была себя возненавидеть за эти бессмысленные восклицания, но ничего более умного в голову не приходило.
Подошел официант с кофе для Анны, апельсином, яблоками и бутылкой минеральной воды.
– Вино, кофе, апельсин и яблоки для «Ботифары», – объявил он и, поставив на стол железную миску, начал ополаскивать в ней фрукты принесенной минеральной водой.
Анна едва не произнесла очередного удивленного «О!».
– Никогда ничего не мой водой из крана! – категорично посоветовал Дали. – Тиф не дремлет, да и другие микробы тоже.
– Не все могут позволить себе так расходовать минеральную воду. – Анна ожидала, что Дали устыдится, но ведь это был Дали. Он воздел глаза к небу и изрек:
– Слава богу, я могу! Пей свой кофе. В нем, надеюсь, вода кипяченая. Нет, ну каковы мерзавцы, а?! – Он снова вернулся к теме разговора, но тут же оборвал ее, неожиданно спросив:
– А почему ты такая грустная?
И тут же ответил сам себе:
– Хотя, если бы я стоял под палящим солнцем и писал никому не нужный городской пейзаж, я бы тоже грустил.
Можно было бы поспорить, сказать, например, что городские пейзажи Моне, Писсаро или Ван Гога – весьма ценные экземпляры. Но вместо этого девушка объявила:
– Вчера у меня умер брат.
Только произнеся это вслух, Анна почувствовала, что наконец осознала случившееся. На глазах выступили неожиданные слезы, ей стало стыдно и горько за то, что она ощутила облегчение от ухода маленького Алехандро.
Художник смотрел на нее, не моргая. Во взгляде – ни сочувствия, ни понимания.
– Брат умер, – уже всхлипывая, повторила Анна.
– Старший? – резко спросил Дали.
– Младший. Маленький совсем. Два годика.
– А. – Художник небрежно махнул рукой, будто потерял к разговору всякий интерес, потом изрек: – Повезло тебе.
Анна, онемев, выронила ложечку, которой собиралась размешать сахар. Конечно, сеньор Дали эксцентричен, но чтобы до такой степени… Художник, не обращая внимания на состояние спутницы, проследил за полетом ложки и продолжил как ни в чем не бывало:
– Повезло, что младший. Но в любом случае советую тебе не тянуть и написать его портрет. Мне понадобилось слишком много лет и страданий, чтобы избавиться от призрака.
«Ну, конечно!» – Анна чуть не хлопнула себя по лбу. «Брат художника, умерший до его рождения». Как она не сообразила?!
– Мой Сальвадор, – Дали откинулся на спинку стула и скорбно закатил глаза к небу, – покинул мир за семь месяцев до моего рождения. Родившись, я и не подозревал, что меня назвали его именем. Но это так. Родители создали меня, чтобы избавить себя от страданий. Они этого и не скрывали. Водили меня на его могилу, постоянно сравнивали нас, а когда мне исполнилось пять, и вовсе объявили, что я – его реинкарнация. Ты представляешь? Представляешь, что значит быть копией умершего? – Художник вскочил, тут же снова сел и изобразил на лице печать неуемной печали. Он тяжело вздохнул и продолжил:
– Надо ли удивляться, что я поверил в то, что я – это он? Но вместе с тем мне постоянно хотелось избавиться от его присутствия. По мне так один Сальвадор гораздо лучше двух. За что я ему благодарен, так это за имя. Мне оно подходит невероятно. Родители думали, что я послан им спасти семью. Но я – спаситель мира. Это тяжкое бремя, но я несу его ответственно и не собираюсь отказываться от своей миссии[4].
Если бы Анна в этот момент не видела лица художника, она бы, наверное, позволила себе рассмеяться такому бахвальству. Но сидевший перед ней Дали был настолько уверен в своей избранности, что и всем, кто видел и слышал его в такие моменты, не приходилось в ней сомневаться.
– Это тяжкое бремя – носить в себе умершего брата. Я тяготился им и постоянно хотел избавиться, пытался сделать это через сюжеты своих картин. Я уже рассказывал об этом. Ты слышала?
– Что-то такое… – начала Анна неуверенно…
– Не могла ты ничего слышать! Сколько тебе было девять лет назад в шестьдесят первом? Лет семь-восемь? Ты никак не могла быть на лекции Дали в Политехническом музее Парижа. А Дали там признался: «Все эксцентричные поступки, которые я имею обыкновение совершать, все эти абсурдные выходки являются трагической константой моей жизни. Я хочу доказать себе, что я не умерший брат, я живой. Как в мифе о Касторе и Поллуксе: лишь убивая брата, я обретаю бессмертие». И только спустя два года, в шестьдесят третьем, я наконец понял, что должен сделать, чтобы обрести покой. Вовсе не надо было никого убивать – надо было написать портрет брата, показать всем, что он не имеет ничего общего со мной, и унять наконец свои страхи. Почему я не догадался раньше, почему потратил почти шестьдесят лет на муки и сомнения? Даже когда Гарсиа Лорка предложил написать стихи об этом, я не додумался, что раз поэт хочет выразить переживания в стихах, художник должен найти способ избавления на холсте. И если выбранные раньше сюжеты не действовали, то надо было их поменять. Как только «Портрет моего умершего брата» увидел свет, я наконец избавился от несуществующего двойника.
Анна, слушая монолог художника, вспоминала картину. Лицо мальчика, значительно более старшего, чем брат Дали к моменту смерти, написано точками. Кажется, этот прием был довольно распространен в поп-арте. А в данном случае намекал и на призрачность своего обладателя. Само лицо будто вырастало из закатного пейзажа. Спереди на него наступали странные фигуры с копьями, а слева Дали изобразил в миниатюре «Анжелюса» Милле. Кажется, сам художник говорил, что при помощи рентгеновских лучей можно доказать, что первоначально Милле хотел изобразить не корзинку, а гроб ребенка. На идею смерти намекали и крылья ворона, словно вырастающие из головы юноши. Мрачная, тяжелая, безнадежная картина.
– Необыкновенно светлое произведение! – огорошил Анну художник.
Видимо, она не смогла смыть с лица неподдельное удивление, потому что маэстро снизошел до объяснений:
– Дали стало светло и легко. Дали стал самим собой. И вот уже семь лет не ведает страха быть поглощенным давно умершим родственником.
– Понимаю, – медленно кивнула Анна.
– А ты напиши портрет своего брата, чтобы избавиться от скорби и чувства вины. Чувство вины делает жизнь пресной и блеклой. А в ней очень много красок, которыми никто не должен пренебрегать. А уж художник тем более!
Анна вспыхнула. Дали назвал ее художником!
– Ваша «Ботифара», сеньор Дали.
Художник пододвинул к себе блюдо и придирчиво осмотрел его и обнюхал. Осмотр его, видимо, удовлетворил, так как он отрезал маленький кусочек колбасы и с умильным выражением лица отправил его в рот.
– Вы действительно думаете… – начала Анна.
Дали вскинул указательный палец правой руки вверх, призывая девушку замолчать, наколол очередной кусок колбасы на вилку и прикрыл глаза. Следующие пятнадцать минут он очень медленно наслаждался своим блюдом. За столом царило молчание.
Глава 2
«Дон Кихот был сумасшедший идеалист. Я тоже безумец, но при том каталонец, и мое безумие не без коммерческой жилки».
Покончив с колбасой и не выпив и половины бокала вина, художник снова вернулся к животрепещущей теме.
– Я живу этой мыслью о создании музея уже шестнадцать лет. Да-да, не смотри на меня так! Всю твою маленькую жизнь я думаю об открытии своего музея в здании театра. Он обязан существовать здесь и только здесь! В пятьдесят четвертом году в Милане, в Зале кариатид Королевского дворца, состоялась выставка картин, рисунков и ювелирных работ Дали. Ты знаешь, что это за дворец?
Анна отрицательно покачала головой.
– Он сохранил следы бомбардировок, и именно это заставило меня мечтать об обгоревших стенах театра в родном Фигерасе. Я заявил о своем желании уже девять лет назад. Но откуда тебе знать? Ты же была совсем малышка. А я уже тогда пообещал родному городу музей. Знаешь, что я сказал? Что «нашему театру предопределено свыше стать музеем Дали. Здесь прошла моя первая в жизни выставка. Каждый сантиметр этих полусгнивших стен – абстрактная картина». И знаешь что? Ведь меня не просто поддержали. Город праздновал. О! Он был охвачен эйфорией в честь своего Сальвадора! Было столько мероприятий. Но самым главным, конечно, коррида. А на афише – рисунок Дали. Ты видела быка, что возносится в небо?
Теперь Анна энергично закивала. Ну кто же не знает этот плакат?
Художник удовлетворенно хлопнул в ладоши:
– Я надеялся воплотить свой рисунок в жизнь, поверженный бык должен был воспарить в небо, привязанный к вертолету. Но проклятый ветер помешал планам Дали. Хотя что для Дали ветер? Был еще гипсовый бык. Его-то и взорвали перед началом фейерверка. Город радовался, и Дали радовался. Царило полное согласие между мной, горожанами и мэрией. Все понимали: театр – это единственное правильное место для музея Дали.
– Почему? – Девушка вставила вопрос просто для того, чтобы напомнить художнику о своем присутствии. Дали, казалось, забыл, что он говорит с ней. Он вещал в пространство, как одержимый, и выглядел так, будто выступает перед огромной аудиторией. Еще мгновение, и он бы наверняка вскочил и начал бы подкреплять свои слова экспрессивными жестами.
– Почему? – Он обиженно фыркнул. – Она еще спрашивает! Я же тебе говорил. Здесь прошла первая выставка моих картин. Еще в девятнадцатом году. Мне было всего пятнадцать. Да-да, младше тебя, а уже целая выставка. И не где-нибудь, а в театре. А знаешь почему? Потому что я всегда рисовал необычные образы и не утруждал себя стоянием на солнцепеке и копированием деталей какой-то там церквушки. Хотя тебе простительно. Это ведь не какая-то там церковь, а совершенно особенная. В ней крестили Дали, а Дали – католик до мозга костей. Так что эту церковь можно и увековечить на холсте. И где же находится это святилище, открывшее Дали путь в вечность?
– Напротив театра, – ответила Анна, хотя ответа и не требовалось.
– Именно! – Художник поднял вверх указательный палец правой руки. – Это ли не знак свыше? И еще: где же открывать музей Дали, если не в театре, если Дали прежде всего театральный художник. Картины картинами, но как быть с мебелью, с инсталляциями, с афишами, в конце концов? Сам Дали – это театр, скажу я тебе. И все, все – и горожане, и мэрия, и мировая общественность – понимают, что Дали в этом вопросе надо слушать и потакать. И только Мадрид ничего не хочет слушать и понимать! Подавай ему оригиналы! И главное, они давят потому, что понимают: Дали, в конце концов, отступит. Дали некуда деваться. Дали объявил строительство делом своей жизни, и Дали просто обязан пойти до конца. Боже! Гала будет вне себя!
– Люди будут рады увидеть подлинники, – робко предположила Анна.
– Ты считаешь? – Художник впервые взглянул на нее с неподдельным интересом.
– Ну, конечно. – Девушка оживилась и на мгновение даже забыла, с кем разговаривает. – Представляете, вы приходите в Прадо и светитесь от ожидания, и спешите, и даже нервничаете. Вы уже практически начали испытывать удовольствие, вы уже смотрите на шедевр, а потом читаете указатель и понимаете, что перед вами всего лишь копия «Менин». Неужели вы не будете разочарованы? Вы шли на свидание к самому Веласкесу, а его от вас спрятали.
– Оу! – Дали замер и теперь смотрел на Анну с уважением. Она упомянула Веласкеса лишь потому, что он первый пришел на ум. Но теперь девушка вспомнила: Веласкес для Дали – вершина мирового искусства. Кажется, он говорил, что полотна Веласкеса – это «золотая россыпь точных, выверенных решений».
– Пожалуй, из тебя выйдет толк. – Художник энергично кивнул и, не делая паузы, спросил: – Почему ты пишешь церковь?
– Хочу отправить рисунок в Академию Мадрида.
– Считаешь, тебя примут?
Анну смутила бесцеремонность художника:
– Надеюсь…
– Покажи холст! – Никаких «пожалуйста» и «разрешите». Разве может кто-то отказать Дали? Видимо, кроме мадридских чиновников, никто. Анна послушно встала и открыла мольберт, который лежал у стены.
Художник бросил один короткий взгляд:
– Городской пейзаж, и только.
– Да я, собственно… – Анна хотела возразить, что именно это она и собиралась написать: городской пейзаж и только.
– Как тебя звать?
Она думала, Дали никогда не спросит.
– Анна.
– Просто Анна, просто пейзаж! – Дали хлопнул ладонью по столу так, что его бокал с остатками вина едва не опрокинулся.
Анна вздрогнула, но поспешила ответить:
– Анна-Мария Ортега Буффон.
– Другое дело! – Маэстро кивнул и небрежно махнул кистью руки в сторону картины: – Ну и где же, позволь спросить, здесь Анна-Мария Ортега Буффон? Это просто картинка, которую может написать кто угодно, владеющий кистью и красками. Где твоя индивидуальность? Где стиль? И что, черт возьми, ты хочешь делать? Просто рисовать или зарабатывать деньги?
– Я… – Анна растерялась. Пока что ее амбиции не простирались дальше мечтаний об учебе. – Я не знаю.
– Вся эта галиматья о том, что художник должен быть голодным, – сущий бред! Я никогда не собирался жить в нищете. И я понимал, что для этого надо стать особенным, отличаться от всех. Можно ли это сделать, рисуя обычную церковь?
– Наверное, нет. – Анне показалось, что она еле пискнула, но художник услышал.
– Вот и я о том же. – Вид у него был внушительный и назидательный. – Считаешь, я стал бы Дали, если бы просто рисовал горы Кадакеса? Никогда. Первые же картины кричат о том, что Дали – это Дали. Взять хотя бы мой «Автопортрет с шеей Рафаэля»[5]. Вспомни, какие там краски. Неужели натуральные? Кому нужна эта скучная натуральность! Лиловый с оранжевым, на мой вкус, гораздо интереснее. Лиловое море, оранжевые горы Кадакеса, сама деревушка будто размыта на заднем плане. А мое лицо? Ты помнишь эту неестественную бледность, эту пронизывающую меланхолию? Это был год смерти моей матери[6] – конечно, я не мог веселиться. Но естественная цветовая гамма и не могла передать достаточной удрученности. Я нанес на себя грим матери, чтобы казаться еще бледнее, еще печальнее. И получил должный эффект. Первая же выставка принесла дивиденды. Хотя Дали тогда был еще подражателем. Что-то среднее между неоимпрессионизмом и полукубизмом. Что ж, я искал себя и всегда верил, что найду. Но искать тоже надо с умом. И не водиться абы с кем. Гарсиа Лорку и Бунюэля, с которыми я познакомился в столице, так никогда не назовешь. Но представь, что было бы, если бы мы вместо «Андалузского пса» и «Золотого века»[7] представили публике какую-нибудь ерунду вроде «Мадрид – любовь моя»? Нас никто бы не знал, имена канули бы в безвестность. А вот мертвый осёл на рояле, разрезаемый бритвой глаз, морские ежи под мышками у девушки, голые груди – все эти скандальные образы заставили о нас говорить и критиков, и публику. Зрителям приходилось ломать голову над немыслимой логикой совмещения. И пусть многие не поняли и осудили, но цель была достигнута: о нас узнали и нас запомнили.
– Что-нибудь еще, сеньор Дали? – Официант подошел убрать опустевшую посуду.
– Пожалуй, возьмем по супу. Мне гаспачо, ей, – он кивнул на Анну, – консоме. Мы тут надолго.
Надолго? Анна не решилась возразить. Мелькнула тревожная мысль об отце. Да и не мешало бы узнать, куда запропастилась мать. Не дай бог в своем горе сделает что-то ужасное. В конце концов, Анна тоже виновата перед ней. Могла бы подумать о том, что человек в таком состоянии сам не свой. Может наговорить такое, что вовсе не думает. Наверняка она уже пришла домой, и ждет Анну, и беспокоится. Но как она может сказать об этом Дали? Да и что сказать? «Извините, мне пора?» И уйти? Отказаться от общения? Нет! Она никогда себе этого не простит! А если что-то случится дома? Тоже не простит… Видимо, сомнения как-то отразились на лице девушки, потому что художник спросил:
– Не любишь консоме? Зря! Ты должна попробовать именно так, как ест Гала. Она предпочитает вкушать его ледяным, а все, что она делает, – божественно.
– Конечно! – Анна кивнула. Она не собиралась оспаривать первенство жены художника во всем. – Я немного взволнована состоянием своего отца. Он болен и остался совершенно один дома.
– Сходи проведай и возвращайся. Я подожду, – милостиво разрешил художник.
– Я из Жироны.
Дали поморщился:
– Ну почему мне вечно приходится решать чужие проблемы?!
Он махнул официанту, тот тут же подбежал к столику:
– Листок и ручку! – скомандовал художник.
Через минуту он уже протягивал официанту бумажку с номером телефона и говорил:
– Позвоните по этому номеру и скажите, что Дали просит прогуляться по адресу… Говори адрес! – обратился он к Анне, девушка продиктовала. – По этому адресу и узнать, как там обстоят дела. И пусть скажут, что Анна непременно вечером будет дома. Да, и еще: попроси потом позвонить сюда и доложить. Теперь ты можешь остаться, – это уже Анне. – Мой приятель в Жироне все сделает, как я сказал. Он обязан Дали, так что выполнить мою просьбу для него практически счастье.
– Спасибо! – Анна вспыхнула.
Художник снова фыркнул и, гневно взглянув на нее, резко сказал:
– Вернемся к твоей церкви. В ней нет ничего особенного. Хотя особенность в ней есть, и, если бы ты хотела, ты могла бы легко внести эту особенность в картину, и ни одна живая душа, по крайней мере в Испании, не позволила бы себе тебя упрекнуть в вольности. А академики в Мадриде почли бы за счастье тебя учить! Так что особенного в этой церквушке? – Он произнес это с таким пафосом, что Анна едва удержалась от смеха. Слава богу, что удержалась. Прысни она – и разговору конец.
Очень уважительно, почти с придыханием она ответила:
– В ней крестили Дали.
– Вот! – Дали закричал и вскочил со стула, сделал непонятное па и снова сел. А разве может церковь, где крестили Дали, выглядеть обычно?
«Но ведь выглядит», – подмывало ответить Анну, но она сдержалась.
– Художник – это творец, а не ваятель копий. Тот, кто желает посмотреть, как на самом деле выглядит церковь Святого Петра, пусть приезжает в Фигерас и смотрит, а ты обязана написать на бумаге свое представление. Именно оно должно быть интересно миру.
– Супы, сеньор! – Официант изящно поставил на стол тарелки.
И снова был сделан молчаливый перерыв на еду. Очевидно, художник придавал этому процессу особое значение. Ничто не должно было отвлекать его организм от усвоения пищи. Ведь любые нарушения этого процесса могли привести к проблемам с кишечником, к которым Дали всегда относился крайне серьезно, уделяя процессу избавления от остатков пищи многие и многие главы в своих автобиографических произведениях.
Бульон Анне не понравился, но, не желая обидеть мастера, она ела. К тому же голод уже давал о себе знать. Керамические часы на стене показывали час дня, и в любом случае было гораздо лучше внимать художнику на сытый желудок.
Тарелки опустели, и подоспевший к столику официант поспешил доложить:
– У вас дома все хорошо, сеньорита.
– Благодарю! – Если бы Анна была посмелее, она бы, наверное, вскочила и сделала книксен. Настолько ей казалось нереальным все происходящее. С ней давно уже никто не обращался так снисходительно и уж, конечно, не называл сеньоритой. Ну а где? На фабрике или дома? Там уж точно не до сеньорит.
– Гаспачо прекрасен. – Дали тщательно промокнул губы бумажной салфеткой, провел пальцами по ниточкам усов, придавая им должный закрученный вид. – Надеюсь, что такое количество помидоров не повлечет за собой неприятностей со стулом.
Анна закашлялась. Одно дело читать эксцентричные высказывания художника на бумаге[8] и совсем другое слышать их собственными ушами.
– Ты подавилась, Анна-Мария? – Дали пытливо смотрел на нее. – Надеюсь, что да. Настоящий художник должен быть нескромен, ничто не должно ввергать его в смущение. Творец и стыд – вещи несовместимые. Если бы настоящему, истинному, единственному нашему Творцу хотя бы однажды стало стыдно за какое-то свое творение, что бы тогда было? Уверяю, он бы разочаровался и покончил бы с Землей еще быстрее, чем ее сотворил. Думаю, хватило бы и пары дней. Так что запомни: вести светские беседы можно о чем угодно и с кем угодно. Главное, делать это с высоко поднятой головой и идеально ровной спиной. Так какой должна быть твоя особенная церковь?
Анна не ожидала вопроса, который прозвучал без всякого перехода.
– Я не знаю, – растерянно ответила она.
– Никогда не берись за картину, прежде чем не будешь иметь четкое видение, что, как и где будет написано. Что главное в любом здании?
– Стены? – наугад предположила девушка, услышав в ответ очередное пренебрежительное фырканье.
– Крыша! – самодовольно изрек художник. – Как ты можешь связывать себя с искусством, если не имеешь представления о том, что все великие зодчие Возрождения первым делом придумывали купол храма, а уж потом всю остальную архитектуру. Дали не был бы Дали, если бы предлагал строить музей, не имея представления о том, как все это будет выглядеть в окончательном варианте. И уж конечно, я знаю все о будущей крыше.
Он уставился на Анну в немом ожидании. Она молчала, не зная, что сказать.
– Ну?! – Дали нетерпеливо притопнул под столом ногой. – Ты разве не хочешь узнать, как будет выглядеть крыша моего театра?
– О! – спохватилась девушка. – Конечно, хочу.
– Еще бы ты не хотела! – Художник самодовольно усмехнулся. – Каждый мечтает влезть в голову Дали и посмотреть, что там происходит. А там постоянное движение, там рождаются и обретают смысл идеи, одна чудесней других. Купол – как раз одна из таких идей. Он станет символом моего Театра-музея. Да что там музея, всего Фигераса! Конечно, он будет прозрачным и ночью станет отражаться в огромной стеклянной стене, что будет отделять двор-сад от сцены театра. И тогда возникнет иллюзия еще одного купола, покрывающего двор, понимаешь? Образы будут множиться через игру зеркальных отражений. Естественно, купол будет голубым. А как же иначе? Ведь это символ неба и его единства с монархией. А когда купол установят, я нарисую внутри красным ложную сетку по всей поверхности опорного свода, а по краям свода расположу гипсовые скульптуры. Это будут защитники музея. Большинство застынут в героических позах, но некоторые будут жестикулировать. У них будут горны, клюки и старинные одежды. А один непременно будет обнажен. Только наброшенный плащ, призванный изображать неустанное бдение. И эту фигуру мы обязательно подсветим. Что скажешь?
Сама мысль о том, что великий мастер мог с ней советоваться, еще час назад показалась бы Анне крамольной, но теперь она спокойно и даже с достоинством ответила:
– По-моему, отличная мысль.
– Гала тоже так думает. Так что даже если бы весь мир счел эту идею верхом безвкусицы, я бы все равно воплощал ее в жизнь, потому что все, что нравится Гала, безвкусицей быть не может. Наш купол должен быть виден отовсюду. Он будет своеобразным маяком. Будет указывать путь, куда люди должны идти, чтобы приобщиться к великому и прекрасному. Ну и, конечно же, оставить деньги. А для того, чтобы человек захотел войти внутрь, надо привлечь его внимание снаружи. И купол – лишь один из способов привлечь это внимание. Вот посмотри на свой рисунок. – Дали легко встал и подошел к мольберту. – Думаешь, все с восторгом будут разглядывать этого рыжего кота и говорить: «Ах, какая же молодец эта Анна-Мария. И как же ей это в голову пришло посадить сюда этого красавца! Как замечательно он смотрится на картине!»?
– Но он и правда неплохо смотрится, – попробовала возразить девушка.
– Неплохо и только. – Дали пожал плечами. – Где здесь шок, где эпатаж от присутствия кота? Где вопрос, почему и для чего он здесь? Публика может считать тебя ненормальной от того, что ты разместишь на своих полотнах вещи, с их точки зрения не объяснимые. Но как только ты дашь объяснение, то окажется, что ты нормальнее многих. Ты знаешь, чем отличается Дали от сумасшедшего?
– Чем? – Анне уже хотелось, чтобы мастер оставил в покое ее картину. Ей было грустно. С мечтами о живописи хотелось проститься раз и навсегда. Дали ясно сказал: она ни на что не годна. Она – посредственность, которая видит только то, что ей дают видеть, и не желает разглядеть за обыденным необычайное.
– Сто раз уже всем говорил. – Художник смотрел на девушку неодобрительно. – Разница между мной и сумасшедшим в том, что я не сумасшедший. Так что помни, что бы ты ни написала, совершенно не важно, что об этом думают другие. Главное, что об этом думаешь ты сама. Ну и чтобы написанное приносило тебе неплохие дивиденды.
Глава 3
«Я – декадент. В искусстве я нечто вроде сыра камамбер: чуть переберешь, и всё. Я – последний отголосок античности – стою на самой грани».
Дали вернулся к столу и вздохнул с чувством выполненного долга:
– Надеюсь, я тебя убедил. Так долго говорил, что в горле пересохло. Давай-ка выпьем их знаменитый вишневый компот.
– Давайте.
Художник сделал заказ и вновь обратился к девушке:
– Так на чем я остановился?
– На дивидендах.
– Именно! Чтобы их получать, надо продумывать все до малейшей детали. И начинать не когда-то где-то потом, а здесь и сейчас. Вот как, ты считаешь, будут выглядеть стены отреставрированного театра?
– Ну… – Анна задумалась. Что говорить? Что бы она ни предложила, ее воображению никогда не переплюнуть бурную фантазию Дали.
– Может быть, яркая краска? – робко предположила девушка.
Художник хлопнул в ладоши:
– Делаешь успехи! Ты не безнадежна!
Сердце Анны бухнуло и заколотилось в восторге. «Боже! У нее есть шансы сотворить из себя что-то путное».
– Итак, красные стены, – удовлетворенно кивнул Дали. – Голые?
– Очевидно, нет, – осмелела девушка.
– Хлеб! – уважительно произнес Дали. – Красные стены, усыпанные рогаликами, булками, круассанами. Ничего подобного нет нигде. А между тем это странно. Ведь и важнее хлеба тоже ничего нет. Хлеб – это символ жизни. Так же, как и яйцо. Ну, конечно! – Он хлопнул себя по лбу, будто идея пришла ему в голову только что. – Крыша будет усыпана гигантскими яйцами. И башня Горгот. Пока она принадлежит городу, но со временем я присоединю ее к музею. И посвящу своей обожаемой Гала. И назову башней Галатеи. И на крыше тоже будут яйца. А еще скульптуры, множество скульптур-наверший. У некоторых на голове хлеб, другие будут держать в руках атом водорода. Это моя дань науке. И костыли – да, некоторые обязательно будут нести костыли. Знаешь, зачем?
Анна отрицательно покачала головой, робея от мысли, что это может вызвать новую вспышку гнева.
– Ты не читала «Тайную жизнь Дали?»
– Нет, – прошептала девушка. Но обошлось. Художник лишь вежливо отмахнулся.
– Конечно, не читала. Ты еще слишком мала. Так вот, дорогая, именно костыль превращает ускользающее движение хореографического прыжка в архитектуру, дает ему опору. Кажется, как-то так я написал в своей книге. Ну и обязательно водолаз в скафандре где-то над входом в Театр-музей. Понимаешь, зачем?
«И все-таки она – посредственность». Анна сокрушенно пожала плечами:
– Нет.
– И не можешь понимать. В тридцать шестом твои родители еще пешком под стол ходили. Куда уж тебе. А между тем в тридцать шестом Дали чуть было не умер. Вот была бы трагедия. Я тогда надел на себя костюм водолаза на всемирной выставке сюрреализма в Лондоне и чуть не задохнулся. Конечно, эффект был еще пуще, чем если бы я спокойно провел в нем какое-то время, но все же не стоило так рисковать. Я хотел как можно точнее продемонстрировать публике символ погружения в подсознание. Скафандр идеально для этого подходит. Поэтому я поставлю водолаза над входом, чтобы люди поняли: в моем Театре-музее их ждет настоящее погружение в искусство.
Анна вспомнила свои мысли о полете Дали в космос. Пожалуй, она была не права. Даже если бы художник грезил о высадке на Луну, никакая сила не заставила бы его вновь облачиться в скафандр.
– Теперь скафандры только рядом со мной. – Дали подтвердил ее умозаключения. – Но от них никуда не деться. Сейчас еще что-нибудь выпьем и прогуляемся. Всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, верно?
Девушка кивнула.
– Вот и я так думаю. О театре надо разговаривать в театре, а не в ресторане. Надеюсь, эти наглецы из мэрии уже убрались восвояси. Если честно, они мне помогают. Мэр десять лет пытался уговорить Мадрид. Но где результат? Говорить Дали, что нет результата, когда Дали привык всегда добиваться того, что он хочет! Это возмутительно! Гала расстроится. Да что там! Она будет вне себя, – и он вдруг как-то обмяк и очень тяжело и грустно вздохнул. Весь пафос и самовлюбленность исчезли в один миг, и Анна спросила себя, не потому ли художник проводит время с ней, чтобы оттянуть момент объяснения с женой.
– Она, бедняжка, и не ждет меня так рано. Думает, мы заседаем, обсуждаем чертежи и детали проекта. Гала ведь не знает, что Дали вспылил. Но будь она здесь, вспылила бы первой. Оригиналы, – художник фыркнул, – подумать только, оригиналы!
И тут же без пауз совершенно нормальным голосом обратился к официанту:
– Стакан минеральной воды! Что ты выпьешь? – это уже Анне. – Я бы на твоем месте взял бокал вина. Ты слишком напряжена. Это мешает. Художник не может позволить себе быть скованным. Тем более сюрреалист. Скованный комплексами сюрреалист – обманщик. Мне воды, девушке вина.
– Сеньор Дали, вашей даме, наверное… – Официант замялся, намекая на юный возраст Анны.
– Красное в небольших дозах улучшает работу мозга да и других органов, а ей, на мой взгляд, сейчас это просто необходимо. Или ты считаешь, Дали не прав? – Он смотрел на официанта с ехидным прищуром: и как только мог тот решиться уличить художника в неправоте?
– Конечно, сеньор.
– И сразу счет. Теперь мы торопимся. Гала, конечно, меня не ждет так рано. Незачем ее тревожить своим ранним приездом.
Анна взглянула на часы, время подбиралось к двум. Вернулась ли мать? Покормит ли отца обедом? Все-таки это неправильно, что она все еще здесь, когда дома без нее не могут обойтись.
– И без твоего присутствия тоже обойдутся. – Художник прочитал ее мысли. Подмывало спросить: «Вы – ясновидящий?» – Или ты считаешь, встреча с Дали даруется судьбой каждый день?
Анна так не считала.
– Дары судьбы, милочка, надо принимать благосклонно.
Художнику принесли воду, Анне – вино. Дали поднял стакан и принялся тщательно изучать жидкость на предмет прозрачности. Увиденное его удовлетворило, он сделал глоток с таким видом, будто пил самое дорогое в мире шампанское, и сказал:
– Ничто не может заменить живительной силы обычной минеральной воды. Без нее мы никто и ничто. Зола, пыль, пепел, гниль. Что ты замерла? Пей!
Анна завороженно смотрела на свой бокал. Она пробовала вино один только раз в церкви, в тот самый день первого причастия, когда была сделана счастливая семейная фотография. Анна не помнила вкус вина. Тогда была важна торжественность момента, а хлеб и вино были всего лишь атрибутами этой торжественности. Сейчас все было по-другому. Ей впервые предстояло попробовать собственно алкоголь. Как взрослой, как достойной компании великого гения. Только бы не ударить в грязь лицом, только бы не испугаться, не поморщиться, не скривиться, не поперхнуться, не показаться жалкой и слабой малышкой.
Девушка подняла бокал и, нарочито громко произнеся: «Ваше здоровье!» – сделала внушительный глоток. Вино оказалось теплым, терпким и… вкусным. Ее так потрясло это открытие, что она несколько секунд внимательно разглядывала жидкость в бокале, а потом отпила снова. И еще, и еще.
– Не торопись! – Мэтр поморщился. – У тебя не вишневый компот, чтобы глотать залпом. Вина не должно быть много, но его должно быть достаточно. А если так пить, так окружающие решат, что в твоем бокале гранатовый сок. Гранат, конечно, чудесен, но мешать его с вином – прелюбодеяние. Я люблю гранаты, ты знаешь?
Анна знала. Картина с гранатами – едва ли не самое известное полотно Дали. Наверное, немногие способны запомнить наизусть вычурное название, но поклонники мастера без запинки произнесут его и ночью. «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения». В этом холсте был весь Дали, прямо заявляющий: «Сюрреализм – это я». Сюрреализм – смешение сна и реальности, повседневного с невероятным. И на этой картине все именно так: спящая Гала, гранаты, летающая вокруг одного из них пчела, – обычная жизнь. А над женщиной ревущие тигры, вырывающиеся изо рта огромной рыбы, и на заднем плане любимый художником слон – триумфатор Бернини на длиннющих ногах-ходулях. Образы тигров, рыбы и тела Гала, которое парит над каменной плитой, омываемой морем бессознательного, выглядят намного ярче, чем маленькая пчелка и небольшой гранат на переднем плане. Мастер снова и снова подчеркивает давление сна над явью, нереального над обыденным.
– Из лопнувшего граната проистекает вся жизнетворящая биология. – Художник энергично кивнул. – Да, это так.
– Я как раз вспомнила вашу картину, – то ли вино придало храбрости, то ли Анна просто начала привыкать к беседе.
– Америка, сорок четвертый год. Я был тогда очень увлечен Фрейдом и его идеями. Ты знаешь, кто такой Фрейд?
– Немного.
– Немного?! О нем надо знать все! В Академии возьмешь себе курс немецкой философии. – Дали говорил так, будто поступление Анны было вопросом давно решенным. – Фрейд открыл тип долгого связного сна, который может резко прерваться от внешнего воздействия. Я придумал укус пчелы, а в жизни может быть все, что угодно. Но искусство – это лишь часть жизни. В нем важны образы. Мои всегда удачны. Ты готова? Можем идти?
Анна кивнула, художник оплатил счет, раскланялся с официантом, пообещав в скором времени прийти сюда снова в компании друзей и своей дорогой Галы.
– Друзья – это необыкновенное счастье. – Дали распахнул перед девушкой дверь на улицу. – Можно обойтись без детей и, если честно, даже без родителей (хотя я, конечно, в отношениях с отцом дал маху)[9], но вот без друзей – никогда. Хорошо, что сейчас весна.
Переходы с одной темы на другую уже стали привычными. Апрель для прогулок во время сиесты действительно был неплох. Солнце припекало, но жара не была удушающей. Легкий ветерок покрывал кожу приятным теплом, цветущий миндаль наполнял воздух нежным цветом и запахом. Дали и Анна не спеша шли мимо сквера, как вдруг художник запрыгнул на скамейку и начал декламировать:
- Та наскальная роза, которой ты бредишь.
- Колесо с его синтаксисом каленым.
- Расставание гор с живописным туманом.
- Расставанье тумана с последним балконом.
- Современные метры надеются в кельях
- на стерильные свойства квадратного корня.
- В воды Сены вторгается мраморный айсберг,
- леденя и балконы, и плющ на балконе.
- Осыпается с окон листва отражений.
- Парфюмерные лавки властями закрыты.
- Топчут сытые люди мощеную землю.
- Утверждает машина двухтактные ритмы.
- Дряхлый призрак гераней, гардин и унынья
- по старинным домам еще бродит незримо.
- Но шлифует зенит свою линзу над морем
- и встает горизонт акведуками Рима.
- Моряки, не знакомые с ромом и штормом,
- истребляют сирен по свинцовым лиманам.
- Ночь, чугунная статуя здравого смысла,
- полнолуние зеркальцем держит карманным.
- Все желаннее форма, граница и мера.
- Мерят мир костюмеры складным своим метром.
- Натюрмортом становится даже Венера,
- а ценителей бабочек сдуло как ветром…
- …О Дали, да звучит твой оливковый голос!
- Назову ли искусство твое безупречным?
- Но сквозь пальцы смотрю на его недочеты,
- потому что тоскуешь о точном и вечном.
- Ты не жалуешь темные дебри фантазий,
- веришь в то, до чего дотянулся рукою.
- И стерильное сердце слагая на мрамор,
- наизусть повторяешь сонеты прибоя…
Закончив, Дали как ни в чем не бывало слез со скамьи и уселся туда, где только что стоял:
– Федерико Гарсиа Лорка, – почтительно объявил он. – «Ода Сальвадору Дали». Отрывок. Мой друг был необыкновенен. Он, как Дали, обожал ясность, симметрию и гармонию. И достигал ее в своих стихах. Если мне и есть за что благодарить Академию, так это за знакомство с Лоркой. Ну и за то, что меня из этой Академии вышибли. – Он хмыкнул. – Я бы на твоем месте подумал, стоит ли вообще туда соваться, к этим приверженцам догм и канонов. Но вот если знать наперед, что тебя может там ждать встреча с другом… Есть у тебя друг?
Анна покачала головой. Не до друзей ей было. В художественной школе раньше были подружки, вернее, приятельницы. В творчестве, как ни крути, все конкуренты. Ну а как только она перестала появляться на занятиях, общение сошло на нет. Так что грош цена такой дружбе.
– Так вот, если там суждено встретить друга, надо лететь туда на всех парусах. Лорка подарил мне каплю своей смелости. Если бы не дружба с ним и с Бунюэлем, я бы никогда не набрался храбрости и не явился бы в Париже знакомиться с Пикассо. Чудовищная выходка была, должен тебе сказать. Вот только представь: сижу я себе в Кадакесе, мирно обсуждаю с Галой обеденное меню, как вдруг на пороге ты: «О, Сальвадор! Вы – мой кумир! Разрешите выразить вам свое поклонение». А я тебя знать не знаю, впервые вижу. Я бы точно выставил тебя за дверь. Пикассо оказался более мягким, но, конечно, мое явление его ошеломило. Что он мог обо мне подумать тогда? «Наглец и пустомеля», да и только. Но я никогда не жалел о том, что сделал. И ты бы тоже не пожалела. Хотя ты никогда не посмела бы вот так явиться к Дали. Куда тебе?! Ведь ты не знавала ни Лорку, ни Бунюэля. Вся беда моего дорогого Федерико лишь в том, что он любил Испанию больше самого себя, а моя вина в том, что я не смог убедить его: Испанию можно любить и на расстоянии. Ах, Лорка, мой дорогой Лорка. – Дали выудил из кармана свой белоснежный платок и промокнул глаза. И это не было театральным жестом – художник искренне скорбел о друге. – В то время как я решил отсидеться в Америке, он принял удар на себя[10]. И я ничем, ничем не мог помочь. Но что мне было делать? Я должен был, просто обязан был сохранить миру Дали. А что мне осталось от Лорки? Память. Память о его искренней любви ко мне, о нашем единении, остались его стихи и, слава богу, остался набросок, который я сделал в двадцать четвертом году. «Тройной портрет Гарсиа Лорки», с одной стороны, больше похож на дружеский шарж, а с другой – мне теперь кажется, что даже в этом черно-белом офорте видна вся глубина поэта, весь трагизм его судьбы. Я уехал в Париж в двадцать шестом, и с тех пор до самой его смерти мы виделись лишь урывками. До самой его смерти. Поверить не могу, что он умер! Как мог он оставить Дали?! Впрочем, он знал, что Дали теперь справится и без него, разберется с этой кучкой замшелых сюрреалистов во главе с Андре Бретоном[11].
Анна не знала, как остановить поток информации. Она потеряла нить разговора. Потерял ее, похоже, и сам художник, который теперь вскочил и беспокойно ходил взад-вперед вдоль скамейки.
– Обвинили меня в контрреволюционной деятельности. Сущий бред! Ведь абсолютно разные вещи – вести контрреволюционную деятельность или не вести революционную. Дали всегда хватало революций внутри его. А внешний мир был средой, в которой надо было выживать, с которой надо было считаться. Я – монархист, католик и даже, наверное, поклонник Франко. И во многом благодаря этому я тот, кто я есть. А вмешивался бы в политику и орал бы с трибун, остался бы жалким Бретоном. Дали всегда умел искусно обходить политику стороной. Жаль, что бедный Лорка не перенял этого умения. – Художник резко остановился. – Зачем я все это говорю тебе?
– Я не знаю. – Анна растерянно пожала плечами. Упоминание о Франко было ей неприятно. В ее семье к диктатору относились прохладно, и признание Дали ее покоробило.
– Я не знаю, – повторила девушка.
– Да? – Дали рассердился. – А кто будет знать? По-твоему, Дали может позволить себе бросать слова на ветер? Я говорю о том, что друзья – необходимая составляющая каждой личности. Они формируют сознание, накладывают отпечаток, они живут в тебе даже тогда, когда их уже нет. И знаешь что? Многие знакомства становятся основополагающими, ведут тебя к вершине творчества. Я обязательно расскажу о них в своем Театре-музее. Точнее, покажу. И даже не в нем самом. Еще даже не зайдя внутрь, посетители будут знать, что волновало Дали, что было для него важным и кто были его кумиры.
– Кумиры?! – Анна позволила себе реплику. Девушка не могла себе даже предположить наличие кумиров у гения.
– Именно. Художник постоянно должен кем-то восхищаться. В противном случае где, позволь узнать, искать вдохновение для творчества? Пойдем, я все покажу, и ты поймешь.
Через десять минут они уже стояли на площади у развалин театра. В это время здесь было безлюдно. Старый рыжий знакомый переместился в тень и наблюдал за неспешным променадом редких голубей, лениво помахивая хвостом. Официант таверны потягивал пиво, сидя за столиком, и не обращал никакого внимания на вошедших на площадь людей.
– Вот здесь будет главный фасад и вход. – Дали показал на уцелевшую стену театра по левую руку. Здесь ничего красного и эпатажного. Какая-нибудь светло-салатовая уютная гамма. Ни к чему людям на площади постоянно видеть шокирующую новизну сюрреализма. Она их будет ждать за углом и внутри в избытке. А здесь они лишь настроятся на знакомство со мной, и ничто не должно отвлекать их от важности происходящего. Вот на этом самом месте, – художник слегка подпрыгнул, – будет стоять памятник Франсиско Пужольсу[12]. На пьедестале обязательно должно быть одно из его легендарных высказываний. Ну, например, вот это: «Каталонская мысль всегда рождается заново и живет в своих простодушных могильщиках». Композиция монумента, конечно, будет весьма оригинальна: корневище оливкового дерева, а в нем фигура в белой римской тоге, увенчанная золотым яйцом-головой. И поза, да, поза. Франсиско будет опираться на руку подобно «Мыслителю» Родена. Это дань моего уважения и поклонения. А с задней стороны памятника я поставлю фигуру Рамона Люля.
«Кого?» – чуть не вырвалось у Анны. Она вовремя успела прикусить язык. Но, к ее счастью, художник пустился в объяснения.
– Это величайший каталонец! Один из наиболее влиятельных и оригинальных мыслителей.
– Тоже ваш друг?
Дали оглядел ее с сомнением и спросил:
– Ты откуда?
– Из Жироны, – осторожно напомнила Анна.
– Я не об этом. Мне интересно, где тебе могли внушить мысль, что человек, живший в тринадцатом веке, может быть мне другом?
– Но вы же рассказываете мне о друзьях.
Что она делает? Уже позволяет себе спорить с мэтром!
– Мы сейчас о кумирах, и я показываю тебе путь, который приготовлю для посетителей музея. Чтобы они поняли, кто такой Дали, через эти монументы. Чтобы разглядели личность через призму его интересов. Пойдем! – Художник дернул девушку за руку и повел через площадь. Они остановились у лестницы, что спускалась на улицу Жонкера. – Вот здесь, думаю, отлично будет смотреться Ньютон. Его, надеюсь, ты не запишешь мне в друзья? – Очередной неодобрительный взгляд в сторону Анны.
Она позволила себе улыбнуться. Видимо, вино еще действовало.
– Это будет яблоко-шар, свисающее с маятника. Понимаешь, о чем я?
– Сила тяжести. – Анна зарделась от собственного ума, но Дали остался недоволен.
– Ты видишь только то, что лежит на поверхности. Да, Дали почитает науку и Ньютона, да, Дали воздает ему дань. Но кто главнее для Дали: Дали или Ньютон?
– Дали.
– Именно! И что ты можешь вспомнить о Дали, исходя из этого памятника?
Как Анна ни старалась, на ум ничего не приходило. Художник смотрел на нее выжидающе, потом разочарованно взмахнул руками и сказал:
– «Свечение Лапорта», тридцать второй год.
Анна покраснела теперь от стыда. Она не знала этой картины. Да и сложно знать досконально творчество любого художника. Пусть даже и любимого, и гениального, и неповторимого. И потом, ей так немного лет. Куча времени для того, чтобы выучить о Дали все.
– Ладно, ты еще мала. – Художник снисходительно покачал головой. Я уже написал эту картину, а твоя мать, должно быть, еще сосала пустышку. На ней небольшая фигура Ньютона изображена в нижней части холста. Но откуда тебе знать? К тому же полотно не назовешь слишком известным. Но я думал, ты знаток…
– Я им стану, – горячо пообещала Анна.
Художник с сомнением посмотрел на нее, но, решив не рубить на корню благие порывы, откликнулся:
– Возможно.
Он задумчиво покрутил пальцами свой правый ус и сказал:
– Я полагаю, кто такой делла Порта, ты тоже не знаешь?
Девушка понуро подтвердила:
– Нет.
– Физик Джамбаттиста делла Порта. В тысяча пятьсот тридцать девятом году написал трактат «Натуральная магия». А в нем систематизировал знания об оптических линзах и объяснил, как использовать в художественных целях камеру-обскуру. Теперь понимаешь, о чем я?
Анна энергично закивала. Еще бы не понять! Эксперименты Дали с линзами были широко известны, а его инсталляции с их использованием привлекали публику.
– В моем Театре-музее будет представлено достаточно экспонатов, чтобы посетители полностью погрузились в магию оптики. Теперь ты знаешь, кто такой делла Порта, как он важен для меня. Он и Ньютон – два светоча, проложившие путь к истинному научному знанию.
Девушка почувствовала, что ее клонит в сон. Тепло, вино, ранний подъем, моральная усталость и тяжелые переживания дали о себе знать. К тому же слушать художника было совсем нелегко. Его знания, опыт, образованность давили на Анну. Она не знала, как реагировать, что отвечать. Постоянно боялась попасть впросак и обидеть гения. Обилие идей, имен, сведений стало ее утомлять. К тому же она не понимала, почему художник выбрал ее в исповедники. В конце концов, наверняка она не первая, кому он за десять лет рассказывает о своих планах. Скорее всего, большинство идей уже начертаны на бумаге и представлены тем, от кого финансово зависит их воплощение. А что зависит от Анны? Даже если она скажет, что украшать башню гигантскими гипсовыми яйцами по меньшей мере странно, вряд ли это остановит Дали. На самом деле ему нет никакого дела ни до самой Анны, ни до ее мнения.
Художник, казалось, не замечал усталости своей спутницы и продолжал беспечно рассказывать:
– Я предполагаю когда-нибудь установить здесь и памятники Месонье[13]. Мне очень импонирует этот художник. Ты знаешь, что он был любимым художником Пруста?
И снова Анна не знала. Впрочем, и о Месонье она только слышала. В школе они больше были заняты изучением различных техник письма, а не именами и биографиями великих художников.
– Еще я думаю уговорить Фостеля подарить мне одну из своих скульптур. Ты что-нибудь о нем слышала?
Анна чувствовала себя ужасно. Хотелось прекратить этот ликбез раз и навсегда. Но Дали уже продолжал, не нуждаясь в ответе:
– Вольф Фостель – первый европеец, начавший устраивать хеппенинги. Я обязательно упрошу его подарить Фигерасу одну из инсталляций[14]. Вот увидишь, это будет грандиозно! Ладно, похоже, Дали тебя утомил. Гала тоже иногда жалуется на мою излишнюю импульсивность. – Художник облокотился на перила лестницы и устремил взгляд куда-то в даль. – Но предполагаю, что дело вовсе не во мне. Ведь у Дали нет недостатков. – Он тут же всплеснул руками, буквально растерянно взглянув на Анну, и вскричал:
– Бог мой! Что я несу?! Выходит, что у Галы они есть. – Лицо его исказилось, из горла вырывались странные смешки. – Нет, нет, этого просто не может быть! Гала идеальна и совершенна. Гала – лучшее, что случилось со мной в жизни. Гала – это даже не любовь. Гала – это вечность. Что ты можешь сказать о любви?
Тема любви семнадцатилетней девушке была определенно ближе, чем вопросы науки и философии. Сонливость улетучилась, интерес к разговору, который, казалось, иссяк, вновь защекотал нервы, прошелестел по душевным струнам, заиграл новыми красками. Любовь. Что Анна могла о ней знать? Большинство ее ровесниц уже пережили это первое сильное чувство. В школе все это было не так явно, симпатии скорее были тайными и не выходили за рамки приличий. Обмен улыбками, перешептывания, записки. Иногда проводы домой и прогулки за ручку. На заводе отношения были уже совершенно другими. Некоторые девушки буквально немного старше Анны уже сменили не одного ухажера, другие успели выскочить замуж и даже обзавестись ребенком. Эти, не краснея, говорили о сексе, обсуждали мужчин и, не стесняясь, советовали Анне присмотреться то к одному, то к другому работяге. Анна понимала: стоит только захотеть, и к ней выстроится очередь из кавалеров. Но она не хотела, не было призыва в ее взгляде, скорее наоборот: на знакомых с фабрики смотрела она холодно и отчужденно. Они казались ей грубыми, невоспитанными, неотесанными. Нет, она не считала себя выше или лучше. Да и как такое могло казаться, если ее родители не относились к интеллигентам. Но все же зерно, посеянное в художественной школе, зерно, прорастившее тягу к высокому и прекрасному, зерно, открывшее Анне чувство любви – любви к искусству, не могло ей позволить обратить свое внимание на кого-либо из своего окружения.
Все, что могла бы она так или иначе обозначить симпатией к противоположному полу, заключалось в работе над портретом одного юноши. Ей было четырнадцать, они учились писать портрет в классе, а натурщиком был такой же юный мальчишка. Этих уроков Анна ждала с нетерпением. Педагог никак не могла понять, почему Анна так отстает от других учеников. У многих профиль модели был почти закончен, а Анна едва успела нанести на холст первые очертания лица.
– Что с тобой, детка? – удивлялась наставница.
– Никак не могу подобрать краску. – Девушка отводила глаза. Это была ложь. Анна просто забывала о том, что должна подбирать краску, наносить на холст мазки, писать портрет. Она разглядывала юношу во все глаза, будто пыталась увидеть в натурщике нечто скрытое от посторонних. А может быть, она уже это видела. За все несколько уроков юноша не произнес ни слова, кроме общего приветствия и прощания. Но даже когда он здоровался с робкой улыбкой, Анне казалось, что он обращается только к ней одной. Юноша был красив. Черты лица вытянутые, утонченные, кожа бледная, словно прозрачная – редкость для испанца. Тем интереснее смотрелись черные угли кудрей, которые обрамляли щеки и спускались до плеч. Анна рассматривала этот волшебный диссонанс и мечтала о том, чтобы вместо парочки конфет от волхвов получить шестого января прядь этих притягательных кудрей. Что, если начать вести себя плохо? Тогда ей будут положены угли[15]. А кудри натурщика так на них похожи.
Да, наверное, это душевное смятение и было тем первым трогательным чувством, которое называют первой любовью. Не было оно долгим или тяжелым. Скорее легким, одномоментным, будто дыхнувшим на нее нежностью весны и упорхнувшим далеко. И иногда манящим из этой своей призрачной дали чем-то трепетным, неведомым, очень нужным и невероятно притягательным, но пока до конца незнакомым.
Все, что могла Анна с уверенностью сказать о любви, заключалось лишь в одной фразе: «Я люблю своих родителей». Ее она и произнесла, неотрывно глядя в огромные навыкате глаза художника, взгляд которых в очередной раз изменился до неузнаваемости, как только мыслями их обладателя завладела Гала. Анне казалось это трогательным и приятным, но вовсе не удивительным. Так и должно было быть с настоящим творцом, если речь заходила о его музе. Когда она встретит человека, рядом с которым ей будет легко и уютно писать картины, она тоже будет ценить каждое мгновение, проведенное вместе, станет ценить его мнение и дорожить его оценкой. Хотя она слышала и читала, что любовь, которой Дали любил свою королеву, напоминала слепое преклонение и походило более на болезнь, чем на истинное проявление любви мужчины к женщине. Но как она могла судить о правдивости таких заключений, не зная людей, не видя их отношений. Да и сейчас она видела только одного из них. Действительно слепого в своем чувстве, действительно одурманенного, но такого счастливого, такого наполненного, такого одухотворенного, такого, каким и должен быть истинный творец. И этот творец теперь разглядывал ее с каким-то очень явным, но вместе с тем тонким сожалением.
– Любовь к родителям – это то, что настигает каждого неотвратимо. Жизнь не позволила мне до конца насладиться этим чувством, но она подарила мне счастье понять, что оно не имеет никакого отношения к той любви, которая способна вдохновлять человека на великие свершения. Гений без вдохновения невозможен. И ничто не может дать вдохновения такой силы, что сравнится по силе с вдохновением, которое дарует любовь. Так что ты знаешь о такой любви? – Дали все еще опирался одной рукой на перила и смотрел на Анну снизу вверх, но она могла бы поклясться: еще ни одной секунды за все время этого разговора не чувствовала она себя настолько ниже, мельче и глупее художника.
– Ничего.
Что еще могла она ответить? И вдруг ей стало страшно. Что, если сейчас Дали снова перепрыгнет на другую тему? В конце концов, кто она такая, чтобы открывать перед ней самые потайные шкафчики своей души? В памяти всплыл один из излюбленных образов художника. Он часто использовал его на картинах и воплощал в отдельных скульптурах: женская фигура в платье, из которого выезжают до разного уровня выдвинутые ящики. Одни открыты полностью, другие наглухо задвинуты. Очень точный образ человеческой души. Да, художник имел в виду женщину с ее тайнами, секретами, темными сторонами натуры, но, как говорится, у каждого есть свои скелеты в шкафу, и любой мужчина не исключение. Что, если Дали именно сейчас решит, что и без того поведал Анне слишком много? Нет-нет! Она не может позволить ему так поступить. Сменить тему, когда она ловит каждое слово, когда снова напряжена до предела, боясь пропустить нечто очень важное, интересное, совсем не известное, но почему-то заранее представляющееся близким и понятным. И Анна решилась, попросила тихо, чуть склонившись к лицу художника. Нет-нет, никаких прикосновений, никакого дыхания у лица, никакого намека на дружескую близость. Дали слишком брезглив, чтобы позволить такое едва знакомому человеку. Девушка боялась упустить момент. А потому одно лишь робкое слово, произнесенное одновременно и с достоинством, и с подчеркнутым почтением: