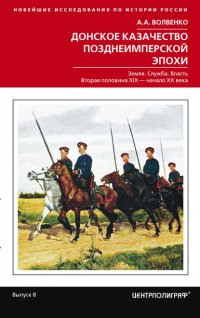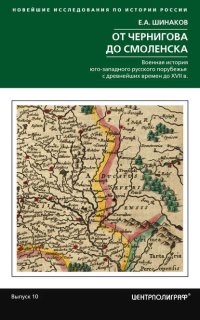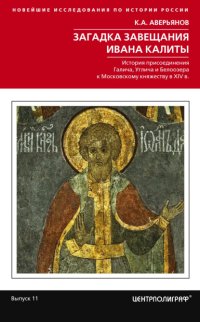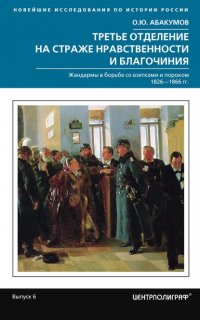
Читать онлайн Третье отделение на страже нравственности и благочиния. Жандармы в борьбе со взятками и пороком. 1826—1866 гг. бесплатно
- Все книги автора: О. Ю. Абакумов
© Абакумов О. Ю., 2017
© «Центрполиграф», 2017
* * *
Предисловие
При учреждении в 1826 г. Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии полномочия этого ведомства были определены достаточно широко. К компетенции новой структуры относились «все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей полиции»[1]. В указе от 3 июля 1826 г. перечислялись «предметы занятий» отделения, в частности сбор сведений о сектах и раскольниках, фальшивомонетчиках, лицах, находящихся под надзором полиции, статистические данные о «всех без исключениях происшествиях», а также обеспечение «высылки и размещения лиц подозрительных и вредных» и все постановления и распоряжения об иностранцах[2].
Указанными предметами деятельность политической полиции не ограничивалась. За десятилетия сфера интересов «высшей» полиции («тайной», «политической» полиции, как еще называли Третье отделение) вполне определилась. Если посмотреть годовой отчет отделения за 1857 г., то в нем можно найти информацию не только о «политических преступлениях», но и о «злоупотреблениях и неприличных действиях служащих лиц», о «противозаконных действиях частных лиц», о наблюдении за иностранцами, прибывшими в Россию, и сведения о раскольниках, фальшивомонетчиках, контрабандистах. Например, раздел отчета «о чрезвычайных происшествиях» включает подразделы «о крестьянском вопросе», «о жестоком обращении», «о буйстве», «о грабежах и разбое», «о похищении казенных сумм», «о похищении и насилии девиц», «об убийствах», «о дуэлях», «о самоубийствах», «о пожарах», «о ярмарках»[3].
Каждый годовой отчет заканчивался, как правило, аналитическим обобщением общественных настроений в стране («Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления», «Нравственно-политический отчет», «Политическое обозрение», «Нравственно-политическое обозрение» и т. д.). Естественно, в годовых отчетах сведения о политической борьбе, событиях общественной жизни, криминальных происшествиях докладывались императору в обобщенном виде, часто даже языком статистики. Лишь самые яркие, показательные эпизоды прорисовывались четким контуром.
В значительной степени Третье отделение осуществляло функции наблюдательной полиции, «всевидящего ока», замечающего и транслирующего во власть информацию о нарушениях, злоупотреблениях помещиков и должностных лиц, притеснениях, произволе, взяточничестве чиновников, казнокрадстве и проч.
С момента учреждения Третьему отделению отводилась роль «центрального штаба по наблюдению за мнением общим и духом народным»[4], поэтому события повседневной жизни россиян не оставались без внимания его чиновников. В сводках, поступавших шефу жандармов, обобщались рапорты губернских жандармских штаб-офицеров и сведения, полученные от собственных агентов и шпионов столичной полиции. Чиновники Третьего отделения включали в итоговый обзор информацию о значительных событиях и о реакции на них, отмечали наиболее важные или просто забавные новости и слухи, докладывали поступившие жалобы, уточняли, корректировали сообщенные ранее сведения, давали аналитические оценки (иногда весьма эмоциональные) произошедшему. Часто в завуалированном виде, чтобы не раскрывать источники информации, например, как «полученные частным образом», сведения передавались министрам, губернаторам, местным предводителям дворянства, прочим должностным лицам для немедленного принятия мер. Именно из этих материалов, сохранившихся в фондах Секретного архива Третьего отделения[5], почерпнуты сведения о происшествиях, проступках, радостных и печальных событиях повседневной жизни россиян 1826–1866 гг. – периода трогательной опеки политической полиции общественной и частной жизни.
Большую информационно-надзорную работу осуществлял небольшой чиновный аппарат. Согласно «Адрес-календарю» на 1832 г., в этом ведомстве служило 20 чел., включая чиновников, занятых главным образом перепиской бумаг. В 1866 г. в штате Третьего отделения состояло 34 чиновника[6].
Во главе отделения находился главноуправляющий, одновременно являвшийся и шефом жандармов. Первым руководителем тайной полиции был граф А. Х. Бенкендорф (1826–1844), его сменил граф А. Ф. Орлов (1844–1856), а после его назначения председателем Государственного совета возглавил политическую полицию князь В. А. Долгоруков (1856–1866). Все они были представителями высшей военной элиты, крупными землевладельцами, личными друзьями императоров, оказывавших им особое доверие и расположение. Вторым лицом в отделении, организатором и координатором охранительных действий полиции, был управляющий Третьим отделением, а с 1839 г. он же совмещал должность начальника штаба корпуса жандармов[7].
Уже при графе А.X. Бенкендорфе стала создаваться система территориальных органов политической полиции. С принятием «Положения о корпусе жандармов» (1836) страна была поделена на 7 жандармских округов, во главе с жандармскими генералами, в губерниях находились жандармские штаб-офицеры и небольшие жандармские команды. Три жандармских дивизиона были дислоцированы в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве. Численность корпуса жандармов также значительно не менялась (в 1836 г. – 5164, а в 1863 г. – 4978 чел.)[8].
Существовала легенда о том, что при учреждении Третьего отделения Николай I вручил А. Х. Бенкендорфу платок и сказал: «Вот тебе все инструкции. Чем более отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям!»[9]
Достоверность события косвенно подтверждается жандармской инструкцией, обязывавшей чиновников ведомства заботиться о бедных и сирых, защищать гонимых, предотвращать семейные неурядицы и быть блюстителями общественной нравственности; от имени государства и для блага государства обеспечивать тишину, порядок, подчинение старшим и благочиние.
Современники и потомки много ехидничали по поводу чистоты помыслов императора и аутентичности понимания поставленных им задач шефом жандармов. Однако до сих пор неполитическая деятельность Третьего отделения не только не изучена, но даже и не особо интересовала исследователей.
Одним из первых обратился к документам Третьего отделения и показал действие механизма административных репрессий не за политическое вольномыслие, а за бытовое поведение ярославский краевед Л. Трефолев[10]. Закрытость жандармских архивов и политические потрясения в стране не способствовали научной разработке темы.
Первые советские исследования политического сыска были направлены на обличение полицейского произвола и вскрытие тайн царской политической полиции. И. Троцкий показал структуру, основные направления деятельности жандармского ведомства, дал яркие портретные харак теристики руководителям и корифеям политического сыска[11]. В его работе «Жизнь Шервуда-Верного»[12] и в книге С. Я. Штрайха[13], посвященной Роману Медоксу, раскрыты приемы действий доносчиков и провокаторов, вносивших «политику» в размеренную жизнь провинциального общества, показаны последствия такой «оперативной» работы, ломавшие судьбы людей и жизненные планы.
В постсоветский период значительное количество популярных работ было посвящено анализу агентурной работы[14], обличению чрезмерной закрытости органов безопасности в авторитарной государственной системе дореволюционной России[15]. Порицалась система тотального полицейского надзора, цензурного контроля, административных репрессий[16]. Сюжеты не связанные с политической деятельностью Третьего отделения в этих книгах не рассматривались.
В последние десятилетия проявился большой интерес к изучению бытовой истории, истории повседневности. Вопросы сексуальной культуры освещены в трудах И. Кона[17], история борьбы и попытки государственной регламентации проституции активно изучались дореволюционной историографией, а сейчас представлены в работе Н. Б. Лебиной и М. В. Шкаровского[18], проблемы ограничения потребления вина, традиции пьянства и разгула изучены И. В. Курукиным и Е. А. Никулиной[19], трансформация семейных устоев модернизирующейся России проанализирована Н. Л. Пушкаревой, И. Юркиной, С. А. Экштутом[20], праздничной культуре россиян посвящены исследования А. Ф. Некрыловой, Ю. М. Лотмана и др.[21], повседневная жизнь столичных и провинциальных социумов показана Л. В. Кошман, В. Боковой, А. Б. Каменским, А. И. Куприяновым[22].
Источники, привлеченные для данного исследования, достаточно разнообразны. Наряду с упоминавшимися архивными материалами использовались опубликованные официальные документы[23] (инструкции, жандармские отчеты, записки), а также источники личного происхождения: записки, воспоминания, дневники, письма современников, необходимые для понимания особенностей эпохи и менталитета россиян, выяснения специфики восприятия полицейской опеки, оценки эффективности охранительных мер поддержания порядка.
В этом исследовании отражена не сыскная и репрессивная деятельность Третьего отделения, а показана «воспитательная» роль политической полиции, проанализировано участие «высшей» полиции в нравственном контроле частной и общественной жизни россиян, во внесудебном разрешении семейных и бытовых конфликтов, в формировании и сохранении норм общественной нравственности и порядка.
Глава 1. Третье отделение и надзор за обществом
В своих «Записках» А. Х. Бенкендорф, говоря о целях создания высшей полиции, писал: «Император всеми способами пытался вырвать корни тех злоупотреблений, которые проникли в аппарат управления и которые стали явными после раскрытия заговора, обагрившего кровью его вступление на престол»[24]. В первой жандармской инструкции (1826) указывалось, что жандармы должны были «споспешествовать благотворительной цели Государя Императора и отеческому Его желанию утвердить благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть их охраняемыми законами и восстановить во всех местах и властях совершенное правосудие». Целью их службы должно было стать «предупреждение и отстранение всякого зла», поэтому следовало «обратить внимание на беспорядки и закону противные поступки во всех частях управления», «наблюдать, чтоб спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо личною властию, или преобладанием сильных лиц, или пагубным направлением людей злоумышленных», а также «внимать гласу страждущего человечества и защищать беззащитного и безгласного гражданина»[25].
Службу свою жандармы должны были нести «не щадя трудов и заботливости, свойственных верноподданному», действовать так, чтобы можно было «добрыми вашими внушениями… поселить в заблудших стремление к добру и возвести их на путь истинный прежде, нежели обнаружить гласно их худые поступки пред правительством». Избранные на службу офицеры должны были обладать высокими моральными качествами: «Свойственные вам благородные чувства и правила несомненно должны вам приобресть уважение всех сословий, и тогда звание ваше, подкрепленное общим доверием, достигнет истинной своей цели и принесет очевидную пользу Государству». С этой задачей не все, видимо, получалось, поэтому в Дополнении к инструкции разъяснялось, как именно надлежит завоевывать уважение: «Приличной покорностью и чинопочитанием к особам Вас старшим; благородным и приветливым обращением с равными Вам, ласковым и снисходительным обхождением со всеми прочими сословиями, – Вы, конечно, достигнете общего уважения и доверенности к себе и тем поставитесь в возможность выполнять возлагаемую на Вас обязанность с успехом»[26]. На этом не следовало останавливаться, жандармы должны были «по собственному влечению […] сердца» отыскивать чиновников, служащих «бескорыстно верой и правдой, не могущих сами снискать пропитание одним жалованьем». О них необходимо было докладывать шефу жандармов «для оказания им возможного пособия» и тем самым выполнять волю императора – «отыскивать и отличать скромных вернослужащих»[27].
Кадровая политика при формировании корпуса жандармов осуществлялась под непосредственным контролем А. Х. Бенкендорфа, который, как отмечалось в «Обзоре деятельности Третьего отделения С. Е. И. В. к. и корпуса жандармов за 25 лет. 1826–1850», «как бы передал подчиненным свою честность, свой дух нетерпимости всякого преступления и свое неусыпное стремление к покровительству несчастных»[28]. Эта же мысль звучала в отчете политической полиции за 1842 г.: шеф жандармов «прилагает всевозможное старание о приглашении во вверенный ему корпус людей добрых и честных, – и, в случае неудачного выбора, сей час удаляет от себя недостойных»[29].
Формирование корпуса шло на декларированных принципах. Молодой офицер Л. В. Дубельт убеждал свою супругу: «Ежели я, вступая в корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда доброе мое имя, конечно, будет запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорою бедных, защитою несчастных; ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжебным делам прямое и справедливое направление, – тогда чем назовешь ты меня? Не буду ли я тогда достоин уважения, не будет ли мое место самым отличным, самым благородным? Так, мой друг, вот цель, с которой я вступаю в корпус жандармов»[30]. Другой офицер, сменивший флотский мундир на жандармский, Э. И. Стогов, отмечал именно моральный аспект нового служения: «Я – Жандарм, то есть нравственный полицмейстер»[31].
О непростом процессе поиска кандидатов на жандармскую службу свидетельствует переписка А. Х. Бенкендорфа с великим князем Константином Павловичем. Последний, уклоняясь от настойчивой просьбы шефа жандармов порекомендовать каких-либо офицеров для службы в губерниях Царства Польского, писал: «Не имею в виду, кого бы вам представить для занятия этих должностей, с коими связано столько высших интересов и которые, естественно, требуют большой ответственности […] надобно быть убеждену как в умении, так и в честности лица, прежде чем взять на себя ответственность за него, в случае если бы он имел несчастие повредить благу службы […] Эти места столь доверенные, что на них надо назначать офицеров, за которых можно отвечать, так сказать, как за самого себя»[32]. При этом предложенную кандидатуру этнического поляка великий князь отверг, ссылаясь именно на невозможность полагаться только на нравственные качества: «Трудно, и даже почти невозможно, ручаться, что он не поколеблется предъявлять прямую и чистую истину, предвидя, что она повредит или его родственнику, или приятелю […] в таких случаях, его привязанности или слабости всегда возьмут верх над требованиями службы»[33].
Многие жандармы деятельно включились в исполнение своих обязанностей. А. Булгаков писал брату о начальнике московского жандармского округа А. А. Волкове: «Волков разворачивает обширную деятельность и беспрестанно занят комиссиями, кои все стремятся к искоренению злоупотреблений и воровства»[34]. Ф. В. Булгарин сообщал в Третье отделение 6 июня 1828 г.: «Рассказывают чудеса о жандармском полковнике в Вильне Рутковском. Он привел в ужас всех злоупотребителей»[35].
Орловский жандармский штаб-офицер полковник М. Н. Жемчужников, выявив факты подкупа и подлога, найдя пропавшие документы, встречая противодействие местных гражданских чиновников и лиц духовного ведомства, добился восстановления законных прав детей-сирот майора Подымова[36].
Жандармское начальство в юбилейном «Обзоре» отмечало усердную службу офицеров в чрезвычайных обстоятельствах. Во время эпидемии холеры: «Жандармы были посылаемы во все места пораженные холерою, удостоверялись о влиянии бедствия на дух жителей, на торговлю и промышленность, отвращали злоупотребления в карантинных и других предохранительных местах, являли примеры самоотвержения и пожертвования своею собственностью, многие […] благоразумными распоряжениями удержали спокойствие, которое готово было нарушиться в разных местах империи»[37]. В черновике документа приводился пример подвижнической деятельности подполковника Волкова, который в городе Козлове Тамбовской губернии во время холеры «учредил больницу и сам лечил страждущих»[38].
Подобные случаи были не единичны. Жандармский штаб-офицер в Саратовской губернии А. И. Шомпулев в период эпидемии «проводил дни и ночи на коне, объезжая верхом город, кладбища и по нескольку раз посещая больницу». Его решительные действия предотвратили волнения горожан, «и затем голубой мундир был всюду приветствован населением при его появлении»[39]. Правда, сам штаб-офицер эпидемию не пережил.
Примеры героического, самоотверженного поведения жандармов были не редки. По повелению императора окладом годового жалованья (720 руб.) был награжден начальник нижегородской жандармской команды штабс-капитан Нациевский, спасший на пожаре престарелую женщину[40]. В приказе по корпусу жандармов сообщалось «о похвальном и человеколюбивом подвиге» поручика Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Тельнова, отличившегося «при спасении погибавших в объятом пламенем доме помещицы Веселкиной, матери ее госпожи Струниной, юродивой девки и пятимесячного младенца». Кроме пожалования 200 рублей серебром жандарм был награжден золотой медалью с надписью «За спасение погибавших» на Владимирской ленте[41].
Основной вид жандармской службы – надзор – зачастую приводил к открытию серьезных преступных действий. В 1832–1833 гг. полковник Маслов «обнаружил тайную торговлю золотом, которое похищалось с Екатеринбургских горных заводов; нашел не только похитителей, но и делателей фальшивой монеты и самую машину для чекана; в продолжении двух лет с чрезвычайной осторожностью производил исследование по этому предмету»[42].
Жандармские офицеры направлялись в отдаленные регионы России для содействия местным властям в обнаружении и искоренении недостатков. В 1837 г., «по случаю усилившихся злоупотреблений в Восточной Сибири», в длительную командировку (более чем на год) были направлены два жандармских офицера: подполковник Ливенцов – в Кяхту и Забайкальский край, а штабс-капитан Вершеневский – в Якутскую область и Охотск. «Открыв многие беспорядки, они представили главному местному начальству свои соображения к улучшению разных частей управления»[43], – сообщалось в официальном отчете.
Многоплановость обязанностей и разнообразие служебных поручений предполагали наличие у офицеров широкого кругозора, знания законодательства и коммуникативных качеств, позволявших легко устанавливать межличностные контакты и преодолевать конфликтные ситуации: «Служба жандармов требует способностей ей одной свойственных; кроме ума, ревности и знания гражданского делопроизводства, должно проникать в сердца людей, владеть искусством жить со всеми в согласии, уметь в тех или других случаях уклоняться от разных столкновений. Жандармы должны за всем смотреть и не быть явными полицейскими чиновниками; обо всем доносить и не заслужить названия шпионов и доносчиков; преследовать всякое преступление и не входить ни с кем ни в малейшую вражду; не укрывать злоупотреблений даже начальствующих лиц и в то же время оставаться в полном подчинении им: все это беспрерывно поставляет их в затруднительное положение, в борьбу с разными лицами и с своим долгом»[44]. «Более можно найти способных людей для войны или для кабинетных занятий, нежели для службы жандармской»[45], – сетовал шеф жандармов.
В обществе известие о создании полиции приняли настороженно. М. А. Дмитриев писал: «Жандармы, вместо уважения, были во всеобщем презрении»[46].
Ф. Ф. Вигель писал о корпусе жандармов: «Весь этот обсервационный корпус был сформирован к концу года, как ни трудно было сначала склонить несколько порядочных людей войти в него. Голубой мундир, ото всех других военных своим цветом отличный как бы одеждою доносчиков, производил отвращение даже в тех, кои решались его надевать»[47]. Э. И. Стогов хотя и писал, что его товарищи-офицеры ему завидовали, но приводил слова своего тестя, который прямо ему сказал: «Вы в голубом мундире, этого мундира никто не любит»[48].
В отчетах Третьего отделения, хотя и отмечалось настороженное отношение к жандармам, в то же время подчеркивалось позитивное их восприятие в массе неслужащего населения. В 1827 г.: «Большинство стоит за Государя Императора, оно одобряет учреждение жандармерии, коей недоброжелатели страшатся, как пугала»[49]. В 1828 г.: «В провинции, где нет жандармов, все классы желают их присутствия как защитников от чинимых властями неприятностей и раздоров между ними. До сих пор все интриги и глухие инсинуации разбивались о порог надзора, который внушает страх честолюбцам, интриганам, лихоимцам и взяточникам»[50]. 1829 г.: «Институт этот при его учреждении внес вообще смятение в настроение общества, но в настоящий момент, благодаря спокойной и осторожной деятельности жандармерии и довольно удачному выбору людей, общественное мнение по отношению к ней почти единодушно настроено благоприятно»[51].
К этим мыслям шеф жандармов возвращался неоднократно, подчеркивая, что против жандармов высшие чиновники, которые тяготятся надзором, а безусловно за – простые люди. Что ставилось в заслугу? Прежде всего скорое разрешение конфликтных ситуаций: «В обществе не обращают внимание на то, что в губерниях нет ни одного штаб-офицера, к которому не обращались бы обиженные и не искали бы его защиты; не говорят, что нет дня в Петербурге, чтобы начальник округа, начальник штаба, дежурный штаб-офицер не устраняли вражды семейные, не доставляли правосудия обиженному, не искореняли беззакония и беспорядков»[52].
Благотворное влияние присутствия жандармов ощущали простые люди, часто становившиеся жертвами злоупотреблений должностных лиц. В отчете за 1834 г. отмечалось, что присутствие при приеме рекрутов жандармских штаб-офицеров «принесло ощутительную пользу, ибо очевидно уменьшились те зла, какие прежде по корыстолюбию и проискам существовали при рекрутских наборах». А. Х. Бенкендорф писал: «Нередко взятые неправильно в рекруты были возвращаемы в свои семейства, а на место их поставлялись лиходавцы, старавшиеся избегнуть своих очередей посредством подарков. Теснимые бедные крестьяне обращались к жандармским офицерам с жалобами, которые тогда же разбирались, и правый проситель имел в них защиту. О допущенных злоупотреблениях, которые не могли быть истреблены на месте, они доносили мне, что и было сообщаемо министрам: военному, финансов и в особенности внутренних дел»[53].
К. Н. Лебедев высказывал компромиссное суждение, отмечая: «Нельзя не признаться, что учреждение корпуса жандармов, следствие обстоятельств в начале царствования, могло быть и действительно иногда полезно. Значение его в первые годы было очень высоко: нельзя также не заметить, что главные начальники, граф Бенкендорф, А. Н. Мордвинов и все чины корпуса в секретной полиции – люди честные, благонамеренные и деятельные»[54]. Как видим, субъективный, личностный критерий был определяющим для оценки функционирования столь важной административной структуры.
Если П. Г. Дивов считал, что А. Х. Бенкендорф управляет высшей полицией «с большим умом и не отравляет спокойствия императора совершенно не нужными доносами»[55], то сенатор К. И. Фишер считал его человеком беспечным, а управляющего Третьим отделением А. Н. Мордвинова – фигурой совершавшей «злодейства инквизиции»[56]. Можно привести еще множество свидетельств современников о персоналиях, стоявших во главе жандармского ведомства, содержащих диаметрально противоположные оценки их личностей.
Отголоски критических суждений, особенно в среде высшего чиновничества, доходили до сведения жандармов. О таких деликатных беседах А. Х. Бенкендорф сообщал в отчете: «В разговорах об этом предмете с шефом жандармов употребляют всегда некоторую вежливость, что это учреждение при его управлении заключает в себе много полезного и что в иных руках оно должно и может иметь весьма пагубные последствия, и эти рассуждения заставляют шефа жандармов давать всегда один и тот же ответ: что Государь будет уметь сделать выбор хороший и что весьма ошибаются, ежели полагают, что можно обманывать прозорливость и опытность Царя во вред частных лиц»[57]. Негативные суждения о своих подчиненных глава политической полиции в докладе императору парировал следующим тезисом: «Обвинители находят легче обвинять второстепенных чиновников, которые не столь сильны, нежели их начальника, который, может быть, имеет более пороков, нежели все его подчиненные»[58].
Не только высшие офицеры были в поле зрения руководства корпуса жандармов. В приказах по корпусу постоянно отмечалось усердие и даже «чрезвычайное усердие» нижних чинов корпуса в выполнении своих обязанностей. О характере этой службы можно судить по «Положению о корпусе жандармов» 1836 г., в котором было определено использование нижних чинов корпуса жандармов для приведения в исполнение законов и приговоров суда, «поимки воров, беглых, корчемников, преследования разбойников и рассеивания законом запрещенных скопищ», «усмирения буйств и восстановления нарушенного повиновения», преследования контрабандистов, сопровождения арестантов, обеспечения порядка на ярмарках, торжищах, церковных и народных праздниках»[59].
В 1828 г. 37 жандармов были отмечены в приказе по корпусу жандармов за следующие заслуги: поимку беглых, солдат, рекрутов, кантонистов, за раскрытие обмана одного крестьянина при продаже лошадей на ростовской ярмарке, за спасение утопающего 10-летнего мальчика, за возвращение хозяевам потерянных вещей. Так, унтер-офицер Ф. Астафьев получил 50 руб. за то, что «подвергая себя очевидной опасности, остановил в степи близ г. Николаева скачущую лошадь и тем спас жизнь крестьянскому мальчику Гусеву, который, быв запутан в вожжи, был в совершенной опасности»; рядовой И. Соловьев во время дежурства в Зимнем дворце нашел золотую табакерку и возвратил ее графине Строгановой, за что получил 25 руб. от шефа жандармов[60].
В 1830 г. в приказе по корпусу в числе отличившихся названы два жандарма, которые во время пожара в Орле «первые бросились в пламя, выбрасывали товары, ломали строение, стараясь всемерно прекратить пожар, чем подали пример бывшим тут жителям»; вновь отмечен столичный жандарм, нашедший и вернувший маленькую дамскую золотую табакерку; опять же упоминается спасение жандармами тонувшего мальчика и людей, провалившихся под лед. Особо отмечены нижние чины корпуса, которые при поимке беглых и мошенников не брали сулимых им денег за освобождение из-под стражи[61].
В декабре 1830 г. случилось происшествие, вызвавшее особую эмоциональную реакцию шефа жандармов. Рядовой Михаил Васильев, находясь «при Тверской заставе для наблюдения за порядком, осмелился взять 10 коп. серебром с вольноотпущенного человека за пропуск его в Москву». Провинившийся по распоряжению московского военного генерал-губернатора был публично наказан 160 ударами розг перед дивизионом. Однако А. Х. Бенкендорф не посчитал дело закрытым: «С моей стороны, находя, что степень подобного преступления превышает меру наказания, которое было наложено на виновного, тем более что сим действием корыстолюбия Васильев наносит бесчестие всем сослуживцам, я предписываю предать его военному суду, по окончании коего будет сделано особое распоряжение к соразмерному его вине наказанию и о выключке его из жандармов, как недостойного служить в корпусе, в котором честность и добрая нравственность должны быть для каждого первою и отличительнейшею чертою его поступков»[62].
Далее А. Х. Бенкендорф напомнил всем служащим в корпусе, что высокие нравственные требования являются обязательным атрибутом жандармской должности: «С крайним соболезнованием усмотрев из сего, что между нижними чинами вверенного мне корпуса нашелся жандарм, не постигший прямой и благородной своей обязанности и который, будучи движим позорным чувством корыстолюбия, предпочел корысть доброму имени, я уверен, что единственный пример сей преисполнит справедливым негодованием всех нижних чинов корпуса жандармов, и что они, разделяя со мной чувство презрения к подобным поступкам, потщатся усердною, честною и беспорочною службою явить себя достойным служить в том корпусе, в котором все без исключения должны руководствоваться справедливостью, верностью, чистой совестью и непорочною нравственностью»[63].
В приказах по корпусу жандармов упоминаются случаи исключения из службы нижних чинов за появление при исполнении своих обязанностей или в части в нетрезвом виде, разжалования в рядовые за «дурные поступки», взыскания за оставление дивизиона без разрешения, продажу найденных вещей и др. После случая в Санкт-Петербургском жандармском дивизионе, когда рядовой С. Чижов «снял с седла товарища своего жандарма Д. Яншина казенную попону и […] продал в питейном доме за 80 копеек», последовало распоряжение «впредь жандармов изобличенных в воровстве придавать суду»[64].
Обращения шефа жандармов к нижним чинам через зачитываемые перед строем приказы поддерживали видимость прямой связи командира и рядового, демонстрировали хорошую осведомленность о деталях службы и быта, о проступках и успехах, заботу о нуждах и нравственном облике. Моральные сентенции должны были оказывать сильное эмоциональное воздействие, дополнявшее физические методы приведения в повиновение, практикуемые начальниками команд и командирами частей.
А. Х. Бенкендорф сетовал: «До сего времени я радовался хорошему поведению и честным поступкам всех нижних чинов корпуса жандармов […] Нижние чины […] сами знают, как я всегда старался доставлять им все возможные выгоды; старания сии были последствием их хорошего поведения, и теперь вдруг несколько случаев помрачили их честную службу, тем что мне самому стыдно за них». Способом исправления предполагалась своеобразная круговая порука, взаимная ответственность и контроль поведения: «Оставаясь в уверенности, что все они [нижние чины. – О. А.] будут стараться загладить поступки своих недостойных товарищей, что впредь сами будут смотреть друг за другом и служить так, чтобы до меня ничего не доходило, кроме хорошего»[65].
Видимо, подобная практика имела эффект. Во всяком случае, в отчете за 1843 г. отмечалось: «Что же касается до нижних чинов, то они, очевидно, гордятся своим званием, и нравственность их превзошла даже ожидания шефа. Доказательством тому служит то, что выключено из корпуса в течение 1843 года только 25 человек, и те за самые маловажные проступки, тогда как они по роду службы своей имеют беспрерывные случаи вести себя нетрезво и недобропорядочно»[66].
Руководствуясь высокими нравственными критериями при формировании персонального состава и определении порядка службы, шеф жандармов тем не менее допускал, что в корпусе могут быть кадровые проблемы: «Корпус жандармов не может не иметь недостатков, ибо в состав оного входят люди, подверженные большим или меньшим неизбежным слабостям, так точно, как и во всех других государственных учреждениях»[67]. Упоминая о том пристрастном отношении к корпусу жандармов, которое существовало в высшем обществе и чиновных сферах, шеф жандармов логично замечал, что в этой ситуации жандармы оказывались под особо пристальным и пристрастным надзором. В этих условиях недовольные «скорее обнаружили бы […] действительное злоупотребление или лихоимство кого-либо из членов корпуса жандармов […] если бы эти пороки между ними существовали»[68].
В отчете за 1841 г. А. Х. Бенкендорф прокомментировал высказанные ему в откровенном разговоре замечания генерал-адъютанта А. А. Кавелина, касавшиеся злоупотреблений, приписываемых корпусу жандармов. Судя по объяснениям, приведенные аргументы на поверку оказывались всего лишь неточными сведениями или действиями, необоснованно приписываемыми жандармским офицерам. На сей счет шеф жандармов писал: «Если бы чиновников сместили с занимаемого им места или вообще лицо частное было наказано, основываясь на одних сведениях, от жандармов полученных, и что в этих случаях делу дается окончательное течение только тогда, когда получены бывают подробные исследования от губернаторов, предводителей дворянства и самих министров, которым все и всегда предварительно сообщается»[69]. Не зная всю цепочку сбора, проверки сведений и следственных действий, обыватели административные репрессии приписывали жандармским наблюдателям, толкуя их действия расширительно. Именно на это обращал внимание императора шеф жандармов, отмечая, что недовольные «приписывают ему [корпусу жандармов. – О. А.] далеко обширнейший круг действия, нежели Вашему Императорскому Величеству благоугодно было ему начертать»[70].
Шеф жандармов признавал, что «хотя старается он принимать под начальство свое с строгой разборчивостью», тем не менее на службу могли попасть «люди не совершенно способные». Кто же они? «Это люди, которые обладают хорошими качествами, но не имеют необходимой ловкости ладить со всеми в тех или других случаях, в которых положение их почти всегда затруднительно, ибо лица начальствующие всегда взирают на них как на людей им неприязненных»[71]. Межличностные конфликты, тенденциозность, односторонний взгляд на расследуемые происшествия, «неуместные действия», напряженные отношения с губернаторами чаще всего были причинами удаления губернских офицеров со службы. В отчете за 1841 г. отмечено, «с какой поспешностию были удаляемы из корпуса жандармов чиновники, которые по тем или иным причинам не заслуживали оставаться в оном: генерал-майор Фрейганг – единственно за то, что неясно видел Виленское дело, уволен от службы; подполковник Лобри за то, что только увлекся неблагонамеренными происками коллежского асессора Анисимова, удален из корпуса; по тому же делу майор Гарижский отставлен, коллежский асессор Стратанович переведен в другое ведомство. Далее подполковник Гейкинг, Душенкевич, Быков 1-й, Быков 2-й, Огарев, майор Шишмарев и сверх того некоторые обер-офицеры по разным случаям», но никогда за лихоимство, были удалены из корпуса»[72].
В немного измененном виде фрагмент этого отчета вошел в юбилейный «Обзор» Третьего отделения: «Но, выставляя иногда неуместные действия жандармов, гражданские власти никогда не обвиняли их в поступках нечистых или корыстолюбивых. Некоторые […] были удалены из корпуса жандармов или потому, что не умели сохранить согласия с губернскими начальствами, или увлеклись неправильными действиями других следователей, или сами неверно поняли дело, но в продолжении 25-летия не было ни единого примера, чтобы жандармский офицер обвинялся в лихоимстве. Даже из нижних чинов [единственный кто] покусился принять в подарок 10 коп. и тот за то был исключен из жандармов»[73].
При этом суждения шефа жандармов о бескорыстии своих сослуживцев не выглядели аксиомой. В отчетах императору он постоянно прибегал к доказыванию этого тезиса, апеллируя к их имущественному положению: «Генерал-адъютант Кавелин лично доводил до сведения шефа жандармов о бедности штаб-офицеров сего Корпуса и о необходимости удвоить и даже утроить их содержание, говорил о бедности, которая не доказывает ли ясно их бескорыстие»[74]. Эта же мысль подчеркнута в юбилейном «Обзоре»: «Все жандармские офицеры, равно как и чиновники III отделения, которые не имеют своего состояния, живут далеко не в изобилии, издерживая никак не более того, сколько получают казенного содержания. Непредвиденные случаи, заставляющие выходить из ежедневных расходов, поставляют их в такое положение, что без пособия, которое шеф жандармов назначает им, они находились бы в бедственной крайности»[75].
Повторялась и мысль о том, что «выбор людей в корпус жандармов часто бывает удачен», так как «нет почти ни одного министра, ни одного генерал-губернатора, который не просил бы шефа жандармов уступить ему чиновника»[76]. Еще один аргумент касался существовавшего надзора за надзором: «Флигель-адъютанты Вашего Императорского Величества, ежегодно бывающие во всех губерниях, люди в этом деле совершенно беспристрастные, по просьбам шефа жандармов всегда собирали местные известия о жандармских штаб-офицерах и передавали о них самые лучшие отзывы, в чем от них самих легко удостовериться можно»[77]. Таким образом, система государственного управления допускала параллельный эпизодический контроль за высокопоставленными агентами правительственного надзора, следившими за губернскими чиновниками и обывателями.
Крестьянский вопрос, или вопрос существования крепостного права, был важнейшим в общественно-политической жизни России первой половины XIX века. Несмотря на запрет публичного обсуждения, эта проблема буквально каждодневно вторгалась в повседневную жизнь россиян. Известны слова А. Х. Бенкендорфа, приведенные в отчете императору за 1839 г.: «Весь дух народа направлен к одной цели, к освобождению […] Вообще крепостное состояние есть пороховой погреб под государством, и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же». «Теперь крепостные люди не почитаются даже членами государства и даже не присягают на верность Государю. Они состоят вне закона, ибо помещик может без суда сослать их в Сибирь», – сетовал шеф жандармов, полагая, что «лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа»[78].
Однако «начать» не получалось, и в 1850 г. уже другой шеф жандармов, А. Ф. Орлов, убеждал императора: «Крепостное состояние в России есть не рабство, как представляют себе иностранцы, но отеческая власть, под которой простой народ более счастлив, нежели бедствует»[79].
Но были и детали, о которых А. Ф. Орлов хорошо знал, участвуя в работе секретного комитета 1 марта 1846 г., в котором обсуждалась записка министра внутренних дел по крестьянскому вопросу. Его суждения не вызывали особых споров: «Власть помещика, как поземельного владельца, есть орудие и опора самодержавной власти. Он есть ближайший блюститель над народонаселением в 24 миллиона душ обоего пола, и на нем лежит ответственность пред Самодержавной властию за спокойствие и довольствие сей огромной части ея подданных. Власть помещика не должна, однако ж, быть не ограничена, и крестьянин должен быть огражден законами от злоупотребления оной […] Права личные и по имуществу суть первые условия гражданства»[80]. Высшие чиновники признавали, что первыми действиями правительства должны быть «точное определение власти помещика над личностью крестьян в степени необходимой для охранения спокойствия и порядка» и «дарование крестьянам права жалобы на злоупотребления помещичьей власти»[81].
В другом документе, в «всеподданнейшей» записке Второго отделения С.Е.И.В.к. «О собственности крепостных людей» (30 ноября 1847 г.) Д. Н. Блудов сравнивал положение римских рабов («человек […] принадлежал, можно сказать, душой и телом своему господину», то есть был по сути вещью) и крепостных. Главноуправляющий Вторым отделением писал: «У нас крепостной человек, напротив, всегда признаваем лицом, состоящим под покровительством закона. В случае жестокого с ним обращения он находит защиту в Правительстве, передача его из владения одного лица во владение другого ограничена многими условиями, ограждающими целостность его семейного быта; он столько же и еще более принадлежит государству нежели господину; наравне с людьми прочих состояний, платит государственные подати и отбывает другие более или менее общие повинности, участвуя и в важнейшей из всех, в защите отечества отправлением воинской службы»[82]. В то же время он признавал, что в «в ограничении власти помещиков над личностью крепостных людей, в отстранении злоупотребления оной и в изыскании средств к постепенному освобождению их от излишней зависимости, правительство наше действовало иногда медленно […] постоянно и неуклонно, стараясь прекратить сначала те из злоупотребления власти, кои всего более оскорбляют и унижают достоинство человека»[83].
Материалы ежегодных отчетов Третьего отделения дают обширный материал о злоупотреблениях помещичьей властью. Приведу примеры преступных действий дворян-землевладельцев, связанных с нарушением еще и морально-нравственных норм.
В случаях, когда о фактах жестокого обращения помещиков с крестьянами становилось известно императору, для расследования на место направлялся губернский штаб-офицер, к следствию привлекался и местный предводитель дворянства, в обязанности которого входило предупреждать злоупотреблений помещичьей властью. Министерство внутренних дел, в свою очередь, требовало от начальников губерний для пресечения таких криминальных действий обращать внимание на помещиков, которые «известны в соседстве жестокостью и развратною жизнью»[84].
В 1836 г. жандармскому штаб-офицеру поручено было провести в Костромской губернии следствие по жалобе крестьян на помещика Заболоцкого. Майор Алексеев «обнаружил и распутное поведение сего помещика, и жестокость его с крестьянами, коих он довел до столь бедственного положения, что они питались мирским подаянием»[85]. По докладу шефа жандармов императору было определено: дело помещика передать на судебное рассмотрение, имение взять в опеку, дворянскому предводителю сделать строгий выговор за невнимание к своей обязанности, а самого помещика с семьей выслать на жительство в Кострому.
В отчетах за 1843 и 1844 гг. были даже целые разделы, касавшиеся «насилия и похищения девиц». Помещика Тверской губернии Лошакова, «насильно растлившего несовершеннолетнюю дочь своего дворового человека Никанорова»[86], велено было судить военным судом, а имение передать наследникам. Однако дело на этом не закончилось. Проводивший следствие штаб-офицер корпуса жандармов Дурново обратил внимание на «пристрастные действия» военно-судной комиссии и ее конфликтные отношения с гражданским начальством. После уведомления о сложившейся ситуации шефом жандармов военного министра дело было передано в вышестояшую инстанцию, свободную от местных влияний.
В августе 1844 г. императору было доложено об изнасиловании сыном помещика Гулевича 14-летней крестьянской девочки Козачуковой. Николай I написал на докладе: «Отдан ли он под суд?» Генерал-губернатор Бибиков доложил, что «Гулевич не сознался в своем поступке, но обвиняется показаниями Козачуковой, которая действительно лишена девства, и засвидетельствованием лиц, видевших расстройство и слезы ее, немедленно по совершении преступления, при повальном обыске поведение его не одобрено, и потому сделано распоряжение об удалении его из имения в город Сквиру, под надзор полиции, впредь до решения дела судебным порядком»[87].
Другой случай касался помещика Таврической губернии Нестерова (в архивном деле фамилия помещика Нестроев), который «насильственно растлил двух несовершеннолетних крестьянок своих и одну из них наказывал за несогласие продолжать с ним незаконную связь»[88].
Таврическому гражданскому губернатору было поручено информировать о ходе следствия. В результате выяснилось, что еще в 1839 г. он «лишил девства» пятнадцатилетнюю дочь крестьянина Нестеренкова Авдотью и имел с нею связь в течение трех лет, а в августе 1843 г. растлил 15-летнюю дочь крестьянина Мазниченка Пелагею, с матерью которой имел связь вскоре после ее замужества, и что «10 декабря, пьянствуя с тремя работниками, заставлял Пелагею и также 15-летнюю Агафью Мамаенкову пить вместе с ними, потом изнасиловал обеих и, наконец, двенадцатилетней Елене Нестеренковой за объявление о том жене его отрезал столовым ножом косу и изранил голову»[89]. Кроме того, опрошенные крестьяне дали показания о том, что он привлекал к работам «с женами и детьми ежедневно, часто наказывает без вины и не дает ни продовольствия, ни одежды»[90]. Наемные работники не подтвердили показания крестьян. Другие свидетели отмечали, что «Нестроев ведет себя неприлично только изредка, в нетрезвом виде, но в прочем обходится с крестьянами кротко и содержит их хорошо». После непосредственного осмотра поместья было установлено: «Крестьяне найдены действительно в весьма хорошем положении и, по-видимому, угнетаются только развратными поступками владельца»[91].
За поведением помещика был учрежден надзор, а имение его взято в опекунское управление.
Власть в отдельных случаях демонстрировала настойчивость в доведении дел, связанных с насилием, до конца. В отчетах за 1848 и 1849 гг. указывалось на обвинение волынского помещика Загурского в изнасиловании несовершеннолетней крестьянки Мудраковой, которая впоследствии умерла. Генерал-губернатор Д. Г. Бибиков докладывал государю, что Загурский «хотя не уличен в этом преступлении, но известен с неблаговидной стороны по многим следствиями судебным о нем делам»[92]. Высочайшее повеление «непременно дойти до истины» шеф жандармов довел до сведения министра внутренних дел.
Помещики использовали связи, влияние, угрозы, деньги, чтобы затянуть следствие и избежать ответственности.
«Потворство» членов военно-судной комиссии нижегородскому помещику Моисееву, обвиняемому в развратной жизни, буйстве и жестоком обращении с крестьянами, вновь стало основанием для информирования военного министра о необходимости передачи дела в другой суд[93].
В 1846 г. следствие в отношении помещика Тамбовской губернии Кошкарова началось с анонимного доноса о его развратном поведении. Проверку сведений начал жандармский штаб-офицер, а после того, как изложенная информация подтвердилась, было начато формальное следствие. Стараясь избежать ответственности, Телегин решил пойти на подкуп и вручил жандарму 1128 руб. сереб ром, которые штаб-офицер передал тамбовскому губернатору[94].
В отчете Третьего отделения за 1846 г. императору сообщалась любопытная статистика: «Посягательств крестьян на жизнь своих владельцев обнаружено в 1846 г. 26, в том числе 10 было безуспешных; управителей убито 6. Из всех убийств 7 совершено женщинами за дурное обращение и принуждение к разврату. Целию прочих убийств и покушений было приобретение свободы, мщение за притеснения и корыстные виды»[95].
Пример такой бытовой мести: в 1847 г. дворовые люди помещика Тульской губернии Шкурки покушались на его жизнь. Поводом послужило жестокое наказание их владельцем, «из ревности к 4 крестьянским девкам, с которыми он имел связи и прижил одиннадцать детей»[96]. Примечательно, что дело Шкурки было передано на рассмотрение тульского дворянского собрания, а имение взято в опеку.
Министерство внутренних дел вело свое производство по делам, связанным с злоупотреблениями помещичьей властью. Аналитические размышления чиновников этого ведомства не менее интересны. В отчете министра за 1844 г. приводились данные, согласно которым за год было убито 7 помещиков, покушались на жизнь – 6, «избили жестоко» – 1. По результатам следственных действий, проведенных жандармскими штаб-офицерами совместно с губернскими предводителями дворянства, «жестокого обращения помещиков с крестьянами не обнаружено». Как утверждал министр: «Преступления сии свершались более от безнравственности и невежества преступников, из коих многие при следствиях показали, что были довольны своими помещиками и совершали над ними злодеяния, или по запальчивости в нетрезвом виде, или из мщения за удержание их от пороков. Другие же, тяготясь бдительным только надзором владельцев за работами, желали в чем-либо избавиться от того, а иные из ревности к своим женам, хотя по следствиям подозрения их также не подтвердились»[97].
Тенденция, видимо, была отмечена верно. В отчетах Третьего отделения есть и такие примеры. «В Полтаве четыре дворовые девки, принадлежащие жене майора Белевцова, желая освободиться от урочных работ, покушались задушить свою госпожу, но не допущены к тому. По исследованию местным предводителем дворянства оказалось, что Белевцова обращалась с людьми своими не жестоко и что покушение на жизнь ее произошло от дурной нравственности виновных»[98], – сообщалось в отчете за 1850 г. В том же году, во время осмотра полевых работ был убит и затоптан в грязь тамбовский помещик Артемьев. В ходе следствия подполковник корпуса жандармов Горский выяснил, что «крестьянин Артемьева Морозов, боясь отдачи его в рекруты за дурное поведение, склонил на убийство другого крестьянина, который имел связь с сестрою Морозова и озлоблен был на помещика за отказ отдать ее за него замуж»[99].
21 марта 1848 г. император, принимая депутатов петербургского дворянского собрания, не преминул затронуть вопрос о помещичьем произволе: «[…] я должен сказать с прискорбием, что у нас весьма мало хороших и попечительных помещиков, много посредственных и еще более худых, а при духе времени, кроме предписаний совести и закона, вы должны для собственного своего интереса заботиться о благосостоянии вверенных вам людей и стараться всеми силами снискать их любовь и уважение. Ежели окажется среди вас помещик безнравственный или жестокий, вы обязаны предать его силе закона»[100]. Выше уже отмечалась, что к следствию по случаям злоупотребления помещичьей властью наряду с жандармскими штаб-офицерами привлекались местные предводители дворянства, недостаточный контроль за поведением дворян мог стать основанием для привлечения их к ответственности. Но это не меняло ситуацию и не устраняло помещичий деспотизм…
По мнению В. И. Сафоновича, хорошо знавшего провинциальное дворянство, у предводителей «главным принципом их действий была защита дворян во всех случаях, когда возникали жалобы на притеснения крестьян или другие неблагонамеренные поступки, которые подвергали их опеке»[101]. Кроме того, по признанию сенатора К. Н. Лебедева, «почти все дела о злоупотреблениях помещичьей власти и об убийствах от побоев сопровождались чрезвычайной медленностью»[102]. В качестве примера он отмечал, что только в 1855 г. в Сенате были решены дела о помещиках Госсе и Белецком, судимых за жестокое обращение с крестьянами – первого с 1836, а второго – с 1831 г.
От буйства дворян-землевладельцев страдали не только крестьяне, но и жены, дети помещиков. В 1850 г. супруга помещика Симбирской губернии Каловского жаловалась на «дурное обращение мужа ее с нею и крестьянами». Следствие показало, что глава семьи, «удалив жену от себя, имел связь с двумя крестьянками, наказывал безвинно людей своих и ссорился беспрерывно с своими сыновьями»[103]. Иные действия дворян-извергов вызывают вопрос об их психической адекватности: «Помещик Псковской губернии Львов, не успев склонить крестьянку брата своего на блудную связь, приказал раздеть ее и случить с собакой, потом наказал ее розгами и, окутав в изорванное покрывало, издевался над нею. Муж этой женщины несколько раз намерен был ворваться в комнаты с ножом, но прислуга его к тому не допустила»[104] (1859).
Насилие помещиков по отношению к своим крепостным носило не разовый характер, видимо, системность подобной практики и позволяла говорить о деревенских гаремах. Вот лишь несколько примеров бесчинств, о которых докладывали императору. Помещик Смоленской губернии капитан Курлевич «при нетрезвой жизни, довел крестьян своих до крайней бедности и насиловал жен их и дочерей»[105] (1851). Казанский помещик Бутлеров «насиловал крестьянских дочерей и за несогласие на то жестоко наказывал родителей их»[106] (1851). Пензенский помещик Габбе организовал целую банду, которая бесчинствовала в округе при небескорыстном попустительстве исправника и станового пристава: «Габбе завел у себя толпу охотников и в сообществе с ними разбивал питейные дома, насиловал крестьянских девок и подвергал матерей их за сопротивление разным истязаниям»[107]. Жена попыталась взять его на поруки («с отобранием от него подписки, что он исправится в своем поведении»), однако он продолжал буйствовать и был отправлен на жительство в Пензу под надзор жандармов.
Помещик Рязанской губернии отставной унтер-офицер Веселкин «вел жизнь нетрезвую и буйную, собирал к себе крестьян, напаивал их водкою до бесчувствия и насиловал жен их; когда же последние уклонялись от подобных сборищ или не приводили по его требованию своих дочерей, то он жестоко их наказывал»[108] (1859). В Тамбовской губернии в декабре 1859 г. был убит помещик Карачинский. Четыре крестьянина, сознавшиеся в преступлении, в качестве одной из причин убийства назвали «вынужденную связь помещика с женами их и всегдашнее насилование их дочерей. Одна из последних объявила, что она, ее мать и даже бабка были лишены девства Карачинским»[109].
Выявленные случаи позволяли рассчитывать на законное возмездие, но сколько случаев насилия осталось в тайне деревенской глуши, скрыто за массивными дверями дворянских усадеб? А. И. Кошелев рассказывал в «Записках» историю молодого помещика С., «страстного охотника до женского пола и особенно до свеженьких девушек»: «Он иначе не позволял свадьбы, как по личном фактическом испытании достоинств невесты. Родители одной девушки не согласились на это условие. Он приказал привести к себе и девушку, и ее родителей; приковал последних к стене и при них изнасильничал их дочь»[110].
По свидетельству мемуариста, об этом деле говорил весь уезд, но помещику все сошло с рук. В письме петрашевца А. П. Плещеева к С. Ф. Дурову от 26 марта 1849 г., вероятно, говорится об этом же случае (один из московских дворян «завел у себя в деревне гарем и снасильничал одну девушку в глазах ее отца и матери»). Он назвал фамилию помещика – Смирнов. В его версии – помещик понес наказание: московский генерал-губернатор «хорошо поступил, хоть и нарушил права, то есть наказал без суда, непосредственно, отпустив тотчас же на волю весь гарем и отдав барина под строжайший надзор полиции»[111].
А. Н. Вульф оставил воспоминание об одном из своих родственников, который, расстроив свое состояние жизнью в Санкт-Петербурге, перебрался в деревню, «оставил жену и завел из крепостных девок гарем, в котором и прижил дюжину детей, оставив попечение о законных – своей жене»[112].
О распространенности подобной практики косвенно свидетельствовал и А. В. Дружинин, считавший себя хорошим помещиком: «В деревне мужики могут поставить мне монумент: не трогал я и не трогаю их жен и дочерей, отчасти из принципа, отчасти по отсутствию искушения»[113].
Безнаказанную сексуальную практику помещиков копировали и управляющие имениями. В 1854 г. крестьяне тверской помещицы Бабинской жаловались на жестокие и безнравственные поступки управляющего имением дворового человека Васильева[114]. Губернский секретарь Витвицкий, управляющий имением князя Кочубея в Саратовской губернии, был обвинен в жестоком обращении с крестьянами и в насилии над их дочерьми. Однако следствие показало, что «ни одна из них не подвергалась насилию Витвицкого, но что принуждал их к связи с ним усиленными работами и притеснениями их семейств и таким образом успел развратить 22 девушки»[115].
Задача ограничения власти помещика над личностью крестьянина, недопущения произвольного насилия, унижающего и оскорбляющего человеческое достоинство, разрешилась с отменой крепостного права. В последние годы крепостничества Третье отделение пыталось выявлять и доводить до законного решения случаи жестокости, жандармские офицеры проверяли анонимные доносы, циркулировавшие слухи о фактах насилия и угнетения крестьян, пытались контролировать разыскные действия и следить за судебными процессами, но победить системное зло было невозможно, его можно было сдерживать.
Первый управляющий Третьим отделением М.Я. фон Фок, передавая шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу, находившемуся с императором в Москве, сводку о столичных настроениях, относительно молодого поколения писал (11 августа 1826 г.): «Молодежь ужасно дурно воспитана и заражена идеями новаторов нынешнего века; семейные узы утратили свою силу и вследствие этих идей, и вследствие общего эгоизма; так что понадобится немало забот и времени, чтобы исправить дух молодых людей, которые не хотят и слышать об улучшении нравов, без чего, однако ж, правительство не в состоянии будет начать действовать»[116]. Из следующего письма (18 августа 1826 г.) видна еще одна нравственная проблема: «Воспитание юношества направлено ложно: молодежь рассуждает, тогда как могла бы гораздо полезнее употреблять свое время»[117]. Мыслительная деятельность воспринималась как угроза традиционности, стабильности, привычным нормам и правилам поведения.
В «Кратком обзоре общественного мнения» за 1827 г., подготовленном Третьим отделением для императора, оценки роли молодежи в российском обществе еще более категоричны и негативны: «Молодежь, то есть дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающийся в разные формы и чаще всего прикрывающийся маской русского патриотизма. Тенденции, незаметно внедряемые в них старшими, иногда даже их собственными отцами, превращают этих молодых людей в настоящих карбонариев»[118]. Как видно, заветы отцов тиражировали не консервативные, а радикальные модели поведения сыновей, что и внушало тревогу.
Корень зла – дурное воспитание. Не зная России и народа, молодежь считает негодным существующий строй, не имея опыта службы – жаждет чинов и должностей, а свободу понимает как безначалие. «Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них не хватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения»[119], – писал А. Х. Бенкендорф. По мнению шефа жандармов, в этой среде живы были идеи декабристов, хотя страх перед репрессиями удерживал от создания тайных обществ: «Главное ядро якобинства находится в Москве, некоторые разветвления – в Петербурге»[120].
Не забыл А. Х. Бенкендорф отметить в «Обзоре» мысль о том, что «тайные политические общества не образуются без иностранного влияния»[121]. Ситуация рисовалась катастрофичной и трудноисправимой: «Конечно, в массе есть и прекрасные молодые люди, но по крайней мере три четверти из них – либералы. Впрочем, надо надеяться, что возраст, время и обстоятельства излечат понемногу это зло»[122].
Естественно, что все идеологические посылы и установки шли от императора. 21 марта 1848 года Николай I на встрече с представителями петербургского дворянства, говоря о главных текущих проблемах, в частности, отметил: «В учебных заведениях дух вообще хорош, но прошу вас, родителей, братьев и родственников, наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Служите им сами примером благочестия и любви к царю и отечеству, направляйте их мысли к добру и, если заметите в них дурные наклонности, старайтесь мерами кротости и убеждением наставить их на прямую дорогу. По неопытности они могут быть вовлечены неблагонадежными людьми к вредным для большинства и пагубным для них самих последствиям. Ваш долг, господа, следить за ними»[123].
Через год, в апреле 1849 г., начались аресты участников «пятниц» М. В. Буташевича-Петрашевского. Его Третье отделение считало главным виновником заговора и совратителем молодежи. Всего в заключении оказалось около 50 чел., а допросам подверглись 122 чел.[124]. В «Обзоре деятельности Третьего отделения за 25 лет» прямо указывалось: «Сильнейшее же влияние западные лжеучители произвели на чиновника Министерства иностранных дел Буташевича-Петрашевского, который и прежде замечен был в склонности к безнравственным поступкам. Чтение новых иностранных книг совершенно лишило его здравого смысла, и он, вовлекая в свое знакомство молодых людей, передавал им испорченность своих мыслей»[125].
Под впечатлением открытого в столице заговора управляющий Третьим отделением, Л. В. Дубельт, сетовал по поводу «буйной» молодежи, у которой «привычка судить криво все более и более усиливается оттого, что у них и души, и толк вверх дном»[126]. И он видел корень проблемы в воспитании, в нравственном воздействии на молодые умы: «Воспитание порождает смуты и беспорядки нашего времени. Воспитание, худое направление мыслей, привычка считать себя умнее других – вот настоящие причины неустройства»[127]. Другой компонент формирования верноподданного – это образование. «Истинное просвещение должно быть основано на религии; тогда оно и плоды принесет сторицею. А когда просвещение религии знать не хочет и только опирается на диком, бездушном эгоизме, так и плоды будут адские, как начало его адское!»[128] – поучал Л. В. Дубельт.
Этому здравому началу противостоит свобода книгопечатания, которая несет вред обществу и государству: «Хороший человек не станет читать худых книг, порочного и безнравственного листка и в руки не возьмет; а дурному человеку никакая цензура не помешает доставать худые книги»[129]. Вот почему «в нашей России должны ученые поступать как аптекари, владеющие и благотворными, целительными средствами, и ядами, – и отпускать ученость только по рецепту правительства»[130]. Таким образом, именно власть должна формировать государственную идеологию и мировоззрение подданных.
Дело участников кружка М. В. Буташевича-Петрашевского актуализировала охранительные меры. Военный министр А. И. Чернышев, передавая шефу жандармов А. Ф. Орлову (7 января 1850 г.) слова высочайшего повеления, напоминал о недавнем следствии, которое показало, что «преступные замыслы на ниспровержение и превращение существующего в России государственного устройства возникли большею частию между людьми молодыми, недавно кончившими или еще заканчивающими курс наук в высших учебных заведениях», из этого можно заключить, что «настоящие меры наблюдения относительно духа и направления преподавания вообще не довольно еще бдительны»[131]. Прежде всего «некоторые из преподавателей сами содействуют к превратному направлению понятий между учащимися, как это доказывается и найденными у преступников лекциями, и программами преподавателей, в которых допущены вредные для существующего порядка суждения»[132]. Кроме того, «огромное количество вторгающихся к нам иностранных сочинений самого опасного содержания […] способствуют превратному образу мыслей в умах юных и неопытных, доказывая с тем вместе, что или цензура наша не довольно осмотрительна, или что принимаемые против ввоза запрещенных книг меры недовольно еще бдительны и строги»[133]. Помимо этого сами молодые люди, в поисках заработка, обращались к литературному труду. При недостатке цензурного контроля появлялись статьи «коих направление явственно вредно, и посредством сего легкого способа, зараженные уже вольнодумством сочинители, разливают яд свой в умы чуждые еще пагубных мечтаний»[134].
Военный министр сообщал высочайшее повеление, предписывавшее «усилить строгость наблюдения со стороны непосредственных начальников учебных заведений за общественным обучением, как относительно духа и направления преподавания вообще, так и относительно строгого выбора учителей и поверки их преподавания»; «со стороны цензуры иметь бдительный надзор за журнальными и газетными статьями»; «принять строжайшие меры против ввоза иностранных сочинений, опасного содержания, способствующих распространению превратного образа мыслей»[135]