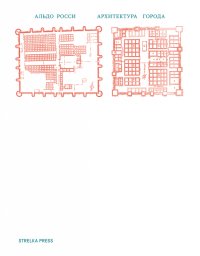Читать онлайн Научная автобиография бесплатно
- Все книги автора: Альдо Росси
ALDO ROSSI
AUTOBIOGRAFIA SCIENTIFICA
В оформлении обложки использован коллаж Альдо Росси с эскизом жилого комплекса «Монте Амиата», 1972
© Eredi Aldo Rossi, 2009
© il Saggiatore S. P. A., Milano, 2009
© Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 2015
* * *
Альдо Росси с дочерью Верой, ок. 1980
Предисловие
Думаю, эта книга – едва ли не самое ценное, что оставил Альдо Росси тем, кто знал его лично или следил за его творчеством. Во всяком случае, она важнее всего для меня и моего брата Фаусто.
Эту свою работу он, видимо, любил больше прочих, в ней он сумел соединить рассказ о своем личностном, культурном, литературном, поэтическом и философском становлении со своими взглядами на архитектуру. В книге много очень личного, начиная с детских впечатлений: эти впечатления предвосхитили удивительные прозрения, приведшие его к тем представлениям о знании, которыми он будет руководствоваться на протяжении всей жизни – о знании не академическом, а понимаемом в абсолютном смысле. Я имею в виду представление, что вещи, архитектура и искусство в целом представляют собой формы неподвижные и в то же время находящиеся в постоянном движении, на границе между здесь и там, между жизнью и смертью.
Поражаясь этой неоднозначности мира, он чувствовал себя мертвым, принадлежащим иному измерению и одновременно живым и способным постигать настоящее. Отношения с предметами носят мистический и дружеский характер. Вещи в рутине повседневного использования, переходящие из поколения в поколение в одной и той же функции, воспринимаются как архитектура, которая существует в веках и становится сценой для человеческих историй, наполняющих ее жизнью, порождая идею смерти как передачи энергии.
Отталкиваясь от «Научной автобиографии» Макса Планка, Альдо Росси перечисляет вразнобой всех персонажей и все места своего мира: Данте, Альберти, Хоппер, Стендаль, Филарете, Россо Фьорентино, ансамбли Сакри-Монти, старинные миланские дома, Гранада, Цюрих, Берлин, старые позабытые вещи. Опыт и воображение сливаются с архитектурой, которая трактуется как единство, «составленное из фрагментов».
Мы с братом, наблюдая за ним изо дня в день, воочию видели эту тоску по существованию, такому же, как обычное, но пронизанному ощущением присутствия некоего параллельного измерения, в котором жизнь есть отражение иной жизни, иных вещей, абсолюта – неизменных имманентных символов.
Все эти элементы смешиваются, а потом вновь расставляются по местам – так построена эта книга, небольшая, но научно проработанная.
В заключение добавлю, что, в понимании моего отца, принцип «научности» с известной долей иронии можно было распространить на что угодно. Если он готовил, то называл свои кулинарные опыты «научными», все необходимо было привести в «научный» порядок; ему нравились мои салаты, потому что, как он говорил, они были приготовлены «по-научному»: этот термин его очень забавлял.
В соответствии с этой его склонностью фонд Альдо Росси ставит перед собой цель упорядочить и систематизировать все его наследие. Так что мы были рады принять участие в подготовке переиздания этой «Автобиографии».
Вера Росси, председатель фонда Альдо Росси
Научная автобиография
Я приступил к этим запискам более десяти лет назад, а сейчас пытаюсь завершить их, чтобы они не превратились в мертвые воспоминания. Начиная с определенного момента своей жизни я воспринимаю ремесло и искусство как описание вещей и нас самих; поэтому меня всегда восхищала «Божественная комедия» Данте, в которой поэту около тридцати лет. В тридцать уже пора совершить или начать что-то значительное, итоговое, разобраться со своим становлением. Каждый мой рисунок или текст представлялся мне итоговым в двух смыслах – во-первых, он подытоживал какой-либо мой опыт, во-вторых, казалось, что после мне будет больше нечего сказать.
Каждое лето казалось мне последним, и этим ощущением статичности без эволюции можно объяснить многие мои проекты. Но чтобы понять или объяснить архитектуру, мне нужно вспоминать вещи и впечатления, описывать или искать способы описания.
Главным моим ориентиром, конечно, является «Научная автобиография» Макса Планка. В этой книге Макс Планк пишет об открытиях современной физики, отталкиваясь от впечатления, которое произвела на него формулировка принципа сохранения энергии. Для него этот принцип оказался навсегда связан с рассказом его школьного учителя Мюллера о том, как каменщик с трудом втаскивает на крышу дома тяжелую черепицу. Планка поразил тот факт, что совершаемая им работа не теряется, она полностью сохраняется на долгие годы в этой самой черепице, до тех пор пока, быть может, однажды эта черепица не свалится вниз и не убьет какого-нибудь прохожего. Может показаться странным, что и Планк, и Данте связывают свои научные и автобиографические изыскания со смертью – смертью, которая в какой-то степени представляет собой сохранение энергии. На самом деле у каждого художника или техника закон сохранения энергии сливается с поиском счастья и движением к смерти. В архитектуре эти поиски тоже связаны с материалом и энергией, без этого соображения невозможно понять никакую архитектурную конструкцию ни со статической, ни с композиционной точки зрения. Использование любого материала должно предусматривать выстраивание определенного места и его трансформацию.
Двойной – атмосферный и хронологический – смысл слова tempo, которое может означать и «погоду», и «время», определяет любую постройку; двойной смысл энергии я теперь отчетливо вижу в архитектуре, как мог бы разглядеть его и в других техниках или искусствах. В своей первой книге, «Архитектура города», я рассматривал проблему взаимоотношений между формой и функцией; форма и обуславливала постройку, и сохранялась как устойчивый элемент в мире, где функции постоянно менялись, как менялся и материал формы. Материал колокола превращался в пушечное ядро, форма амфитеатра – в форму города, форма города – в форму дворца. Та книга, написанная в тридцать с небольшим, казалась мне итоговой, и до сих пор ее тезисы не получили достаточного развития. Впоследствии мне стало ясно, что эту работу следует воспринимать в контексте еще более сложных мотиваций, прежде всего через аналогии, пронизывающие каждое наше действие.
С самых первых своих проектов, еще в период, когда я интересовался пуризмом, мне нравились смешения, небольшие изменения, комментарии и повторы.
Мое первое образование не было связано с изобразительным искусством, но, с другой стороны, я и сегодня считаю, что все профессии одинаково хороши при наличии четкой цели; я мог бы заниматься чем угодно, и действительно, мое увлечение архитектурой и моя архитектурная деятельность начались довольно поздно.
На самом деле я думаю, что мне всегда было свойственно внимание к формам и вещам; но я всегда рассматривал их как конечный элемент сложной системы, некой энергии, которая проявлялась только в этих фактах. Поэтому в детстве особое впечатление на меня произвели ансамбли Сакри-Монти:[1] я не сомневался, что священная история полностью заключена в гипсовой фигуре, в застывшем жесте, в остановившемся времени истории, которую невозможно рассказать по-иному.
Точно так же авторы трактатов относились к мастерам Средневековья; очертания и рельефы старинных форм позволяли сохранить преемственность, не достижимую иными способами, но оставляли и возможность трансформации – после того как заключат жизнь в четкие застывшие формы.
Меня восхищало, с каким упорством Альберти в Римини и Мантуе воспроизводит формы и пространства древнеримской архитектуры, словно современной истории не существует. На самом деле он вполне научно работал с единственным возможным материалом, доступным архитектору. В церкви Сант-Андреа в Мантуе я получил первое представление о связи между tempo в его двойном, атмосферном и хронологическом, значении и архитектурой. Я видел, как в церковь проникает туман, за которым я нередко с удовольствием наблюдаю в какой-нибудь миланской галерее, – проникает как непредсказуемый элемент, изменяющий и преображающий, так же как свет и тень, как камни, стертые и отполированные ногами и руками многих поколений людей.
Может, поэтому меня и заинтересовала архитектура – потому что я знал, что все это возможно благодаря четкой форме, которая противостоит времени до самого своего разрушения.
Архитектура – это один из найденных человечеством способов выживания; это способ выразить свое неизбывное стремление к счастью.
Это стремление до сих пор трогает меня в археологических находках, в керамике, в утвари, фрагментах, где древние камни смешиваются с костями, а кости утрачивают очертания скелета. Поэтому я люблю палеонтологические музеи и терпеливое восстановление осмысленной формы из бессмысленных кусочков. Эта любовь к фрагменту и к вещи связывает нас с ничего не значащими на первый взгляд предметами, которым мы придаем ту же ценность, какую обычно придают произведениям искусства.
Несомненно, я проявлял интерес к предметам, инструментам, приборам, утвари. Я сидел в просторной кухне в С., на озере Комо, и часами рисовал кофеварки, кастрюли, бутылки. Больше всего я любил цветные кофеварки – синие, зеленые, красные – за их причудливую форму. Это были уменьшенные модели фантастических сооружений, которые мне суждено было увидеть в будущем. И до сих пор мне нравится рисовать большие кофеварки; я представляю, что они сделаны из кирпича и что в них можно забраться, чтобы осмотреть их изнутри.
Леон Баттиста Альберти. Базилика Сант-Андреа в Мантуе, проект 1470 года
Этот синтез внутреннего и внешнего в архитектуре, конечно, был подсказан мне гигантской статуей кардинала Карло Борромео (Сан-Карлоне) в Ароне. Эту статую я неоднократно рисовал и исследовал, так что теперь мне трудно восстановить свои детские воспоминания о ней. Потом я понял, что она нравилась мне, потому что в ней дисциплинарные границы архитектуры, машины, инструмента соединяются в чудесном замысле. Как в описании Троянского коня, паломник проникает внутрь тела святого, как в башню, под предводительством мудрого служителя. За внешней лестницей, ведущей на пьедестал, следует крутой подъем, открывающий взгляду внутреннее устройство тела, арматуру и сваренные между собой металлические листы. И наконец, голова – это синтез внутреннего и внешнего: если смотреть из глаз святого, панорама озера кажется безграничной, как вид неба в обсерватории.
Может быть, именно из-за своего размера эта конструкция дарит мне странное ощущение счастья: она обладает потенциальной энергией. Похожее впечатление возникает при взгляде на стоящий локомотив или танк.
Это первое впечатление, касающееся смысла внутреннего и внешнего, прояснилось позже, по крайней мере как проблема: если соотнести его с кофеварками, здесь оно тоже связано с едой или питьем и предметом, в котором они готовятся. Конечный продукт и утварь: эти характеристики старинных горшков, нередко наводящих на нас скуку в музеях, воспроизводятся постоянно.
Когда-то я видел странную фотографию: лицо за решеткой то ли за́мка, то ли монастыря. По изображению трудно понять, смотрим мы глазами того, кто смотрит на нас, или с противоположной стороны. Глядя на фото, я не думаю над банальным вопросом, как можно выразить это в архитектуре, в кино или в другой технике, а прежде всего осознаю, что решетка – это средство, создающее саму возможность события: в данном случае появления лица юноши. По удивительному совпадению вскоре после того, как мне попалась на глаза эта фотография, я посетил кельи сестер из обители Сан-Пелайо в Сантьяго-де-Компостеле и вновь пережил тот же самый эффект. Фасад Сан-Пелайо, шедевр испанской архитектуры XVII века, всегда производил на меня огромное впечатление. Мои каталонские друзья в одной из своих публикаций провели аналогию между этой постройкой и моим зданием в миланском квартале Галларатезе. Но кельи изнутри оказались на удивление светлыми, несмотря на почти тюремный внешний облик фасада. И крики, долетающие снаружи, внутри воспринимаются с поразительной четкостью, как в театре. То есть глаза юноши воспринимают то, что находится снаружи, как будто бы он следил за театральной постановкой.
Итак, с помощью архитектурного инструментария мы способствуем некоему событию, независимо от того, произойдет ли оно на самом деле; и в этом стремлении к событию есть что-то прогрессивное. К этой теме я еще вернусь. Поэтому размеры стола или дома очень важны – не для выполнения определенной функции, как полагали функционалисты, а для того чтобы давать возможность реализации множества функций.
И чтобы давать возможность воплотиться любым непредсказуемым проявлениям жизни.
Должен признать, что в своем интересе к предметам я вечно путал вещь и слово – из-за невежества или предрассудков или ради некоторой отрешенности, которую все это могло придать смыслу высказывания или рисунка. Например, слово apparecchio[2] я всегда воспринимал, мягко говоря, специфическим образом, связанным с прочтением в ранней юности книги Альфонсо Лигуори под названием «Приспособление к смерти» и даже с обладанием этой книгой как таковой. Эта странная книга – она до сих пор хранится у меня – сама казалась мне каким-то приспособлением, аппаратом, в том числе и из-за своего формата: небольшая и очень высокая. Мне казалось, что ее можно и не читать, достаточно просто владеть ею, как инструментом. Но связь между приспособлением и смертью сохранялась и в таких повседневных выражениях, как apparecchiare la tavola – накрывать на стол, готовить, располагать.
Статуя святого Карло Борромео, Арона
Поэтому со временем я стал воспринимать архитектуру как инструмент, позволяющий чему-либо произойти. Надо сказать, что это осознание с годами усилило мой интерес к работе, и в своих последних проектах я пытаюсь просто расставлять конструкции так, чтобы способствовать некоему событию. Позже я еще расскажу о некоторых из этих проектов.
Сейчас я могу сказать, что они создают тишину, определенную степень не пуристской тишины, чего я и добивался в своих первых рисунках, продумывая свет, стены, тени, проемы. Я понял, что повторить атмосферу невозможно. Лучше старые позабытые вещи; вначале все должно быть предсказуемым, а то, что не является таковым, очаровывает нас тем больше, чем дальше оно от нас.
И наконец, среди детских впечатлений я не могу не выделить Сакро-Монте в С. и другие Священные горы на берегах озер, которые мне довелось посетить. Именно там я впервые соприкоснулся с изобразительным искусством, и меня увлекли – и до сих пор увлекают – неподвижность и естественность, классицизм построек и натурализм человеческих фигур и предметов. Отрешенность, которую я испытывал, погружала меня в какой-то холодный экстаз: мне и здесь хотелось проникнуть за решетку, оставить какой-нибудь предмет на потрепанной скатерти тайной вечери, перестать быть просто случайным зрителем. Думаю, в каждом моем проекте или рисунке присутствует тень того натурализма, который выходит за пределы странностей и изломов этих конструкций. Увидев в Нью-Йорке полное собрание работ Эдварда Хоппера, я понял все это применительно к своей архитектуре. Такие картины, как «Chair Car» [«Сидячий вагон»] и «Four Lane Road» [«Четырехполосное шоссе»], напомнили мне о неподвижности тех вневременных таинств, вечно накрытых столов, невыпитых кубков, вещей, выходящих за пределы себя самих.
Монастырь Сан-Пелайо в Сантьяго-де-Компостеле
Думая об этих произведениях, я понимаю, что меня очень интересуют смыслы, готовые выразить себя, и механизм, с помощью которого они могли бы это сделать, пусть и осознавая, что иной, тайный механизм препятствует нормальному выполнению операций, необходимых, чтобы нечто произошло. Это связано с проблемой свободы; в моем понимании свобода реализуется в том числе и в ремесле; не знаю точно, о какой именно свободе идет речь, но я всегда находил способы отстоять ее.
Эта свобода, конечно, связана со многими явлениями, но, пытаясь написать архитектурную автобиографию, переплетающуюся с личной историей, я не могу не вспомнить то впечатление, которое произвела на меня еще в детстве «Жизнь Анри Брюлара». Может быть, именно через рисунки Стендаля и эту странную смесь автобиографии и планов домов я получил первое понятие об архитектуре; это основы того знания, которое отражается в том числе и в данной книге. Я был поражен планами (которые воспринимал как графический вариант рукописи), и в особенности двумя вещами. Первая из них – что почерк здесь превращался в сложную технику, нечто среднее между письмом и рисунком: я еще вернусь к этому, когда буду говорить о других впечатлениях. Вторая – что создатель этих планов словно бы забыл или не знал о пропорциях и вообще о формальном аспекте.
В некоторых из последних своих проектов и замыслов я пытаюсь остановить событие, прежде чем оно совершится, как если бы архитектор мог предвидеть (а в каком-то смысле он и предвидит) ход жизни в доме. Те, кто занимается интерьерами, едва ли могут понять это, они работают с эфемерными вещами, такими как рисунок детали, рама – со всем тем, что в реальности заменяется жизнью дома. Может быть, именно эти рисунки Стендаля позже привели меня к изучению типов жилищ и основополагающего характера типологии. Показательно, что я начал свою академическую карьеру как преподаватель структурных характеристик зданий (дисциплины, ныне упраздненной) и что в этом переплетении планов и пропорций я усматривал призрак или скелет архитектуры. Чертеж превращался в физическое состояние, как когда вы ходите по Остии или любому другому городу, где видны планиметрические следы. Сначала вы чувствуете легкое разочарование, но потом постепенно реконструируете архитектуру: здесь была дверь, или зал, или коридор, где прежде разворачивалась жизнь. Говорят, что в Севилье в прежние времена тот, кто хотел построить себе дом, сообщал архитектору или просто каменщику необходимый размер патио, а потом просил расположить вокруг него столько помещений, сколько получится. Этот факт, как мне кажется, тоже связан с проблемой свободы и воображения, поскольку элементов, требующих регламентации, немного, но в них нельзя ошибиться, ведь они и составляют смысл постройки.
Сакри-Монти
Все это не есть попытка четко определить этапы моего образования; важно и то, каким образом мы учимся. Некоторые вещи абсолютно немыслимы, если не связать их с воспоминанием о реальном переживании. Мне трудно передать и объяснить некоторые факты, крайне важные для меня в том числе и с формальной точки зрения.
Однажды утром в Венеции, когда я ехал на речном трамвайчике по Большому каналу, кто-то вдруг указал мне на колонну Филарете, Виколо дель Дука, и бедные жилища, построенные на месте роскошного дворца миланского синьора. Теперь я всегда обращаю внимание на эту колонну и ее основание, на колонну, в которой заключены и начало, и конец.
Это вкрапление, или реликт иной эпохи, в его абсолютной формальной чистоте всегда казался мне символом архитектуры, поглощенной окружающей жизнью. Я обнаруживал колонну Филарете, которую всегда пристально рассматриваю, в древнеримских памятниках Будапешта, в трансформации амфитеатров, и главное – как возможный фрагмент тысячи других построек. Вероятно, мне просто нравятся фрагменты. Точно так же я всегда думал, что приятно встретить человека, связи с которым когда-то существовали, но потом оборвались; это встреча с фрагментом нас самих.
Но вопрос фрагмента в архитектуре очень важен, поскольку, возможно, только разрушение может полностью выразить факт. Фотографии городов в годы войны, квартиры «в разрезе», сломанные игрушки. Дельфы и Олимпия. Возможность использовать детали механизмов, чей первоначальный смысл отчасти утрачен, всегда интересовала меня, в том числе и в формальном плане. Я думаю о единстве, о системе, собранной из фрагментов: может быть, только мощное потрясение способно открыть смысл общего рисунка. Сейчас нам следует остановиться на некоторых частных моментах. Однако я убежден, что общая структура, целостный проект, скелет гораздо важнее и в конечном счете красивее. Но случается, что исторические факторы, равно как и психологические помехи, препятствуют какой-либо реконструкции. Поэтому я считаю, что никакое серьезное воссоздание невозможно и единственное, что мне доступно, – это синтез логики и биографии.