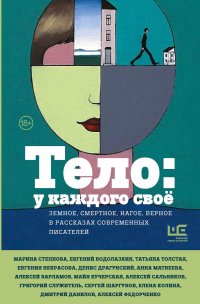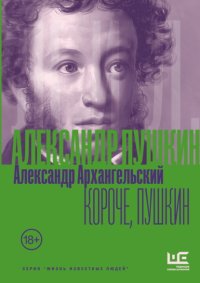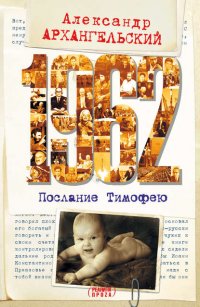
Читать онлайн 1962. Послание к Тимофею бесплатно
- Все книги автора: Александр Архангельский
Видел я трех царей; первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут.
Пушкин
Товарищ, верь!
Он же
Глава первая
Вот, сынок, наконец-то собрался. Давно хотел представить тебе отчет о прожитой части жизни. С ненужными подробностями, излишними деталями, случайными полусмазанными кадрами, как в семейном альбоме. Отличный замысел. Порезать жизнь на квадраты и прямоугольники, подвергнуть ее раскадровке, в матовом красном свете проявить изображение, рассовать словесные фотографии по прорезям, от предков к потомкам, от нас к нашим детям, от детей к внукам, и так без конца.
Основатель рода. Образец дореволюционного фотографического искусства, мастерская г-на Мартиросова. Картонная подкладка паспарту, за сто двадцать лет даже не пожелтевшая. На фототипии почтенный бородатый старец, твой прапра-прадед Иоанн Константинович Демулица. Лицо ясное, но жестковатое. Суровый был человек, сразу видно; иначе и быть не могло. Шестнадцать детей, все девки. По-русски он говорил плохо, но в земельном банке, который основал его богатый критский кузен, хлеботорговец, по-русски говорить и не требовалось. Греческая мафия чужих к своим счетам не подпускала, бухгалтерские книги контролировала сама, на всех ключевых постах сидели дальние родственники хлеботорговца. Если бы Иоанн Константинович не решился в 1862-м перебраться в Приазовье с какого-то крошечного острова, наши с тобой жизни сложились бы по-другому. Да и были бы они, наши с тобой жизни? Вопрос без ответа.
Переворачиваем страницу. Качество фотографий резко ухудшается, биографических пропусков все больше: революция, Гражданская война, Отечественная, лагеря.
На потрескавшемся обрывке глянцевой фотобумаги – смутное лицо красавца-мужчины в кожаном летчицком шлеме. Бабушкин дядя Сережа. Женился на еврейке, за что был изгнан из греческого дома, следы теряются в нетях.
Еще одно фото, тоже в трещинах, тридцатые годы. Смуглая холеная дама в белом манто. Тетка моей мамы, твоей бабушки. Ирина Ивановна. Вышла замуж за богатого остзейского немца Отто Адольфовича Т., семья выбор одобрила и даже успела порадоваться рождению маленького Адольфа Отто-вича. Но тут случилась великая война. Морского офицера Т. отправили в лагерь: за то, что немец. Незадолго до ареста, почуяв неладное, он успел инсценировать семейный скандал, шумно побил любимую жену, выгнал ее с ребенком ночью из дома, а наутро подал на развод по ложному обвинению в измене. Жену не тронули. Адольфа наспех переименовали в Алешу, холеная дама Ирина Ивановна начала бедствовать, притягивать к себе несчастья и быстро превратилась в очень высокую, очень худую, дочерна загорелую и резкоголосую южную старуху. Курила папиросы «Беломор», работала на чертовом колесе билетершей и страшно кашляла. Алеша вырос длинным гэкающим ейчанином, любил книжки и обожал порассуждать о кино и политике, но работал сантехником и быстро спился.
Почему фото Иоанна Константиновича, дяди Сережи, Ирины Ивановны сохранились, а фотографии бесчисленных дочерей Иоанна Константиновича – исчезли? Где снимки родни по русской линии? Эта линия была сильней и разветвленней греческой, но куда подевались все картонные, глянцевые, матовые отпечатки? Твоя рано умершая прабабушка, кучерявая, с накрашенными губами, – есть, а прадедушки, синеглазого поповского сыночка и знатного бабника, – нет. Куда пропал твой суровый елецкий прапрадед, соборный протоиерей Виктор Архангельский? А прапрабабушка – толстая, крепкая, веселая попадья? У меня есть только фото Вознесенского собора в Ельце, где о. Виктор отслужил нелегкое тридцатилетие, с 1891-го по 1921-й; твоя мама недавно съездила в Елец и разузнала. Но что случилось с ним в 21-м? что ждало его на излете жизни – тихая кончина в собственной постели? коммунистический погром? арест? Не знаю. И отец маминой сводной сестры Марины, ответработник товарищ Жигалов, он, спрашивается, где? Все в нетях, всех сорвало с семейного древа, унесло в неизвестность.
Тут бы начать фантазировать, достраивать историю до романа, сплетать сюжетные линии; не стану. Времени у тебя мало, а будет еще меньше, такая теперь жизнь, поэтому поступаю самым экономным образом.
Прямая судьбы проходит через две точки. Рождение и смерть. На смерть не оглянешься, а на рождение – можно попробовать. Напрягаю внутреннее зрение, пытаюсь увидеть тот день и тот год, когда я появился на свет, а значит, в каком-то смысле, появился и ты, и твои будущие дети, и дети твоих детей.
Москва, самое начало Арбата, обшарпанный родильный дом имени великого гинекологического еврея Грауэрмана. Мелкий, синюшный, чуть не задохнувшийся во время родов, я лежу рядом с мамой. Она вконец измучена и безумно счастлива. Ее обложили льдом, кровь густеет медленно; маму слегка поколачивает от холода и пережитой боли; до рассвета еще часа два, а то и три. Маме уже тридцать шесть, и это ее последний шанс обзавестись потомством. Личная жизнь ее не сложилась, хотя в молодости она была очень красива, невероятно стройна; вот они, ранящие сердце альбомные снимки. Румяная свежесть, сверкающая надежда на счастье, но уже первая складка между черных бровей, знак скрытого страдания… Сейчас бы ей проходу не давали – стильная, клубная худоба, отличные пропорции, осиная талия, плоский живот; в те времена такую красоту не ценили: ай, какие зажигательные ножки, просто спички. Нам бы это, чего повесомей; что ж тебя, милая, плохо кормят? Да ты каких кровей будешь?
Всю беременность маму преследовал страх, навязчивая мысль: ее сорокалетняя подруга Мирра Абрамовна А., тоже мать-одиночка, родила в 60-м первенца, а врачи не успели перерезать пуповину, родовая удавка захлестнула младенцу горло, он погиб. Но маме повезло, я не задохнулся, жестко спеленат, плотно притиснут к ней. Она в эйфории, которая спустя несколько часов сменится депрессией; так положено, так бывает у всех рожениц.
На дворе 27 апреля 1962 года. Страстная пятница. Но мама об этом не знает. Облетели мы весь свет, никакого Бога нет. Пасхальные куличи под видом весенних кексов начнут продавать только в 70-е годы, и это будет уже факт моей биографии. А мы говорим про мою маму, твою бабушку, Людмилу Тихоновну. Она родилась на Успение, но про Успение тоже ничего не знала – вплоть до старости она жила вне церкви, и только ваша детская вера, твоя и сестры твоей Лизы, подрастопила атеистический лед. Тем не менее она была крещена в детстве: на этом настояла бабушка-попадья. Крестный был партиец; в самый разгар пиршества в дверь постучали дружинники, и он от страха сиганул в открытое окно, прополз под шелковицей на карачках и удрал через забор. На столе осталась тарелка скользких пельменей и стакан сизого казачьего самогона. Дружинники попадью припугнули, но пельмени доели, самогон выпили, доносить не стали.
Мама моя не догадывалась о Пасхе, об Успении; она мало что знала о происходившем вокруг, в открытом и страшном мире, которого она так боялась всю свою жизнь. Ей бы спрятаться в норку, укуклиться в маленькой квартирке, где свисает старый абажур с кистями, на кухне булькает чесночный борщ, густой и прозрачный при этом; курчавый неулыбчивый сынок строит деревянный домик, все живы, здоровы, и слава Богу. История ее не интересовала, политика отвращала с самого детства; по причине слабого здоровья воспитывалась она в лесных школах. Главными воспоминаниями юности стали для нее не политические процессы и героические стройки, а то, как она, четырнадцати лет от роду, одна через темный лес шла к станции, потому что уступила свое место в грузовике подруге, подвернувшей ногу. Мокрая осока царапала лодыжки, отсыревшая тимофеевка била по коленям, разжиревший от постоянных дождей борщевик норовил зацепить лицо. Под ногами то и дело чавкало, из своих бесконечных болотец окликали лягушки, было страшно. А вдруг попадется лихой человек?
И еще она помнила черного козленка с прижатыми рожками, которого так любила во время эвакуации и которого пришлось съесть, и как долго она тогда плакала. Шкурку повесили сушить на позднем казахском солнце, и то, что было ребристым туловищем и тонкими ножками, стало бесформенным куском меха.
Подозреваю, что первый эпизод относится к июню 1941-го, перед самым началом войны, а второй – к 1943-му, кровавому, роковому и переломному. Но собственно про войну мама никогда ничего не рассказывала, а про ночной лес и черного козленка – постоянно.
Вот и сейчас, какое ей дело до того, что творится в мире? Есть младенец, он сопит, лед жжется, ссыхаются швы. Это не она тогдашняя, это я нынешний знаю, что происходило на планете накануне моего рождения.
1 января Западное Самоа получило независимость.
3 января Западная Гвинея была провозглашена самостоятельной провинцией.
25 января главы африканских государств из группы Монровии огласили Лагосскую хартию о панафриканском сотрудничестве.
14 февраля участники лондонской конституционной конференции по Кении решили создать к 31 марта двухпалатный парламент и региональные ассамблеи, а 1 марта Уганда добилась полного самоуправления.
Я даже знаю, можешь мной гордиться, что 3 февраля 1962 года в Бирме Не Вин сверг У Ну. Правда, кто такие Не Вин и У Ну, мне неизвестно. Также я смутно представляю себе первого премьер-министра независимой Уганды Венедикту Кивануку. Но если ты попросишь, если тебе интересно, только скажи, я сразу соберу необходимую информацию. У меня ведь есть Интернет, о существовании которого мама до сих пор не догадывается. Он ей не нужен; ей нужен я.
Теперь ты вправе задать мне неприятный вопрос: милый папа, а тебе какое дело до всего этого? Какое отношение к твоей судьбе имеют канувшие в лету Не Вины и У Нуи, Кивануки и Рашиди Кава-вы (это новый премьер Танганьики, чтобы ты знал)? Задавай, не стесняйся. Я давно заготовил ответ. Никакого – и самое прямое.
Понимаешь, когда пишут книжки про царей, политиков и даже великих ученых, начинают ab ovo, раскладывают пасьянс из исторических событий, сопровождавших рождение героя. Наводнение, землетрясение, глад, мор, военный союз, изобретение атомного оружия, династийный конфликт, открытие Америки, появление телеграфа, прорыв континентальной блокады, восемнадцатое брюмера, четырнадцатое декабря, Стоглавый собор. Считается, что все это важно: в истории завязались узелки, которые герою по мере взросления предстоит развязывать, а иногда разрубать. Когда же пишут про появление на свет нормального человека, начинают умиленно бормотать: погоды стояли в ту осень холодные, матушка топила печку, папинька приехали, старая ключница выпила всю наливку, а вы уже записали мальчика в ясли, очередь-то на полгода вперед?
Записали, дяденька, не извольте беспокоиться, только при чем тут будущее, невероятная судьба ребенка? Он вырастет, женится, пойдет на войну, сгинет в революцию, сделает состояние на хлебном кризисе, попытается выпрыгнуть из окна небоскреба во время Великой депрессии, возьмет себе на память осколок Берлинской стены и потеряет все деньги в год дефолта, чтобы уехать в Китай и стать гражданином мира. Он не будет принимать никаких решений, не сделает политической карьеры, вообще не сохранит своего имени в истории. Но история – это он, история – это то, что пройдет сквозь него и в нем осуществится.
Астрологи сверяют день, час, минуту рождения с положением звезд, чертят натальные карты; историки соотносят место рождения с суммой исторических обстоятельств, предопределивших частную судьбу. Вообще про каждого из нас нужно рассказывать точно так же, как было когда-то рассказано про главного из людей, про единственного Человека с большой буквы, про Господа нашего Иисуса Христа. Сначала про историю рода. Четырнадцать родов до переселения, четырнадцать родов после переселения, все эти миллион раз спародированные Аврам роди Исаака, Исаак роди Иакова… Потом поближе к делу, потеплей, пожизненней. Про святое семейство, которому не хватило места в гостинице, в гадком восточном клоповнике, пришлось ночевать в бедуинском хлеву. Про счастливую мать, которая так хотела быть обычной матерью обычного грудничка. Потом про новую звезду и волхование будущего. А потом про Ирода; про то, как менялся роковой пейзаж истории на фоне радостного Рождества, как будущее предопределялось настоящим. Да, евангелист рассказывал про Богочеловека. А мы про самих себя. Что ж, снизим пафос. Добавим толику самоиронии. Приправим самоанализом. Но в принципе мало что от этого меняется. Вот миг рождения. Вот вечные звезды. Вот протяженная история. Вот жизнь и смерть.
28 декабря 1961-го, приветствуя мой 62-й год, молодой поэт Иосиф Бродский писал в своем лучшем стихотворении «Рождественский романс»:
- Плывет в глазах холодный вечер,
- дрожат снежинки на вагоне,
- морозный ветер, бледный ветер
- обтянет красные ладони,
- и льется мед огней вечерних
- и пахнет сладкою халвою,
- ночной пирог несет сочельник
- над головою.
- Твой Новый год по темно-синей
- волне средь моря городского
- плывет в тоске необъяснимой,
- как будто жизнь начнется снова,
- как будто будет свет и слава,
- удачный день и вдоволь хлеба,
- как будто жизнь качнется вправо,
- качнувшись влево.
Хорошие стихи. Это несомненно. В остальном можешь сомневаться. Не исключаю, что все сказанное мною – полная ересь. Спроси на всякий случай у батюшки; если он не благословит, забудь мои рассуждения, и двинемся дальше.
Глава вторая
1
На пятый день с моей ноги сняли заскорузлую клеенчатую бирочку и в накрахмаленном конверте отправили в Сокольники. Дом в Малом Оленьем переулке был двухэтажный, шлако-засыпной, довоенной постройки, весь в щелях, по полу гуляли сквозняки. Майские праздники 1962 года совпали с черемуховыми холодами. Чтобы не застудить младенца, кроватку поставили на старый письменный стол. Так она простояла до самого переезда на новую квартиру: зимой дуло вообще непереносимо, а ледяной ожог от ободка железного ночного горшка я с омерзением помню до сих пор.
Что за окном? Холодный солнечный день. Морщась от боли и посмеиваясь от счастья, мама сцеживает молоко, прикладывает к воспаленной груди прохладные капустные листы. Огромный вкусный сосок нависает над моим маленьким ртом; все вокруг такое большое, странное, смутное. Суровая моя прабабушка Анна Иоанновна Демулица сидит недовольно на кухне. Прабабушка она по должности, а не по званию. Анна Иоанновна прожила жизнь старой девой, но дважды удочеряла деток. Сначала – юную племянницу, дочку покойной сестры. Затем юная племянница выросла, сама родила двух маленьких дочек от разных мужей и тоже в свою очередь умерла; Анна Иоанновна удочерила сироток – мою будущую маму и ее сестру Марину. Прабабушка меня сердечно любит, маму тоже, но все ей не нравится, всем она недовольна. Особенно тем, что я нещадно кричу по ночам. На лице Анны Иоанновны застыло выражение оскорбленного чувства справедливости. С этим профессиональным чувством старой училки она прожила всю жизнь, оно ее губило, оно ее и спасло.
После войны пошла облава на греков; Анну Иоанновну вызвали куда следует и предложили отправиться на родину предков. Товарищ Демулица пришла в гражданскую ярость, нагрубила чекистам и неожиданно вызвала их встречное уважение. Высылать ее не стали, просто отобрали паспорт и выдали временный вид на жительство в СССР. Анна Иоанновна страшно переживала и на протяжении трех лет мучительно решала, какими словами открывать торжественный урок перед революционным праздником Седьмое ноября, как ей обращаться к ученикам: «В нашей стране» или «В вашей стране»? Потом вождь народов умер, паспорт вернули, Анна Иоанновна красным учительским карандашом перечеркнула портрет Сталина в черном трехтомном энциклопедическом словаре, который простоял у нас на полках до конца 80-х; успокоиться она не могла до самой смерти.
А если бы она сдалась на милость судьбы? Представляешь? Маму и тетку Марину выслали бы вместе с нею; я (или тот, кому суждено было родиться вместо меня) вырос бы не безродным космополитом, смесью далеких народов, а полноценным приморским гречонком; страдал бы не от постоянного холода, а из-за вечной жары и колючего островного ветра; после падения режима черных полковников окончил бы гастрономические курсы и открыл ресторанчик в рыбацкой деревне, чтобы каждое утро засветло ехать на рынок, отбирать пупырчатых осьминогов, остро пахнущих тиной мидий и морских ежей, ведрами скупать рыбную мелочь, из которой всего за сутки высаливаются отличные анчоусы, торговаться из-за ракушек, мелких серых креветок, которые куда вкуснее возбуждающего на вид, но резинового на вкус крупняка, следить за тем, чтобы отечного тунца аккуратней распиливали электропилой… А ты сегодня читал бы не эти записки на пользу и память потомству, а бесконечные счета за тонны ца-цики и тарамы, за сотни декалитров отдающего камфарой белого вина, и на это ушли бы все твои математические дарования, никакого мехмата, сплошной бухгалтерский колледж. Вот что значит одно-единственное решение, принятое человеком, которого ты не застал, во времена, когда тебя и в проекте не было. Не ехать. Ехать. Пойти на пролом. Сложить лапки. Остаться.
2
Но Бог с ним, с семейным преданием, бабьими вздохами – поговорим о важном, о мужском. Вот реальные фото из воображаемого альбома, положим их рядом.
Первое – 1962 года, черно-белое. На заднем плане наш ветхий домик, обитый необструганны-ми досками, на переднем – плотно спеленатый кулек на капоте соседской машины «Победа», в кульке – твой маленький папа; Анна Иоанновна твердо держит внука, чтобы не скатился в траву, улыбается; в улыбке немного нежности и много торжествующего чувства справедливости.
Вторая фотография 1996 года. Цветная. Явная заграница. Ранний вечер. Диковатое здание из таких же необструганных досок за моей спиной с надписью по-русски «Сарай». Это летний концертный зал, там внутри имеются сухие русские берьозки, их отсюда не видно; акустика при всем том замечательная. Мы в маленьком городке Эвиан, Савойя, французские Альпы.
На той стороне Женевского озера сумеречно дремлет швейцарская Лозанна. А в Эвиане фонари, прожекторы, фары, подсвеченные фонтаны бьют по глазам. Эвиан – город сплошных казино; здесь не принято спать и положено полностью утрачивать чувство времени. В 90-е тут проходил майский музыкальный фестиваль в честь легендарного виолончелиста Мстислава Ростроповича. Вместе с ли-онско-парижской тусовкой вы долго искали место для парковки, шли в «сарай», наслаждались концертом, потом ужинали в ресторане при казино (если успевали заранее заказать место), неизбежно оказывались у рулетки, а под утро на выходе из игорного заведения вас провожал неправдоподобно огромный, в пол-этажа, портрет великого игрока на виолончели по имени Slava Rоstropovitch…
Теперь привычный вопрос. Как связаны между собой фотографии – Сокольники 60-х, Эвиан 90-х? Правильно, на обеих изображен твой отец в разные периоды своей жизни. Но этого мало. Подумай еще. Верно, в самый день моего рождения, 27 апреля 1962 года, Ростропович изнывал от скуки в жюри Второго конкурса пианистов имени Чайковского; пора было выпить, но где взять; на одного конкурсного гения приходился десяток середняков, слушать было невыносимо, а выплеснуть эмоции нельзя… Знаю сайт, с которого ты скачал эту информацию. Сам охотно им пользуюсь. Но сейчас я имел в виду нечто другое, более существенное. Приготовься остудить мой пафос. Единый исторический процесс – вот общий смысловой знаменатель двух этих числителей (красиво сказано, но правильно ли с математической точки зрения? Проверь).
Надо искать конкретную дату. Листаем энциклопедии. Вот оно. За несколько недель до моего рождения, солнечно-ветреным днем 18 марта 1962-го, в Эвиане, на берегу озера за длинным ресторанным столом сидели люди. Человек десять. По одну сторону – обветренные, белозубые, щетинистые восточные мужчины, в коротких белых рубашках без галстуков. Перед ними стояли тарелки с тушеной ягнятиной и простые бутыли толстого стекла с холодной водой. Ели они медленно; изредка роняли короткие фразы на странноватом французском языке, но обращались при этом исключительно друг к другу. Напротив расположились выбритые европейцы с явной военной выправкой; они усердно подливали себе вино из плечистых бордоских бутылок и весело обсуждали вкус поглощаемой пищи. И тоже – только друг с другом. На десерт подали сыр, с ним быстро разделались совместными усилиями, дружно встали, пожали друг другу руки, натужно улыбнулись и облегченно разошлись в разные стороны.
Щетинистые сели на катер и отправились в Лозанну, оттуда их инкогнито отвезли в Женеву; дальше их следы теряются. Выбритые поехали в Париж докладывать генералу де Голлю о том, что его поручение выполнено, переговоры завершены, в бунтующем Алжире будет сформировано смешанное правительство из представителей мусульманской общины и французских поселенцев, а 1 июля пройдет референдум по самоопределению французской колонии.
3
В эти дни на французском берегу Женевского озера окончательно решалась участь Алжира и Франции и определялась судьба моего поколения, которое ни к Франции, ни к Алжиру отношения не имеет. Каким образом решалась? Опять же самым косвенным и самым прямым.
Ты знаешь, что уже в 50-х колонии бузили по-взрослому. В 1962-м поднялись Кения, Уганда, Монровия, Ямайка, Лаос, Руанда, Бурунди, Барбадос, Наветренные и Подветренные Острова; вся имперская окраина тогдашней цивилизации превратилась в сплошное противостояние и бесконечное сражение Не Винов и У Нуев. Советское радио объясняло все просто: идеи свободы и коммунизма овладели желто-черными массами. Запад видел во всем происки Советов. Современный историк расскажет что-нибудь про борьбу местных элит за неподконтрольную власть. Все правы. Советы вмешались, идеи овладели, элиты боролись. Больше скажу: всемирно-историческую роль играли бытовые недоразумения; даже наглые лакеи могли становиться причиной переворотов. Если бы александрийские англичане вели себя умнее, пускали бы знатных египетских интеллигентов без унижений в закрытые колониальные клубы, где было запретное виски со сказочной содовой, разрешенные сигары «черчилл» имени великого премьера, бордовые кресла, черные лестницы, обтянутые шелком стены, неторопливые разговоры равных друг другу бездельников о мировой политике, – случилась бы египетская революция? Не уверен. Зато уверен, что кроме горизонтального объяснения было еще вертикальное, и оно главное.
На протяжении всей второй половины XX века колониальные народы упорно продвигались к обретению независимости. Шаг вперед, два назад. Левой, левой. Успехов они добились, но реакция полураспада началась лишь в 1957-м, за пять лет до моего рождения, когда был запущен первый спутник. Сознание людей открылось настежь. Они ходили по земле, задрав головы к небу, и были похожи на сомнамбул. А когда опускали глаза, то раздраженно замечали несовершенство окружающей жизни, ее отсталое несоответствие прогрессивному космосу. Если есть простор доступной свободы над нами, почему нет простора вокруг нас?
Порабощенные народы начали с удвоенной силой толкаться в утробе чужих государств, требуя выпустить их на волю, к самостоятельной жизни.
Когда же – ровно за год до моего рождения – в космосе побывал человек, приговор колониальной системе был окончательно подписан. Нет предела движению личности вверх; как же можно терпеть предел, положенный движению народов вширь? Тесно мне, тесно, скорей расстегните границу, дайте вольно дышать!
Дышать им дали. Попробовали бы не дать. Правда, несчастный Нельсон Мандела угодил в августе 1962-го в южноафриканскую тюрьму и просидел там с небольшими перерывами до конца 80-х, чтобы выйти и сразу стать президентом. Но это исключение; правила были совсем иными. И все же одного лишь взрыва космической энергии было мало; требовалось предъявить точку ее географического притяжения, земной символ небесного раскрепощения. На эту роль назначен был Алжир. Полусказочная заморская территория, французское тридевятое царство.
Почти миллион французов обосновались в этом засушливом раю, чтобы владеть землями, распоряжаться виноградниками, строить дороги, использовать дешевую рабочую силу и постепенно просвещать местную публику. Алжирские французы верили, что ведут себя весело и демократично – не так, как эти заносчивые англичане у себя в Александрии и Дели или наглые буры в своей Южной Африке; не так, как португальцы, испанцы и даже французы – в соседнем апельсиновом Марокко.
А если иногда приходилось вырезать непослушную алжирскую деревню, что ж; такова жизнь. И лучше про то никому не рассказывать; было – не было, кто потом разберет?
Они были убеждены, что их искренне любят, потому что французов не любить нельзя; алжирцы в конце концов скажут спасибо за преподанную науку правильно жить.
И вдруг в одночасье все посыпалось: автоматный стрекот по ночам, остывшие гильзы в песке, кривые ножи и замотанные платками лица восставших аборигенов, угроза потерять состояния. Началась полномасштабная война. И все понимали: победят веселые плантаторы – распад остальных империй затормозится. Одолеют мрачные свободолюбцы – и мир окончательно затрещит по швам. Прецедентное право истории. Вся планета следила за развитием ситуации, как за финальным футбольным матчем.
19 марта де Голль сделал правительственное заявление, в котором обещал признать результаты волеизъявления героического алжирского народа. Заявление было в пользу восставших масс; о нем подробно рассказало советское радио. Моя беременная мама, уже на сносях, вполуха прослушала сообщение диктора, но никакого значения ему не придала. Глаза у нее, как у всех беременных, были подернуты влажной пленкой, отчего казалось, что взгляд перевернут и обращен внутрь вздутого живота. Она думала, как будет рожать и не назвать ли младенца Константином, удастся ли устроить дела с работой или придется окончательно переходить в надомницы, но как тогда оберегать ребенка от пулеметного стрекота печатной машинки. Если бы ей объяснили, что решение далекого генерала аукнется в жизни ее будущего сына, она бы насторожилась. Потому что сын – это важно, важнее всего на свете. Но никто не объяснил. Так она и не узнала, над какой проблемой бился французский президент в ночь с 18 на 19 марта 1962 года. Об этом мама совершенно не жалеет; возможно, она права.
4
А готовился де Голль к худшему и думал о ближайшем будущем. О неизбежной мести колонистов; о том, не придется ли бежать из страны, прятаться за спину проклятых американцев; о кризисе власти, которую настоящий политик любит, как женщину, больше, чем женщину, сильнее, чем женщину. Думал он и об идеале свободы, об энергии сопротивления невозможным обстоятельствам, которая некогда вытолкнула его на вершину этой самой власти. За. Против. Воздержаться.
Энергия национального освобождения.
Безумие мести.
Верность демократии.
Десять миллионов алжирцев.
Как будет называться малая родина де Голля, если интегрировать Алжир и пустить алжирцев во Францию? Деревня двух церквей или деревня двух мечетей? Как будет называться французская республика, если признать поражение и подвести своих колонистов? Четвертый французский рейх?
Утрата состояний.
Репатриация в никуда.
Репатриантов будет не больше 20 тысяч… Не больше 70 тысяч… Не больше 200 тысяч… Нет, их будет миллион!
Франция скорбит о своих детях. Позор генералу де Голлю. Слава генералу де Голлю. Герой. Предатель. Красавец мужчина. Верста коломенская. Дядя, достань воробышка.
Впереди маячила угроза. Стране и ему лично. Герою Сопротивления, легенде нации, суровому политическому бойцу. Он, разумеется, не мог предвидеть, что уже 22 августа 1962 года по его «ситроену» и машине охраны откроют огонь боевики ОАС (французские офицеры, не принявшие волю своего главнокомандующего и начавшие мстить за покинутый Алжир). На счастье генерала и его перепуганной жены, водитель будет в тот день гнать как сумасшедший; оасовцы пропустят момент и начнут беспорядочную пальбу, не целясь, от живота. Заднее стекло разлетится вдребезги, передняя шина хлопнет и машина резко просядет на жесткую ось.
Но выскочить из ловушки удастся без особых потерь; кровь прольется случайно: выходя из разбитой машины и стряхивая осколки с рукава пальто, де Голль порежет палец до кости, чертыхнется и забрызгает красными пятнами свой светло-зеленый мундир.
Его ждет мгновенное обострение ситуации, череда малых и больших заговоров, цепочка покушений: 31 попытку задокументируют, а сколько оасов-ских планов сорвется? Но самое страшное даже не в этом. В конце концов, главную задачу любого политика де Голль уже решил: в энциклопедии, справочники, учебники истории вошел, никаким учительским карандашом не вычеркнешь. Вот вам высшая власть, попробуйте ее отобрать. Смерти он не очень-то боялся. Зато боялся непредсказуемых последствий своего решения. Не ближайших, а далеких. Как раз ближайшие месяцы просматривались ясно. Филиппины вот-вот заявят претензии на Северное Борнео, сладкую часть британской колонии. Будет провозглашена независимость Руанды и королевства Бурунди. Ямайка станет независимым государством в составе Содружества. А затем освободятся Тринидад и Тобаго. Правительство конголезской провинции Катанга пойдет на объединение с Конго согласно плану и. о. генсека ООН У Тана. Умоляю тебя, не спутай У Тана с У Нуем. Спасибо.
Но дальше, дальше-то что? Не перекосится ли мир? Не завалится ли европейская цивилизация набок, если убрать колониальную подпорку? Не разорвется ли на части? Не окажется ли прав странный доктор Альберт Швейцер, который провел всю жизнь среди африканцев – и при этом резко возражал против скоропостижного освобождения бывших рабов из бывших колоний, равнодушно принимая звание расиста? И еще хуже: не всплывет ли со дна истории мистический хаос, не сотворит ли нечто, чего мы вообще не в состоянии предположить?
5
По существу, решение уже принято, но последняя подпись – как последний рубеж. Она отсекает пути к отступлению. Де Голль сидит в своем огромном елисейском кабинете, один, за приставным столом; горит настольная лампа; по углам стелется сумрак. Президент Республики пытается заглянуть в будущее; напрасно. А в это самое время я смотрю из будущего на генерала де Голля и не понимаю: как же он может не замечать очевидного?
Сначала Париж мрачнеет; маленькие черные фигурки заполняют все просветы улиц в районе Монмартра; они кишат вокруг дешевых магазинов «Тати», толпами втискиваются в вагоны пригородных электричек; вид сверху, с высоты птичьего полета позволяет оценить масштабы происходящего.
Распад колоний прямиком ведет к неуправляемому наплыву черно-желтых иммигрантов в бледно-белую Европу; раздражение европейцев нарастает.
Проносится двадцатилетие; кое-что поменялось. Приглядись: пока одни черные метут улицы зелеными метелками, другие черные вперемешку с белыми слушают Поля Рикера и Жака Деррида в средневековой вольнице Сорбонны.
Еще тридцатилетие пролетает мимо, резко тормозим, делаем стоп-кадр. 2005 год. Очень дорогой ресторан лионской кухни, две мишленовские звезды; в полуобнимку входят тридцатилетний белый буржуа и двадцатилетняя холеная красотка, исси-ня-черная, высокая, одетая со знанием дела, сверкают белками умные глаза. Кто она – конголезская француженка? французская конголезка? – не имеет значения. Это следующее поколение, старые деньги и свежая энергия, зачаток новой расы.
Увеличиваем скорость, ныряем под арку на площади Звезды, совершаем вертикальный взлет, набираем космическую высоту, резко уходим направо. Под нами Европа. Ты понимаешь, о чем я. Но человек выделки 1962 года ничего не поймет. Какая именно Европа, молодой человек? Немецкая? Итальянская? Испанская? Выражайтесь яснее. Европейская Европа, дядечку. Что за бред? Это не бред, это жизнь.
Для современников славного генерала, которые только что выбрались из-под двух мировых войн, слова о единой Европе были пустым звуком. Они слишком хорошо помнили, что Франция жила под немцами, Англия дружила с американцами, Испания отдалась Франко, а Италия принадлежала Муссолини. Чем более расплывчатым становилось представление об окраинах империй, тем острее обжигало чувство собственной границы. Я не европеец, я англичанин. Я вам не какой-нибудь немец, я француз.
Мало кому приходило в голову, что бюрократическое крючкотворство под скучным названием «Соглашение угля и стали» уже с середины 50-х разминало экономики европейских стран, как пластилин из ярких детских коробочек, чтобы когда-нибудь слепить их в разноцветное, но цельное месиво. Как раз в марте 1962 года к соглашению присоединилась кичливая Англия, а это дорогого стоит. Но еще меньшее число людей догадывалось, что выход из Алжира не просто разрывал железный обруч, с помощью которого Французская республика скреплялась в империю. Он, этот выход, создавал новый внешний рубеж – для будущей единой Европы. Понимаешь? По одну сторону – бушующее море голодных, получивших долгожданную свободу, по другую – твердыня сытого европейского континента, вовремя сбросившего исторический балласт.
Подписывая бумагу, генерал менял вектор исторического развития, вековую стратегию европейского движения. До сих пор оно раскручивалось, как спираль, захватывало все вокруг себя. Столица в Мадриде, периферия за океаном. Центр в Лондоне, обочина в Тегеране. Елисейский дворец в Париже, решения исполняются на Гаити. Теперь движение будет направлено внутрь, энергия сжатия сметет внутренние различия государственных устройств, традиций, политических обычаев, торговых привычек европейцев. И полувека не пройдет, как на обломках политических перегородок учредится новая Европа упраздненных границ.
Помнишь, тебя шестилетнего привели на поле сурепки, где был врыт в землю обычный камень. На одной стороне камня было написано «G», на другой «S». Это значило: здесь Женева, Швейцария, а тут – Савойя, Франция. Тебе попытались объяснить, что по разные стороны камня находятся разные страны. Ты стал прыгать через невидимую черту, как через веревочку: Швейцария! Франция! Швейцария! Франция! Попрыгал минуту-другую и потерял всякий интерес: поле и тут и там одинаковое, желтое, пахнет медом, какая разница, с какой стороны? Мы даже сфотографировать тебя не успели.
Кстати, ты прыгал через границу в том самом 1996-м, когда я побывал на фестивале в Эвиане. А в 1962-м границы были непроницаемы, закрыты на ржавый амбарный замок; трезвый и злой Ростропович сидел в жюри московского музыкального фестиваля, не подозревая о предстоящей эмиграции и тем более о возможном возвращении; если бы моей маме сказали, что ее внук будет прыгать через границу, она бы рассмеялась.
Но именно сейчас, в ночь с 18 на 19 марта 1962-го, генерал де Голль подпишет бумагу, и будущее начнет становиться настоящим. Как в калейдоскопе, из причин и следствий складываются причудливые узоры. Торжество гражданских свобод над косной исторической привычкой. Процветающий Запад 70-х, золотой век усталой цивилизации, которая избавилась от колониального ярма и ринулась в доходное пространство научно-технической революции. Великолепный шанс осушить трясину коммунизма, одолеть нищету, сохранить верность идеалу свободы.
Все отлично.
Будущее состоится.
Стоит рисковать.
Подписывайте, г-н генерал, не тяните!
Но генерал не спешит. В ночном кабинете пахнет серой. Маленький воображаемый Париж забит не только лавочками веселых чернокожих французов; он кишит мрачновато-смуглыми фигурками франкоязычных мусульман, верных себе и своей вере; их дома наглухо закрыты, что творится в их головах, никто не знает. А там, вдали, змеится вьетнамская война, азиатский след алжирской драмы, последний отголосок колониальной эпохи. Из проигранного Вьетнама прорастает смутный образ Афганистана: прямое следствие проигрыша американцев.
6
С 80-го моих сверстников начнут призывать в армию и отправлять в пекло. Они обрадуются: синие беретки десантников так красивы, в загранке можно переспать со всеми медсестрами и заработать чеки, это что-то вроде нынешних долларов, только советских; как бы тебе объяснить? На чеки можно было купить в магазине «Березка» настоящие джинсы. Ну да, те самые, которые сейчас продаются на Савеловском рынке. Но раньше они были только в «Березке», только на чеки, только после заграницы. Не понимаешь? Жаль. Уходившие по призыву в Афган это понимали. Зато не понимали, что жизнь не стоит джинсов. И вкладывали в письма домашним молодцеватые фотографии на фоне специально подожженных бензобаков: героизм, слава, понты.
Вскоре пошли похоронки. За ними цинковые гробы. В доме напротив, на пятом этаже, получит извещение мать моего бывшего одноклассника. Лето, жара, все окна в округе открыты настежь. Она выйдет на балкон и будет выть несколько дней кряду. Не переставая. Однотонно. Как волчица. Перед ее глазами стоит образ: детская кроватка, в ней теплый мальчик, он только что срыгнул избыток материнского молока, пахнет кислой сывороткой, но лучше не трогать, не будить, только чтоб он не захлебнулся во сне. Мальчик мой, где ты? Почему тебя больше нет?
Помню, мама, побелев, подошла к балконной двери и с грохотом закрыла ее, закупорила нас в духоте.
Мама и ее сверстники свято верили, что Великая Отечественная война шла очень долго, закончилась совсем недавно, а новой войны быть не может. Никогда. Поэтому они переживали давнее событие 9 мая, как если бы победа была вчера. И в упор не воспринимали афганскую катастрофу как войну. Хотя она длилась в три раза дольше. Мама каждый год в День Победы подводила меня к окну, держала за руку, смотрела на майский салют, тихо плакала, и лицо у нее было отсутствующее, нездешнее. А как только по телевизору начинали рассказывать о героизме советских воинов-интернационалистов, подходила к ящику и переключала с первой программы на вторую. От волчьего воя соседки, потерявшей сына, она загородилась балконной дверью. Хотя всегда была сердечной, сочувствующей и готовой помочь; ты знаешь. Как такое могло быть? Загадка. Тем не менее – было.
7
Только когда Горбачев примет решение о выводе войск, до твоей бабушки и ее душевных подруг начнет доходить: это что же такое? Это значит, мы воевали? И проиграли? Куда же власти смотрели? И где же наша непобедимая мощь? Может, и Советский Союз не вечен? Быть того не может.
Может. Увы.
Никто не видит, как блуждающий огонь войны тянется за отступающей армией и поджигает территорию Таджикистана; как война приближается к южным границам России на тысячу километров. Никто не замечает, как возбуждается национальное сознание завоеванных балтов и веками мечтавших о своей государственности украинцев, как зарождается мечта о воссоединении Армении у карабах-цев и просыпается ненависть к армянам у сумгаитцев, как поднимается давление у казахов и нарастает страх у русских в Грозном.
Из афганского облака вылепляется грозовая туча российских 90-х: полуголод, которого ты по малолетству не помнишь; августовский путч – это ты уже застал.
Вечером 19 августа 1991-го ты был накормлен, умыт, расчесан и мирно ждал у телевизора своей программы «Спокойной ночи, малыши»; я, кстати, в детстве ее тоже смотрел – первый выпуск вышел в 63-м, решение о запуске принимали в 62-м, такая вот связь поколений. Вместо этого тебе показали «Лебединое озеро». Если забыл, поясню: в день государственного переворота вместо новостей, концертов и мультфильмов крутили балет Чайковского. Ты спросил, а где же Хрюша со Степашей? Я пробормотал что-то вроде: теперь нами опять правят коммунисты, Хрюши не будет. Ты отвесил нижнюю губу, ушел к себе, через десять минут принес белый лист, расчерченный на квадраты. Что это? – поинтересовались взрослые. Ты сказал: тюрьма для коммунистов. Твоя мама растрогалась, твоя бабушка перепугалась насмерть…
Прощай, империя.
Здравствуй, полная неизвестность.
Из ее густой темноты вырывается сверкающий самолет; он врезается в нью-йоркскую башню, пробивает брешь для новой страшной эпохи. Сквозь эту брешь хлынут Ирак, Палестина, Персия; над миром всплывет обманчивый образ седобородого старца с молодыми наглыми глазами; то ли он есть, то ли его нет; именем из восточных сказок, как паролем, аукаются фундаменталисты и спецслужбы, обыватели Европы и слушатели медресе. Оссааа! – начинает Пенджаб. Ммммма! – по-буддийски отзывается Париж. Беннннн! – гудит колокол Ивана Великого и ладаном кадит телевизор всемирному злу…
Если де Голль сейчас не подпишет бумагу, всего этого не будет. Потому что будет другое. Возможно, Алжир станет французским Афганистаном; свободой придется пожертвовать, сдаться на милость спецслужбам; Франция увязнет в алжирской трясине, только что восстановленная де Голлем государственность рухнет, Европа вмешается в конфликт и тоже увязнет; Советский Союз временно укрепится, а потом все равно обвалится. Но обвалится не в ошибочную свободу, а в безошибочный фашизм. И вокруг будет не спорный Евросоюз, а бесспорный рассадник несчастий. Америка сойдет с ума еще раньше, и каша заварится еще круче.
Другая череда других следствий. Таких же непредсказуемых, но гораздо более опасных.
А может, все будет совсем не так.
Я подслеповато всматриваюсь в то, что было бы, если бы, – и, странное дело, ничего не вижу. Хотя не понимаю, как же де Голль не видит того, что все-таки будет. Мне-то все ясно! А вождю нет.
8
Я однажды видел, как набухает решение политика. В опасные и веселые 90-е никто еще не боялся подписывать открытые письма, адресованные власти; в числе прочих подписантов я в ноябре 94-го оказался в Георгиевском зале Кремля. Физически Ельцин был уже нехорош. Чуть было не плюхнулся на чужое место; охранники удержали. Но вступительную речь произнес внятно, с чувством. По-царски обходился без личных местоимений: «Думаю, шта… Полагаю, шта… Уверен». Затем, тяжело опустив голову, ушел в себя и сделал вид, что неустанно слушает.
Величественный академик предложил культуру сделать нашей идеологией. Прогрессивный публицист передал папку с образцами фашистской прессы. Молодой борец сообщил, что выросло поколение, готовое защищать демократию с оружием в руках.
На ельцинском лице ничего не отражалось. Изредка он поднимал глаза, обводил мутным взглядом собравшихся, словно пытаясь угадать, как будут они реагировать на то решение, которое он тяжело взвешивает, пока они легковесно стрекочут. А я, не смейся, внимательно смотрел на его мясистый, желтоватый, почему-то по-женски припудренный нос. Мне казалось, что слова летят мимо ельцинских ушей, что никаких мыслей у него вообще нет, а весь ум ушел в обоняние. Он принюхивался к будущему.
Через три часа гостям предложили отобедать в Грановитой палате. Полуцерковная роспись. Храмовые своды. Тарталетки с жемчужно-черной икрой. Венгерское. Супчик. Тарталетку Ельцин съел, не заметив: она была такая маленькая, он был такой большой. На супчике замер; ложка зависла над тарелкой. Один за другим к микрофону выходили участники встречи, произносили важные фразы. Громогласные помощники за боковым столом веселились с гостями. Вождь был неподвижен. Он сделал стойку и ждал от самого себя команды фас.
Вскоре роковое решение было принято. Через месяц начались брожения в Чечне; на экранах замелькали несчастные лица пленных русских танкистов; на излете декабря в Грозном погиб парашютно-десантный полк; начались ковровые бомбардировки, интеллигенция раскололась на пораженцев и чеченоборцев; в нашу жизнь надолго вошли слова «площадь Минутко», «Толстой-Юрт», «Ведено», «Ачхой-Мартан», «слава России», «аллах акбар, аллах акбар, аллах акбар».
9
Сквозь черно-белую фотографию 62-го уже проступает цветной снимок 96-го. Еще раз посмотри на него. Рядом со мной невысокий седой человек с ясным взглядом французского протестанта, пожизненно влюбленного в Россию. Это женевский профессор Жорж Н. Он старше меня на 27 лет, но мы крепко дружим.
Во время франко-алжирской войны Н. был призван в армию. Как раз в те самые дни, когда я мирно покачивался в коляске, созерцая небо над Сокольниками, все в курчавых подмосковных облачках, и ждал, когда же меня покормят теплой жижей материнского молока, он лежал в горах, смотрел в непроницаемое-синее алжирское небо и ждал, когда же санитары заберут его с поля боя. Осколок снаряда попал в живот, рана уже онемела и боль на время затихла; чем слабей становилась боль, тем сильнее хотелось пить; чем сильней хотелось пить, тем страшнее хотелось выжить. Рядом в песок уткнулся ближайший друг Жоржа Н.; друг был мертв.
Только смерть, сынок, бесповоротна. История вся состоит из сплошных поворотов. Крутых и легких; каких больше? не знаю. Появление спутника обостряет роковую проблему колоний; что ж теперь, спутники не запускать? До смены эпох остается несколько секунд. Сейчас генерал возьмет ручку, утвердит секретное соглашение, упразднит центр и периферию, откроет путь в глобализм. Облетели мы весь свет, никакого рабства нет. Особого счастья эта перемена никому не принесет; почитай сегодняшние газеты, там самым мелким шрифтом в нижнем левом углу сто тридцать второй полосы время от времени печатают информационные сообщения об очередных алжирских потрясениях и людских потерях: больше сорока лет прошло… Но история, дорогой мой, существует для чего угодно, только не для нашего с тобой счастья.
Про счастье лучше спроси бабушку. Да, сейчас она живет с сиделкой, ковыляет по квартире под ручку, нещадно порезана хирургом, временами теряет рассудок, какое уж тут счастье. Но как только забудется на своей удобной резной кровати красного дерева, доставшейся от Иоанна Константиновича Анне Иоанновне, а от Анны Иоанновны – ей, Людмиле Тихоновне, так перед глазами поплывут легкие, свежие картинки: лавочка у покосившегося дома, коляска, в которой спит сынок, чужие ласковые дети копошатся в песочнице, лопатка, мячик, формочка, песок забился в сандалии, запах разогретой крапивы, короткое русское лето, кроткая женская радость.
А в истории все иначе. Песок забивается в ноздри; скалистые алжирские горы остывают после дневной жары; рана подсыхает и начинается жжение молодого гноя, пульсирующего под кровяной коркой; санитары все никак не появляются; то ли выживешь, то ли нет. Маленький солдат Жорж Н. лежит, ожидая своей участи; великий генерал де Голль решает участь страны и мира. Что важнее: расстегнутое небо над нами или стянутая портупеей земля вокруг нас, свобода или порядок, право наций на самоопределение или незыблемость границ? Генерал в ловушке, которую расставил ему XX век; чтобы выбраться из тупика, ему нужно угадать, как будет устроен век XXI. Он закрывает глаза и прыгает в неизвестность.
Глава третья
Я просыпаюсь и открываю глаза. Потолок на кухне весь в трещинах, облупившаяся краска закручивается в трубочку. Густо пахнет кипящим бельем. Мама настругала хозяйственного мыла, смешала с водой, упихала в бак подгузники, мешает их огромными деревянными щипцами. Потом пойдет стирать в корыте возле колонки; я буду лежать в коляске рядом, смотреть в небо и радоваться холодному запаху свежей воды.
Что такое подгузники, спрашиваешь? Хм. Ты, между прочим, успел родиться в их доисторическую эпоху; мы с твоей мамой накипятились и настирались вдосталь. Подгузник, сынок, это кусок марли, который накручивают младенцу на бедра, чтобы он не сразу уделал пеленку. Подгузник быстро промокает, натирает, будит. Особенно тяжко ночью: родителям приходится все время вставать, на цыпочках красться к кроватке, чтоб не скрипнула половица; поднимать младенца как пушинку, неслышно, незаметно; он все равно через раз просыпается и начинает орать. Родители по очереди садятся на табурет у кроватки и тупо ее качают, бредя наяву.
Совсем худо, когда мать воспитывает ребенка одна, как меня – твоя бабушка. От нарастающего недосыпа она становится все более нервной и все более робкой; у младенцев от рождения развит счастливый нюх на чужую слабость, они мгновенно подчиняют податливых матерей своей железной воле и перебираются из жесткой постели на мягкие руки. Тогда матери приходится надолго забыть о кровати, она спит в кресле, под ноющую спину подложена подушка, на груди расположился любимый тиран, пошевелиться нельзя. Некоторые злодеи добиваются еще большего, заставляют носить их на руках ночь напролет; как только мама присядет, начинается нестерпимый вой. Но это уже совсем беспредел, решаются на него, как правило, только мальчики. Как я. Или ты.
Использованную марлю сбрасывают в пятилитровый бак; вонючая гора нарастает неостановимо; с утра пораньше и вечером попозже ее нужно кипятить и стирать. Бак не успевает остыть, ванна желтеет и покрывается скрипучим налетом, отовсюду свисают мокрые тряпки, сладкий противный дух пропитывает кухню. Ужас, ужас, ужас. Колониальное рабство родителей, короткий марлевый поводок, удушливый фланелевый намордник.
И вот совершается великий исторический переворот. В продаже появляются памперсы. Женская часть человечества сладко разгибает спину; заметив это, мужская – спину выгибает и начинает ластиться к женской части. В кино на вечерних сеансах все чаще появляются молодые пары; до этого были одни лишь сопляки и старички. Молодеют и как грибы разрастаются бары и кафе, потому что перед сеансом и после него можно пропустить по стаканчику, выпить по чашечке. Появляются бесконечные объявления в газетах: требуются официанты… нужны бармены… желающим подработать звонить по телефону…
Но смотри, смотри, что это? и как это понимать? Отдохнувшие, посвежевшие женщины одной рукой волнующе обнимают, мягко обволакивают мужчин, другой – мускулисто отталкивают их. Да, любимый. Стоп, родной. В гости заходи почаще, а вместе жить необязательно. Не придется обстирывать и готовить, постоянно терпеть душные сигареты и запах небритых подмышек, приноравливаться к футболу и подозревать измены. Зачем нужен брак? Лучше любовная дружба. Главное, что у ребенка есть отец. Семья, и без того давно уже ослабевшая, окончательно рассыхается; меняется быт, за ним приходит очередь мироустройства…
Когда же памперсы появились у нас? Думаю, году в 93-м. Примерно тогда же, когда происходили октябрьские события в Москве. 3 октября этого мрачного года Москва напоминала сплошную массовку на съемках плохого фильма про восставших марсиан; по центру фланировали тысячи возбужденных людей; людские потоки, как шарики ртути по наклонной плоскости, внезапно стекались в вооруженную толпу. Возле здания мэрии стреляли, слышались одиночные взрывы, звенели битые стекла.
В ночь на 4 октября боевики штурмовали телевидение. Грузовики въезжали в стеклянные стены, раздавались автоматные очереди. В какой-то момент картинка вырубилась, и мне позвонил приятель из далекого Екатеринбурга, в ужасе: что там у вас в Москве делается, это конец? Зачем конец? Это не конец. Это начало, дорогой друг. Ранним утром 4 октября даже на нашей северной окраине было слышно уханье пушек. Телевизор ожил; со всех высотных точек было видно, как происходит обыденный танковый обстрел восставшего Верховного Совета.
В моем архиве хранится еще одна твоя картинка.
Белый дом, огонь пожара, в левом углу стреляющий танк; рядом с ним стоит танкист, вдвое больше танка и примерно вполовину Белого дома…
А в это самое время какая-нибудь юная мать, краем уха прислушиваясь к пальбе, недоверчиво разглядывала штанишки на липучках, умеющие впитывать влагу. Ей подарила свекровь, а свекровь работает в банке, она бухгалтер, у нее деньги есть. Мать слепляла и с треском разлепляла липучки, щупала плотную прокладку. Так голодная кошка в грозу приседает на лапах, подрагивает ухом, но не отрывается от миски с обрезками сырого мяса.
В деревянной кроватке агукал новорожденный, на полу строил домики старший. Между памперс-ным и подгузничным разница была пять лет; никто не догадывался, что на самом деле их разделит целая эпоха. Старший не давал поспать, постоянно держал на привязи; склизкий запах перекипевшего порошка въелся в обои; подушечки пальцев стерлись, заскорузлая кожа потемнела, молодая спина старчески ныла; в сон женщина проваливалась сразу, едва щека касалась прохладной подушки, муж раздражался все больше и больше, задерживался на работе все чаще и чаще, но пересилить себя она не могла.
Ко всему прочему вплоть до весны 92-го есть было решительно нечего, во встроенном шкафу хранились сотни банок несъедобной китайской ветчины «Великая стена», под старыми простынями лежал запаянный пятикилограммовый пакет сушеной немецкой картошки, стратегический запас бундесвера, жуткая дрянь.
И вот – штанишки на липучках. Стирать не надо. Служат долго, значит, будет спать. Денег стоит немереных, но если муж не бросит, выживем. А если она опять почувствует себя женщиной, зачем ее бросать? Не повредят ли, однако, штанишки здоровью? Не взопреет ли мальчик в интересном месте? Не помешает ли ему в будущем нынешний парник вместо трусов? Может, не стоит? Может, лучше ей помучиться сейчас, чтобы потом не стало хуже ему? Надо спросить доктора. Хотя откуда ему знать, он памперсов еще сам в глаза не видел…
Так она мучилась и гадала. Примерно как де Голль перед Эвианом или Ельцин перед Чечней. Сердце билось в ожидании перемен. Как билось у них.
Тем временем стрельба стихла. По телевизору показывали медленно чернеющее здание Белого дома. Слышно было мирное потрескивание, как если бы горели сучья в костре. Из помещения выводили людей в камуфляже, руки за голову. Пора было сцеживать молоко для младшего и варить суп для старшего.
Глава четвертая
1
Ты уже понял, куда я клоню. Без маленьких людей нет большой истории; их она приносит в жертву, ими управляет, от них зависит. Хлебом их не корми, дай порассуждать о том, что мы ни при чем, эти там, наверху, сказали, пришлось делать; однако вывинтишь копеечные гайки тормозной системы и рублевые свечи зажигания – и машина либо не заведется, либо ее занесет, костей не соберешь.
Я это к чему. 31 мая 1962 года (тридцать пятый день моей жизни… или какой? посчитай) в небольшом еврейском государстве казнили немецкого маленького человека, Адольфа Эйхмана. Для захвата этого маленького человека в Буэнос-Айрес была отправлена целая группа «Моссада»; он был доставлен в Тель-Авив под видом обкурившегося пилота, занудно и почти беспристрастно допрошен, осужден открытым судом и приговорен к смерти. У меня есть краткий документальный фильм, смонтированный из многочасовой киносъемки суда. Попозже сгоню тебе его на VHS,[1] посмотри, небесполезно. И сделано хорошо. А вот переведенную на русский книжку протоколов допросов Эйхмана читать не советую. Смертельно скучно. Требовалось такое-то количество эшелонов; это стоило столько-то; так точно, господин судья; слушаюсь, господин следователь. Но скука и злодейство – две вещи несовместные, верно? А тут они совместились.
В Третьем рейхе Эйхман ведал еврейским вопросом. Лично никого не убивал, не отдавал приказов об уничтожении. Но без него, без его склоненной над бумагами лысенькой головы, его бухгалтерских очков в роговой оправе и с толстыми стеклами невозможно представить историю уничтожения шести миллионов человек.
Родился Эйхман в Золингене, там делают лучшие ножики в мире, достань из кухонного ящика, потрогай, трепет идет по жилам, такая отличная сталь. В диетические предвоенные времена он кропотливо вычищал от евреев свою родную Вену. Ты лишаешься права на собственность; вот тебе паспорт с отметкой «J», две недели на переговоры с иностранными посольствами; не нашел страну, готовую тебя принять, – пожалуй в концлагерь.
После захвата Польши, уже почуяв запах большой крови, Эйхман создавал Освенцим и Варшавское гетто. Возглавил еврейский отдел СС. В 42-м получил полномочия «окончательно решить еврейский вопрос в Европе» и дал на него педантичный немецкий ответ. В 44-м обратил внимание на уклонившуюся Венгрию и вычистил в лагеря смерти 437 000 венгреев.
После падения режима поменял документы; в 1950-м бежал в Аргентину и затаился. Выдала его девушка любимого сына: сын сболтнул ей, кто они на самом деле, она сболтнула дедушке, дедушка вышел на г-на Несера Харела, создателя израильской службы «Моссад»; участь Эйхмана была решена.
Теперь задам тебе интересный вопрос. Кто была эта девушка, кто был этот дедушка? Еще более интересный ответ. Девушка и дедушка были евреи. Символ холокоста, производитель геноцида, создатель машины уничтожения, Эйхман не имел ничего против нежной дружбы арийского сыночка с юной жидовкой. К евреям он относился никак. Лично ему они ничего плохого не сделали, разве что жили в Австрии слишком богато, куда там сыну чистокровного арийского бухгалтера. Но за это он давно уже поквитался с ними, пожил в венском особняке Ротшильдов, поездил на реквизированном «мерседесе», попил кошерных вин из еврейских подвалов. А так-то, что злиться? Народ как народ. Зачем было уничтожать? Во-первых, приказали, а мы люди маленькие, так точно, слушаюсь. Во-вторых, если ты обожаешь огонь, не следует жалеть дрова. Ненависть тут ни при чем. Чтобы пламя полыхало, нужно вовремя подбрасывать поленья. И только.
Пламенеющей любовью Адольфа и высшей его заботой было мощное немецкое государство. Он был такой крохотный, оно такое огромное, такое жаркое; в неостывающем тигле Третьего рейха без остатка плавилась частная жизнь Эйхмана; она обретала божественный смысл. И уже не имело никакого значения, что лично он, сын золингеновского бухгалтера, думает о горючем еврейском материале – и думает ли о нем вообще. Путь грандиозной державы пролег через мелкие жидовские судьбы, и хватит, довольно рассуждать, давайте делать порученное дело.
После войны, прячась от оккупационных войск, он несколько лет прослужил путейцем. А в лучшие времена, думаю, сам себе напоминал диспетчера небесных путей сообщения. Провидение гонит потоки людей с востока на юг и с севера на запад, перенаправляет жизни, сшибает эпохи; оно не считается с мелочами, единственная работа, достойная Бога, – ставить цель. А кто-то должен сидеть в диспетчерской будке, высоко, у огромного окна с видом на разбегающиеся рельсы, и быстрыми штрихами, резко царапая красным карандашом и мягко орудуя ластиком, расчерчивать и стирать линии движения, разводить подъездные пути, отсчитывать интервалы, избегать столкновений и неоправданных задержек, вовремя передавать команды стрелочникам, путейцам, машинистам. А также думать об экономии средств, рачительно оберегать имущество и снижать затраты; на этом человеке лежит великая ответственность завхоза. Не меньше, но и не больше того.
Венских евреев убивать не нужно? Очень хорошо. Пусть поищут себе прибежище, но не слишком долго. Польских юде слишком много? Задача ясна. Не допустить расхода боеприпасов, они понадобятся на восточном фронте. Снизьте пайки до предела, усильте трудовую нагрузку, голод породит болезни, болезни умножат убыль. Гетто и лагеря разрастаются, приобретают промышленный размах? Это серьезно. Расстреливать будет накладно: сколько нужно отвлечь боеспособных солдат, сколько потратить патронов, выписать лишних лопат со склада и выдать дополнительных пайков похоронным командам. Но проблема подлежит разумному решению, потому что правильные исполнительные люди ее предвидели, вовремя произвели нужный расчет. Уже испытана передвижная душегубка – наглухо закрытый грузовик с поступающими внутрь выхлопными газами; надо лишь сделать следующий шаг в заданном направлении и отстроить газовые бани. Пропускная способность хорошая, до 10 тысяч человек в день. Человеческий материал остается неповрежденным; достигается индустриальное удобство при изъятии золотых коронок, снятии волосяного покрова для париков, извлечении жирового слоя. А вы не морщьтесь, не брезгуйте: в армии, для поддержания гигиены и борьбы с массовыми инфекциями, необходимо бесперебойное поступление мыла. Никаких живодерок не хватит. Жидодерок, ха-ха.
Даже в руководстве СС не все были способны проникнуться особым смыслом поставленной перед Эйхманом задачи; некоторые считали, что главное – успешно воевать на фронте, а евреи как-нибудь подождут. Приходилось прилагать невероятные организационные усилия, чтобы вовремя и в необходимых количествах выделялся транспорт для переброски евреев, утверждались сметы заказов на производство и транспортировку газов, финансировались новые ставки лагерных охранников. Туповатые тыловики плохо умели считать; если бы они сравнили сумму расходов и роспись доходов (золото, себестоимость мыла), а также экспертную оценку потенциальных утрат от эпидемий, – поняли бы всю державную правоту маленького Эйхмана.
Однако ж он не тратил силы на гнев и раздражение; просто своей настойчивой работой компенсировал всеобщий недостаток исполнительской дисциплины. К тому же у него были особые полномочия, он лично реквизировал эшелоны, отдавал команды заводчикам и распределял наряды на смерть. Но на самом деле занимался он не еврейской смертью, нет; он занимался жизнью немецкого государства, и поздним вечером, за рюмкой боевого коньяку, испытывал чувство усталого счастья. Еще одно препятствие устранено, страна не пострадала, Бог может спокойно пребывать в своем небесном величии, пока на земле есть маленький Эйхман…
Он не лукавил на допросах и во время суда, упорно повторяя: мне было жаль этих людей, но передо мной поставили задачу. Я ее добросовестно выполнял и действовал как можно рациональней. В чем же моя личная, особая, отдельная вина? Он не притворялся. И в этом упорстве неведения не был одинок. Увы. Черта общечеловеческая.
2
Радио сообщает о казни фашистского преступника, а в это самое время за столом, на котором стоит моя кроватка, упираясь в нее головой, сидит дедушка Толя, свекор маминой сестры. Лысенький, сухонький, загорелый хохол. Глазки глубоко посажены, голубая сталь посверкивает из-под густых седоватых бровей. Когда говорит, голову низко опускает, смотрит исподлобья, чуть прищурившись, насмешливо.
Он когда-то жил по соседству; выйдя на досрочную военную пенсию, перебрался на родную Украину; свои две комнатки записал на сына и его молодую жену, мамину сводную сестру Марину. Марина на шестнадцать лет младше, она только что достигла совершеннолетия, и мама втайне убеждена: девочка поспешила выскочить замуж, лишь бы подальше сбежать от суровой Анны Иоанновны.
Полгода назад молодые уехали по месту офицерской службы мужа, на Дальний Восток; там свежеиспеченной семье предоставили заболоченное, гнилое общежитие посреди подветренных сопок. Сокольнические комнатки нужно было сдавать государству, срочно выписываться; Марина и дедушка Толя приехали разбираться.
Водка выпита, селедка доедена, немного картошки еще осталось, резко пахнет луком, сбрызнутым уксусом и политым подсолнечным маслом, у меня слезятся глаза, я хнычу. Но взрослым не до того. Бабушка завела свой любимый разговор про Сталина и культ личности. Не забывай: всего шесть лет прошло после закрытого доклада Хрущева на XX съезде и меньше года – после его яростной публичной речи на партийном съезде в 1961 году; тема горячее, чем сейчас наркотики, террор и клонирование. Желваки у дедушки Толи ходят, синяя жила на виске вздулась, однако ж он держит себя в руках, не матерится. Даже поначалу вежлив.
– Да когда вы поймете, Анночка Иоанновна. Когда. Сталин был не просто вождь, мы его любили как родного отца, он Гитлера победил, он нашу великую армию создал.
– А во времена моей далекой молодости считалось, что армию создал Троцкий. Да ты и не армейский, Анатоль Василич, ты из органов, не примазывайся.
Анатолий Васильевич начинает терять самообладание. Он все еще не позволяет себе кричать, но шипит уже со свистом.
– Кончайте разводить антисоветскую пропаганду. Ваш Хрущев – он вражеский агент, мы еще узнаем, на кого он работает. Лучших офицеров сократил, на пенсию отправил, в деревню, картошку сажать. Вот эту вот говенную картошку, – он трясет в воздухе вареным клубнем, капли пахучего масла и едкого уксуса брызжут на стол. – Мне пятидесяти нет, пахать бы и пахать, а я без дела сижу.
– Да ты, Анатоль Василич, работать на завод пойди. Рабочих рук в стране не хватает.
– Я подполковник запаса, Анночка Иоаннов-на! Подполковник! У меня две больших звезды на погонах, понятно? Моя профессия – родину защищать, обеспечивать безопасность. И я буду слесарем четвертого разряда? Нет уж Лучше на Днепре рыбачить.
Дедушку Толю колотит. Маленькие голубые глазки собраны в кучку. Тут бабушка наносит главный удар.
– А где ты свои звездочки заработал, дорогой мой? Не на войне, верно? Помнится, когда ты уезжал на Север, звездочек у тебя было немного и были они совсем маленькие. И что ж ты на Север семью не взял? Боялся показать, как заключенных пристреливают и водой на морозе заливают? а? что молчишь?
Дедушка Толя идет пятнами и тихо, четко, зло, почти по слогам отвечает:
– Я выполнял приказ. Приказ не обсуждается. Я охранял страну. Они были враги народа, а народ не ошибается.
Тут в комнату влетает моя молодая веселая тетка, щебечет, хохочет, целует свекра и бабушку, прижимает меня к теплому своему сердцу, сюсюкает; мир, успокоение, занавес, антракт. Всех просим в буфет, бутерброды, коньяк, пирожные за деньги, разглядывание декольте бесплатно.
Третий звонок, занавес поднимается, декорации переменились. Сорок три года спустя. Ни бабушки, ни свекра, ни тетки уже нету в живых. Бывший младенец отдыхает от работы над посланием своему взрослому сыну; в руках у него свежий номер газеты «Коммерсантъ». В газете с подъелдыкиванием и полухохмой сообщают, что генеральная прокуратура закрыла уголовное дело о бессудном расстреле поляков в Катыни. Стреляли чекисты, в этом нет сомнений; однако дело закрыто за недоказуемостью. Финансовый обозреватель комментирует: признать вину НКВД – нарваться на огромный иск России как правопреемнице СССР. Этого власть допустить не могла. Бывший младенец грустно откладывает газету в сторону и, вздохнув, опять садится за компьютер. Аплодисменты. Затемнение. Разворот сцены.
Я, конечно, мог бы зайти в дебри, вспомнить про Адама, который недоуменно и устало отвечает Богу: ну что Тебе еще нужно? Жена, которую Ты мне дал, она дала мне есть! Не дал бы жену, или дал бы другую, она бы и яблока не сорвала, и меня бы не покормила запретным плодом; Ты принимал решение, Себя и суди. Но я рассказываю про собственную судьбу, черчу натальную карту своего поколения, при чем тут Адам? Ни при чем. В отличие от господина Эйхмана и дедушки Толи.
3
В документальном фильме, который я обещал тебе прислать, есть потрясающие кадры. Свидетели рассказывают об ужасах геноцида; Эйхман, сидя в будочке за пуленепробиваемым стеклом, смахивает носовым платочком пыль со стола. Голое мясо человеческих тел перед последней разлукой у рас-стрельного рва; газовые мумии высохших трупов; робкие дети, предъявляющие охраннику лагерную татуировку; доисторический ужас в центре Европы. И крахмальный хруст воротничка, начисто протертые очки, сверенная машинопись приходов и расходов, исполнительная честность порученца, стерильная чистота письменного стола, белый носовой платок.
Адольф Карл Эйхман, 1902 года рождения, член австрийского отделения национал-социалистической партии, спокойно принял свой приговор. Что ж, он вчера был частью немецкого замысла и устранял человеческие препятствия, сегодня сам стал препятствием на пути еврейского проекта и пришел черед устранить его самого. Наверное, без этого молодой Израиль, только что отметивший свое 12-летие, никак не может двигаться дальше. Но когда перед казнью к нему подошел протестантский пастор и предложил покаяться перед смертью, Эйхман изумился и почти обиделся. За что каяться? За хорошо и честно выполненный приказ? Пускай каются те, кто этот приказ ему отдавал. На эшафоте Эйхман с некоторым пафосом, но скромно и прилично произнес прощальные слова: «Да здравствует Германия! Да здравствует Аргентина! Да здравствует Австрия! С этими тремя странами связана вся моя жизнь, и я никогда не забуду их. Я приветствую свою жену, семью и друзей. Я был обязан выполнять правила войны и служил своему знамени. Я готов».
Он был готов. Утром 1 июня ничтожный прах был развеян над великим морем. Море все стерпит.
Глава пятая
1
То ли в этот самый день, то ли на следующий я заболел коклюшем и рахитом. Пузо раздулось, меня спешно отправили в больницу. Палата на двадцать человек, не поместившиеся спят в коридоре, серое белье отсырело, от раздаточной несет горелой кашей. Я лежу в эмалированной люльке, похожей на облупившиеся магазинные весы, мама прикорнула рядом, добирает часы ночного недосыпа.
В урочный час приема посетителей вдруг начинают скрипеть и мягко хлопать подбитые войлоком двери; в палату входят, из палаты выходят; громким шепотом из разных углов свиристят худые матери и толстые свекрови больничных мамочек; солидно роняют слова мужья, обильно опрысканные одеколоном «Шипр»; шуршат газетные свертки, щелкает яичная скорлупа, раздается запах свежих огурцов, густо просоленного сала, черного хлеба и даже зеленого лука; «ну что ты, что ты, – слышен ответный шепот, – какой лук, он же грудь не возьмет». Нежный младенческий рев подтверждает материнскую правоту.
Мама продолжает притворяться, что дремлет; бабушка навестила ее вчера, а больше ждать некого, даже из роддома забирали сослуживцы, обидно до слез, но что делать. Внезапно она чувствует: кто-то садится на стул у ее кровати; мама на мгновенье открывает глаза, сразу захлопывает ресницы, потом опять осторожно приоткрывает и потерянно молчит.
Рядом с ней сидит крупный мужчина лет сорока, светловолосый; мясистый нос, капризные губы, доброе, слегка безвольное лицо. Его фотографий ты никогда не видел, хотя они когда-то в семейном альбоме были, я помню; бабушка Анна Иоанновна, Царствие ей Небесное, перед самой смертью зачем-то вынула десятка полтора снимков (слепая была совсем, а помнила, кто на какой странице), порвала их в клочья и выбросила в окно. Мужчина смущенно молчит. В одной руке у него розовая гвоздичка, в другой – плетеная авоська с какой-то баночкой, завернутой в плотную бумагу.
– Куда поставить? Ох, прости, сначала – здравствуй!
Мужчина усиленно растягивает губы в подобие улыбки. Мама тоже испуганно улыбается:
– Здравствуй! Ставь на тумбочку. А цветок – спасибо! – прямо в графин, потом подыщем что-нибудь подходящее.
– А это он?
– Он.
Мужчина долго смотрит на меня, наверное, что-то такое внутри себя переживает, однако на лице – типичная маска равнодушного соседского умиления, ух ты, какие мы. Мужчины вообще начинают разбираться в детях попозже; обычно дети становятся им интересны после двух, двух с половиной, когда что-то такое забавное делают, бормочут и начинают умилительно напоминать дрессированных собачек. Пока же они лежат поперек люльки, нежно смотрят сквозь молочную пелену глаз и занимаются в основном решением физиологических проблем, как опорожнить желудок, вовремя поесть, избавиться от колючих газов и срыгнуть лишнее, мужчине трудно ощутить в ребенке человека. Тут нужна родовая женская связь, тайна за семью печатями, божественный секрет, не подлежащий мужской разгадке.
– Правда, он чудесный? – спрашивает мама затаенно.
– Правда! – энергично отвечает мужчина. (А что он еще может сказать?) – Может, выйдем в коридор, прогуляться?
– Только я халат накину, отвернись. Коридор узкий, душный, здесь еще гуще пахнет лекарствами и кашей, пованивает перевязочными материалами; по стенам развешаны плакаты о вреде абортов, о здоровом питании малышей и самодельный стенд «Уголок атеиста», в центре которого – дураковатый бог с кривым нимбом и ангелы, похожие на гризеток. Мама легонько, кончиками пальцев, прикасается к руке собеседника, иногда быстро вскидывает голову, заглядывает ему в глаза и еще быстрее их опускает.
– Что же ты про нас совсем забыл, ни разу не заглянул?
– Ну, Милочка, чего спрашивать, и так понятно. Анна Иоанновна Грозная меня на порог не пустит.
– Постоял бы у порога… Ладно, ладно, шучу. Хорошо, что пришел, я рада, соскучилась. Рассказывай, как ты, как Матильда Людвиговна?
– Мать бодрая, выглядит моложе меня, ты ведь знаешь, какая она. Передала тебе варенье, велела сказать, что ты ее любимица.
Мама усмехается; непонятно, горько или радостно. Они идут мимо коридорных коек, потертых стульев, огибают спешащих медсестер, кланяются важным врачам, вежливо улыбаются таким же больничным парам, которые степенно движутся навстречу. Говорят они о чем-то незначительном: мясо подорожало, трамвай стал плохо ходить, а как Марина, а как Толик из второго подъезда, да что ты, быть того не может. Подушечками пальцев мама чувствует, как цепляет ее машинописные мозоли шершавая, плотная ткань пиджака; пиджачок-то не по сезону, туфли нечищены, совсем за ним не следят. Дойдя до конца коридора, мужчина резко останавливается у единственного окна, за которым – обжигающая, яркая свежесть июня.
– Слушай, Милочка, нам надо поговорить. Мама сжимается в комок, внутренне каменеет; голос ее при этом становится еще более ласковым, почти нежным.
– Милый, о чем? Мы с тобой давно уже обо всем поговорили.
– Не перебивай. Я все обдумал. Ты можешь прямо сейчас, как только вас выпишут, переехать к моей матери, она тебя примет лучше, чем родную. Я объяснюсь дома, подам на развод, подожду, пока суд примет решение, и тоже перееду к вам. Прости, что раньше не решился, но это очень, очень трудно – рвать с прошлым.
Мамин собеседник нежно наклоняется к ней: он высокий, она маленькая. Но смотрит при этом не в глаза, а как-то мимо. Мама окончательно сжимается в пружину, вот-вот сорвется; голос у нее становится хриплым.
– Ну, милый, прошлое может запросто вернуться… Это Матильда Людвиговна велела тебе поговорить со мной?