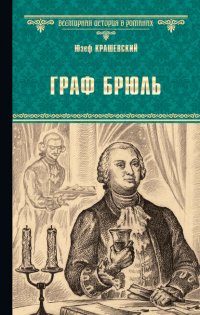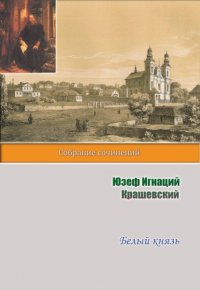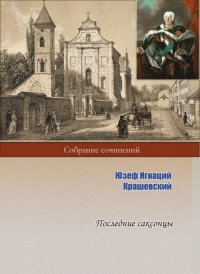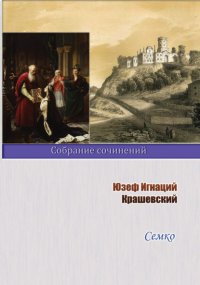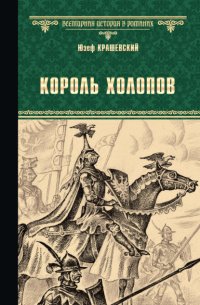
Читать онлайн Король холопов бесплатно
- Все книги автора: Юзеф Игнаций Крашевский
Józef Ignacy Kraszewski
Król chłopów
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
* * *
Юзеф Крашевский (1812–1887)
Об авторе
Юзеф Игнацы Крашевский, выдающийся польский писатель, публицист, издатель, историк, политик, общественный деятель родился 28 июля 1812 г. в Варшаве в дворянской семье. Интересно, что своих родителей Ю. Крашевский выведет героями своих произведений. Отец его, хорунжий Ян Крашевский, появляется в «Повести без названия» (1855), а мать, в девичестве Зофья Мальска, – в «Записках неизвестного» (1846). Юзеф был старшим из пяти детей, а младший, Каетан, тоже стал писателем.
Учился Юзеф в различных городках Подлясской земли и в 1829 г. поступил на медицинский факультет Виленского университета. Правда, учебе он предпочел литературные увлечения; его стихи печатались даже в петербургских изданиях. В декабре 1830 г., в самом начале польско-литовского восстания против царизма, Ю. Крашевский был арестован в числе группы революционно настроенных студентов. Заступничество тетки способствовало освобождению юноши под гласный полицейский надзор. Годичное пребывание в тюрьме повлияло на политические взгляды Юзефа: он стал критически относиться к вооруженной борьбе – скорее сочувствовал, но считал неэффективным средством национально-освободительного движения.
Некоторое время Крашевский жил в Вильне (современный Вильнюс), изучал историю города, что получило отражение в ряде повестей, а также в четырехтомной истории Вильны. Одновременно он занялся популяризацией истории, издавая документы и дневники. В 1838 г. Юзеф женился и поселился на Волыни вместе с женой, Зофьей Вороничувной. Супруги сменили несколько местечек в районе Луцка, долго жили в Житомире, где Юзеф Игнацы занимал последовательно несколько должностей: был куратором польских школ, директором театра, директором Дворянского клуба и пр. Супруги много путешествовали: по России, Бельгии, Франции, Италии. Однако главным для Ю. Крашевского оставались литература и издательское дело. Потом семья переселяется в Варшаву, но с началом нового восстания против царизма покидает пределы Царства Польского и поселяется в австрийской Галиции. Юзеф пишет несколько повестей на повстанческую тематику, что окончательно закрывает Крашевскому дорогу на родину. Писатель живет во Львове и Кракове, занимается несколькими неудачными издательскими проектами, потом переезжает в Берлин, где его в 1883 г. арестовывают по обвинению в шпионаже в пользу Франции. Престарелый пан Юзеф снова оказывается в тюрьме, откуда его выпустили в 1885 г. под залог по причине болезни легких. Крашевский уехал в Швейцарию, потом в Сан-Ремо, вернулся в горную республику и в 1887 г. умер в Женеве.
За свою долгую жизнь Ю. И. Крашевский написал и издал 600 поэтических и прозаических томов, не считая журнальных и газетных статей и объемистой частной корреспонденции. Писателя называют автором наибольшего количества книг в польской литературе. Он написал 232 романа, в том числе 88 исторических, представляющих наибольший интерес для современного читателя. Среди последних выделяются два цикла: «Саксонская трилогия» (1873–1875) и 29 романов из «Истории Польши», выходивших с 1876 по 1889 год. В наследии Ю. Крашевского выделяются также исторические труды (например, трехтомная «Польша во времена трех разделов»), путевые дневники, книги по искусству. Известен был Крашевский также как живописец и график.
Анатолий Москвин
Избранная библиография Юзефа Крашевского
С престола в монастырь (Lubonie, 1876)
Королевские сыновья (Królewscy synowie, 1877)
Борьба за Краков. При короле Локотке (Kraków za Łoktka, 1880)
Король холопов (Król chłopów, 1881)
Белый князь (Biały książę, 1882)
Две королевы (Dwie królowe, 1884)
Инфанта (Infantka, 1884)
Изгой (Banita, 1885)
«Саксонская трилогия»:
Графиня Козель (Hrabina Cosel, 1873)
Граф Брюль (Brühl, 1874)
Из семилетней войны (Z siedmioletniej wojny, 1875)
Пролог
Вечерние сумерки окутали большую сводчатую залу нижнего этажа краковского замка. Узкие окна, глубоко вдававшиеся в стену, были по большей части прикрыты густыми занавесками, пропускавшими очень мало света. В углу комнаты горел светильник, но его слабое пламя освещало лишь небольшое пространство. Глубокая тишина царила в обширной комнате и в коридорах, а на улицах не было почти никакого движения.
В костеле Святого Вацлава, находившемся при замке, тихий жалобный звон колоколов призывал к вечерней молитве.
В одном из углов комнаты стояло широкое ложе, выстланное мехами и сукном, и на нем из-под тяжелого фона шелковых одеял выделялось бледное лицо пожилого человека, который, казалось, спал.
По одну сторону постели стоял старик, одетый в черное платье монашеского покроя, и угрюмо смотрел на лежавшего; по другую сторону стоявший на коленях молодой, красивый, в цвете лет юноша, с благородными аристократическими чертами лица, заботливо склонился над больным, не спуская с него беспокойных глаз.
На некотором расстоянии какая-то женщина в длинном сером платье, плотно облегавшем ее фигуру, с вуалью на голове, молилась, перебирая исхудавшими пальцами четки, которые она держала в руке.
У ног ложа стоял монах в белой одежде, прикрытый черным плащом, с руками, сложенными для молитвы, с глазами, поднятыми к небу и что-то тихо шептал.
На этой постели лежал умирающий король Владислав, прозванный «Локоть», этот великий муж маленького роста, но сильный духом, который больше полустолетия боролся за соединение в одно раздробленного наследства после Мешка и Храброго[1].
Он сам чувствовал, да и другие видели, что приближаются последние минуты. Не болезни и не раны истощили его организм и доконали его: продолжительный труд, бесчисленные заботы отняли у него последние силы.
Он догорал медленно, потому что огонь, поддерживавший его жизнь, потух дотла. Он умирал мужественно и спокойно, не боролся со смертью, а с радостью расставался с земной жизнью.
Он не исполнил всех своих намерений, но ему мало осталось работы для осуществления своей заветной мечты, взлелеянной с детства и созревшей впоследствии в борьбе за жизнь… Завершение дела он оставил в наследство своему сыну.
Монах Гелиаш, доминиканец, стоявший у ног умирающего, уже причастил его и приготовил к загробной жизни. Владислав в этот день объявил свою последнюю волю государственным сановникам; он простился с женой, благословил сына, которому отдал Польшу, и попросил дворян быть опорой наследника.
Каноник Вацлав, он же и врач, предсказывал близкий конец; королева Ядвига с плачем читала молитву за умирающих, но смерть все еще не наступала… Старый воин мужественно боролся с ней.
Казалось, что король лишь засыпает. Дыхание было переменчивое: то учащенное, лихорадочное, то слабое, еле заметное. Минутами Локоть возвращался к жизни: опущенные ресницы внезапно поднимались, глаза блуждали по комнате и засохшие губы открывались. Душа этого старого воина, прикованного к истощенному годами телу, не могла с ним расстаться.
Наступил вечер, и, по мнению врача, король должен был в эту ночь скончаться. Доктор был удивлен и сконфужен, глядя на эту непредвиденную упорную борьбу жизни со смертью, и смотрел на это, как на чудо.
Локоть начал дремать.
Его бескровное, желтое лицо уже давно покрылось землистым цветом, являющимся предвестником наступающей смерти; но грудь его еще поднималась, дыхание было заметно, и слышались глухие звуки и свист воздуха в легких.
Стоявший у ложа каноник-врач знаком указал, чтобы не мешали отдыху больного, и сам начал на цыпочках ходить по комнате. Увидев это, монах Гелиаш, отодвинулся от ложа; королева тоже тихо и медленно направилась к дверям.
Король заснул.
Все, утомленные пережитыми волнениями в течение целого дня, предпочли удалиться в соседнюю комнату и ждать там пробуждения короля, на которое еще не потеряли надежды. Один лишь сын, склонившись над отцом, остался сидеть неподвижно. В ответ на знак, сделанный матерью, он отрицательно покачал головой, давая этим понять, что он желал бы остаться при отце.
Вспоминая о том, что еще так недавно он принимал отцовское благословение и последние его наставления, что недавно тут раздавались голоса созванных советников, королевский наследник был очень взволнован.
Его связывали с умирающим любовь, благодарность и забота о неизвестном будущем, бременем лежавшая на его душе. Глаза его наполнились слезами…
Корона, которую ему предстояло надеть на свою юношескую голову, была хоть и золотая, но тяжелая.
Все медленно удалились через боковые двери, которые королева велела оставить открытыми для того, чтобы при малейшем шорохе она могла бы поспешить к умирающему.
Неподвижно, как будто прикованный к сиденью, в полуколенопреклоненной позе королевич остался при ложе отца. Взоры его были устремлены на бледное лицо умирающего.
Оно было желто, как восковой лист, и на нем была написана вся его длинная жизнь. Возможно, что раньше, когда он был еще во цвете сил, на его физиономии никогда так рельефно не выражались мужество, покой, покорность и железная сила воли. Лишь теперь все эти характерные признаки проявились во всей их силе.
Кто не видел на лице умирающих воинов победителей, мощных духом, этого выражения блаженства, испытываемого ими перед смертью? Все следы земных страданий уничтожаются рукой ангела смерти.
Сгладились морщины на старом лице короля, и оно стало ясным и красивым. Сын смотрел на него с умилением, потому что никогда его таким не видел. Еще минуту тому назад, когда король страстно заговорил с государственным сановником, выражение его лица было такое же, как во время боев; теперь смерть ему придала ореол величия.
Королевич вздрогнул; ему показалось, что последний момент наступил. Однако – король еще жил: движения груди были почти спокойны, лицо чуть-чуть подергивалось – старик еще дышал.
Вспыхнувшее пламя светильника озарило лицо короля и дозволило рассмотреть незначительную гримасу на губах и усилие приподнять ресницы. Умирающий с трудом раскрыл глаза и устремил их на сына, губы его задрожали, как бы в бессильном порыве улыбнуться.
Казимир еще ниже склонился к отцу.
Совершилось чудо, и видно было, что жизнь поборола смерть. Король повернул голову к сыну, дыхание окрепло, и из груди раздался глухой голос:
– Казимир!
– Я тут! – тихо ответил сын.
– Я тебя вижу, как сквозь туман, – шепнул он, немного выразительно. – Воды! У меня во рту пересохло, – добавил он, тщетно стараясь достать ослабевшую руку из-под одеяла.
Казимир моментально взял бокал с освежающим питьем, стоявший возле ложа, и осторожно приложил его к запекшимся устам родителя, вливая жидкость по капле.
Уста немного раскрылись, на лице появилась краска, глаза оживились. Локоть улыбнулся.
– Теперь ночь? – тихо спросил он.
– Поздний вечер.
Король глазами обвел комнату, как бы желая убедиться, одни ли они здесь.
Наступило минутное молчание, грудь короля усиленно работала, он старался извлечь из нее последние звуки.
– Корону, – произнес он более сильным голосом, – корону, пускай, не откладывая, возложат на твою голову и помажут тебя на царствование. Вместе с короной Господь даст тебе и силы. Это необходимо для того, чтобы удержать все в одной руке: всю Польшу, Куявы, Мазовье, Поморье… Поморье никогда не надо уступать немцам. Через него единственная свободная дорога в свет, а кругом враги, и без нее мы будем отрезаны…
Он говорил с перерывами, отдыхая; Казимир, наклонившись над ложем, внимательно слушал. Слова эти не были специально к нему обращены; они были выражением мыслей, тяготивших мозг умирающего, и были обращены наполовину к самому себе, к Богу и к сыну. Это было как будто вслух выраженная мечта, молитва…
– Мазовье покорено и должно быть в ленной зависимости от тебя и управляемо теми же законами, – продолжал он. – Силезия сгнила, онемечилась и погибла… погибла!.. Ей уж не возродиться, немецкая ржавчина ее съела…
Говоря это, он закрыл глаза, но моментально их открыл, и уста его продолжали шептать голосом, слышным лишь сыну:
– С сестрою, с Венгрией ты постоянно должен быть в хороших отношениях; вы должны идти рука об руку… Риму ты должен быть верен, потому что в нем наша сила. Папа много лет тому назад меня спас, отпустив мне грехи и подняв меня духом… Королевство наше всегда преклонялось перед столицей Святого Петра…
Он неясно что-то пробормотал и сделал беспокойное движение.
– Ты найдешь с кем посоветоваться. Ясько из Мельштына, человек справедливый, Трепка – преданный… Дворяне, рыцари – хороши, но не они одни только… Существует еще убогий люд и бедный хлоп[2]… это тоже наши… Запомни! Когда я с Божьей помощью возвратился из скитания, я очутился один-одинешенек, как сирота, не имея в то время при себе ни живой души. Землевладельцы были против меня, и вместо рыцарства за мною пошли хлопы с секирами возродить Польшу. Они пошли и сражались… Лишь потом к ним присоединились более родовитые подданные, а под конец уже бароны и знать… Хлопам надо быть благодарным!
Он взглянул на сына.
– Не забудь о хлопах!
Казимир утвердительно кивнул головой.
– Будь их опорой и покровителем, – прошептал король, – будь для них справедливым судьей и защитником; они меня тоже защитили…
Голос становился все тише и слабее, переходя в непонятный шепот и, наконец, совсем смолк, и снова наступил момент молчания.
Из соседней комнаты на цыпочках, осторожно прислушиваясь, подошел ксендз Вацлав. Услышав шепот, он остановился в удивлении, а затем протянул руку за кубком и приложил его к устам короля. Больной сразу узнал присутствие постороннего и замолчал, сжав губы, но напиток жадно проглотил.
Ксендз Вацлав, постояв с минуту, понял, что отец хочет остаться наедине с сыном, и тихо вышел из комнаты.
Полураскрытые глаза больного следили за его движениями и раскрылись лишь после ухода Вацлава.
– С немецкими крестоносцами никогда не должно быть мира… – произнес он. – Против них необходимы союз и соглашение, хотя бы с язычниками! – бормотал он несвязно. Его голос дрожал. – О! с ними никогда не надо мириться! Черные коршуны, жадные волки, вечные враги… Их необходимо выгнать из Поморья, иначе они рано или поздно железным клином разобьют эту корону… О! с ними никогда не миритесь… Лучше уж быть заодно с язычниками, подать руку Литве, прибрать в свои руки Русь… Венгрия в союзе с нами, Чехию можно подкупить, отдай им все до последней нитки… даже, если бы пришлось вынуть драгоценности из церковных сокровищниц, лишь бы они были против крестоносцев. Необходимо всех восстановить против них… Бранденбургцев надо обласкать… силезцев надо задобрить… лишь бы отбить Поморье, иначе нечем будет дышать… Они закроют нам дорогу в свет и нас задушат.
Отдохнув немного, он добавил:
– Там много крови прольется… она будет течь ручьями… как под Пловцем…
Морщины на лбу короля расправились, радость победы озарила его лицо на мгновение.
– Пловце! – повторил он. – Пловце! Второй раз Пловце не скоро повторится, но я их вижу, вижу. Знамена их кучами валяются на земле и множество сгнивших трупов.
Казимир, стоявший у ложа на коленях, для того чтобы лучше расслышать, близко нагнулся к отцовским устам.
От этого предсказания сердце его сильнее забилось. Локоть грустно улыбнулся.
– Не ты их усмиришь… – добавил он, – нет, не тебе это предназначено! Ты в другом месте должен искать победы.
– Отец мой, – отозвался Казимир, когда старик замолк, – отец мой, у меня нет ни твоего меча, ни твоей руки…
– Господь тебе даст, когда нужно будет, – ответил король, – не меч решает победу и не людская рука, но воля и покровительство Божие. Исполнится все, что Он предрешил. Ты должен склеить и соединить то, что веками было разорвано, спаять железным обручем… объединить любовью и скрепить законом.
Последние слова он проговорил страстно и от усталости остановился. Увидев королеву, стоявшую издали, с опущенной головой, он окинул взглядом ее печальную фигуру, и они долго глядели друг на друга, прощаясь взорами.
Ядвига постояла немного, но видя, что король в ее присутствии молчит, ушла.
Дар слова к нему возвращался лишь для сына.
– Господь с тобою, – произнес он. – Бог для меня делал чудеса. Он при посредстве меня, маленького, слабого человека вновь создал королевство, которое опять станет могущественным… Теперь эта старая королевская мантия разорвана по краям: ее нужно сшить, нужно обратно получить отрезанные куски, надо бороться, охранять и класть заплаты пока она опять не станет плащом… Могущественный Бог творит из ничего и руками маленьких людей.
После короткого молчания он тихо шепнул:
– Благословляю тебя!
Казалось, что голос замирает, глаза закрылись. Вдруг среди тишины послышался шум, вначале невыразительный, затем заглушенные голоса нескольких людей и какой-то спор около дверей. Локоть беспокойно открыл глаза, королевич встал. Было непонятно, каким образом посмели в последние минуты умирающего нарушить его покой.
Смешанные голоса спорящих стали выразительнее, и, наконец, долетели плачущие, умоляющие слова:
– Пустите меня, пустите меня, я самый старый из его слуг.
Локоть сделал беспокойное движение и глазами указал сыну впустить просителя.
Раньше, чем Казимир успел исполнить приказание отца, двери раскрылись, и в них показалась странная фигура.
Это был сгорбленный старик с длинной по пояс седой бородой, с лысой головой, с множеством рубцов на лоснящемся черепе. Одетый в платье прислужника францисканского ордена, дряхлый, бессильный старик не мог двигаться без чужой помощи… Его держали под руки два бедно одетых подростка. Его лицо, с воспаленными глазами выражало и беспокойство и радость… Руки у него были сложены, как будто он приближался к алтарю.
– Король мой! Пан мой! – кричал он дрожащим голосом, – пустите меня к нему… Я хочу проститься с моим паном!
С уст Локтя сорвалось:
– Ярош! Ярош! Пойди сюда! Ко мне, мой старик!
Услышав зов, слуга, дрожа от радости, дотащился до ложа короля и с плачем, припав к его ногам, начал их целовать.
– Король мой! Пан мой! А меня не хотели пустить к моему отцу, – жаловался старик. – Ведь мы детьми вместе бегали, я с ним участвовал в боях, сопровождал его в его скитаниях, был с ним и в Риме, и в пещерах, попали мы вместе в неволю и все невзгоды делили друг с другом.
Глаза короля дрожали, а руки его бессильно шевелились под одеялом.
– Ты уходишь, – с плачем говорил Ярош, опустившись на колени у постели короля, – возьми же и меня с собою, жизнь мне уже в тягость. Я покаялся в своих грехах, глаза мои потускнели, руки мои стали бессильными… Возьми меня с собою, как брал меня когда-то…
Все прибежали из соседней комнаты, и ксендз Вацлав хотел оторвать старика от ложа, но король сделал знак, и Ярош остался у его ног.
– Если тебя, пан мой, Господь призывает к себе, то будь милосерден и возьми меня с собою. Я бы лег у ног твоих, как лежал когда-то в лесах, когда мы были одни, бедные, голодные и преследуемые.
Лицо короля оживилось при этих воспоминаниях; он ничего не говорил, но был очень расчувствован. Ярош, едва отдохнув, продолжал:
– Король мой! Пан мой! А меня не хотели к нему пустить. Между тем я должен был быть тут в момент его смерти, потому что при жизни был ему верным товарищем.
Всхлипывания прерывали его слова.
– Мы не испугаемся смерти, мы ее часто видели, – говорил он спокойнее. – Пора отдохнуть.
Ярош замолчал, а король начал звать:
– Отец Гелиаш! Гелиаш…
Монах, все время ожидавший, что король его позовет, поспешил к ложу с крестом в руках.
Казимир чуточку отодвинулся, Ярош тихо молился. Среди тишины раздалась торжественная молитва капеллана, послышались последние слова, которыми напутствуют душу, уходящую в лучший мир.
Дыхание умирающего вдруг сделалось более быстрым и тяжелым, хрипение увеличилось, пот выступил на лице. Смерть, которая, казалось, удалилась, возвратилась за своей жертвой.
Стоявший по другую сторону ложа каноник Вацлав показывал глазами и жестами, что наступает решительный момент.
Голова короля все ниже и ниже опускалась на грудь. Тело, подергиваемое конвульсивными движениями, то поднималось, то опускалось. Королева стояла на коленях возле постели, рядом со старым Ярошем.
Голос монаха, становившийся с каждой минутой громче и выразительнее, чтобы быть услышанным умирающим, разносился по всей зале.
Ожидавшие в соседней комнате, услышав этот голос, столпились у порога. Это были люди серьезные, в темной одежде, с печальными, задумчивыми лицами. Глаза их попеременно искали то ложе, на котором лежал умирающий, то склонившегося над ним молодого королевича. Беспокойные тихо перешептывались. Ярош, упав на землю, с головой, поникшей на грудь, обессиленный, казалось, догорал вместе со своим королем.
Капеллан громким голосом доканчивал молитву. Все опустились на колени. Королева, спрятав заплаканное лицо в подушках постели, громко рыдала. Еще раз приподнялась голова старца, глаза полураскрылись, и он тяжко вздохнул.
Этот вздох поразил Яроша в самое сердце; мальчики не в силах были его поддержать, и он грохнулся оземь. Из уст королевы вырвался слабый крик…
Утром следующего дня в этой же самой зале стоял гроб, в котором лежал усопший Локоть, одетый во все королевские доспехи, со спокойным умиротворенным лицом.
Кругом него стояли, оставшиеся в живых, седые сотоварищи боев, а труп его старого слуги, бывшего у него с молодых лет, был поставлен в часовне францисканского монастыря.
Короткое при жизни тело короля после смерти вытянулось; рыцари молча глядели на этого неподвижного теперь человека, который когда-то своим железным мечом создал великое королевство. На дворе замка молча стояла толпа: печаль была видна на всех лицах.
В сенях на сквозняке, не чувствуя холодного ветра, опираясь о стенку, неподвижные как статуи, стояли у входа: Ержи Трепка, в последние годы постоянно сопровождавший королевича, пользовавшийся авторитетом, Ясько из Мельштына, которого король назначил сыну в советники, Николай Вержинек, ратман краковский, любимый слуга молодого и старого пана, Кохан Рава, слуга Казимира, пользовавшийся его доверием, и капеллан Сухвильк, племянник архиепископа.
Рава, которого все хорошо знали как приближенного королевича, должен был бы радоваться, что его пан, любимцем которого он был, возложит на свою голову корону, но он был угрюм и печален. Это был человек молодой, красивый, сильный, в цвете лет, ровесник Казимира, с умным, но дерзким лицом, с страстным темпераментом.
Его горящие глаза говорили о том, что он скорее может быть активным лицом, чем пассивным советчиком. Лоб его был покрыт морщинами от тяжелых мыслей. Подбоченившись, сдавливая одной рукой рукоятку меча, он другой то потирал лоб, то теребил бороду и усы.
К нему подошел Трепка, имевший серьезный, воинственный вид.
– Вы не пойдете ли посмотреть, – спросил он, – что делается с молодым паном?
– Я уже был у него, – лаконически ответил Кохан, – ему нужен отдых. Он один в комнате… Старая королева молится, молодая мечется в беспокойстве. Я его спрятал от них, потому что ему нужно подкрепить силы; они ему теперь нужны будут.
К разговаривающим подошел Вержинек.
– Мы потеряли отца, – произнес он с грустью.
Ему долго не отвечали.
– Не найдется человека, который не пожалел бы о смерти такого короля, – спокойно начал подошедший Сухвильк, к словам которого все относились с уважением за его ум. – Это потеря, которую нельзя вознаградить; но Господь дал нам достойного наследника, который продолжит и завершит начатое им дело. Пора была уставшему отдохнуть и получить заслуженную им награду. Ведь ни один из королей так долго и с таким успехом не работал для королевства. Лишь старики помнят о начале его деятельности, мы же о ней знаем из их уст… Из ничего он создал это королевство, разорванное на куски, а подумайте только, какую борьбу ему пришлось вести и с какими могущественными противниками, с их численным перевесом, с их злобой, с их союзниками и их деньгами. В помощь ему была лишь милость Господня! И Он совершил чудо.
– Да, – подтвердил Ясько из Мельштына, наклонив голову, – а еще более трудную задачу он передал сыну, оставив начатое дело; а так как все знают о том, сколько отец сделал, то надеются, что сын докончит. Поэтому нечего удивляться тому, что королевич так убивается по отцу, получив в наследство тяжелое бремя, под которым он сгибается.
– У всякого свои заботы, – произнес Сухвильк, – но в тяжелые минуты Провидение посылает свою помощь.
Они печально переглянулись.
Мы все обязаны служить молодому королю с той же любовью, как и покойному.
Раздались голоса, подтвердившие только что сказанное.
– Я жалею своего пана, – произнес Кохан торопливо, – очень жалею. Для нас окончились дни свободы и веселья. Вы все поочередно запряжете его в этот плуг, так что он не сможет хоть на час освободиться из-под вашего ига. Да! Теперь ни днем ни ночью не будет отдыха… Даже во сне он будет чувствовать заботы. Мой бедный господин! Корона прекрасная вещь, но не те обязанности, которые она на человека возлагает, и от которых он ни на минуту не может освободиться. Война? – он должен быть солдатом. Мир? – он должен быть администратором; ночью – сторожем… Эх! Эх! Вот она участь наша. Он будет назван королем, а в действительности станет рабом.
Ясько из Мельштына утвердительно кивнул головой.
– Устами королей глаголет Бог, и чтобы оказаться достойным этого, нужно быть великим и чистым.
Кохан Рава покрутил усы и сделал гримасу.
– А также, – добавил он, – отречься от всего земного. Мне жаль моего пана!
Остальные собеседники переглянулись, но ничего не ответили.
Кохан медленно подошел к дверям и направился в помещение королевича; остальные остались в передней.
– Мне кажется, – сказал Сухвильк, глядя вслед за уходившим, – что Рава не столько жалеет наследника, сколько самого себя. Он боится потерять его расположение и лишиться службы. Это вовсе не было бы в ущерб молодому пану, потому что хотя Рава ему и служит верой и правдой, но он человек, молодой, горячий, живой… А подливать масла в огонь опасно.
Ясько из Мельштына молча взглянул на говорившего. Остальные не противоречили и не поддакивали. Вержинек, удалившийся немного в сторону стоял, задумавшись. Начали собираться старшие придворные, и во всех костелах раздался погребальный звон колоколов. Народ устремился в Вавель.
Часть первая. Маргарита
На дворе краковского замка на скамейке, прислоненной к стене, отдыхали двое молодых людей. Глядя на их изящную одежду, на их смелый и высокомерный вид, самодовольные гордые лица, слыша их громкие голоса, видя их непринужденное поведение, можно было легко догадаться, что они чувствуют тут себя как дома, и принадлежат к королевскому двору, а может быть даже близко стоят к королевской особе.
Весеннее солнце освещало убежище, в котором они скрылись от холодного ветра, и приятно согревало их своими лучами. Весна в этот год была ранняя и не особенно теплая.
Один из них, свободно растянувшись на каменном сиденье, с приподнятыми ногами, подперев голову рукой, задумчиво присматривался к белым облакам, быстро носившимся по небу.
Свободной рукой он изредка покручивал усы и разглаживал свою темную, длинную, вьющуюся бороду.
У него было красивое, выразительное, подвижное лицо, уста его складывались в какие-то странные гримасы, и вся его фигура, ежеминутно меняла положение, подобно волнующейся воде, всколыханной ветром. Кровь в нем играла и не давала ему спокойно лежать; он топал ногами, разражался смехом, срывался с места, ложился обратно и переворачивался с боку на бок.
Второй из них, сидевший на конце скамьи, опираясь о стену и заложив ногу на ногу, держал себя гораздо спокойнее; он производил впечатление сильного, смелого, гордого, надменного. Он смотрел на своего товарища свысока, как на капризное дитя, и не принимал близко к сердцу его выходки и остроты.
Как один, так и другой носили покрой одежды, принятый в то время во всей Европе, в столицах и при княжеских дворах. Обувь с заостренными, приподнятыми кверху носками, узкие брюки, нарядные пояса и куртки с рукавами, плотно прилегавшими к телу. Сверху на них были накинуты плащи с длинными разрезными рукавами, придававшими живописный вид всему наряду. Подвешенные у пояса кошельки, набитые серебром, и маленькие мечи в изящных ножнах дополняли красоту одежды.
Лежавший на скамейке был одет с большим старанием и роскошью, чем сидевший; забота об изяществе – род кокетства, свойственный тем, которые считают себя красивыми, проявлялась в дорогих тканях и в их убранстве. Волосы, спускавшиеся локонами на плечи, были старательно причесаны и даже чем-то смазаны для блеска. Ножны, кошелек и носки обуви блестели серебряными и золотыми украшениями.
Он мог еще называться молодым, но не первой молодости. Красивое и здоровое лицо носило на себе следы невоздержаной жизни; ему вероятно минуло лет тридцать, но он своими манерами и наружностью старался казаться совсем молодым.
Его товарищ, почти одного с ним возраста, здоровый, широкоплечий, хорошего телосложения, не отличался особенной красотой и не заботился о своей внешности. На его щеках был здоровый румянец, серые глаза смело смотрели на каждого, на устах его не было сладкой кокетливой улыбки, а гордое сознание человека, уверенного в своей силе.
Его одежда была такого же покроя, как и у первого, только из более обыкновенной ткани, чистая, хорошо на нем сидела, и на ней не было никаких блесток. Он отличался от лежавшего большой серьезностью и спокойствием.
В замке было довольно тихо, потому что король с небольшой свитой уехал на охоту; вблизи вертелась челядь, и молодые люди могли свободно разговаривать. Они поэтому не соразмеряли голоса, и когда лежавший смеялся, а сидевший громко ему вторил, звуки разносились по всей этой части двора, окруженного стеной.
Роскошно одетый придворный был известный уже нам любимец короля, Кохан Рава; второй назывался Добеславом (Добеком) Боньчей. Оба они занимали хорошее положение при молодом короле. На Добека даже была возложена обязанность разбирать споры между слугами.
Они не были советниками короля в делах государственной важности, потому что Казимир искал совета у других лиц; но они были неизменными спутниками молодого короля во время отдыха, на охоте, в экспедициях; при столе король не брезгал их разговорами и охотно пользовался их услугами для исполнения незначительных поручений.
Кохан был убежден, да и другие, судя по обхождению с ним короля, полагали, что Казимир его очень любит.
Король, уверенный в его любви и преданности, часто доверял ему такие дела, о которых он с другими не говорил. С детских лет они были вместе. Кохан был неизменным спутником его юношеских игр и забав; много раз ему пришлось быть наказанным из-за королевича. Никто лучше его не умел отгадывать желания Казимира и приноровиться к его вкусам. Он его знал, как он выражался, и гордился этим. Часто случалось, что очень серьезные люди обращались к нему за советом, и это увеличивало его самодовольство.
Добеслав также пользовался благоволением Казимира, который на него полагался и охотно пользовался его услугами; но со свойственной ему проницательностью король чувствовал, что Боньча не годится для исполнения всех поручений, потому что он не умел и не хотел льстить.
Оба одинаково были преданны и горячо любили короля, только их характеры были совершенно различные.
– Ты слышишь, Добек, – болтал со смехом и беспокойно двигаясь на скамье Кохан, – я думаю о том, что сказал бы теперь старый покойный король, если бы он вышел из гроба и увидел бы, как за восемь лет со времени его смерти тут все изменилось… Ни замка, ни двора нельзя узнать: но и в стране тоже все иное. Воевать мы как-то медлим, и люди могут по крайней мере хоть отдохнуть! С крестоносцами, которые нам покоя не давали, у нас перемирие за перемирием, и мы в конце концов, не прибегая к оружию, заставим их держаться тихо, пока…
Кохан многозначительно кашлянул и умолк.
Добек посмотрел на него сверху вниз.
– Эх! Эх! – произнес он немного насмешливо. – Что ты или я можем знать о том, как король думает справиться с крестоносцами! Это не наше дело! Кастелян краковский, ксендз Сухвильк, воевода, епископ, – они может быть что-нибудь знают; наш король не всякому доверяет свои планы!
– Как будто я нуждаюсь в том, чтобы мне говорили, о чем я сам могу догадаться! – рассмеялся Кохан. – Разве у меня нет глаз и разума?
Добек недоверчиво пожал плечами.
– Оставь ты это, – повторил он, – это не наше дело.
– Я с тобою согласен, – продолжал Кохан, – что у нас многое изменилось; при покойном старом короле все было просто, а наш молодой пан любит, чтобы все блестело и чтобы Краков ни в чем не уступал Праге и Будапешту.
– Потому что так у нас и должно быть! – воскликнул Кохан убедительно. – Наш король, если бы ему пришлось выступить рядом с императором, не осрамил бы себя и не дал бы никому себя затмить. Он достоин больше, чем королевской короны! На всем свете второго подобного ему нет. Чего ему недостает? Красота, на которую не наглядишься, ум, проницательный глаз, золотое сердце, воинственный вид – всего этого у него вдоволь.
– Лишь счастья у него нет! – пробормотал Добек, насупившись.
Лицо Кохана стало пасмурным, и он ничего не ответил.
– Да, но он еще молод, – отозвался Рава после некоторого размышления. – Все, что он пожелает, он еще сможет иметь. Что значит для мужчины три десятка лет? Впереди вся его жизнь и свет… Если Господь только допустит, он многое и великое сотворит. Я его знаю, в нем, как в рудниках, чем глубже, тем большие сокровища находишь.
– Дай ему Бог всего лучшего! – вздохнул Боньча. – Кто мог бы ему желать зла? Ему, который самого бедного человека, нищего, мужика к себе приближает… Для каждого у него находится ласковое слово и доброе сердце…
Оба замолчали на некоторое время.
Добек вытянул свои длинные, здоровенные руки, как будто ему надоело сидеть, ничего не делая; Кохан ворочался на твердой скамье, затем приподнялся и сел, стараясь выбрать удобное положение. Взглянув на Добека, он шепотом сказал:
– Его необходимо во что бы то ни стало женить!
– Мне кажется, что он и сам об этом мечтает, – возразил Боньча.
– Женитьба как женитьба! – прервал Кохан. – Красивых женщин на белом свете достаточно, а ему нужен сын… Он хочет иметь непременно мужского потомка… Его единственная забота о том, чтобы престол не перешел в наследство по женской линии или в чужие руки… Сын, сын ему нужен, а здесь…
– Вы знаете, что эта баба-ворожея ему предсказала? – добавил он, обращаясь к Добеку.
Последний, покачав головой, лаконически ответил:
– Я ничего не знаю.
– Вы, вероятно, вовсе не любопытны, – произнес Кохан, – ведь все об этом знают. Я считаю своей обязанностью знать обо всем, что касается моего пана. То, что его огорчает, и меня огорчает, что ему больно, то и мне больно… – О! Если б не эта Клара, – продолжал он, – если б не эта Клара, тень которой его преследует, он был бы счастлив! И он не поверил бы этому глупому предсказанию… Он не раз говорил о ней со сна, и сохрани Боже, чтобы кто-нибудь из тех венгерцев попался ему на глаза.
Добек слушал равнодушно, глядя вверх вслед за улетевшей парой голубей.
– Я из этой венгерской истории едва знаю через пятое на десятое, – произнес Добек, – потому что меня в то время не было при дворе. Я еще тогда бродил в отцовских лесах. Об этом разное рассказывают. Вы, кажется, тогда были вместе с ним?
– А как же иначе? Где это я с ним не был? В Пыздрах меня крестоносцы чуть не взяли в плен, – сказал Кохан. – Я был на его свадьбе с язычницей, я ездил с ним в Венгрию, ну и повсюду! Я вам говорю, что он со времени своего пребывания в Вышеграде стал иным человеком. Раньше он всегда был весел, любил поговорить, пошутить, посмеяться, пользовался жизнью… Теперь все это случается с ним очень редко, и то лишь когда он забывается. Он сразу постарел, стал грустным… Лишь тот, кто с ним остается наедине, как я, может понять, как он страдает. Кажется, всего у него вдоволь, а его тяготит какое-то бремя.
– Заботы, потому что их у него много, – возразил Боньча, – со временем все, что его сокрушает… забудется.
– По всей вероятности, – произнес Кохан, – но, для того чтобы стереть все эти печальные воспоминания, необходимо, чтобы его жизнь переменилась к лучшему и согрелась лучами счастья, а мы бессильны это сделать. Теперь как будто просиял какой-то луч надежды, но мне этому верить не хочется.
Добек слушал не особенно охотно, как будто был недоволен разговором на эту тему. Кохан, наоборот, был рад, что мог поговорить с приятелем откровенно, потому что такие вещи он не каждому мог доверить, а он тяжестью лежал на его груди.
– С самого начала ему не везло в семейной жизни, – продолжал Кохан. – Я всему этому был очевидцем. Его женили на литовке не ради него, а потому что покойному королю был необходим союз с Литвой, а Литве союз с ним против крестоносцев. Жена принесла в приданое несколько польских пленников, сосланных в местности, разрушенных татарами, и несколько десятков собольих и куньих мехов.
Про покойницу ничего плохого сказать не могу; она была красива, добра; это было дитя природы, вольная птичка, которую вывезли из лесов и посадили в клетку. Вкусы их были различные. Короля тянуло в одну сторону, ее в другую. Ему хотелось в широкий свет, попасть к таким дворам, как французский, итальянский, венгерский, а Ганну манил лес! Манеры у нее были простые, как у крестьянки: она смеялась вслух, не обращая внимания на присутствующих, говорила все, что ей в голову приходило, и не соблюдала придворных обычаев. Ксендзы были в отчаянии, потому что ее с трудом научили правильному крестному знамению. Возможно, что король полюбил бы ее, но чтобы приспособиться к ней ему нужно было бы превратиться в дикаря, а этого он не мог. Хоть бы она ему сына родила, а то дочку.
Добек нетерпеливо прервал его.
– Если хочешь разговаривать, то лучше расскажи мне всю эту несчастную венгерскую историю. Я ее хорошо не знаю.
– Припоминать старую беду и печаль, – отозвался Кохан после размышления, – это все равно, что бередить зажившую рану. Но раз зашла речь об этом, то я расскажу. Я там был вместе с ним. Мы в то время ездили по распоряжению нашего старого пана в Вышеград, к Кароберту и к жене его, королеве Елизавете. Вы у этих французов никогда не были?! Такой двор, как у них, на всем свете найти трудно. После нашего он казался раем. Роскошь, веселье, пение, музыка, изящество, блеск, а нравы особенные, французские и итальянские. Там собрались из всех стран фокусники, певцы, ремесленники, а одежда их была из парчи или из шелка.
Когда во время праздников выступала королевская чета, то говорили, что даже при дворе императора пышнее не может быть. Там слышны были все языки, начиная с венгерского, которому я никогда не мог научиться, и французский, и итальянский, и немецкий, и латинский. А так как королева, сестра нашего пана, очень любила и по сей день любит забавы, танцы, музыку, турниры, то ежедневно было на что глядеть и чем развлекаться. Она приложила все старания для того, чтобы устроить брату, которого она очень любит, пышный прием, так что не было ни минуты отдыха. Банкеты следовали за банкетами, танцы, пение, разные игры, охота, турниры – весь день проходил в развлечениях. При дворе были и венгерки, и итальянки, и прямо глаза разбегались; я бы даже сказал, красивые как ангелы, но они, к сожалению, не были даже похожи на ангелов. Пригожие девушки, каких у нас не видно, и если которая взглядом обдаст, то словно огнем обожжет. Казалось, что кровь кипит в этих язычниках… Страшно было! Дрожь пробегала по телу! А если, бывало, одну из них пригласишь танцевать, то совсем голову теряешь… Пиршества продолжались больше недели, и мы это время провели, как в раю.
Среди девушек, окружавших королеву, самой красивой была Клара, дочь служащего Кароберта, Фелицина Амадея. О нем говорили, что он начал с малого, служил вначале в имении Мацька из Тренича Семиградского, от которого перешел к Кароберту. Девушка достойна была называться даже королевой: белое как снег лицо, черные глаза, вьющиеся волосы, чудная фигура, гордое величие придавало ей красоту. Зато отец имел страшный вид и выглядел, как разбойник. Высокого роста, как дубина, неуклюжий, косоглазый, с хриплым голосом, если бывало заговорит, то мороз по коже проходил. В нем было что-то дикое, как будто он только что вышел из леса. Он отталкивал от себя своей гордостью, потому что, хоть и простой хлоп, но он короля еле удостаивал кивком головы. Встретиться с ним вечером на проезжей дороге было рискованно даже для самого храброго. Но король любил этого медведя, потому что он своей сильной рукой поддерживал порядок при дворе. Во время танцев я заметил, что Клара очень понравилась нашему королевичу. Однажды вечером, когда мы с ним возвращались в наши комнаты, на отдых, я завел с ним разговор о ней; он ничего не ответил и рассмеялся. На следующий день он сам заговорил и сказал:
– Лакомый кусочек.
Перед моими глазами мысленно предстал верзила отец с косыми глазами, и я королевичу ответил:
– Приглядитесь только к этому старому дьяволу, и с вас спадут чары его дочери.
Пан обратил мои слова в шутку.
Королева Елизавета была довольна тем, что может хорошо принять своего брата и угостить его; заметив, что он глаз не спускает с Клары, она его начала преследовать. Он не отрицал того, что Клара ему приглянулась.
– Я в своей жизни не видел более красивой девушки, – сказал он.
Поэтому Клару постоянно выбирали королевичу для танцев и отводили ей место при столе рядом с ним для того, чтобы он мог вдоволь наглядеться на нее. Он часто рассказывал мне о ней и жаловался.
– Она, как каменное изваяние, – говорил он, – чем больше я стараюсь заслужить ее любовь, тем она строже. Она не хочет принять никакого подарка, а если вынуждена промолвить слово, то словно грудь пронзит острым железом…
Через несколько дней королевич заболел. Ксендз итальянец, доктор короля, велел ему день или два отдохнуть в постели. Заботливая королева, несмотря на протест брата, заставила его лежать, а чтобы ему не было скучно, она все время оставалась при нем. По вечерам она приводила с собою придворных фрейлин, и они играли на цитре и пели. Каждый раз, отправляясь к королевичу, она приказывала Кларе сопровождать себя. Во время этих посещений, нас, как лишних, высылали из комнаты, якобы для того, чтобы развлечься с королевскими придворными.
На третий день болезни, когда я поздно вечером возвращался к королевичу и был недалеко от двери, они внезапно раскрылись и из его комнаты, как обезумевшая, выбежала Клара с распущенными волосами, бледная, заплаканная и, не заметив меня, проскользнула мимо и скрылась.
Меня обуял страх, но, полагая, что королева находится у своего брата, я остался у порога в ожидании. Вдруг я слышу зов моего пана. Я вхожу и застаю его одного в постели, гневного, сумрачного, чем-то обеспокоенного.
– Приготовь все к завтрашнему дню к отъезду! – воскликнул он, увидев меня.
Я хотел завести разговор, чтобы что-нибудь узнать, но он велел мне молчать. На следующий день, несмотря на то, что мы предполагали там остаться дольше и, несмотря на все просьбы короля и королевы, Казимир торопился как можно скорее сбежать оттуда… Зная его хорошо, я уж и не пробовал узнать что-нибудь от него. Он был молчалив, нахмурен и нетерпелив. Из Вышеграда мы выехали впотьмах, как будто нам спешно было попасть в Краков, но остальной путь шел медленно и с частыми остановками для отдыха.
Это было в мае, как теперь; весна была чудная. Дорога не была бы скучной, если б наш пан не был сумрачен и безмолвен. Мы были уже вблизи нашей границы и собирались расположиться на ночлег, вдруг вижу, как нас нагоняет на тройке молодой Януш, придворный королевы Елизаветы, которого я хорошо знал. Не успел он еще слова проговорить, и я уже знал, что случилось несчастье. Королевич, увидев его, выбежал, побледнел и весь затрясся. Он вошел вместе с Янушем в палатку, и мы слышали голоса, крики и разные возгласы. Мы чувствовали, что что-то произошло, но не могли догадаться, какие известия он привез, и мы напрасно себе ломали голову. Его слуги на все расспросы отвечали молчанием. Лишь когда Януш удалился, мы узнали обо всем. Вскоре эта несчастная история не осталась тайной ни для кого. Я по сегодняшний день не знаю, провинился ли королевич перед Кларой или нет, когда королева оставила ее в его покоях, чтобы ухаживать за больным. Я знаю, что девушка будто бы пошла к отцу с жалобой на королеву и на ее брата, а старик впал в бешенство. Другие говорили, что старому разбойнику только этого и нужно было, чтобы найти предлог отомстить королю и королеве, против которых он уже давно составлял заговоры, так как он хотел убить всю королевскую семью и сам властвовать над мадьярами. Во вторник, после нашего отъезда, король Кароберт с королевой и сыновьями Людовиком и Андреем в интимном кругу, почти без придворных, спокойно сидели за обеденным столом в Вышеграде, не опасаясь и не предполагая ничего плохого, как вдруг старый разбойник, вместе с десятком вооруженных товарищей, вломился в столовую. Он набросился с мечом на короля, но королева, желая защитить мужа, ухватилась правой рукой за меч, и четыре отрезанных пальца упали наземь. У короля тоже рука была искалечена.
Испуганная челядь растерялась и не сразу выступила в защиту своего пана; лишь когда обезумевший старик набросился на молодых королевичей, желая их убить, Ян из Потокен, молодой венгерец, рыцарского происхождения обнажил свой меч и всадил его разбойнику, попав между шеей и лопаткой, так что тот на месте упал. На крики сбежались все придворные, слуги, схватили преступников и произвели над ними жестокую расправу. Их живыми привязали к коням и разорвали на куски… Такой страшной смертью погиб отец, а изуродованную Клару возили на показ по всему королевству и в конце концов отрубили ей голову.
По всем городам разосланы были части тела преступников, а голову Фелициана повесили в Будапеште над воротами. Не было оказано сострадания никому; королева Елизавета, прозванная «кикутой», то есть безрукой, с тех пор никогда не снимала с правой руки перчатки, потому что рука была изуродована.
Рассказывавший Кохан немного отдохнул.
– Никогда я своего пана, – добавил Кохан, после перерыва – не видел таким, каким он был в первые дни после прибытия Януша. Он в первый момент хотел ехать обратно к сестре, в Вышеград; мы с трудом его отговорили. Он вскоре после этого заболел и пролежал несколько дней, так что мы были вынуждены оставаться на границе и не могли ехать дальше в Краков. Королевич не знал, на что решиться, и был в отчаянии, хотя я не думаю, чтобы он чувствовал себя виновным; но ему жалко было сестры и Клары, погибшей таким страшным образом. Наконец, мы уже решили двинуться в Краков, как вдруг на рассвете увидели кучку прибежавших венгерцев. Мы испугались, думая, что за нами погоня и хотят нам отомстить. В мгновение ока мы приготовились к защите, но они начали размахивать белыми платками, заклиная именем Бога, просили дать им поговорить с королевичем. Оказалось, что это был один из братьев Клары и несколько родственников несчастной девушки; упав на колени перед королевичем, они умоляли его дать им безопасный приют в Польше. Мы их взяли с собой, и они по сей день живут там спокойно, лишь королю они не должны попадаться на глаза.
Добек покачал головой.
– Я их знаю, их зовут Амадеями, и у них на щите изображен безглавый орел.
– Да, – ответил Кохан, – королевич выпросил для них у отца большие поместья; их никто не тронул; им лишь приказано никогда не показываться при дворе, потому что король их видеть не может, так как они напоминают ему о кровавом событии. Если им что-нибудь нужно, они должны просить через кастеляна, а не лично, но все их желания исполняются.
Боньча, выслушав терпеливо рассказ, произнес:
– Кровавое событие! Лучше о нем не помнить.
– Выслушайте конец о старухе, – добавил Кохан. – Событие, о котором я рассказывал, произошло одиннадцать лет тому назад; спустя несколько лет после кровавого события нам пришлось опять поехать в Венгрию. Воспоминание об Амадеях там немного изгладилось. Мы поехали в Будапешт, где нам снова оказали роскошный прием, но королевич был среди этого веселья сам не свой. Королева «Кикута» хотела опять вовлечь его в вихрь удовольствий, потому что на ней не осталось и следа страха и печали. Она была весела по-прежнему, и при дворе, как и раньше, раздавались звуки музыки и песен. Мы пировали в замке около десяти дней, и, наконец, наступило время возвратиться в Краков. На другой день нашего путешествия случилось так, что мы не могли попасть на ночлег в жилое помещение. Ночь застала нас в лесу, и мы должны были там разбить палатки. Зажгли огни, люди начали жарить мясо и варить кашу, как вдруг к нам в лагерь приплелась какая-то старуха. Слуги хотели прогнать ее хлыстами, но королевич в это время вышел из палатки, а так как он всегда чрезвычайно сострадателен к беднякам, то приказал не обижать старуху, а накормить ее и дать ей подаяние. Баба, узнавшая от слуг, кто мы такие, какими-то страшными глазами начала приглядываться к королевичу, вся дрожа. Наконец, она прямо направилась к нему, и мы все стали бояться какого-то колдовства. Он смело стоял и не трогался с места. На смешанном наречии она принялась плести что-то непонятное, то указывая на небо, то на землю, то ударяя себя в грудь, то плача. Затем она попросила руку королевича, чтобы погадать ему. Я в этот момент стоял рядом с ним и шепнул ему:
– Ради Бога, не давайте ей притронуться к себе.
Но он не послушался и протянул ладонь. Баба, наклонившись над рукой, сдвинув брови, тряслась, бормотала, покачивала головой, вскрикивала. Наконец, начала плести.
– Что? Что? – спросил Добек.
– Она бормотала какую-то чепуху, как в горячке, она сама не знала, что она говорит, – ответил Рава. – Те, которые поняли, рассказывали, что она ему предсказала великую будущность, что королевство его станет сильным и могущественным и он станет наравне с императорами и наибольшими монархами в свете, а затем, насупившись, она добавила, что будет дальше! Над тобою кровь! Амадеи! Амадеи… Ты осчастливишь свой народ, земли твои расцветут, неприятель покорно упадет к твоим ногам, ты завладеешь его землями, но ты лично не познаешь счастья в жизни… Того, чего ты больше всего желаешь, Господь тебе не даст! Амадеи!..
Королевич, поняв немного, беспокойно спросил:
– Чего я так сильно желаю?
И она произнесла:
– Ни одна жена не даст тебе мужского потомка, и на тебе закончится твой род, а корона перейдет в чужие руки.
Мы хотели старуху прогнать, чтобы она не смогла больше говорить, но, докончив последние слова, она схватила себя за волосы и с криком «Амадеи!» убежала в лес. Отойдя немного, она начала бить себя рукою в грудь, указывая на себя и повторяя: «Амадеи!» Но королевич в это время уж был в шатре и ничего не видел и не слышал. Венгерцы, проходившие мимо, нам рассказывали, что она, вероятно, была из рода этих Амадеев. Мы думали, что он скоро об этом забудет, но пророчество это было подобно напитку, действие которого человек не чувствует в то время, когда его пьет, и лишь позже, когда хмель его начинает разбирать. С той поры король постоянно вспоминает об этом предсказании.
– Мало, что глупые бабы ворожат, – отозвался Добек. – На всякое чиханье не наздравствуешься! Откуда такая нищенка может знать, что Господь кому предназначает.
– Ну! Ну! Болтай на здоровье! – отозвался Рава. – Баба, нищенка, бродяга, кто знает, откуда она это берет, какой силой она обладает и кто ей эту силу дает, Господь или сатана, а ведь всем известно, что ведьмы знают будущее.
– Ты этому веришь? – рассмеялся Боньча. – Я, нет. За что Господь его будет наказывать, если он не виновен?
Кохан смолчал.
– Пускай он только женится, – добавил Добек, – я слышал, что он выбрал себе невесту по вкусу и по нраву, и когда у него родится сын, то старуха будет уличена во лжи.
– Да, – шепнул Кохан, – та, которую ему сватает чех; очень пришлась ему по вкусу, но какой прок от этого; говорят, что она его боится и не хочет.
Добек возмутился.
– Если б это было так, то пусть поищет другую, их достаточно. Лишь бы ему не сосватали опять немку. Немцев в роде Ганса фон Пфортена у нас слишком много наплодилось при дворе и в городах. Если б мы еще получили королеву немку, то с ней нахлынули бы придворные и челядь!.. Хоть удирай тогда на конец света.
Разговаривая таким образом, они не заметили, что при последних словах Добека медленно приблизился к ним мужчина, немного старше их обоих, высокий, толстый, шарообразный, с рыжеватыми волосами, с веснушками на лице, на котором выражались гордость и презрение, как будто он считал себя гораздо выше всех тех, на которых он смотрел, и стал подслушивать их разговор. Он вздрогнул, услышав в устах Добека свое имя: Ганс фон Пфортен. Это был немец, несколько лет уже находившийся на службе у короля; ему часто поручали устройство гонок и турниров по западному обычаю. Уверенный в расположении короля, вспыльчивый, гордый, он часто имел столкновения с Добеком Боньчей, который являлся судьей в его спорах с придворными.
Услышав то, что говорили о нем и о немцах, Ганс громко фыркнул и послал их к чертям.
Добек очнулся от изумления, взглянул на него исподлобья, улыбнулся и воскликнул:
– Посмотрите на этого шваба, как ему мои слова не пришлись по вкусу! А я тебе, проклятый немчура, еще раз повторю: Убирайтесь вы все отсюда к тому же самому дьяволу, о котором ты только что вспоминал, или обратно в свою страну. Вы нам тут на наших родных нивах воздух портите».
Немец, ворча, ухватился, за рукоятку меча.
– Молчи ты такой-сякой! – крикнул он. – Молчи! Немцы зловонный запах издают! А между тем вы вынуждены всему учиться у них! Чем вы были бы без нас? Чем? Вы бы до сих пор еще одевались в звериные шкуры!
Не дав ему окончить, Добек величественно с сознанием своего достоинства, без запальчивости поднялся со своего места.
– Наша земля тебя вскормила, ты питаешься нашим хлебом… Молчи, ты – проходимец! – сказал он повелительным тоном.
– Ты мне не можешь запретить говорить! – воскликнул Ганс возмущенный. – Нет, не можешь!
Сделав неожиданно шаг вперед, он вынул меч.
Добек не тронулся с места и не думал прибегать к оружию. Закусив губы и стараясь сохранить самообладание, он воскликнул:
– Ступай же прочь отсюда, пока ты цел! Трогайся живей, ты, немчура! Иначе плохо будет.
– С тобою плохо будет! – крикнул Ганс, поднимая меч, как будто собираясь напасть на беззащитного.
В мгновение ока Добек набросился на немца и, схватив его руку, в которой он держал меч, как железными тисками, он выхватил из его рук оружие и начал бить своего противника. Не успел тяжеловесный немец осмотреться, как он уже лежал на земле, а удары на него сыпались один за другим, пока железный клинок не разломался на куски. Ганс, припертый к земле, тщетно делал усилия, чтобы освободиться от Добка, обрушившегося на него всей тяжестью.
– Friede, Herr! Friede, Herr![3] – стонал он, думая, что пришел его последний час, потому что Добек, давно точивший зубы против него, безжалостно наделял его ударами.
На этот шум сбежалась челядь, и со всех сторон прибежали слуги, женщины, придворные, которые, услышав непонятные для них слова, со смехом перевирая их, повторяли:
– Фредро! Фредро! Добка называют Фредрой! Что это означает?..
К счастью побежденного, Добек не был мстителен и не жаждал крови; поколотив изрядно свою жертву, он ее бросил, не желая над ней издеваться.
Поднимаясь со смехом с земли, Боньча взглянул на толпу, которая вдруг стихла, и, к ужасу своему, увидел короля, стоявшего на расстоянии трех шагов.
Казимир, возвращавшийся с охоты, услышав шум, сошел с коня и прямо направился к сборищу; грозно, но вместе с тем и с иронической улыбкой, он глядел на Добека, стоявшего перед ним, как преступник.
В эту эпоху своей жизни Казимир был очень красив. Высокого роста, хорошо сложенный, во цвете сил и здоровья, с благородным лицом, которому оттенок печали придавал особенную привлекательность, он имел в себе что-то величественное, смягченное необычайной кротостью, и вовсе не был горд.
Одетый в охотничий костюм с рожком, привешенным через плечо, с бархатной шапочкой на голове, в плаще и с мечом у пояса, Казимир стоял подбоченившись и переводил глаза с Боньчи на немца, который, весь в пыли, со стоном поднимался с земли и, увидев короля, обратился к нему с жалобой…
– Кто начал? В чем дело? – спросил Казимир, обращаясь к Кохану.
– Немец первый схватился за меч! – возразил Рава.
– Видишь, Ганс! – воскликнул король. – Ты получил по заслугам.
Боньче король погрозил пальцем.
– А ты, чуть что, готов людей убивать, – произнес он, обращаясь к Боньче, и, быстро отвернувшись от него, ушел.
Этим все кончилось; но в тот же вечер король в шутку назвал Боньчу «Фредрой», и это прозвище так и осталось за ним и впоследствии перешло на его род.
Один лишь Кохан догадался, почему Казимир так быстро возвратился с охоты: ожидали известий из Праги, от короля Яна и его сына, маркграфа Карла.
Казимир, благодаря всемогущему презренному металлу, помирился и заключил союз с королем Яном, с этим пылким, беспокойным воинственным рыцарем, предпринимавшим всевозможные походы и постоянно нуждавшимся в деньгах. Бывшие недавно враги теперь стали союзниками.
Чешский король Ян получил разрешение иметь в своем гербе маленького польского орла, который был изображен на знамени рядом с чешскими львами, с тем чтобы отказаться от всяких притязаний на корону. Ему отдали Силезию, а кроме того, Казимир дал ему отступного несколько десятков тысяч.
За эту дружбу не было слишком дорого заплачено, потому что король Ян ему служил опорой против крестоносцев. Теперь дело шло о том, чтобы стать в более близкие отношения с люксембургцами, рыцарский дух которых король отчасти ценил.
Красавица Маргарита, дочь Яна, сестра Карла, овдовела после смерти своего мужа, баварца. Казимиру дали надежду на брак с ней; он с радостью ухватился за эту мысль, потому что двадцатисемилетняя вдовица известна была своей красотой, умом и могла дать ему давно желанного наследника, о котором он так мечтал.
Маргарита, которую должны были привезти в Прагу, была ему обещала в жены. Отец и брат старались склонить печальную вдовушку к этому браку. Были слухи, что она была против и боялась этой страны, подвергавшейся нападениям со стороны татар и не обладавшей ни тем богатством, ни роскошью, к которым она привыкла.
Казимир ожидал ежеминутно известий и беспокоился; он даже не хотел удаляться из замка из боязни, что в это время приедет посол из Праги и будет вынужден его ждать, теряя зря время.
Тем временем король, получив обещание отца, делал все приготовления к свадьбе. Пока еще открыто не говорили о браке из боязни осрамиться в случае неуспеха, однако в Вавеле была большая суматоха, так как все готовились к далекому и пышному путешествию.
Король, возвратившись с охоты, велел немедленно пригласить подскарбия[4]. В королевские покои принесли все драгоценные вещи для выбора; перед ним на столе были разбросаны: позолоченные бокалы, серебряные чаши, кувшины, рога в золотой оправе, пояса украшенные жемчугом, ожерелья, кольца с блестящими камнями. Несколько покрывал пурпурового цвета лежали на полу и на скамейках.
Старый подскарбий Зындрам с грустью смотрел на все эти сокровища, предчувствуя, что их из Праги не привезут обратно, а озабоченный Казимир, казалось, их вовсе не замечал, прислушиваясь к звукам извне и при малейшем шорохе подбегал к окну. Но ожидаемого посла все еще не было.
Хотя о проектируемом браке короля было запрещено сообщать заблаговременно, однако все о нем знали. Мнения двора разделились: одни не хотели вдовы для короля, хотя он и сам был вдовцом, другие предвидели, что придется дорого за нее заплатить королю Яну, падкому на деньги.
Казимир стремился к тому, чтобы породниться с чешским домом, а Маргариту ему в свое время так расписали, что он заочно в нее влюбился. Судя по отцу и брату, а также по обычаям и благовоспитанности придворных, не отличавшихся от французских, Казимир предполагал найти в Маргарите то, чего именно недоставало Альдоне. Он мечтал о ней, как о женщине, которая сумеет его понять, будет разделять его убеждения и усладит его жизнь.
Каждая минута ожидания и неизвестности ему казалась вечностью.
Зындрам стоял в ожидании приказаний и глядел попеременно то на Казимира, то на драгоценные вещи, разложенные перед ним.
– Старичок ты мой, – проговорил, наконец, король, как бы очнувшись от задумчивости, – все это прекрасно… но для дочери короля Яна это слишком ничтожно… Я охотно бросил бы к ее ногам самое красивое и самое дорогое на свете. Она этого достойна. Выбери все лучшее и собери как можно больше… Бывал ли ты в Праге? – спросил он вдруг подскарбия.
Старый Зындрам приподнял свою седую голову, удивленный неожиданным вопросом. Прошло некоторое время, пока он собрался ответить.
– Давно, уж очень давно, всемилостивейший король!
– Я хотел бы с Божьей помощью сделать Краков таким же, как Прага, – сказал король, сложив руки. – Красивый, роскошный, богатый, хорошо защищенный город… Мы должны от чехов научиться управлять, строить и ввести порядок.
Зындрам не сразу ответил.
– Однако мы часто слышим жалобы от тех, которые сюда приезжают. Эта пышность, эти здания, путешествия короля по всему свету, двор, рыцарство очень дорого обходятся. Евреи оттуда переселяются к нам, потому что на них безжалостно налагают страшные подати, убегают и мещане, так как король Ян после каждого своего возвращения с них столько требует…
Казимир покачал головой.
– А когда люди не жалуются? – возразил он. – Чешский народ может гордиться своим монархом, ставить его в пример рыцарям!
Зындрам молча разглаживал бороду; он не осмеливался противоречить.
– Поговаривают, – добавил он тихо, видя короля задумчивым, – что, вероятно, этот монарх недолго будет управлять, а должен будет отказаться в пользу сына.
– У него больные глаза, – произнес Казимир. – Благодаря врачу, гнусному арабу, он уже лишился правого глаза; поэтому он ездил к французским врачам и теперь именно возвращается из Монпелье и Авиньона; с Божьей помощью…
Король, задумавшись, не окончил и после маленького перерыва произнес со вздохом:
– Моравский маркграф Карл – достойный преемник своего отца! Его самого и жену его Бьянку чехи, как слышно, очень любят…
– У него имеются и враги, – шепнул Зындрам, который, казалось, был хорошо осведомлен.
Казимир, взглянув на него, смолк.
В соседней комнате, в которой он обыкновенно принимал, послышалось движение и шепот. Казимир начал прислушиваться. В этот момент приподнялась портьера у дверей, и слуга тихим голосом доложил о прибытии почетных гостей.
Король, оставив Зындрама при разложенных драгоценностях, быстро вышел в соседнюю залу, посреди которой стояли двое ожидавших его духовных в одежде епископов, с крестами на груди. Король их радостно приветствовал. Один из них был высокого роста, представительный, с умным выражением лица, производивший невыгодное впечатление вследствие прищуренных, уставших, больных глаз. Взгляд их был напряженный, неуверенный, неестественный; одной рукой он прикрывался от света. Несмотря на его страдания, лицо выражало спокойствие и величие; оно было полно энергии и вместе с тем кротости. Это был Ярослав Богория, архиепископ гнезнинский, духовник и любимый капеллан короля, его сердечный друг, поверенный его мыслей и советник.
Позади его стоял епископ краковский Ян Грот – человек уже немолодой, преклонного возраста, скромной, неказистой наружности, с холодным выражением лица.
Казимир очень обрадовался их посещению и принял их как желанных и долгожданных гостей… Окружавшие его придворные тотчас удалились, оставив его одного с посетителями; архиепископ занял место возле короля, и рядом с ним молча уселся Ян Грот.
– Получили ли вы какие-нибудь известия? – спросил Богория, обратившись к королю с сочувствием.
– Я надеюсь! Я их жду с нетерпением! Но до сих пор ни одной весточки из Праги, – начал Казимир, тяжело вздыхая. – Я очень боюсь, – добавил он немного тише. – Разве у меня нет врагов? Могли представить меня и мою страну в таком черном свете, что княгиня Маргарита могла испугаться и почувствовать ко мне отвращение… При дворе Яна и маркграфа Карла находятся различные люди, преследующие разные цели. Есть и такие, которые с удовольствием помешали бы.
– Но за вас, ваша королевская милость, отец и брат; ведь они самые близкие ей люди, и вдова от них зависит. Брак этот с Божьей помощью непременно должен состояться… Подняв руку вверх, он повторил: – Господь поможет.
– Я очень хотел бы, чтобы этот план осуществился, но чем больше продолжается неизвестность, тем более я беспокоюсь, – сказал король.
– Мы молимся за вас, – произнес краковский епископ.
– Собственно говоря, – добавил Казимир, понизив голос и опустив глаза, – я обещал передать трон после меня моему племяннику Людовику… но я не отказался еще от надежды, что Господь меня наградит мужским потомком.
Епископы молчали, король стал грустным.
– Я знаю, что в Будапеште будут недовольны моей женитьбой и что сестра Елизавета рассердится, но я не могу помириться с мыслью быть последним в роде.
Архиепископ незаметно сотворил крестное знамение над говорившим и шепнул:
– У меня предчувствие, что вам не откажут. Дочь короля Яна даст себя склонить… нельзя пренебречь королевством, которое Господь постоянно наделяет новыми приобретениями… Вы завоевали Русь, вы возьмете когда-нибудь обратно Поморье, Мазовье тоже со временем будет присоединено…
– Я полагаю, – добавил медленно Ян Грот, – что приобретенные вами на Руси сокровища, о которых идут баснословные слухи, усилят в короле Яне желание выдать за вас свою дочь, потому что он любит деньги, а тратит их неосмотрительно…
– Он приобретает славу, – возразил Казимир, – а она дороже денег.
– Король Ян – настоящий рыцарь, – произнес архиепископ, – но он не воздержан в своих страстях. Очень жаль, что он вредит своим прекрасным качествам таким бесстыдством…
Король покраснел немного.
– Многое нужно простить тем, которые на своих плечах несут тяжкое бремя, – произнес он, обращаясь к Богорие.
Духовный кротко ответил:
– Многое нужно простить, но не все можно…
Разговор был прерван, пришел канцлер с докладом о пожертвованиях для костелов, об обмене деревень, о привилегиях.
Казимир слушал и поддакивал, но глаза его были устремлены на двор, и он напряженно прислушивался к каждому звуку, оттуда доходившему.
После ухода епископов явились другие чиновники; король их принял равнодушно, так как мысли его блуждали в другом месте, и он милостиво их отпустил.
Кохан Рава, знавший его хорошо и догадавшийся о том нетерпении, с каким король поджидает известий, желая прислужиться, стоял в сенях, чтобы первому увидеть ожидаемого гостя и принести своему пану радостную новость.
Между тем наступил вечер, а ожидаемого посла все еще не было. Беспокойство Казимира с каждой минутой увеличивалось. К концу дня потеряли надежду на скорое получение известий, потому что в то время люди ночью неохотно совершали путешествие, так как дороги не были безопасны и часто случались нападения.
Кохан отправился к королю и попал к нему как раз в то время, когда воспитательница привела ему его дочку-сиротку. Казимир с грустью молча прижимал к сердцу лепетавшего ребенка, а при виде вошедшего в комнату любимца поспешил удалить девочку. Когда они находились наедине, то Рава, при людях относившийся к королю с должным почтением, обращался с ним запросто, фамильярно, как в прежние времена.
Казимир любил видеть его таким.
– Кохан! – воскликнул он взволнованно. – Что ты скажешь на это промедление? У меня скверное предчувствие!
– А у меня самое лучшее, – весело ответил фаворит. – Но если бы оно даже меня обмануло, мой милостивый король, то разве так трудно получить другую княжну для молодого и красивого короля?
– Я хочу именно эту, а не другую, – живо начал король и, заметив, что Кохан насмешливо улыбается, добавил:
– Ты мне скажешь, что я ее даже не видел? Но мне нарисовали ее образ люди, знающие ее с детских лет… и она как будто стоит перед моими глазами во всей своей красоте! Она красивее всех других, и у нее благородный характер, который я так ценю в их семье. У нее в крови что-то геройское, как и у короля Яна. Я другой, кроме Маргариты, не хочу!
Кохан слушал, пожимая плечами.
– Уж по одному тому, что вы, всемилостивейший государь, могли ее так полюбить, ни разу не видевши, она должна быть вашей.
– Она должна была приехать в Прагу, – добавил король. – Маркграф Карл мне обещал приложить все старания, чтобы уговорить ее выйти за меня замуж.
– Не приходится много уговаривать, когда дело идет о королевской короне, – возразил Кохан насмешливо. – Красивая вдовушка покапризничает, дешево себя не отдаст, но не откажет в своей руке.
– Дай Бог, чтобы так было, – произнес король и, быстро приблизившись к своему любимцу, добавил: – Кохан, ведь это правда, что мы не дадим себя осрамить в Праге! Там необходимо будет выступить с пышностью, подобающей польскому королю, ты наблюдай за этим! Я голову теряю от нетерпения и страстной любви к женщине, которой я никогда в жизни не видел. Самых лучших коней, самые богатые попоны, самую дорогую одежду, оружие…
– Нужно будет взять с собой всю сокровищницу, потому что там окажется много жадных рук, – заметил Кохан.
– Сокровищницу? Пускай она вся опустеет! – воскликнул Казимир. – Мы ее сумеем вновь наполнить, а в Праге необходимо их ослепить нашим богатством. Выбери красивых людей, которые с нами поедут, – добавил Казимир. – Я во всем на тебя полагаюсь. Не жалей ничего… ты за все отвечаешь…
– Я все исполню по вашему приказанию, – произнес Кохан, – но пора велеть подать себе ужин и за едой забыть о заботах… У меня уж слюнки текут от доносящегося запаха жаркого.
Кохан таким оборотом разговора хотел развлечь короля, как он это обыкновенно делал. Они вместе вошли в столовую, и Кохан сделал знак придворному шуту Шубке, чтобы он развлекал пана; заняв место сзади короля, с кувшином в руках, он завел разговор, подстрекая других поддержать его, и лицо короля просветлело.
При каждом шуме, раздававшемся на дворе и у ворот, Казимир вздрагивал, прислушивался и посылал разузнать; мысли его были заняты послом, приезда которого он в этот день не дождался.
Кохан на рассвете отправил на проезжую дорогу своего приятеля, молодого Пжедбора Задору, выбрав для него самого быстрого коня, в надежде, что Задора, встретив гонца, узнает от него кое-что и поспешит опередить его своими известиями.
Все исполнилось так, как он желал. Пжедбор, искренно привязанный к Казимиру, как и все его окружающие, не пощадил ни себя, ни коня и на расстоянии нескольких миль от Кракова встретил Николая из Липы, посланного королем Яном, чтобы уведомить Казимира о прибытии Маргариты и об ее согласии на брак.
Маркграф Карл велел от себя конфиденциально добавить, чтобы Казимир по получении уведомления поторопился со свадьбой, пока нерешительная Маргарита не изменила своего намерения под влиянием людей, которые не желают этого брака.
Понятно, что короля не пришлось уговаривать торопиться.
Пжедбор, заручившись нужными ему известиями, оставил чехов отдыхать и готовиться к продолжению пути, а сам стрелой помчался верхом в Вавель, до смерти загнав лошадь.
Кохан, увидев возвратившегося Пжедбора и обменявшись с ним несколькими словами, с радостным лицом побежал к королю, которого он застал расхаживающим по комнате в сильном беспокойстве.
Улыбка фаворита и его блестящие глаза предвещали хорошие известия.
– Чехи прибудут через час! – воскликнул Рава, переступив порог. – Они везут с собой приглашение на свадьбу.
Казимир от радости бросился фавориту на шею, а последний целовал ему руки.
– Откуда ты это знаешь?
– Я послал Пжедбора…
Казимир, схватив золотую цепь, лежавшую на столе, надел ее на шею конюха.
– Задору – награду, какую он пожелает! – воскликнул король. – Сделай распоряжение, чтобы все было готово к завтрашнему отъезду… Я хотел бы сегодня…
Казимир сильно взволнованный, от радости смеялся, ломал руки и, находя себя смешным и слишком юным, старался сдерживать свой восторг; но он не мог успокоиться. Разыгравшаяся фантазия рисовала ему красивую Маргариту, жизнь с ней, колыбель сына, светлую и великую будущность.
Ему казалось, что все это находится в зависимости от его женитьбы, после которой настанет новая эра в его жизни: забвение, покой, семейное счастье, Божье благословение.
Около полудня чехи, переодевшись в гостинице в одежду, подобающую королевским послам, и с оружием в руках, въехали на двор краковского замка. Многочисленная, пышная свита ожидала их приезда; король в обществе кастеляна и краковского воеводы, а также многих знатных вельмож готовился приветствовать Николая из Липы в зале для аудиенции.
Он был племянником великого подкомория[5] короля Яна и вышеградского пробоща Енджиха. По фигуре и одежде в нем легко было узнать рыцаря, который продолжительное время путешествовал вместе со своим королем и, побывав в разных странах, извлек из этого пользу. В Николае именно было то, чего недоставало многим придворным Казимира: благовоспитанность, барство, утонченное и милое обхождение с людьми и влияние западной цивилизации.
Каждый его жест был обдуман и красив. В нем была сила, вещь важная в те времена, когда все больше и больше покрывали себя с головы до ног железной броней, рыцари, не отличавшиеся силой, ничего не стоили, потому что во время турниров им приходилось под этой тяжестью ловко маневрировать.
Большая часть польского двора смотрела с некоторой завистью на этого элегантного посла, на его одежду, оружие, лошадь; все это отличалось изяществом, блеском, богатством.
Король ласково принял присланных послов. Были приготовлены столы с угощением. Казимир давно уже не сидел за столом такой веселый, как теперь; он непринужденно разговаривал, расспрашивая о короле, о маркграфе и о будущей невесте.
Николай был слишком ловкий и опытный придворный, для того чтобы сказать всю правду; поэтому он в рассказе обходил опасные места и старался представить все в розовом свете.
За столом сидели долго; Казимир, наконец, встал и поручил Кохану проводить посла в комнаты, отведенные ему для отдыха.
Когда они остались наедине, у Николая развязался язык; он хорошо знал Кохана и сошелся с ним еще в Праге.
– Не огорчайте вашего пана, – сказал посол тихо. – Я привез такие известия, какие мне велено передать, но у нас не все обстоит благополучно. Король Ян ослеп уже на второй глаз, так хорошо его вылечили французские доктора. Он теперь занят мыслью о покаянии. У маркграфа имеются враги, хотя он преодолел Николая из Подштейна, а княгиня Маргарита, хоть и дала свое слово, но она заливается слезами, и надо поторопиться, а то она может взять свое слово обратно. Поэтому в дорогу! Лишь королю не говорите ни о чем скверном. Он ее скоро увидит собственными глазами…
Кохан насупился.
– Ради Бога, ни вы, ни ваши люди не рассказывайте об этом никому при дворе. Старому королю мы не возвратим зрения! Но когда Маргарита увидит своего жениха, она перестанет плакать и добровольно отдаст ему свою руку.
Николай молча кивнул головой.
На следующий день большой отряд всадников, в сопровождении запасных верховых лошадей и крытых возов, с многочисленной челядью выезжали из замка в Вавеле. Радость сияла на всех лицах; надеялись провести приятные, хорошие дни в чешской столице.
Король ехал, окруженный панами, помолодевший, счастливый и при входе в костел, получив благословение епископа, смело поднял глаза к небу.
В городе его ожидали ратманы, волостные старшины, чиновники и толпы народа. Они с ним прощались, напутствовали благословениями и пожеланиями благополучного возвращения вместе с королевой. На лице его выражалась радость, и он, приветливо размахивая рукой, прощался. Вдруг глаза его устремились на стену старого дома, лицо побледнело, губы задрожали. Скрываясь у угла противоположного здания, как будто не желая быть замеченным, стоял бледный мужчина с черными волосами, с диким взглядом, с исхудавшим лицом. На нем была рыцарская одежда, а в руках он держал палку с топориком, на которую опирался. Увидев короля, он прислонился к стене, прикрыв лицо, но Казимир узнал его и, как громом пораженный, продолжал свой путь. Он уже больше ничего не видел, так как перед его глазами проносились окровавленные части человеческих тел.
Уже во время короля Яна Люксембургского так называемая «Золотая Прага» над Влтавой была чудным, восхитительным городом. Мало городов в Европе могло с ней сравниться.
Природа дала ей роскошное живописное положение, как бы предназначая ей быть королевской столицей, и несколько поколений трудами своими способствовали украшению города, строя замки, возвышавшиеся над городом, и обводя его стенами, служившими ему украшением.
Издали видны были эти стены и возвышавшиеся на них башни, среди которых выделялись башня Святого Щепана и башня, построенная при святом Франциске, крыши, колокольни многочисленных костелов и укрепленная стена, отделявшая старый город от нового; все это давало понятие о грандиозности и значении этой столицы, которой вскоре предназначено было стать любимым местопребыванием немецкого императора.
Старый город, civitas antiqua, особенно отличался большим количеством красивых костелов и множеством роскошных каменных, домов. Монастыри францисканский, доминиканский, бенедиктинский, храмы Святого Яцка, Святого Креста, Святого Николая, украшали эту часть города, вокруг которой сконцентрировались остальные части. Гордый своей древностью старый город окружил себя особыми стенами, отделявшими его от нового города, который спорил с первоначальным посадом о первенстве. Шесть чудных ворот вели в город. Там находился красивый дом епископа, недавно изящно отделанный и украшенный внутри резьбой и живописными картинами, в котором пастырь мог бы даже принимать королей.
Старый, величавый город с древнейшей башней Святого Вита и монастырем при ней, с дворцами и башнями, со своим «райским двором», о котором сохранилось воспоминание и за которым осталось это название, с домами кастелянов и других королевских чиновников, величественно выделялся над остальной частью.
Кругом на большом пространстве простирались предместья: Пожечье, Подскалье, Здераж, Вышеград, Подолье, доходившие почти до Збраслава.
Евреи, доставлявшие королю Яну громадные доходы, занимали не только часть старого города, но и имели гнездо в Пожечье. В Вышеграде находился прежний королевский дворец, подаренный настоятелю монастыря, и костел Святого Петра, воздвигнутый из развалин.
Город Прага был в то время один из первых городов и отличался порядком и чистотою улиц и рынков. Одной из самых красивых улиц была Длугая, на которой были выстроены дома богатых мещан.
В противоположность польским городам, в которых в то время мало было каменных зданий, служивших украшением города, здесь почти все постройки были кирпичные и каменные.
Они служили не только украшением столицы, но и гарантировали безопасность, потому что Прага, окруженная ими, при тогдашнем состоянии военной науки, в случае осады, могла считаться непобедимой. Благодаря этим толстым стенам, защищенным высокими башнями, торговля и промышленность процветали и город богател.
Рыцарскому духу короля Яна такая столица вполне соответствовала. Он принадлежал к числу самых мужественных современных монархов, жаждущих власти, славы и блеска, и постоянно был занят страстным преследованием намеченной цели, новыми походами, приобретениями и весь отдавался работе.
Хотя Прага казалась ему слишком тесной и слишком удаленной от света, однако он украшал ее с отцовской любовью, расширял и ревниво охранял прерогативы своей власти. Король Ян, вынужденный передать управление Чехией своему сыну Карлу, маркграфу Моравскому, который, вместе со своей женой Бьянкой, вскоре стал любимцем народа, увидел в своем собственном сыне соперника и, обеспокоенный этим, отнял от него бразды правления.
Но ему через некоторое время снова пришлось выпустить из своих рук государственные вожжи, которые он так настойчиво и ревниво охранял. Этому рыцарю судьба не благоприятствовала. Вступив вторично в брак с Беатрисой, он был ранен во время турнира, устроенного в честь этой свадьбы, и вскоре после этого заболел глазами.
Приглашенный к нему арабский врач неумело лечил его, и он потерял правый глаз. Vox populi приписывал это каре Божией за святотатство и невоздержанную жизнь. Это не мешало ему принимать участие в турнирах, при содействии своих товарищей, и по-прежнему развлекаться рыцарскими упражнениями.
Союз с королем Казимиром, который должен был еще более окрепнуть, благодаря проектируемому браку, не был нарушен в течение шести лет, со времени съезда в Вышеграде венгерском. Молодой король тогда первый раз посетил Прагу; ему очень понравились западные нравы, лоск рыцарского двора, и он был ослеплен комфортом, окружавшим короля Яна.
Вероятно при виде цветущих чешских городов, прекрасных садов, порядка и строгой дисциплины, царивших повсюду, у него явилась счастливая мысль управлять своей собственной страной подобным же образом.
Образцом для устройства польского двора ему послужили дворы венгерский и чешский. Его проницательный ум видел все это, что можно оттуда позаимствовать и что надо бросить, что можно применить к Польше и что не подходит.
Хотя тройственное соглашение между Венгрией, Чехией и Польшей внешне не было нарушено, однако в действительности оно не было уже так крепко, как в первое время. Проект соединения польской и венгерской короны в лице одного человека, придуманный сестрой Казимира, Елизаветой, об осуществлении которого она старалась, не мог нравиться чешскому королю, так как это угрожало создать сильное государство и могло бы быть в ущерб его интересам.
Поэтому король Ян советовал Казимиру, отчаивавшемуся в том, что не имел мужского потомка, жениться; когда же его собственная дочь овдовела, он старался сосватать ее польскому королю.
Княжна Маргарита, будучи вызвана отцом в Прагу, послушная его приказаниям, возвратилась туда. Как будто для того, чтобы выразить свой протест против нового брака, она приехала в трауре по мужу и по сыну недавно умершему. Слепой отец, узнав об этом от других, велел ей снять траурную одежду.
Король Ян и маркграф Карл окружили Маргариту самыми нежными заботами, баловали ее, стараясь повлиять на нее, чтобы она вышла замуж за Казимира; но все то, что она узнала о Польше, еще будучи в Баварии, вовсе не могло ее расположить к этому браку. Ей представили страну, как дикую и пустынную, лесами заросшую, холодную и печальную, бедную и Богом обиженную, постоянно подвергнутую войнам и нападениям. Король был ей обрисован как язычник, который вел невоздержанную жизнь и брал от нее все, что мог.
Совсем иначе отзывались о Казимире король Ян и маркграф Моравский. Они его хвалили как благороднейшего человека, с быстрым умом, руководимого самыми лучшими желаниями, владетеля великой страны и громадных богатств, приобретенных на Руси. Король Ян расхваливал и превозносил до небес рыцарскую прекрасную фигуру молодого короля, не уступавшего никому пальмы первенства на турнирах и в состязаниях.
Тщетно Маргарита умоляла отца и уверяла его, что не хочет вторично выйти замуж. Деспотический король Ян требовал от дочери пожертвовать собою ради его личного интереса, желая ее видеть на королевском троне. Ей не давали времени для размышления и обсуждения, настаивая на том, чтобы она дала свое согласие.
В один из дней, предшествовавших поездке Николая из Липы в Краков, Маргарита, утомленная после длинного разговора за вечерней трапезой с отцом и братом, оставила их и отправилась в предназначенные ей комнаты. У нее был довольно многочисленный женский штат, состоявший преимущественно из немок. Дамы и барышни, окружавшие ее, были разделены на два лагеря; одни поддакивали вдове, другие, повинуясь приказаниям короля Яна, старались ее склонить к браку.
Старая Агнеса, бывшая няня Маргариты, полунемка, полуитальянка, из любви к своей воспитаннице, защищала ее интересы. Возможно, что страх навлечь на себя гнев отца удержал бы ее от излишнего усердия, но после ее приезда в Прагу нашелся субъект, знавший о ее влиянии на Маргариту и постаравшийся немедленно им воспользоваться.
Это был некий Хинко-Пеляж, давно уже поселившийся в Праге, имевший торговые сношения с Венгрией и связи с тамошним двором. Это была загадочная, скрытная личность, умевшая повсюду проникнуть, часто скрывавшаяся надолго с горизонта; Хинко-Пеляж много путешествовал, имел большие связи, был хорошо принят духовенством и двором, но товарищи подозревали его в политических интригах.
Никто не отвешивал королю Яну таких низких поклонов, никто так ревностно не служил маркграфу Карлу, никто не оказывал королю такого содействия при получении займов, как он; несмотря на все это, его втихомолку обвиняли в вероломных интригах.
Хинко, недавно только возвратившийся из Венгрии, казалось, внимательно следил за временем прибытия Маргариты. На следующий день после ее приезда он поторопился навестить свою давнишнюю знакомую и приятельницу Агнесу. Богатый Пеляж был всегда желанным гостем при дворе. Агнеса, как и все старые женщины, лишенные возможности работать, любила много болтать. Ее любимым занятием было изливаться в жалобах: она плакалась на свою собственную судьбу, судьбу своей барыни, всей семьи, на плохие времена, на несчастия и на бедствия, постигшие весь род человеческий.
С тех пор как саранча напала и опустошила Чехию, прошло три года, а Агнеса об этом все еще не могла забыть.
Пеляж, не особенно много говоривший, слушал очень внимательно; они сидели вдвоем в комнате в то время, когда Маргарита молилась в часовне при костеле Святого Вита.
Агнесса вначале рассказывала о том, как муж ее госпожи внезапно скончался, как она сожалела о его смерти, затем как заболел единственный сыночек Маргариты, на которого она возложила все свои надежды, и как эта неожиданная смерть сына чуть не довела молодую мать до отчаяния.
Пеляж выслушал все эти рассказы с большим интересом и сочувствием, добавив, что теперь вовсе нет хороших врачей, которые могли бы помочь своим советом, и что лучшим доказательством этого является король Ян, лишившийся зрения вследствие их нерадения.
Агнеса заливалась слезами. Зашла речь о предстоящем браке с Казимиром, к которому молодая вдова питала такое отвращение. Пеляж, выслушав ее излияния, прервал свое упорное молчание. Понизив голос, он тихо высказался против этого брака, указывая на то, что Агнеса из любви к своей воспитаннице должна содействовать тому, чтобы предохранить Маргариту от несчастий.
– Я бываю часто в Венгрии, – произнес он таинственно, – и я там и в Кракове, где у меня много приятелей, наслушался вдоволь о Польше, о ее прежних королях и о теперешнем монархе. Княгиня привыкла к другим обычаям, и она бы не могла там оставаться, потому что эта дикая страна, почти без всяких путей сообщения, подверженная разбойничьим нападениям, заросшая лесами. Ее опустошают один за другим татары, литовцы, крестоносцы, жители Руси, соседние князья. Города состоят из деревянных построек, деревни из шалашей, народ ходит чуть ли не нагишом, покрытый звериными шкурами, часто голодает и терпит во всем недостаток.
Агнеса слушала, творя крестное знамение, ломая руки и призывая на помощь всех святых.
Пеляж слово за словом, как будто нехотя, начал говорить о молодом короле Казимире. Он знал об этой известной венгерской истории…
Старая воспитательница начала его заклинать Христом Богом, чтобы он ей рассказал о случившемся. Пеляж после долгих упрашиваний, сделав вид, что он вынужден уступить ее просьбе, рассказал ей всю историю Амадеев, приукрасив ее добавлениями собственной фантазии и очернив королеву и ее брата.
По его мнению, это был человек дикий с необузданными страстями и страшно невоздержанный. Впрочем, – добавил он, – языческие обычаи страны дозволяли многочисленные любовные связи, которые считались супружескими; поэтому Маргарита не была бы единственной женой, а одной из жен польского короля. Этот рассказ навел ужас на бедную старушку, и она прониклась благодарностью к человеку, открывшему ей такие важные тайны.
В тот же день она поторопилась их сообщить своей госпоже, назвав источник, откуда она их почерпнула. Маргарита пожелала это услышать из уст самого Пеляжа, и его секретно вызвали.
Он колебался, отказывался, но, наконец, уступил, и, когда он дал волю языку, бедную вдовушку обуял ужас, и отвращение, которое она питала к незнакомому Казимиру, сильно возросло. Со слезами на глазах княгиня умоляла отца и нетерпеливого брата не настаивать на ее согласии, и они сразу почувствовали, что ее сопротивление вызвано чьим-то зловредным влиянием. Так прошло несколько дней в просьбах, в слезах, в спорах и в настояниях.
Агнеса каждый вечер заново подстрекала к сопротивлению Маргариту, ослабевшую в течение дня и начинавшую поддаваться воле отца и брата. Пеляж часто навещал ее и подливал масла в огонь.
Однако борьба с людьми, обладавшими такой силой воли и горячим темпераментом, каким обладали король Ян и сын его Карл, стала слишком тяжелой для этой измученной женщины, и ей трудно было выйти из нее победительницей.
Король Ян настаивал, сердился, угрожал ей последствиями в будущем, которое зависело от него. Маркграф Карл насмехался над всеми сплетнями о Казимире, а жена его Бьянка старалась убедить Маргариту чисто женскими аргументами. Ей не давали отдыха, принуждая ее дать слово, и княгиня в конце концов обещала быть послушной отцу.
Получив ее согласие, немедленно послали сообщить об этом в Краков, и король велел готовиться к свадьбе. Она должна была быть отпразднована с подобающей роскошью, и бургграф Хинек, призванный к королю, получил приказание, чтобы в городе были сделаны все приготовления к предстоящему торжеству.
Весенняя пора была как раз подходящим временем для этого торжества, которое было одновременно и придворным, и народным, и в котором все духовенство должно было принять участие.
В то время, когда Маргарита заливалась слезами, в городе обдумывали программу празднеств в честь приезда польского короля и свадебного пиршества. Был назначен большой турнир, на реке старого города были приготовлены столы для угощения народа, в замке готовились к приему поляков с танцами, песнями и играми.
Но с того дня, как Маргариту заставили дать слово, которого обратно ей уже нельзя было взять, она начала чахнуть.
Слепой отец не мог заметить на лице красивой дочери ни следов слез, ни отпечатка душевного страдания; брат Карл относился к этому как мужчина и утешал ее тем, что печаль и опасения пройдут с прибытием Казимира.
От переживаемого волнения прекрасная Маргарита ослабела. В первый день после данного ею согласия она молча явилась к обеду. Отец тщетно старался вызвать ее на разговор, но она отвечала лаконически. Слезы часто появлялись на ее глазах, и она чувствовала себя несчастной жертвой. Удалившись после обеда в свои комнаты, она уже там осталась до ночи. Агнеса уговаривала ее лечь в постель и позвала придворных фрейлин, чтобы пением и музыкой развлечь госпожу, но Маргарита воспротивилась этому, потребовав тишины и спокойствия.
На следующий день она не вышла к отцу и все время ходила по комнате от окна к окну, тревожно приглядываясь и дрожа при мысли, что этот страшный жених может ежеминутно нагрянуть.
Король Ян не изменил своего решения, узнав о болезни дочери, и, не считаясь с этим, расспрашивал о приготовлениях к свадьбе. Маркграф Карл тоже не обращал внимания и смотрел на состояние сестры как на женскую причуду.
По их мнению появление молодого, красивого, благородного Казимира должно было уничтожить имевшееся против него предубеждение.
Наконец, настал день, ожидаемый одними с такой тревогой, другими с таким нетерпением. Маргарита, уступив усиленным просьбам Бьянки и брата, встала с постели. Она видела, что ей не избежать страданий, и она решила их перенести с покорностью.
Оставшись наедине со старой Агнесой, которая своими причитаниями над несчастной судьбой Маргариты еще более увеличивала ее тревогу, княгиня начала говорить о своей близкой смерти.
– Не плачь, старуха, – говорила она ей, – я долго не буду мучиться. Я не дам себя увезти отсюда в их страшные леса и пустыни, чтобы попасть к ним в неволю и подвергнуться их издевательствам… Я тут умру…
Агнеса обнимала ее колени с плачем и причитаниями. Спасения не было. Король даже и слышать не хотел о том, чтобы из-за болезни отложить свадьбу. Карл возмущался и терял терпение.
Какое чувство – воспоминание ли или надежда на что-нибудь – увеличивало ее сопротивление и отвращение к жениху? Об этом никто, кроме старой воспитательницы, не знал.
Красивое лицо княгини бледнело и увядало.
– Тем лучше, – отвечала она, когда ей высказывали соболезнование. – Может быть, он меня найдет некрасивой и откажется.
Наконец, однажды вечером, прибыл в замок посол, отправленный вперед послом Николаем для того, чтобы уведомить короля Яна о близком прибытии будущего зятя.
Все было готово к торжественной встрече. Слепой король сожалел, что не может выехать навстречу Казимиру, вместо него должен был поехать маркграф Карл в сопровождении известного подкормился Енджиха из Липы, бургграфа Хинека и блестящего отряда рыцарей. Дали знать в епископство, чтобы духовенство выступило навстречу и чтобы зазвонили во все костельные колокола.
Когда Бьянка пришла с этим известием к Маргарите, бедная женщина зашаталась и упала в обморок.
Несмотря на это, отец отдал категорическое приказание, и весь ее штат поспешил помочь ей при одевании, так как король настаивал на том, чтобы она нарядно оделась, и торопил быть готовой к принятию Казимира.
Отчаяние придало мужество ослабевшей и встревоженной женщине. Она порывисто поднялась с ложа и с насупившимся лицом приказала подать одежды. Все необходимое было уже заранее заготовлено, а тогдашние обычаи требовали, чтобы королевская дочь была окружена пышностью и блеском. Платье из парчи, покрытое воздушной прозрачной материей, тяжелые золотые украшения, ожерелье из дорогих камней, широкий, большой золотой пояс, бывший тогда в моде, пурпуровая накидка, окаймленная мехом, – во все это нарядили бедную жертву, которая, казалось, вовсе не чувствовала и не сознавала, что с нею делается.
Агнеса, спрятавшись в уголочек, плакала, а женщины кругом суетились, пристегивали, подкалывали, завязывали, одевали дорогие кольца на бессильно опущенные руки.
В это время раздался звон колоколов, и Маргарита зашаталась и упала бы, если бы слуги не поддержали ее. На дворе замка был слышен топот коней и звук железного оружия. Маркграф Карл, покрытый блестящими позолоченными латами, с огромным пучком страусовых перьев на шлеме выезжал навстречу гостю. Король Казимир с лицом, сиявшим от радости, помолодевший при мысли об ожидающем его счастии, въезжал в Золотую Прагу, приветствуемый криками многочисленной толпы народа.
Пышно растянулся этот польский кортеж, пестревший золотом, состоявший из отборных красивых рослых людей, роскошно одетых, с изысканным оружием, державших в правой руке щиты, на которых были нарисованы топоры, подковы, небесные светила, хищные птицы и львы.
Казимир ехал впереди на белом коне, прикрытом пурпурной попоной, на которой были вышиты жемчугом орлы.
На голове короля был надет роскошный шлем, а наверху его красовался орел, как бы собирающийся взлететь. В свите его находились и дряхлые старики, и прекрасная молодежь, и много отборных людей.
Громкие звуки труб возвещали о прибытии гостей. По улицам города с трудом можно было протолкнуться; за чертой города гостей поджидал епископ Ян из Дражич, принявший гостя с благословением и сопровождавший его в город.
В большой зале нижнего этажа стоял в задумчивости король Ян, невестка его Бьянка и шатавшаяся от волнения и бледная, как труп, Маргарита. Король был сумрачен, так как до него лишь доходили звуки, и он не мог видеть этого блеска, к которому он так привык. Его охватило сознание своей слепоты, и это сильно его опечалило.
Княгиня ошиблась, предполагая, что бледность и безжизненное лицо сделает ее некрасивой. Наоборот, ее красота, правильные черты мраморного лица, блеск ее черных глаз еще более выделились, благодаря отпечатку скорби. По общим понятиям того времени, требовавшим от женщины свежести здоровья, пышного расцвета, Маргариту, в сущности, нельзя было назвать красивой. Она была какой-то бледной блуждающей тенью, неземным существом. Печаль и страдания, выражавшиеся на ее лице, вызывали к ней сочувствие и сострадание.
Она стояла, как жертва, ожидающая своего палача, когда мимо окон прошел кортеж и на дворе раздался шум, вызванный прибытием Казимира с Карлом.
Бьянка, опасаясь за нее, приблизилась к ней, чтобы, в случае надобности, оказать ей помощь. Но тут произошло что-то непредвиденное: ослабевшая Маргарита вздрогнула, ожила, вспомнила, что она королевская дочь, и, вооружившись гордостью, почувствовала себя сильной.
Бледная, но смелая и мужественная с глазами, горевшими от внутреннего огня, она встретила прибывших. Взгляд ее упал и задержался на Казимире, который шел счастливый и радостный, ища ее глазами. Он ее, вероятно, узнал, но взгляд ее очей, которым она его приветствовала, как острие, пронзил его сердце. Казимир задрожал и, шатаясь, подошел поздороваться с королем Яном. Через секунду он уже подходил к ней. Маргарита опустила глаза.
Она уже ничего больше не видела. Ей велели подать руку жениху. Она ее протянула холодно и безжизненно. Он ей что-то говорил, но она ничего не слышала. Он стоял возле нее, но она на него и не взглянула.
Кругом был большой шум и раздавались голоса.
Был дан сигнал, приглашавший занять места при столах; все поспешили на этот зов, и при первом столе, рядом с отцом, посадили будущую молодую чету. Маргарита села, по-прежнему с опущенными глазами. Она слышала какой-то шепот кругом, но сама не издала ни звука.
Маркграф наклонился к прибывшему гостю и на ухо сказал ему:
– Маргарита была немного больна, не обращайте внимания на ее нервное, тревожное состояние. Это в характере женщин жеманиться и казаться печальными в то время, когда они самые счастливые существа.
Казимир питал радужные надежды; его не обманули, и действительность оправдала его ожидания, так как княгиня показалась ему чудной красоты.
На следующий день никто не видел бледной Маргариты. Король Ян довольно хладнокровно велел уведомить Казимира, что княгиня нездорова, врач прописал ей отдых, а потому она в этот день вовсе не выйдет.
Казимир встревожился и отправил Кохана на разведку. Последний имел много друзей и знакомых, даже родственников. Впрочем, он настолько был искусен и ловок, что повсюду мог бы проникнуть и собрать нужные ему сведения.
При дворе у него было несколько знакомых дам, за которыми он когда-то ухаживал, потому что в характере Равы было искать везде и повсюду женщин, которые оценили бы его красоту.
В свите княгини находилась прекрасная Житка, с которой он давно уже был знаком, и он пошел ее отыскивать.
Всех сопровождавших Казимира очень гостеприимно приняли, и ему очень легко было разыскать Житку. Когда ей сообщили о его приходе, она вышла к нему с легким оттенком грусти на лице, но обрадованная тем, что прежний ухаживатель так скоро о ней вспомнил.
Ловкий Кохан начал изливаться перед ней, как он тосковал и как он рад ее опять увидеть.
Житка, кокетливо погрозив пальцем и бросая на него игривые взгляды, с улыбкой его поблагодарила. Она не доверяла изменчивым мужчинам. Разговор начался резвыми шуточками.
Кохан приглашал ее на танцы на предстоящем торжестве; она жеманничала, не обещая и не отказывая.
– Мы к вам приехали праздновать свадьбу, а вы нас принимаете с кислым лицом и с болезнью, – сказал Кохан.
Житка покачала головой, поправляя свои локоны.
– Княгиня не вовремя заболела, – добавил Кохан, – но ее болезнь вероятно не опасна.
Трудно было вытянуть слово от девушки, осторожно оглядывавшейся по сторонам, так как мимо них проходили чужие, которые подслушивали и могли вмешаться в разговор.
Девушка поднялась, и Кохан пошел вслед за ней в другую комнату, находившуюся внизу, где в это время дня никого из других девушек не было.
– Во имя вашего расположения ко мне скажите, что у вас происходит? Действительно ли она больна или это вымысел?
– Прежде всего, кто вам сказал, что я к вам расположена? – возразила девушка, как будто обиженная.
Но гнев ее продолжался недолго, и Кохан сумел ее обойти. Он был красивый молодой человек, и все знали, что он любимец короля.
– Княгиня уже давно больна, – наконец, начала Житка, переложив гнев на милость. – Она не может забыть покойного мужа… Она недавно потеряла ребенка…
– Что за беда? – отозвался Кохан, стараясь обратить все в шутку. – Вместо умершего мужа будет иметь живого, а ребенка ей не придется долго дожидаться.
Девушка отвернулась от него обиженная, и ему пришлось долго вторично ее упрашивать. Впрочем, ему это не стоило больших трудов, и Житка начала рассказывать.
– Это потому, что тут все вас очень боятся, – произнесла она. – Мы знаем, какие вы люди и какое для вас имеет значение женщина, будь она хоть королевой.
– Мы не волки и не пожираем людей, – возразил Кохан смеясь, – потому что в таком случае я бы вас первую съел, так вы мне пришлись по вкусу.
Жигка смеялась. Лесть, в какой бы она форме ни была преподнесена, хоть в самой неискусной, всегда оказывает влияние. Девушка, вначале казавшаяся неприступной, засмеялась и стала ласковее. Игривая улыбка замелькала на ее губах, она вызывающе глядела на него, не вырывала своих рук и не сердилась, когда он, во имя прежнего знакомства, позволял себе обнимать ее. Она находила, что в достаточной степени соблюла свое достоинство, не поддавшись ему сразу. Они уселись рядом на скамье. Кохан снова начал расспрашивать.
– Чем больна княгиня?
Продолжительное молчание, предшествовавшее ответу, указывало, насколько Житка затруднялась ответить на этот вопрос.
– Княгиня, – шепнула девушка, опустив глаза, – она… она не хочет вторично выходить замуж. Она недавно овдовела, а про вашего короля тут рассказывают страшные вещи.
– Кто? Что? – спросил Кохан, возмущенный. – Это клевета!..
Житка, которая умела искусно подслушивать, прекрасно знала всю историю Амадеев, о которой Агнеса шепотом рассказывала.
– Клевета, – сказала она, взглянув на своего собеседника, – ну, а это кровавое происшествие с дочерью Амадея!
– Это ложь! – воскликнул Кохан, возмущенный. – Наш король невиновен.
Житка не дала ему говорить.
– Я не знаю, – произнесла она торопливо, – но при нашем дворе ваш король имеет врагов. Они настроили Маргариту против него; от них все исходит; это и есть причина ее болезни…
Кохан насупился.
– Она очень больна? Действительно ли она больна? – спросил он.
– Она больна и не со вчерашнего дня, но с тех пор как вынуждена была дать отцу слово.
– А что же будет со свадьбой? – спросил Кохан.
– Вероятно, вам придется обождать, – вздохнула девушка.
Кохан притворился, что он интересуется свадьбой ради себя лично, чтобы повеселиться и потанцевать. Он вздыхал, стараясь себе снискать доверие девушки. Ему удалось выведать от нее о роли, которую играла старая Агнеса, и даже про источник, откуда стала известна история об Амадеях, о Пеляже. Условившись с девушкой, где им снова встретиться, он отправился к королю. Но он не застал дома Казимира; маркграф, желая развлечь гостя, пригласил его с собой пойти посмотреть приготовления к турниру.
Вскоре зашел разговор о назначении дня свадьбы, с которой Казимир хотел поторопиться.
Своевольный старый Ян, не обращая внимания на болезнь дочери, хотел отпраздновать свадьбу в день святой Маргариты, как раз в день именин княгини… До назначенного им срока осталось достаточно времени, чтобы все приготовить, а также для выздоровления княгини.
Казимир должен был примириться с решением своего будущего тестя и ждать дня святой Маргариты. Между тем не жалели никаких расходов и трудов, чтобы развлечь коронованного гостя и его сотоварищей.
Город принял праздничный вид. На рынке расставлены были столы для угощения народа, музыка играла на крыльцах башен и у ворот. Почетная стража торжественно проходила по улицам. В замке назначено было пиршество и турнир, вечером же должны были танцевать и петь.
Вся эта программа соответствовала обычаям, и, несмотря на то что болезнь Маргариты всех неприятно расстроила, пришлось готовиться к ее выполнению.
Старый король надеялся на то, что болезнь не имеет грозного характера и что отдых и спокойствие восстановят силы дочери и дадут ей возможность выйти к гостям.
Казимир старался притвориться веселым, но в действительности сильно беспокоился. Когда он забывал о необходимости казаться веселым, он впадал в задумчивость и как бы каменел. Тщетно маркграф Карл старался его развлечь.
Место для турнира уже было огорожено веревками; были назначены судьи и развешаны щиты участников турнира. Маркграф вместе с гостем, в сопровождении следовавших за ними придворных, обошли всю площадь, но казалось, что польский король мало интересуется этими рыцарскими состязаниями. Они вскоре возвратились в помещения маркграфа, где могли, оставшись наедине, поговорить друг с другом. Казимир жаждал разговора. Карл живой и нетерпеливый, не умевший ни минуты оставаться без занятий, лишь только ввел своего гостя к себе в комнату, взял в руки кусок дерева и по привычке, усвоенной им с детства, начал его выпиливать.
Это было его любимым занятием, даже при гостях. Первая попавшаяся ему палка или кусок дерева служили ему для выпиливания часто довольно комичных и странных фигур.
Король глядел на него с удивлением; лицо Казимира теперь, когда они очутились вдвоем, выражало глубокую печаль.
– Маркграф, мой брат и друг сердечный, – произнес он, чувствуя необходимость излить свою душу, – вы знаете, как я дорожу мыслью породниться с вашим домом. Я мечтал об этом, еще не видевши Маргариты; теперь, узнав ее, я еще сильнее жажду этого счастья… Но… княгиня…
Карл быстро поднял глаза, устремленные на работу.
– Разве вы женщин не знаете? – отозвался он. – Они имеют свои странности, свои слабости, надо быть к ним снисходительным и многое им прощать. Маргарита недавно понесла большую потерю, лишившись ребенка. Имейте к ней снисхождение.
– Я желал бы с ней увидеться, поговорить, – произнес Казимир. – Она может быть предубеждена против меня, люди злы, и я мог бы ее разубедить и успокоить. Ведь она не так серьезно больна?
Карл, не оставляя работы, подошел к дверям и отправил своего маршалка к сестре предупредить ее о посещении жениха.
Маргарита к этому вовсе не была подготовлена; она не была одета и лежала в постели; при ней сидела старая Агнеса. Когда ей сообщили не просьбу маркграфа, а приказание, княгиня очень рассердилась на навязчивость Казимира, но, не смея противиться брату, должна была согласиться принять гостя; не говоря ни слова, лишь смерив гневным взглядом слугу, передавшего приказание брата, она позволила себя нарядить, отдав себя в руки своих камеристок.
Наскоро вынули платье, причесали волосы, принесли драгоценные вещи. Маргарита безучастно относилась к процедуре переодевания; затем она в нарядном костюме, вместо того чтобы ожидать гостя, сидя на кресле, молча и разгневанная легла на ложе, опираясь на руку.
Маркграф Карл ввел в комнату бледного Казимира. Свиту, окружавшую Маргариту, попросили удалиться в соседнюю комнату. Жених занял место против невесты. Вслед за ним несли драгоценные подарки, которые он привез с собой для Маргариты. Шесть молодых юношей, подобранных по красоте и по росту, в ярко-красных кафтанах, на которых были вышитые белые орлы герба Пястов, несли кованые ящики с приподнятыми крышками, так что видны были лежавшие внутри драгоценные вещи.
Казимир, взяв из рук первого вошедшего отрока самый красивый ящик, с улыбкой сложил его к ногам княгини. Юноши, преклонив колени, по очереди складывали у ног ее привезенные подарки. Все это вовсе не имело такого варварского вида и не похоже было на ту бедноту, о которой рассказывали Маргарите. Дрожа от волнения, не говоря ни слова, она с изумлением смотрела на драгоценные подарки.
Они действительно были достойны быть поднесенными королеве. Внутри ящиков, выбитых шелковыми тканями, искрились в дорогой, тяжелой оправе с эмалированными украшениями, огромные рубины, сапфиры, аметисты, смарагды, жемчуг различных размеров, белый и окрашенный в розовый цвет.
Вся эта роскошь не изменила настроения княгини; она слегка кивнула головой в знак благодарности, но не выказала никакой радости, не протянула руки, чтобы рассмотреть, и вообще не промолвила ни слова.
Маркграф Карл, вынув пояс из ящика, бросил его ей на колени, добавив в шутку, что она выздоровеет, если его наденет на себя. Драгоценный пояс соскользнул с ее колен и с шумом упал на пол. Никто его не поднял.
Казимир, видя подобное равнодушие, попеременно бледнел и краснел.
Маркграф полагал, что лучший способ сблизить обрученных – это оставить их наедине. Поэтому он удалился на самый конец громадной комнаты и остановился у окна, любуясь представившимся ему видом, освещенным майским утренним солнцем.
После удаления брата Маргарита в первый раз подняла глаза на Казимира, и взгляд ее остановился на нем именно в тот момент, когда он, уязвленный в своей гордости, сидел нахмуренный и разгневанный.
Хотя взгляд княгини не был ласков, однако моментально его расположение духа улучшилось. Нагнувшись к ней, он спросил ее о здоровье.
Княгиня задумалась над ответом, наконец, уста ее задрожали, и она резко произнесла:
– Я больна, вы это сами видите. Я буду болеть, – добавила она. – Я полагаю, что вам нужна другая жена… Вы вместе со мной введете в дом печаль и грусть.
– Я надеюсь, что у меня найдутся средства их рассеять, – произнес Казимир. – Я сделаю все, что вам сможет доставить удовольствие.
– Мне уж ничто не может доставить удовольствия, – сухо прервала княгиня.
– Позвольте мне питать надежду, что все это изменится, – произнес король.
– Это не может измениться, – возразила Маргарита.
Слова эти сопровождались отталкивающим взглядом.
Казимир покраснел, но не потерял самообладания.
– Быть может, – сказал он через секунду, – что мои враги очернили меня в ваших глазах и обрисовали мое королевство в самом плохом виде, поэтому вы почувствовали какое-то отвращение ко мне. Убедитесь сами, и вы увидите, что люди лгут.
Княгиня Маргарита гордо покачала головой и нетерпеливым движением ноги оттолкнула пояс, упавший на землю и лежавший у ее ног.
Она засмотрелась в окно, умышленно стараясь избегнуть устремленного на нее взгляда короля.
– Вы бывали в Венгрии, – отозвалась Маргарита язвительно. – Говорят, что там очень красивые женщины. Их должно быть много при дворе королевы Елизаветы?
Казимир, поняв намек, презрительно пожал плечами и старался улыбнуться.
– Однако, – прервал он, – красивее вас я не видел в своей жизни ни при дворе венгерском и ни при каком-либо дворе.
Королева ответила на этот комплимент насмешливой улыбкой.
– Я должно быть вам кого-нибудь напоминаю? – спросила она злобно.
Казимир, лицо которого после каждой такой колкости покрывалось алым румянцем, старался оставаться спокойным.
– Ваша милость, – произнес он, – подобных и равных вам – вовсе на свете нет.
– Вы вероятно научились от французских трубадуров льстить женщинам, – сказала Маргарита. – Простите мне, но я полагаю, что королю более подходит быть правдивым.
Король, сильно взволнованный и задетый, насупился. Голосом, дрожащим от обиды и огорчения, он произнес:
– Сударыня, я искренен, когда говорю вам, что вы моя единственная надежда на счастье. Будьте более сострадательны ко мне. Я могу вас уверить, что за вашу взаимность я всю свою жизнь посвящу вашему счастью.
При этих словах Казимир, встал, а маркграф, услышав движение, подошел к разговаривающим.
– Дадим Маргарите отдохнуть, – произнес он, опираясь на ее кресло, – пускай она постарается поскорее восстановить свои силы, чтобы быть в состоянии в день своих именин стать вашей женой… Потому что король, наш отец, назначил на этот день… Его воля, – добавил он с ударением, – должна быть исполнена.
Маргарита в ответ на это подняла глаза и гневно посмотрела на брата.
Казимир начал прощаться и протянул ей руку. Княгиня, после некоторого колебания с явным принуждением и отвращением, протянула ему белую, узкую, исхудавшую, холодную как лед руку, которую он поцеловал. Но лишь только он отвернулся, она поспешила ее вытереть о платье; маркграф Карл, заметив это, укоризненно пожал плечами.
В течение целого дня Казимиру не дали отдохнуть. Он был приглашен к королю Яну к обеду, во время которого балагурили шуты, затем отправился осматривать город, сделал визит епископу, присутствовал на турнире и на скачках; вечером развлекались рассказами о рыцарстве во Франции и Италии и разными играми. Казимир очень поздно возвратился в отведенные ему покои.
Он там застал своих придворных и старцев, которых он тотчас же удалил, а также ожидавшего его Кохана. Король торопился поговорить со своим наперсником, который старался показать веселое лицо, не желая, чтобы другие заметили, сколько неприятного ему пришлось в этот день услышать.
В этот день, в числе других, к Кохану подошел Пеляж, воспользовавшийся своими сношениями с Венгрией и знакомством с королевой Елизаветой, выказавшей ему свое расположение, чтобы под предлогом передачи от нее поклона Казимиру, выведать от приближенных о его намерениях, а может быть и для того, чтобы исполнить какое-нибудь секретное поручение.
Кохану вовсе в голову не пришла мысль о возможности измены.
Пеляж искусно разыграл роль усердного слуги семьи Казимира, приятеля и доверенного.
Он исподволь начал соболезновать и бедному королю, достойному, по его мнению, лучшей участи, а не получить в жены больную и тоскующую вдову, которую ему навязывали.
– Ваш король лучше всего сделал бы, – добавил он, – если бы постарался отложить венчание. Даже если бы пришлось за это заплатить Яну дорогой ценой. Эта жена ему не принесет счастья.
Кохан молча его выслушал.
– Этот совет запоздал, – произнес он после некоторого размышления, потому что мы прибыли на свадьбу. Вино налитое в бокал, надо выпить.
– Я знаю, – вставил Пеляж, – другую поговорку, которая гласит, что от кубка до рта расстояние велико.
Ловкий и искусный собеседник долго говорил обиняками, стараясь что-нибудь выведать от Кохана, но, видя, что придворный как будто дал обет молчания и что он от него ничего не добьется, Пеляж распрощался с ним, расточая уверения в своей любви.
В продолжение дня Кохана с разных сторон угощали не особенно приятными известиями. Под вечер Житка сообщила, что княгиня чувствует себя хуже и вследствие неожиданного озноба должна была лечь в постель.
Поэтому на вопрос Казимира о том, что слышно, фаворит пожал плечами.
Король был огорчен и печален, а Кохану нечем было его утешить. Он начал оживленно болтать о том, что время все изменит и что нет повода отчаиваться.
– Так и ты видишь причины, из-за которых следует беспокоиться? – спросил король. – Не правда ли? Нам не следует ничего предпринимать! Предсказание старой колдуньи напоминает о себе.
Казимир задумался, свесив голову и опустив руки.
– Еще ничто не потеряно, – произнес он, вооружаясь мужеством. – Если б только удалось обвенчаться и увезти королеву в Краков, тогда развеялась бы вся ее печаль.
– А не лучше ли было бы, – робко ответил любимец, – отложить свадьбу, не торопиться с ней? Может быть лучше обождать?
Король сделал отрицательный жест.
– День назначен, – воскликнул он, – на нем настаивают и его не отменить. Княгиня хороша, как ангел; я ее люблю, и она должна быть моей!
Слова эти вырвались у него с такой силой, что Кохан принужден был замолчать.
На следующий день возобновились турниры, а Маргарита все еще была больна. Королевский врач не отходил от нее, хотя ничего опасного не предвиделось. Развлечения шли своим чередом, и они были очень пышные, потому что король Ян хотел ими загладить общее грустное настроение, вызванное болезнью его дочери.
Польский король принужден был казаться спокойным, но на душе его скребли кошки.
Известия, приносимые Коханом, который в течение дня под разными предлогами находил возможность приблизиться к Казимиру и секретно шепнуть ему несколько слов, становились с каждым разом все тревожнее.
Болезнь, казалось, прогрессирует и становится опасной; при дворе нельзя было еще об этом говорить. Но маркграф Карл и жена его Бьянка были обеспокоены, огорчены и тщательно старались скрыть свое беспокойство.
На следующий день Маргарита впала в бессознательное состояние, и испуганный врач дрожащим голосом доложил королю, что средства его истощились, что княгине угрожает опасность и что осталось лишь одно – обратиться с просьбой и с молитвами к Всемогущему, Всесильному, располагающему жизнью и смертью.
Король Ян, ставший после потери зрения, более набожным, чем раньше, задрожал и заломил руки. Он велел себя отвести к ложу дочери; но она не узнала его.
Маркграф Карл, с изменившимся лицом, пришел сообщить Казимиру печальную новость.
Король вовсе не предполагавший, что какая-нибудь опасность угрожает Маргарите, онемел от отчаяния и закрыл лицо руками.
– Я самый несчастный человек! – воскликнул он. – О, Боже мой! Почему ты меня так строго наказываешь за мои грехи?
Тщетно маркграф Карл старался его успокоить.
В этот день все игры, забавы, состязания, все было прервано. При дворе воцарилась глухая, зловещая тишина.
Епископ Ян из Дражниц приехал из Нового Места вместе с духовенством и предложил королю в течение четырнадцати дней служить молебствия с процессиями с хоругвями об исцелении больной и об избавлении от тяжкого несчастия, грозившего королевской семье.
Приказания уже были отданы; во всех костелах звонили в колокола; веселый город внезапно преобразился и погрузился в печаль. Народ начал тесными толпами валить в костелы, в часовни; духовенство со знаменами, с крестами, с пением вышло из Вышеграда, из костелов Святого Вита Пресвятой Девы, Святого Николая.
Казимир, вместе со своим двором отправился пешком в костел при замке, послав предварительно крупную сумму денег духовенству, как вклад в костел.
Неописуемая тревога охватила всех. Несчастие нагрянуло неожиданно, и переход от вчерашнего веселья к молебнам о здравии больной производил ошеломляющее впечатление. Люди видели в этом перст Божий, наказание за вину старого, ослепшего Яна, нагрешившего столько в своей жизни.
Призванные врачи не подавали никакой надежды. Больная все время бредила, температура поднималась. Она не узнавала людей, говорила, плакала, кричала, срывалась с постели, жаловалась, а воспоминания о прошлом и настоящее так перепутались в ее голове, что покойный муж, жених, ребенок, и история Амадеев, картины страшных мучений – все переплелось и вызывало страшные видения; мучимая и преследуемая ими она издавала отчаянный, пронзительный крик, так что служанки, окружавшие ее ложе, полагали, что она впала в безумие.
После таких вспышек наступала слабость, бессилие и, казалось, что жизнь уже прекращается, но мучения вскоре возобновлялись с той же силой.
Эта болезнь вызвала беспорядок и замешательство при дворе короля Яна, несмотря на то, что там всегда были образцовый порядок и благоустройство. Слепой король то впадал в ярость и возмущался против судьбы, то погружался в угнетавшие его мысли, предаваясь самобичеванию. Совесть его упрекала в том, что он своим упорством вызвал болезнь и будет причиной смерти дочери.
При Казимире находился все время маркграф Карл. Он старался его утешить мыслью, что здоровый организм преодолеет болезнь, что молитвы духовенства, процессии, обеты, вклады в костелы, все это должно помочь.
В действительности, по приказанию епископа во всех монастырях начались беспрестанные молебствия об излечении недуга княгини, и народ, прибывший с разных концов в город, чтобы поглядеть на свадебное торжество, встретил вместо этого страшную печаль.
Все храмы были переполнены, колокола звонили, усиливая тревогу и беспокойство.
В то время, когда вокруг ложа больной столпился весь женский персонал во главе с маркграфиней Бьянкой, а на столе, возле больной, были расставлены Святые Дары, Казимир сидел один или вместе с молчаливым слепым отцом, скорбя и печалясь.
Постоянно преследовавшая его мысль, что страшное предсказание воплотится в действительность, угнетала его мозг и внушала ему суеверный ужас. Судьба его преследовала. В ушах его раздавалось страшное, грозное, напоминавшее о мести, незабываемое имя Амадеев.
Кохан, видевший его мучения, молча стоял и глядел на Казимира, не смея с ним заговорить. Но он ждал напрасно. Король был так погружен в свои мысли, что никого не видел. Великая радость и надежды, воодушевлявшие его, когда он торопился поскорее приехать сюда, все это пропало, и все его счастье было разбито.
Иногда прибегали к нему с хорошими утешительными известиями, что княгиня отдыхает, спит, что болезнь как будто слабее становится, и он вновь начинал надеяться на лучший исход.
Господь сжалился, молитвы были услышаны. После сна княгине стало легче. Король Ян послал об этом сообщить от своего имени Казимиру, но с этим же известием поспешил маркграф, пришли и другие послы. Все, казалось, ожили.
Но это улучшение продолжалось недолго; хотя в последующие дни лихорадочные проявления уменьшились и не были такими грозными, но слабость увеличивалась, силы истощались, и врачи не предсказывали ничего хорошего.
В храмах служба не прекращалась.
Казимир, несмотря на то, что ему не советовали и не хотели его допускать к больной Маргарите, из боязни, что вид ее произведет на него тяжелое впечатление, настаивал так упорно и так упоминал о своих правах, как жених, что маркграфиня Бьянка взяла его с собой.
В темной, низкой, сводчатой комнате с завешанными окнами, освещаемой лампадами, горевшими перед иконами, и редкими лучами света, прокрадывавшимися через занавески, лежала на ложе, окруженная стоявшими и коленопреклоненными женщинами, бледная Маргарита, изменившееся лицо которой указывало на внутренние страдания. Глаза ее то раскрывались и неподвижно устремлялись в одну точку, ничего не видя, то закрывались, как будто она засыпала. Но этот сон не был отдыхом. Она беспокойно металась на постели, конвульсивно хватаясь белыми руками за одеяло, которое сиделки каждую минуту поправляли.
Ее бледное лицо по-прежнему было благородно, красиво, но страдание наложило на него свою печаль, и оно вызывало к себе жалость.
Один из придворных духовных сидел у распятия, читая молитвы и ожидая момента, когда больная придет в сознание, чтобы ее напутствовать.
Казимир, следуя за Бьянкой, тихонько подошел к самому ложу. Больная, как бы почувствовав его присутствие, широко раскрыла глаза, из уст ее вырвался слабый возглас, и она стремительно повернулась на другую сторону ложа.
Король побледнел.
Они стояли в ожидании какого-нибудь утешительного знака.
Бьянка расспрашивала женщин, которые вместо ответа заливались слезами…
Вскоре послышался ослабленный голос больной. Она говорила, как бы задыхаясь, отрывистыми словами.
– Я не хочу… я не хочу… снимите с меня перстень… отнесите подарки… Я умру здесь, меня не повезут… кровь… кровь…
На короля это произвело столь сильное впечатление, что он не мог ни минуты больше остаться… Он вышел оттуда, как слепой с затуманившимися глазами, с сокрушенным сердцем, ничего не слыша, не говоря ни с кем ни слова, он скрылся в своих комнатах…
Вечером он вместе со своей свитой отправился в костел Святого Вита, чтобы присутствовать при богослужении. Он по-королевски вознаградил причт, служивший молебен об исцелении Маргариты.
Наступила ночь – ночь молчаливая, но бессонная для всех. Король Ян не ложился, посылая чуть ли не ежеминутно узнать о здоровье дочери. Кохан приносил известия Казимиру. Маркграф Карл приходил его утешать. Во всех костелах светились огни и совершались богослужения.
На следующий день при восходе солнца со всех колоколен старой и Новой Праги, в Вышеграде и в Грозде раздались похоронные жалобные звуки. Это был день святой Софьи, прекрасный, весенний, майский, солнечный день, а Маргариты уже не было в живых.
До последней минуты ужасом пораженный отец и исстрадавшийся жених надеялись на какое-нибудь чудо. Когда страшное известие о смерти княгини разнеслось по замку и плач женщин всего двора и челяди донес о случившемся несчастье, король Ян упал на колени, всхлипывая. Сын должен был поднять отца…
– Проводите меня к нему, – воскликнул старик, превозмогая боль, – он так же, как и я должен чувствовать этот улар…
Отец и брат Маргариты вошли в комнату Казимира и нашли его в отчаянии, так как он только что узнал о кончине возлюбленной. Взволнованный и разгоряченный, он с рыданиями припал к коленям старца…
– Ты, которого я называл своим отцом, – сказал он, – и которого я и теперь хотел бы иметь своим отцом, ты один поймешь мое горе. Маргариты нет более! С ней вместе погибли все мои надежды, все мое счастье рухнуло, а также будущность моего рода!
Старый король и сын его расчувствовались и, сами страдая от понесенной потери, начали обнимать и целовать Казимира.
Маркграф больше всех остальных сохранил спокойствие и не предавался такому сильному отчаянию. И он сожалел этот чудный цветок, подкошенный во цвете лет, но обязанности и требования жизни заставляли его заняться делами, так как он один лишь владел собой…
Старый Ян, этот неустрашимый герой, неоднократно с редким мужеством подвергавший свою жизнь опасности, был расслаблен и бессилен.
Казимир, хоть и во цвете лет, но столько переживший и исстрадавшийся, согнулся под этим ударом, видя в нем не только потерю невесты, но и страшную угрозу для будущего. Помимо его воли страх заставил его говорить…
– Отец мой, – произнес он, обнимая стонавшего старика, – отец мой, сжалься надо мной. Какое-то незаслуженное проклятие висит над моей головой, я должен буду умереть последним в роде, и мое государство перейдет в чужие руки…
– Нет, – возразил старый Ян, которого сын заставил сесть, опасаясь, что после стольких страданий и бессонных ночей ему не хватит сил, – нет! Ты меня назвал отцом, я им хотел быть и хотел отдать за тебя собственную дочь; Господь воспротивился моим лучшим желаниям, но я не отказываюсь от звания отца и от обязанностей, возлагаемых этим званием.
При этих словах в разговор вмешался маркграф Карл.
– Брат мой, потому что и я не отказываюсь быть твоим братом, – дай пройти первому горю… Я и отец мой, король, мы оба постараемся выискать тебе жену… Мы тебя женим… Ты опровергнешь все неразумные и злобные предсказания… Мы не допустим, чтобы твое королевство…
В этот момент его прервал старый Ян и быстро начал:
– Карл хорошо говорит… пусть нас соединит это общее горе… поклянемся быть братьями… Я и Карл отыщем тебе жену.
Казимир схватил руку Яна.
– А я памятью этой дорогой покойницы, которую мне никто не заменит, клянусь вам, что приму из вашей руки невесту, которую вы мне выберете… Она будет новым звеном между мною и вами.
Таким образом, при еще неостывшем трупе маркграф Карл забросил удочку, необходимую для его политики, которая должна была поддержать связь между Польшей и Люксембургским домом.
Казимир дал свое согласие, слепо доверяя и находясь под тяжким впечатлением предсказания и страха, что он умрет, не оставив наследника. Дочь, оставшаяся у него после смерти Альдоны, не могла возложить на свою голову корону, для защиты которой необходима была сильная, мужская рука.
Вместо предполагавшегося радостного свадебного обряда был совершен печальный похоронный обряд. Казимир проводил останки невесты до королевского склепа в Збраславе.
После похорон они еще раз обещали друг другу быть верными союзниками и друзьями, а король Ян и Карл торжественно обязались найти для Казимира новую невесту.
Прощание было очень трогательное и дружеское, но польский отряд, приехавший в Золотую Прагу с весельем, шумом и триумфом, уезжал оттуда на рассвете, втихомолку, сопровождаемый печальным маркграфом Карлом, одетым в траур.
Все отнеслись с большим сожалением к королю Казимиру. Хотя он отыскал мужество и силу духа после того, как прошел первый взрыв отчаяния, однако глубокая печаль сделала его безучастным ко всему.
Он возвращался равнодушный, ничем не интересуясь, погруженный в свои мысли, позволяя себя везти.
В таком состоянии его нашел вечером, во время первого ночлега на чешской земле, его любимый наперстник ксендз Сухвильк Гжималита, который провожал его в ту сторону до Праги.
Это был один из самых серьезных и ученых духовных своего времени, человек безупречный, рассудительный, очень привязанный к Казимиру, который ему платил за его любовь полным доверием. Подобно своему дяде, архиепископу Богория, Сухвильк воспитывался за границей, в Болонье, Падуе, а в Риме закончил свое образование и кроме мертвой теории привез с собой жизненные практические сведения обо всем, в чем его собственная страна нуждалась.
Как человек сильный духом, умевший говорить правду и никогда не унижавшийся до лести, он был очень ценим королем. Казимир его уважал и часто слушался его. При первом взгляде на него было видно, что это человек неустрашимый, энергичный; одной своей фигурой он внушал уважение.
Сухвильк, войдя в комнату, в которой сидел Казимир, погруженный в свою печаль, раньше чем подойти к нему, на секунду остановился, разглядывая его.
Королю стало неловко, что Сухвильк застал его в таком состоянии, указывавшем на его слабость, и он поднялся к нему навстречу, принуждая себя улыбнуться. Кохан, стоявший у порога, почувствовав себя лишним, скрылся.
Они остались вдвоем. Прошло некоторое время в глубоком молчании.
– Милостивый король, – произнес Сухвильк, смерив Казимира своим спокойным взглядом, – не надо так поддаваться горю, хотя оно и чувствительно. Но такова уже участь человеческая; все на свете изменчиво и нет ничего вечного. Это Господь посылает испытания.
После этого предисловия Сухвильк начал медленно:
– Люди, которые живут исключительно для себя, могут свободно отдаваться своим огорчениям и предаваться скорби, но не вы и не мы. Духовные и короли – сыны Божьи. Императоры держат в своих руках судьбы государств… Вас, ваше величество, ждет работа… Страна забыта, а дела много, и вас ждут… Вам не подобает проливать слезы над личными невзгодами.
У Казимира глаза заблестели, и он начал слушать со вниманием. Ксендз, оживившись, продолжал:
– Всемилостивейший государь… Подумайте только о вашем народе, вверенном вашему попечению, и ваше горе покажется вам менее острым и менее давящим.
– Отец мой, – отозвался Казимир, – вы правы, но есть страдания, которые выше человеческих сил…
– Силы вызываются собственной волей, и это зависит от самого человека; надо себя лишь в руки взять, – произнес Сухвильк.
– Войдите в мое положение… Это страшное предсказание, что я буду последним в моем роде! – шепнул Казимир. – В тот момент, когда я полагал, что освободился от всех предчувствий, когда у меня появилась надежда…
– Но надежда не потеряна, – произнес энергично духовный. – Предчувствия и предсказания – это искушения сатаны. Господь редко открывает будущее, а если Он это делает, то через уста людей посвященных и достойных. Но вы, как король, если б даже это предсказание исполнилось, можете оставить после себя нечто большее, чем потомок и целое потомство, – плоды ваших трудов и славную память о ваших великих деяниях, которые продержатся дольше, чем ваш род.
Король взглянул на него с оживлением и с любопытством.
– Что же я могу сделать? – спросил он печально.
– Тут, у нас в этой Польше, кое-как составленной из кусков, благодаря оружию вашего отца? – возразил Сухвильк напирая на эти слова. – Вы меня спрашиваете, что вам предпринять? Ведь человеческой жизни не хватит, чтобы совершить все, что здесь нужно! Ваше величество, вы видели Прагу, как она пышно расцвела и возвысилась, а разве мы не могли бы и не должны были бы иметь такие города? Все у нас запущено, заброшено! Какие же у нас замки?.. Точно деревянный хлам, приготовленный как топливо! Школ у нас мало, страна стоит наполовину пустая, населения в ней слишком мало, необходимо его привлечь…
Казимир слушал, понемногу оживляясь.
– Наконец, ваше величество, где же наши законы? – добавил капеллан. – В других странах они писаные, а у нас каждый судья по-своему судит, руководствуясь старыми обычаями. Разве это единое королевство, где нет писаных законов, где много обычаев и каждый писарь отмечает их для памяти, как ему заблагорассудится, а затем его пачкотня служит сводом законов. Разве это допустимо, что наши мещане, недовольные приговором наших судов, обращаются с апелляцией в Магдебург, к чужой власти.
Сухвильк, бывший одинаково искусным теологом и законоведом, заговорив на эту тему, невольно увлекся.
Он сам вскоре заметил, что теперь не время перечислять королю все подробности, а потому перевел свою речь на другое.
– Ваш отец воевал, – произнес он, – а вы должны строить и управлять. Разве это нам не больно слушать, когда чужестранцы, рассказывая о нашем крае, называют его диким, варварским, некультурным, наполовину языческим? Разве нам не должно быть стыдно, когда нас упрекают за наши неудобные и опасные пути сообщения? Промышленность у нас не развита и мы все должны покупать у чужих…
Казалось, что Казимир забыл о своем горе.
– Отец мой, – прервал он, – ты лучше всех знаешь, потому что я неоднократно говорил тебе о моих заветных мечтах и о том, что я всеми силами стараюсь сохранить мир, для того чтобы дать возможность бедному люду безопасно поселиться, устроиться и разбогатеть! Я страстно желаю того же, что и вы, но как это все сразу сделать?
– Как? – воскликнул Сухвильк. – Надо начать с самого необходимого! Вы дали отдохнуть опустошенной стране и этим оказали ей большое благодеяние. Теперь обсудим, что нужно сделать, и возьмемся за работу.
Король задумался.
Видно было, что Гжималита ловко сумел отвлечь его мысли от воспоминаний, мучивших его. В Казимире вновь ожило то, что его больше всего интересовало в молодости, а именно желание поднять страну и поставить ее наравне с другими европейскими государствами.
– Что же самое необходимое? – спросил он.
Сухвильк, взглянув на него, ответил:
– Материальное обеспечение и зажиточность даст люду покой, – а затем что больше всего необходимо стране?..
Казимир легко мог отгадать затаенную мысль говорившего, зная, о чем он болеет душой.
– Справедливость, – произнес он нерешительно.
– Да, именно так, – возразил обрадованный Сухвильк, – вы можете оставить Польше незабываемое наследство. Дайте ей законы!
Казимир, оживившись, поднялся со своего места.
– Хорошо, – произнес он, – но вы будете моим помощником в этой великой работе. Она будет для меня утешением…
Король смолк. Ксендз продолжал разговор, видя в нем хорошо действующее лекарство.
– Писаных законов у нас почти что нет, – произнес он. – Все, что собрано, составлено по устным рассказам и передано по традиции, не сходится одно с другим; нужно все это сгруппировать, соединить в одно, чтобы были одинаковые законы для всех, как и один король для всех…
Казимир бросился его обнимать.
– Помоги мне, – воскликнул он, – помоги! Необходимо, чтобы законы защищали интересы бедного люда, чтобы они взяли под свое покровительство крестьянина. Я дал свое слово умирающему отцу, что буду действовать в интересах крестьян. Спаситель пострадал за этот люд, так же как и за нас, и заплатил Своею кровью.
Таким разговором Сухвильк занял короля до ночи. На следующий день он снова завел с королем беседу на ту же тему. Казимир охотно говорил о деле, близком его сердцу и удовлетворявшем его желание оставить по себе хорошую память.
Так они доехали до Кракова. Казимир, вспомнив о том, как он, уезжая из столицы, надеялся возвратиться счастливым в сопровождении молодой супруги, снова почувствовал всю горечь пережитого. Он велел остановиться на дороге, чтобы ночью украдкой прямо пробраться в Вавель… к своей сиротке, которой он обещал привезти мать.
Бывают удары судьбы, которых нельзя избегнуть.
У ворот города Казимир поднял глаза на быстро промчавшегося мимо него рыцаря, который, казалось, убегал от него. Перед ним мелькнуло бледное лицо, вьющиеся волосы, и перед его глазами снова пронеслись окровавленные, изрубленные тела.
В промчавшемся всаднике король узнал Амадея!..
Навстречу Казимиру никто не выехал, потому что он это запретил. Лишь на пороге он встретил преданного ему Николая Вержишка, который молча низко склонился перед ним.
Они взглянули друг на друга; верный слуга прочел в глазах своего пана печальную историю этого путешествия, закончившегося похоронным колокольным звоном.
Часть вторая. Вядух
В Пронднике под Краковом жил давно поселившийся там мужик Алексий; люди его попросту называли Лексой, прибавив к этому имени прозвище Вядух[6]. Оно означало, что Лекса все знает и не даст себя провести.
Мужик был состоятельный, но не хотел в этом признаться, не кичился своим богатством, не называл себя землевладельцем и, наоборот, с некоторой гордостью повторял, что он крестьянин по происхождению от прадеда.
Он и одевался так, чтобы не ввести никого в заблуждение и чтобы его не приняли за иного, чем он был. И шапка его и кафтан были такие же простые, как обыкновенно носил народ, и вместо оружия он употреблял палку и обух.
Несмотря на то, что убогие мужики низко снимали перед ним шапки и многие деревенские старосты приветствовали его, как брата, Вядух, по своему характеру, охотнее всего имел общение с людьми маленькими, защищая их, называл их своими и терпеть не мог тех, кто их обижал.
Вид его был непредставительный. Маленького роста, коренастый, полный, с загоревшим, сморщенным, с грубыми чертами лицом, он при своем безобразии был очень умен, и всякий замечал светящийся в его глазах ум.
Вядух, прозванный так, потому что обо всем знал, никогда нигде не обучался, а всю свою премудрость почерпнул – как он говорил, – в лесу; в действительности же из уст людей, к которым она перешла от дедов и прадедов.
Никто лучше его не знал всех старых обычаев страны, преданий, песен и законов, которые устно передавались от поколения к поколению.
Если у кого являлось какое-либо сомнение, то первым делом обращались к Вядуху. Одного его слова было достаточно, и не было надобности спрашивать у других, так как никто более не спорил.
В хате было лишь самое необходимое, ибо Лекса старательно следил за тем, чтобы все соответствовало потребностям мужика и не превышало их, а потому она имела такой бедный вид, что никто не мог бы догадаться о зажиточности хозяина.
Вядух всегда говорил, что зверя бьют из-за шкурки и что умный человек не кичится своим богатством.
Он сбрасывал свою старую, заплатанную сермягу лишь тогда, когда отправлялся в костел, или в большие праздники, когда дело шло о воздании хвалы Господу Богу.
Жена его, немолодая уже женщина, выбранная им по расчету, названная при святом крещении Марией, а впоследствии молодой девушкой называвшаяся Марухной, состарившись, стала ворчливой и придирчивой; так как она была искусной хозяйкой, то ее прозвали Гарусьницей.
Вядух постоянно с ней спорил о чем-то, они ссорились, но очень любили друг друга, и один без другого жить не могли. Вначале Господь дал этой паре сына, которого приходский священник, совершивший над ним обряд крещения прозвал Марцином. Когда он был маленьким, его называли уменьшительным именем – Цинком; так как он был дородный, статный, пригожий – не уродился в отца, – то люди прозвали его Цярахом, и это имя осталось за ним.
У них была младшая дочь, красивая девушка, но не особенно рослая и сильная, что очень огорчало мать; ее звали Богной, но тогда было принято и в деревнях и в домах шляхты придавать к имени, данному при крещении, добавочное, и ее прозвали Геркой. Оно означало на ее родном языке то же самое, что и ее крестное имя Богна.
Вядух, имевший большое хозяйство, с которым ему одному с сыном было не справиться, хотя оба с утра до вечера прилежно работали, имели у себя батрака, которого он будто бы купил у жида, но с которым он обращался вовсе не как с невольником, несмотря на то, что в то время было много невольников; были взятые в плен во время войны, были и попавшие в неволю за неуплату долгов.
Хотя старый чудак говорил, что подобно тому как вол вола не может купить, так и человек человека – однако он его очень стерег и не давал ему отдыха, но кормил его хорошо.
У старика было много своих собственных поговорок, а когда дело касалось труда, то он повторял:
– Есть ты хочешь? Правда? Для этого ты должен работать! Когда у тебя пропадет охота к еде, тогда ты будешь отдыхать.
Вядух был известен своими поговорками, а так как он был болтлив, то готов был сказать одно и то же духовному лицу, кастеляну, воеводе и мужику.
Когда его спрашивали, не боится ли он кого-нибудь, он отвечал:
– Конечно! Господа Бога!
Никто не удивляется тому, что рыцари не моргнув глазом идут на войну, на смерть – это их обязанность; но и Вядух не боялся смерти и никакой опасности.
Его дерзости ему как-то сходили с рук, однако его несколько раз привлекли к ответственности, и он должен был таскаться по судебным инстанциям. Он всегда умел себя защитить, не прибегая к адвокату, благодаря своей изворотливости.
Вядух владел несколькими ланами[7] земли, которые, как он уверял, уже несколько веков тому назад принадлежали его предкам; однако Топорчик Неоржа, ставший впоследствии сандомирским воеводой, земли которого были по соседству, утверждал, что эти ланы принадлежат ему, что они были отданы мужику в аренду, что он должен был за них платить деньгами и натурой или же исполнять некоторые повинности.
Все вместе взятое не особенно много составляло для Вядуха, и несмотря на то, что он землю считал своей собственностью, он платил Неорже и с ним не судился.
Он, в сущности, мог бы легко найти в другом месте землю обработанную или нетронутую и взять столько, сколько бы захотел, и мог бы уйти отсюда, но ему жаль было оставить поля, на которые столько трудов было потрачено, отцовский дом, к которому он привык. Он говорил, что он слишком стар, чтобы испробовать новое счастье, и хотя он не любил Неоржу, однако не трогался с места.
С гордым и жадным Топорчиком, с его войтом и экономом не всегда легко было ладить; однако Вядух, хоть и немало от них терпел, все-таки всегда ускользал из-под их власти. Иногда смеясь, он говорил, что со временем Неоржа будет подвергнут церковному отлучению за свою дерзость и что тогда он без всякого спора оставит его землю.
Самого Топорчика он редко видел, много о нем слышал, знал его хорошо, но избегал встречи с ним и умел жить в согласии с его служащими.
Вообще хотя он и смело говорил и никому спуска не давал, он избегал ссор и судов и не любил судей.
Хозяйство его было в лучшем состоянии, чем у других, у него было много домашнего скота, а так как на рынке все быстро и легко продавалось, то у Вядуха водились деньги, несмотря на то, что приходилось платить Неорже, подкупать чиновников, уплачивать костелу десятинный сбор.
Так как он сам был очень трудолюбив и мастер на все руки, то он и детям не позволял быть праздными. Сын должен был его постоянно сопровождать, и если он его посылал одного в город, то отец приказывал ему не терять времени и быстро возвратиться обратно; дочка пряла, ткала, шила и помогала матери. Он не мог жаловаться на детей; они были у него удачные. Цярах был дельный малый, а Богна, хоть ростом и обиженная, совсем похожая на ребенка, была красива, жизнерадостна и трудолюбива.
Однажды вечером (дело происходило осенью) Вядух, возвратившись с поля, вместе с батраком и сыном, остановился возле своей хаты, на пороге которой его сопровождала Гарусьница, начавшая его в чем-то упрекать; в то время на дороге появился человек на вид лет тридцати с лишним, скорее молодой, чем старый, ведший под уздцы хромую лошадь.
Он был одет, как обыкновенно одевались зажиточные дворяне, очень опрятно, и по костюму видно было, что он возвращается с охоты.
Вид у него был усталый, а так как конь еле двигал ногами, то он остановился у ворот, присматриваясь к хате, как бы раздумывая о том, может ли он здесь найти временный приют.
Старый Вядух, Цярах, батрак Вонж и Гарусьница – все повернулись в сторону путника, разглядывая его с любопытством.
Лицо, хоть и барское, очень понравилось Лексе, который никогда не торопился подойти к тому, кто на первый взгляд ему не нравился.
– Гей! Я голоден и устал, – произнес стоявший за забором, – не дадите ли вы мне поесть и немного отдохнуть? Я вам хорошо заплачу…
Вядух подошел к нему с приветствием, согласно обычаям, но по-своему, без излишней униженности. Мужик был в хорошем расположении духа.
– И без платы, – произнес он, – я не прогоню голодного от своего порога. Но, сударь мой, как я это вижу по вашему лицу и по вашей одежде, вы не привыкли отдыхать в дымной хате и есть деревянной ложкой из глиняной миски.
– О, – добродушно рассмеялся стоявший по ту сторону забора, – голод – не тетка, и голодный не рассматривает качество посуды, а уставший рад чердаку и всякому ложу.
Вядух обратился к старой Гарусьнице.
– Ну, жена! – произнес он, – не осрамиться бы тебе! Есть у тебя чем накормить такого пана?
Насколько Вядух скрывал свою зажиточность, настолько Гарусьница любила ее выставлять напоказ. К тому же она часто старалась поступать ему наперекор.
– Но, но, – произнесла она, – не черни собственного хозяйства… Я не осрамилась бы, даже если б сам Неоржа неожиданно пришел бы к нам к ужину.
Услышав название Неоржи, путник спросил:
– Неоржа! А откуда вы его знаете?
– Как же мне его не знать, – возразил Вядух, – ведь он упорно называет себя моим паном, хотя я этого не признаю, потому что я свободный крестьянин; однако бороться с ним мне тяжело.
Говоря это, старик раскрыл ворота, и путешественник вошел во двор, ведя за собой хромавшую лошадь. Цярах тотчас же принял коня, потому что ему жаль было прекрасной лошади, подобной которой он еще никогда не видел; приподняв больную ногу, он начал ее разглядывать. После короткого осмотра он искусно, без всякого инструмента, вынул из ноги острый шип и радостно воскликнул:
– Ничего с ней не станется, придется лишь жиром замазать.
Путник с любопытством присматривавшийся к этой операции, радостно воскликнул:
– Большое вам спасибо! Я очень люблю эту лошадь и мне не хотелось бы видеть ее калекой.
Они вошли в избу. Вядух его вел, и путник медленно шел, оглядываясь по сторонам, как будто он в первый раз в жизни зашел в деревенскую хату.
Он останавливался, разглядывал и хотя не расспрашивал, но видно было, что все это ему казалось очень странным. Хата Вядуха так же, как и он сам, ничем не отличалась от обыкновенных крестьянских изб; лишь мебель в ней была более чистая, из крепкого материала, прочно сделанная, целая и не ветхая.
Кругом стен были расставлены скамейки, как в господских домах; в одном конце комнаты стоял стол, в другом была печь, а вместо пола была твердо утоптанная земля. У дверей, как и у других крестьян стояло ведро со свежей водой и с ковшиком; на полках стояла посуда и горшки, затем ложки, кувшины и деревянные кубки, окрашенные в красный цвет. На столе лежала краюха свежего хлеба, при нем нож и серая соль крупными кристаллами, потому что такая соль в те времена считалась самой лучшей и наиболее экономной.
В этот момент еще ничто не было готово, но огонь был разложен, и кругом все стояли горшки. Гарусьница направилась прямо к ним. В доме были яйца, солонина, простокваша, сметана, был и мед в сотах и свежий хлеб. Наконец, в доме было и пиво не кислое, а разве того недостаточно для голодного путника?
Войдя в избу, путешественник снова начал оглядываться, а Вядух не спускал с него глаз. Когда он, наконец, насмотревшись вдоволь, уселся на скамейке, хозяин занял место не рядом с ним, а поодаль. Мы уже выше упоминали о том, что Вядух в этот день был довольно весел и так как он всегда любил поболтать, то и на сей раз дал волю языку.
Подобно тому как путник присматривался к хате, Вядух разглядывал его самого; ему хотелось бы знать, что за человек – его гость. Видно было, что это человек богатый – можно было предположить, что это дворянин, но ведь и некоторые мещане одевались по-барски.
Путешественник, улыбнувшись хозяину и приветливо кивнув ему головой, довольно неловко, – видно было, что человек непривычный, – отрезал кусок хлеба и, посыпав его солью, начал жадно есть.
– Позвольте вас спросить, – спросил вежливо хозяин, – вы издалека, милостивый государь?
Гость указал в сторону Кракова.
– Из Кракова, – произнес он.
– Должно быть здешний землевладелец? – возразил Вядух.
– Нет! – ответил спрошенный, покачав головой.
Лекса удивился и подумал, что перед ним находится какой-нибудь чиновник.
– Конечно, это не мещанин… пробормотал он, – это видно.
– Да, – рассмеялся спрошенный, – это правда, что я не мещанин, однако я из города…
Он очевидно не хотел сказать, кто он, и Вядух решил его оставить в покое. Он знал, что это не землевладелец, и этого было с него достаточно.
– А как вам тут живется? – спросил в свою очередь гость. – Много ли повинностей на себе несете? Платите ли вы что-нибудь Неорже? Это ведь человек падкий на деньги?
– Вы его знаете, – со смехом сказал Вядух, – но, милостивый государь, кто же из них лучше? Всякий хотел бы чужими руками жар загребать. И не удивительно, ведь потребности у них большие. Откуда же они имели бы эту красивую одежду, экипажи, наряды, драгоценные вещи, хороший стол и заграничные напитки?
Путник слушал с любопытством, и казалось, что он забыл о еде. На устах его появилась улыбка.
– Как вас зовут? – спросил он.
– При святом крещении меня назвали Лексой, но непочтительные люди прозвали меня Вядухом… – Он пожал плечами, – Вядух! Пускай будет Вядух!
– Хозяйство хорошо идет у вас? – продолжал расспросы гость.
– Разно бывает, – сказал мужик доверчиво. – Нужно много трудиться, потому что приходится много работать не только на себя и на детей, но и на град, и на бурю, и на воров, и на пана Неоржу, и на ксендза… Все живут нашими трудами.
– Такова уж судьба, мой друг, – выслушав, ответил прибывший, – но вы проливаете пот, а другие, защищая вас, проливают свою кровь.
Вядух от всей души рассмеялся.
– Но и наша кровь проливается, – произнес он, – и не раз… Не нам переделать порядки, Богом установленные…
Он махнул рукой.
– Однако вы не голодаете? – продолжал расспрашивать любопытный гость, присматриваясь, как Гарусьница с дочерью что-то делали с кастрюлями.
– Бывают и голодные годы, – со вздохом сказал мужик. – У меня-то еще имеется в запасе немного зерна, а вот у других случается, что перед жатвой траву варят, тертую кору и разные коренья едят… и с голоду умирают; кто в Бога не верит, тот начинает грабить.
Слушатель, рассмеявшись, едко ответил:
– Ничего в этом удивительного нет, потому что даже дворяне и рыцари, которые голода не терпят, и те часто грабят по проезжим дорогам.
Казалось, что эти смело произнесенные слова удивили хозяина хаты; он про себя подумал, что гость его наверное не принадлежит к рыцарскому сословию, если он так о рыцарях отзывается.
Быстро взглянув на гостя, он откровенно высказался.
– Послушайте, господам землевладельцам нечего удивляться. Ведь – извините за выражение – скотина, если она вдоволь наестся, то брыкается и резвится. А им тут в нашем королевстве не плохо живется.
После некоторого размышления Вядух поправился.
– Положим, так оно и на всем свете.
– Да, – подтвердил гость, – в других землях то же самое, или еще хуже.
– Но не всегда это так было, – начал Лекса. – Наши деды говорят, что раньше все были равны, что лишь потом все это испортилось… и что мужик превратился в полураба.
– Да, но, – возразил слушавший, – кто был свободным, таким и остался!
Вядух покачал головой.
– Об этом трудно говорить, – произнес он.
– Говорите, прошу вас, я с удовольствием послушаю, – прервал его сидевший на скамейке, принимаясь опять за хлеб. – Мужику совсем не так плохо у нас.
Лекса, взглянув на него пристально, покачал головой.
– Да, но, – произнес он, – за убийство мужика платят лишь четыре гривны штрафа и его родственникам шесть гривен и никакого другого наказания; за убийство землевладельца – шестьдесят гривен, а иногда этих денег не хватает… Если мужику надоест такой Неоржа, то он даже не может удалиться с его земли; он должен тогда выжидать, согласно обычаям, пока его пана отлучат от церкви, или пока обидят его дочь, или пока ему распродадут имущество за долги… Да и так…
– Но вы же судей имеете? – спросил гость.
– Судьями бывают землевладельцы, а рука руку моет; у них не добьешься справедливого решения. Если плохо рассудят, то как же тут хулить судью? Если на суде присутствует кастелян, то ему необходимо поднести в подарок горностая или куницу. Судья требует платы, и за каждое дело ему необходимо заплатить четыре гроша, так как для него не существует незначительных дел. Если нечем заплатить… приходит судебный рассыльный со своей челядью и забирает вола, платье, топор, кирку…
Путник прислушивался внимательно к словам Вядуха.
– А как же устроить так, чтобы справедливость была оказана всем? – спросил он. – Потому что и мужик должен ею пользоваться.
Вядух даже привстал со скамьи, до того этот вопрос показался ему странным.
Взглянув на спросившего, он произнес:
– Милостивый государь, я простой человек, но мне кажется, что это невозможно. Я бываю в костеле и слушаю, о чем проповедует ксендз; так заведено с тех пор, как свет существует, и так оно и останется.
Гость задумался; в это время Гарусьница и Богна начали расставлять на столе принесенное ими кушанье. Хотя оно было не изысканное, а мужицкое, голодный путник со смехом, как будто в первый раз в жизни видя такие блюда, принялся за еду.
Все ему пришлось по вкусу.
Вядух, взяв чашу и поместив ее у себя на коленях, задумчиво ел. Богна поставила перед гостем кувшин с пивом и простой деревянный кубок, инстинктивно выбрав самый красивый, желая выказать гостю свое внимание. Кубок был новый, гладко выструганный, точно выточенный, и на светлом дереве были нарисованы красные ободки.
Гость налил кубок и, кивнув головой глядевшей на него красивой девушке, приложил напиток к губам; Богна покраснела и, закрыв лицо руками, убежала к очагу.
Они несколько минут молчали, затем путник возобновил прерванный разговор.
– Расскажите мне, прошу вас, о вашем сословии и о его нуждах, – произнес он. – Об этом нужно знать для того, чтобы пособить.
– Знание знанием, – рассмеялся он, – но помочь нам даже и сам король не сумеет…
– Даже и король? – подхватил гость с удивлением, оставив еду и устремив глаза на говорившего. – А это почему? Ведь он обладает силой и может поступить по своему желанию!
– Да, но он должен щадить своих рыцарей, не раздражать дворян, потому что он царствует при их поддержке. Дворяне и рыцари заслоняют собою мужика, и его не видно из-за них. Он стоит на самом конце, последний.
– Ведь король, – пан для всех, – запротестовал слушавший, – как для рыцаря, так и для мужика.
– Это верно, – произнес Лекса, – это на словах, а в действительности выходит то, что мужик всем служит и повинуется и никто, кроме Бога, ему не покровительствует.
– Но ведь вы на такого опекуна жаловаться не можете, – со смехом сказал молодой гость.
– Я не жалуюсь, – отрезал старик, по-видимому недовольный оборотом разговора.
Наступило молчание. Гарусьница принесла новую чашу и придвинула ее к гостю; Богна подала ему ложку, предварительно вытерев ее своим передником; в благодарность он ей снова улыбнулся, и смущенная девушка вторично спряталась. Гость, утоливший уже первый голод, раньше чем приняться за новое блюдо, задумался, как будто какая-то тяжелая мысль его угнетала.
– Так вы не особенно хвалите свою жизнь? – спросил он.
– Я не хвалю ее и не хаю, – произнес Вядух. – У меня уж такой нрав, что принимаю с благодарностью все, что Господь дает; потому что если б я огорчался, то только себе бы повредил…
Он сделал движение рукой, как будто желая что-то от себя отогнать.
– Вы бываете в Кракове? – спросил путник.
– Иногда езжу в костел и на рынок, – ответил Лекса, – я нелюбопытен…
– А ведь там найдется, на что посмотреть?
– А в доме всегда найдется работа! – произнес Вядух.
Путник усмехнулся.
Через секунду старый крестьянин добавил:
– Это правда, что есть на что смотреть, когда вора ставят под позорный столб, а шулеров и обманщиков из города плетьми вон изгоняют. И мужик не прочь был бы выпить свидницкого пивца, да за столом для него места не найдется, потому что все занято панами и рыцарями.
– И в замке можно найти, к чему приглядеться, – произнес гость.
– О! В замок-то уж нам нечего лезть, – рассмеялся Вядух, – там место для панов, а не для мужицкой сермяги… И чего ради?
– Чего ради? – возразил путник. – А почему же вам не пойти бы к королю искать защиты, когда вас обижают? Ведь он ваш высший судья.
Лекса поднял глаза к небу.
– Сохрани Боже! – воскликнул он. – А если бы король плохо рассудил, его нельзя было бы порицать, потому что и соболя не хватило бы, чтобы за это заплатить, и к кому после него обратиться? К Богу…
– Вы, значит, не особенно доверяете королю? – спросил любопытный гость.
Этот вопрос удивил крестьянина и даже испугал его.
Он задумался, долго собираясь с ответом.
– Король! Король! – начал он. – Он о другом должен думать, а не о нас.
– И о вас он должен… – произнес путешественник.
Вядух с удивлением присматривался к нему, желая узнать, с кем он имел дело.
– Вы его не любите? – спросил гость.
При этом вопросе лицо Вядуха стало серьезным.
– Он нам ничего плохого не сделал, – произнес он. – Я думаю, что у него добрые желания, но он ничего не может сделать… Покойного старого Локтя мы не знали, а молодого трудно увидеть… Тот был добрый… и с простым мужиком часто разговаривал, как со всяким другим.
Слабый румянец выступил на лице путешественника.
– Того, – прибавил Лекса, приблизившись к гостю, – мы неоднократно спасали, когда он, оставленный рыцарями, бродил по стране, укрываясь в оврагах и ущельях… Вступаясь за него, мужики брали оружие в руки и проливали свою кровь… Мы об этом помним!
– И сын его, вероятно, не забудет об этом, – возразил гость, задумчиво подперев голову рукой. Он сделал несколько глотков пива и устремил свой взор на Вядуха, продолжавшего говорить.
– В этом старике мы как бы чувствовали отца и брата. Он жил так же, как мы: к рыцарям относился строго, а к нам был снисходителен… Господь его за это наградил, потому что он добился короны…
Путник поднялся со скамьи сильно взволнованный и тронутый… Оглянувшись по сторонам, он заметил, что наступает вечер.
– Спасибо вам, хозяин и хозяюшка, и вам спасибо, – добавил он, повернувшись в сторону Богны.
Говоря эти слова, он медленно потянулся за кошельком, в котором зазвучали монеты.
Вядух насупился.
– Вы меня не обижайте, – произнес он спокойно. – За гостеприимство никто платы не берет…
– Почему? – спросил путник.
– Потому что это не дозволено нашими старыми обычаями, – прервал Лекса. – Крестьянская хата – это не гостиница… Не обижайте нас. Я крестьянин, и хотя Неоржа лжет, говоря, что я ему принадлежу, я был и останусь свободным…
Он начал смеяться, желая все обратить в шутку. Гость был чем-то озабочен и раздумывал…
Наконец, он снял с пальца перстень и, позвав Богну, которая, вместо того чтобы подойти, испуганно спряталась в угол, промолвил:
– Я хотел бы оставить что-нибудь на память вашей девочке; пускай это останется для нее к помолвке или когда замуж будет выходить…
С этими словами, не желая насильно заставить девушку взять в руки, он положил золотой перстень с большим бриллиантом на стол и, поклонившись, переступил порог, а Вядух последовал за ним.
Цярах побежал за лошадью, которая, хоть немного еще и хромала, но после отдыха и корма, могла уж тронуться в путь. Гость снова поблагодарил всех вышедших его провожать и, бодро усевшись на лошадь, выехал из ворот и рысью поехал дальше, вскоре скрывшись за кустарниками.
Когда Вядух возвратился в хату, он застал всех разглядывающими перстень Богны… Он был из чистого золота с камнем, переливавшимся на солнце.
Вся семья была очень довольна и не могла налюбоваться подарком, один лишь Вядух был чем-то озабочен и глубоко задумался, тщетно стараясь отгадать, кто был этот гость, не пожелавший о себе ничего сказать, и перед которым он так откровенно высказался… Он не был похож на духовное лицо, хотя они в то время носили кроме духовного платья и светское; за мещанина его тоже нельзя было принять, потому что слишком большим барином был; а от принадлежности к рыцарскому сословию он сам отрекся. Загадку эту было трудно отгадать. Притом это был человек не бедный, потому что подарок, хоть и не из сплошного золота (они не оценили стоимость этого драгоценного камня), все-таки казался им дорогим.
После того как все осмотрели подарок, Гарусьница, не желая его доверить Богне, завернула кольцо в чистую тряпку и спрятала в сундук.
На дворе начало темнеть.
Цярах вместе с Вонжем еще были заняты уборкой скота, а Богна в это время несла в хату ведро свежей воды, как вдруг на дороге раздались звуки охотничьих рожков, крики, голоса и шум.
Редко случалось, чтобы кто-нибудь ночью проезжал мимо; безопасности ради Цярах побежал закрыть ворота на засов, но в этот момент возле ворот остановились всадники, ни одежды, ни лица которых нельзя было рассмотреть в темноте. Цярах только заметил, что они были вооружены, громко разговаривали, как будто ссорились, шумели, перекликивались и чем-то были обеспокоены.
Один из них ругался и распоряжался другими.
– Ты здесь один?
Цярах ответил:
– А что вам нужно?
– Проезжал ли кто-нибудь по этой дороге?
– Разве мало людей по этой дороге едет, – возразил юноша.
– Ну, а… сегодня, недавно, только что! Вы тут никого не видели?
Вядух приблизился и по деревенскому обычаю ответил вопросом на вопрос:
– А кого вам нужно?
Слушавшие рассмеялись.
– Однако этот мужик любопытная скотина!
– Пан здесь проезжал?
– Был какой-то!
– На какой лошади?
Когда Цярах им описал цвет и красоту коня, моментально раздались крики:
– Это он! Он!
– Он тут был и час тому назад, а может быть и больше, уехал; его лошадь покалечила ногу, а потому он у нас отдохнул и подкрепился; мы его угостили, чем могли…
– Он был здоров? Ничего с ним не случилось?
– Он был такой же, как и вы все, – произнес Вядух, – здоров, как бык и довольно весел… Он лишь не хотел мне сказать, кто он такой… а может быть вы сжалитесь надо мной и назовете мне его имя…
Раздававшиеся веселые, звучные голоса мешали что-нибудь расслышать.
– Едем, догоняем! – начали кричать охотники.
– Эй! Счастливец же ты, хлоп, – произнес один из стоявших за забором. – Ты не знаешь, кого ты принимал в своей хате; ведь все паны тебе будут завидовать!
– Кого же? – прервал Вядух.
– Короля ты принимал, король у тебя был! – крикнул один из них, и вслед за тем они умчались так же быстро, как и примчались.
Вядух и Цярах от изумления остолбенели.
Мужик глубоко задумался, сжав руки и сдвинув брови…
– Однако наслушался он от меня, – сказал он самому себе.
Тем временем Цярах и Богна побежали с криком к матери, батрак хватался за голову – произошла суматоха и тревога.
– Король! Король!
– Лишь бы он на меня не рассердился, – шептал про себя Вядух, – ведь он меня тянул за язык и я ему выложил все, что было на душе. Да, но это воля Божья… Чему суждено быть, того не миновать.
Он печально возвратился в свою хату. Когда же собравшись в избе, они начали вспоминать, о чем гость говорил, как он смотрел на Богну и ей улыбался, как ей перстень подарил, то вся их тревога рассеялась, и крестьянин успокоился, придя к убеждению, что король не мог на него обидеться.
Он и домашние его обратили внимание на то, как король похож на остальных людей и рыцарей и как в нем нет ничего особенного, что заставило бы догадаться о том, что он король.
Хотя это неожиданное посещение и произвело на Лексу сильное впечатление, однако он на следующий день встал, как обычно, и отправился в поле.
Цярах и Вонж, разговаривая о вчерашнем событии, не заметили, как прошел день и наступил вечер. Ни в этот день, ни в ближайшие ничего не произошло, что могло бы указать на гнев или на милость короля.
Понемногу впечатление изгладилось, и через месяц Вядух в виде шутки рассказывал о том, как он запросто принимал у себя короля, сидя на одной с ним скамейке.
Он уже было совсем успокоился, как вдруг однажды, в полдень у ворот поднялся страшный шум. Вядух в это время был в поле; Гарусьница с дочерью, хотя она и не была особенной трусихой, заперлась на ключ в пустой хате и подумывала о том, не забраться ли ей на чердак и втянуть за собою туда лестницу, потому что слышны были страшные крики, брань, шум и голоса, звавшие Вядуха.
Старуха, осторожно выглянув из-за занавески, узнала Неоржу.
Это был человек тучный, которому трудно было сесть на коня и сойти, с красным, круглым, некрасивым лицом, с маленькими, черными глазами; он сидел на такой же жирной лошади, как он сам, и страшно ругался…
Вядух, услышавший, что его зовут, и находившийся недалеко на своем лане, заложив руки в карманы, медленно приблизился к своему двору. Увидев чужих и узнав Неоржу, он снял шапку и поклонился, но брань и гнев его вовсе не смутили, и он подошел ближе.
Неоржа поднял вверх руку, в которой держал кнут.
– Ах, ты! – крикнул он. – Я тебя проучу, ты разбойник! Ты будешь на меня жаловаться королю… я тебе задам… я с тебя шкуру сдеру…
– Я? – спросил Вядух с обычным своим насмешливым спокойствием, раздражавшим больше, чем всякая дерзость. – Я?
– А кто же?
– Я не знаю; я на вас не жаловался, – произнес Лекса медленно. – Я разговаривал с его величеством, он был у меня в гостях, но о вас он не расспрашивал, а я даже не знал, кто он такой…
Неоржа глядел на крестьянина, сжимая руки в кулаки.
– А внес ли ты следуемую мне часть зерна? А штраф ты заплатил? – крикнул рыцарь.
– Я ничего не должен, – произнес Вядух, глядя вниз.
– Тебе до сих пор жилось хорошо на моей земле, – воскликнул пан, – потому что эта земля принадлежит мне, и тот лжет, кто говорит иначе… ты был спокоен… Теперь лишь ты узнаешь, каким я умею быть, а тебя научу жаловаться!
Вядух взглянул на него.
– Король мне на вас жаловался, – возразил он равнодушно, – но не я ему на вас…
Пан ничего не ответил.
– Поступайте, как хотите, – добавил Лекса, – воля ваша.
Видно было, что у Неоржи было сильное желание иначе расправиться с хлопом, но его что-то удерживало. Подняв руку кверху, он ему пригрозил.
– Ты меня узнаешь, – воскликнул он, – узнаешь!..
Из всех сил стегнув лошадь кнутом, он помчался дальше, и слуги последовали за ним.
Вядух, надвинув шапку на макушку, заложил руки в карманы, оглянулся кругом и, увидев у колодца ведро с водой, подошел, напился, вытер уста и возвратился к своему плугу с тем же равнодушным видом, с каким он сюда пришел.
Цярах думал, что отец ему что-нибудь расскажет, но Вядух, сев на лошадь, запряженную в плуг, с восклицаниями – вью! гоп! – начал пахать.
Два дня прошло спокойно; на третий день служащий Неоржи посреди белого дня забрал с луга Вядуха стог сена и свез его к себе на двор. Спрошенный, почему он это делает, слуга ответил, что так приказано, а также велено, чтобы Лекса заплатил полгривны штрафа и отвез на господский двор несколько мерок жита.
– За что?
Эконом коротко ответил, что таково было приказание.
На следующий день двое слуг управляющего насильно увезли воз с лошадьми, не объясняя, на сколько времени и куда их берут. Цярах, опасаясь за целость отцовского имущества, поехал вместе с ними.
Преследование началось.
Вядух молча, безропотно терпел. Гарусьница по целым дням причитала и проклинала.
– Ты, бы, старуха, молчала, – обратился к ней муж, – это не поможет. Мы немного обождем, а если волк вскоре не насытится, то мы отсюда в другое место переедем. Земли достаточно… Я ведь не крепостной, и даже прадеды мои были свободными людьми…
Гарусьнице очень жалко было расстаться со своей старой хатой, к которой она привыкла, и она плакала.
Не успели вернуть воз с лошадьми, как эконом увел бычка из хлева, объясняя, что так ему было приказано.
На лугу натравили на стадо овец собак, и несколько овечек было искалечено. Когда Вядух заявил об этом, ему ответили:
– У нас такое приказание! Обожди – не то еще будет!
Вечером пришел один из слуг управляющего и якобы по дружбе посоветовал Вядуху поехать к Неорже с подарком, покорно склонить перед ним свою голову и просить его о прощении.
Мужик на это ничего не ответил; он лишь насупился и постарался поскорее сбыть непрошенного советчика.
– Возвращайся к тем, которые тебя прислали.
Женщины были в отчаянии; Вядух тоже немало страдал, но чем сильнее были его огорчения, тем упорнее он молчал.
Однажды, возвратившись в полдень в хату, он вдруг услышал на дворе веселые голоса и смех…
Не успел он переступить порога, как увидел короля, который, оставив коня у ворот, вместе со своими собаками, приближался к хате с шумным приветствием:
– Здравствуй, хозяин!
Вядух, согласно обычаю, упал к ногам пана.
– Вставай же, старина, – молвил король, – будь со мною таким, каким ты был в первый раз. В замке я – король, а здесь я – простой охотник…
И он уселся на скамью. Собаки положили свои мохнатые головы к нему на колени.
Вядух стоял молча.
– Скажите мне, как у вас? Старуха и дочка здоровы? Всходит ли рожь?
Мужик пришел в себя и успокоился после первого испуга.
– Милосердный король, – произнес он, – вы делаете добро людям, но ваши прислужники – они ни черта не стоят… Неоржа меня преследует якобы за то, что я вам жаловался на него. Я уж более не могу терпеть!
Голос его дрожал.
– Это бессовестный человек! – воскликнул король. – Говорите, что он вам такого сделал.
Вядух начал перечислять все обиды, но, по обыкновению холодно, не увлекаясь, в насмешливом тоне, но совершенно спокойно.
– Подай на него в суд, – произнес король.
– В суде сидит или брат его, или сват, к суду без приношения нельзя подступиться.
Лицо короля покрылось румянцем.
– Будь спокоен, – промолвил он, поднимаясь со скамьи, – я его завтра вызову к себе на суд… У меня он дела не выиграет.
Вядух подбежал к королю со сложенными руками.
– Король, пан мой, – воскликнул он, – не делайте этого! Неоржа мне потом отомстит и живьем меня съест, а я не смогу всегда ходить к вам с жалобой… Это трудно. У вас целое королевство, о котором вы должны помнить, а не обо мне одном. Не всегда у вас свободное время, вы не всегда бываете здесь… Случится, что вы уедете на Русь… в Венгрию, Бог знает к кому в гости, на охоту. Вас тут не будет, а Неоржа постоянно будет с бичом над моей спиной.
– Что же я могу сделать? – с грустью спросил король, наполовину убежденный.
Крестьянин вздохнул; он задумался и как будто не решался высказать то, что ему хотелось.
– Говори, – добавил король, подбодряя его.
– Вы для меня ничего не можете сделать, – тихим голосом ответил Вядух, – и не только для меня, но и для всех наших мужиков, сколько бы их не было. Господ дворян стеречь и сдерживать их – один король без помощников не в состоянии… Вы не можете видеть и знать того, что с нами творят. Если вы спросите, вам скажут что исполнили приказание, а нас будут по-прежнему притеснять и травить… Эх! – добавил он, – я с Неоржей помаленечку устроюсь… ни я вечно жить не буду, ни он…
Король опечалился.
– Поверь мне, хозяин, – сказал он, – я хотел бы улучшить вашу участь, но ты прав – король бессилен помочь…
– Да, – добавил он насмешливо, – существует одно лишь средство. Огниво за поясом, в поле найдется кремень, а в лесу много щепок.
Крестьянин грустно улыбнулся.
– Так, – произнес он, – не один прибегал к этому средству, когда ничего другого не было, но это, вероятно, уже последнее.
Король попросил молока.
Перед ним положили чистое полотенце, принесли свежий хлеб, и он сел на скамью. Слугам приказано было ждать пана за воротами.
Хозяева, осчастливленные тем, что принимают такого высокого гостя, суетились, стараясь его угостить… Гарусьница даже поставила возле печки миску с молоком для собак.
Король тем временем расспрашивал старика о хозяйстве, о жизни, о заработках, о налогах…
Старый Лекса, набравшись храбрости, откровенно и без всяких стеснений отвечал на все вопросы, как будто перед ним находился простой смертный. Король для него был гораздо менее страшен, чем Неоржа.
Без всякого преднамерения имя Неоржи сорвалось с уст крестьянина.
– А я могу тебя обрадовать, старик мой, – произнес король, – потому что не только тебя одного грабит Неоржа, но он попробовал и с меня драть.
– Милостивый пан! А как же он посмел бы! – воскликнул крестьянин.
– Как? Так же, как и тебя, – рассмеялся Казимир. – Ты должен знать, что в Величке в соляных копях таможенные чиновники обязаны содержать моих лошадей… Коням там хорошо. Неорже захотелось и своих туда поместить на даровой корм… Слуги Трукла и Левко не осмелились их прогнать, когда их привели… его кони ели мой корм и пожирели…
Вядух укоризненно покачал головой.
– Но я хорошо наказал этого наглеца, – прибавил Казимир, – и запретил ему показываться мне на глаза…
– Вот, чего ему захотелось! – рассмеялся хозяин.
– Итак вы видите, – окончил Казимир, – что и мне не лучше, чем вам; и меня грабят. И не один лишь Неоржа, но и многие другие… Мне трудно обо всем знать и везде быть…
В таком духе у них продолжался разговор, потому что король подробно и внимательно его расспрашивал о положении и жизни мужика. Когда он, наконец, собрался уезжать, Вядух, низко кланяясь и целуя край его одежды, шепотом сказал:
– Милостивый пан, если вы желаете нам добра, сделайте это для меня и не вмешивайтесь в отношения между Неоржей и мною… ибо он будет мстить. Я и сам с ним справлюсь.
– Огнем? – спросил Казимир.
– Это уж надо оставить как последнее, крайнее средство, – возразил селянин… и покачал головой.
Хозяин провожал гостя до ворот.
Богны во время посещения короля нигде не было видно, и Кохан, бывший вместе со своим паном и столько слышавший от него о красоте девушки, оглядывался по сторонам, не увидит ли он ее. Мать, объятая каким-то тревожным предчувствием, заперла ее в комнате, и девочка могла только сквозь щели приглядываться к королю…
На обратном пути в Краков Казимир ехал впереди, а вслед за ним Кохан, для которого это посещение было непонятно и который ничем другим не мог его себе объяснить, а лишь предположением, что красивая девушка приглянулась королю.
Фаворит спросил, почему им не показали Богну.
Король взглянул на него с насмешливой улыбкой.
– Они хорошо сделали, – сказал он, – ее не для этого вырастили и воспитывали, чтобы девушка пропала. Было бы жаль ее… Дворянки и мещанки… те не особенно дорожат женской честью, но у мужика это святыня, и нельзя посягнуть на то, что он считает своим единственным сокровищем.
Кохан начал потихоньку смеяться.
– Ваше величество, – отозвался он, – недаром дворяне называют вас королем холопов…
Он полагал, что Казимир этим огорчится, но слова эти лишь вызвали улыбку на устах короля.
– Ты думаешь, Кохан, что я постыдился бы быть таким, если бы мог? – произнес он. – В этом-то и мое несчастье, что я лишь король на бумаге, который много желает и мало может сделать!
Казимир глубоко вздохнул, и они молча продолжали путь.
Неоржа, о котором идет речь, владелец имений в окрестностях Сандомира и Кракова, происходил из рода Топорчиков, одного из самых старших и богатых родов в Кракове, отпрыски которого рассеялись по другим землям, и все были богаты.
У Неоржи был собственный двор в Кракове, в котором он часто подолгу оставался.
Вначале он старался понравиться королю, мечтая о великих заслугах и наградах, и, несмотря на то, что Казимир, обладавший инстинктом узнавать людей, принимал его холодно и даже отталкивал, он почти насильно навязывался со своими услугами. Лишь через некоторое время он убедился в том, что ему не обойти Казимира, и он потерял надежду на королевскую милость, хотя ему давно уж было обещано воеводство, лишь бы от него отделаться.
Неоржа не высказывался перед людьми о своем разочаровании и говорил много о своей будущности, затаив в себе злобу против короля, которого он не любил.
Всем этим панам, увязшим в роскоши, не было по душе, что Казимир хотел везде ввести порядок, за всем смотрел, с мужиками разговаривал о их нуждах, велел допускать к себе евреев с жалобами, и наблюдал за тем, чтобы доходы с рудников не пропадали…
Неоржа, и другие, ему подобные, против этого сильно роптали; не такого короля им хотелось бы иметь.
Когда при посредстве Левки, державшего в откупе соляные копи в Величке, обнаружилась история с лошадьми, которых ему Неоржа навязал, и король, приказав их прогнать и рассердившись на виновника, запретил ему доступ в замок, Неоржа впал в большой гнев.
Таких как он, относившихся недоброжелательно к королю вследствие разных причин, было много… Втихомолку роптало духовенство, потому что, по его мнению, архиепископ Богория был слишком снисходителен к королю; дворяне жаловались, что им не давали руководить судами, и строго следили за соблюдением справедливости.
Не любили и ксендза Сухвилька, неизменного советника короля, потому что ни духовенство, ни рыцарство не были довольны таким строгим законоведом.
С каждым днем увеличивались жалобы и обиды на короля.
Знал ли о них Казимир или не знал? Докладывали ли ему об этом или скрывали – этого нельзя было узнать, так как он ничем не выказывал никакого интереса к людской молве и неприязни. Его никогда ничто не могло заставить изменить раз избранный им путь.
В числе враждебно относившихся к королю находился молодой ксендз Марцин Баричка, сын Гжималянки, происходивший из семьи, переселившейся когда-то из Венгрии в Русь, воспитавшийся за границей, известный своими строгими нравами и неустрашимым характером.
В то время ксендз Баричка был лишь викарием и находился при дворе епископа краковского. Он еще не имел большого значения, но ему предсказывали великую будущность.
В то время, когда другие капелланы думали о земном, о доходных приходах, о высших должностях, о том, чтобы возвыситься и пользовались своим положением для достижения земных благ, ксендз Марцин всеми этими земными благами не дорожил, а строго исполнял все обязанности, возложенные на него его саном. Он был готов и в огонь и в воду броситься, если это необходимо было, и притом исполнял все так спокойно, холодно, как будто он совершал самое обыкновенное дело.
Все его очень уважали, но лишь немногие его не боялись. Случалось, что он вызывал неудовольствие епископа, потому что не признавал никаких уступок. В делах, касающихся церкви, он готов был идти напролом, не обращая ни на что внимания.
Одна его наружность внушала тревогу. Это был желтый, похудевший аскет, преждевременно состарившийся в молитвах и добровольных постах и лишениях, с острым проницательным взглядом, с сухим неприятным голосом, с порывистыми движениями. Богослужение доводило его до экстаза, добродетель его переходила в страсть, и он в своих проповедях увлекался чуть ли не до безумия.
По матери, Гжималянке, он состоял в родстве с Неоржей, которого называл дядей и с которым часто встречался.
Деревянный, незатейливый дом Неоржи находился в Околе. В отсутствие пана в нем жили привратник, старый дворовый слуга и служанка. Опустевший, запущенный дом состоял из нескольких комнат, между которыми была одна большая, где можно было принимать гостей.
Скупой и жадный Неоржа нечасто принимал у себя, и у него не очень-то охотно бывали, потому что он вовсе не по-барски принимал, хотя это было ему по средствам. Он сам ел и пил много, часто даже как обжора, без разбора… Самые простые блюда, кислое пиво – все ему было по вкусу… Когда не было в доме чужих, он ел то, что было приготовлено для челяди, не выбирая, лишь бы на его долю оставили самую большую чашку.
Через несколько дней после того как король побывал у Вядуха, батрак привел ему лошадей, изгнанных из Велички; узнав, что король, рассердившись, не только велел их прогнать, но даже грозил ему наказанием и запретил ему доступ к себе, он страшно разозлился.
Ему не на ком было выместить свою злобу и не перед кем излить свою душу, потому что он остался одиноким.
Люди, узнав о том, что он попал к королю в немилость, начали его сторониться и избегать, как это обыкновенно бывает. В течение целого дня до самого вечера никто не пришел, лишь в сумерки притащился судья сандомирский, Ясько, прозванный Грохом.
Ясько Грох тоже принадлежал к числу недовольных. Это был юрист самоучка, схвативший верхушки наук в школе Пресвятой Девы в Кракове, служивший вначале писцом при суде; когда же он приучился и привык к судебным разбирательствам, его назначили помощником судьи за неимением другого. Хотя познания его были очень малы, тем не менее он ими очень гордился.
Хитрый и такой же жадный, как и Неоржа, но к тому еще бедный, Ясько Грох известен был тем, что лучше других умел из чужой вины извлекать для себя пользу в виде разных поборов. На него очень роптали – но он не обращал на это внимания. Он, в свою очередь, жаловался на судьбу, что ему приходится довольствоваться такой малой должностью, когда он чувствует, что достоин чего-нибудь лучшего.
Неоржа, увидев на пороге длинноногого, прямого как палка Гроха, тотчас же выпалил:
– Вы знаете! Знаете! – начал он невыразительно бормотать, потому что у него был толстый язык. – Вы знаете, чего мы дождались? Короля холопов! Да! Да! Для них он как отец родной, а для нас, старых дворян – тиран, палач… Посмотрите, – добавил он, – мне исконному дворянину нельзя было послать негодному жиду в Величке своих лошадей для прокормления. Он их велел немедленно убрать вон… Ну?.. Что вы на это скажете?
Он ждал ответа, но Грох лишь кривил губы.
– К моему хлопу, к этому висельнику Вядуху, король ездил в гости… А меня в замок не впускают! Вы это понимаете?
Грох процедил сквозь зубы несколько слов.
– Так у нас всегда бывает…
– О чем он думает, этот король? – вопил Неоржа. – Он намерен поступать с нами, рыцарями и дворянами, как с рабами…
Задыхаясь от гнева, пыхтя, Неоржа расхаживал по комнатам. Тем временем Грох оглядывался кругом, нет ли чего съедобного. Он не был таким жадным, как хозяин дома, однако радовался угощению, потому что оно его избавляло от израсходования денег на еду и питье.
Неоржу душила злоба… Он ударил в ладоши и приказал явившемуся в разорванном платье батраку нацедить пива. Принесли жестяной кувшин и глиняные кубки. Они уселись за напитком; Неоржа сопел, Грох охал. У хозяина дома не сходили с уст лошади, прогнанные из Велички… Посетитель разделял его возмущение.
После второго кубка он тихо начал:
– Это верно, что вас обидели… Король не обеднел бы от ваших лошадей, но в этом еще не все… Есть гораздо худшие предвестники. Камень на камне не останется.
– Ну! – спросил Неоржа удивленный. – А какие?
– Они собираются все тут переделать и перестроить.
– Кто?
– Ну, да Сухвильк и король, – тихо ответил Грох, который боялся жаловаться из боязни быть подслушанным.
Неоржа был изумлен.
– Что? Что? Говорите! – воскликнул он, нагнувшись к посетителю.
– Вы ни о чем не знаете?
Хозяин пожал плечами и опорожнил кубок.
– Сухвильк научился в чужих странах таким вещам, о которых у нас никогда не слышали. Он хочет развести у нас виноградники в то время, когда у нас и простые деревья гибнут от холода. Законы! Законы! Я слышал, что их собрали со всех стран, переписали и хотят отменить все обычаи, скопившиеся в течение веков, передававшиеся от поколения к поколению, и вместо них ввести новые законы…
Глаза Неоржи расширились от изумления, но он хорошенько не мог этого понять.
– Что? Что? – тихо бормотал он.
– Теперь мы, судьи, – продолжал Грох, пальцем ударяя себя в грудь, – мы рассматриваем дела, выслушиваем, взвешиваем и судим по совести… Но это, видите ли, им не нравится… Нет… Они велят судить на основании писаного закона.
Он язвительно рассмеялся.
– Но этого быть не может! – воскликнул возмущенный Неоржа.
– А король этого желает, потому что Сухвильк уговорил его, что так делается в других странах.
Горькая улыбка была на его устах.
– Эх! Эх! – добавил он, – берегитесь, господа дворяне! Берегитесь! Что с нами, судьями, приключилось сегодня, то случится завтра с вами. Бросят старые обычаи и растопчут их ногами и переделают это королевство по своему усмотрению, по образцу венгерского или чешского.
Неоржа от ужаса и возмущения молчал.
– Им мало того, что они нас, судей, придавят и сделают рабами закона, – жаловался Грох. – Они хотят все вверх дном перевернуть. Ведь какими здоровыми жилищами были наши деревянные дома… Эх! Король приказывает строить из камня… А жить меж каменных стен – это смерть! Он хочет нас погубить. Господь Бог дал соль для всех. Когда-то можно было ее получить в Величке каждому, сколько нужно было, а теперь!.. Эх! Завели счета, жиды отмечают каждую мерку и записывают в книги.
– А моих коней вон из Велички! – заикаясь, простонал огорченный Неоржа. – Вот оно… Вот что… Дворян и рыцарей, – начал он бормотать, – король обиж… Они ему не по вкусу… Он лишь расположен к хлопам и жидам… Этот Левко из Велички, эта скотина, рассказавшая о моих лошадях, – он арендует соляные копи, и все, что он скажет, то свято… Моего мужика, хитрого разбойника, король фамильярно хлопает по плечу… а мы? Что мы такое? Кто мы?
– Светопреставление? – произнес Грох, глядя на дно кубка, в котором ничего уж не осталось.
В это время в комнату вошел ксендз Марцин Баричка, простоявший несколько секунд у порога, не замеченный разговаривавшими.
Грох, относившийся к духовенству с большим уважением, поцеловал в руку прибывшего. Неоржа встал, уступив место гостю. Ксендз Баричка, бледный, с пасмурным, угрюмым лицом, уселся.
– Я слышу, что вы, господа, жалуетесь на его величество, – произнес он, качая головой.
Неоржа, разводя распухшими руками, обратился к нему с болезненным выражением лица.
– Вы слышали о том, что случилось с моими лошадьми в Величке? Что? Ведь это вопиющее дело! За это Господь должен его наказать!
Ксендз Баричка изумился.
– А какое же у вас право было их там держать! – спросил он.
– Право? – с возмущением воскликнул Неоржа. – Такое право, что испокон веков такие люди, как я… там кормили по две и по четыре… Дьявол не взял бы за это жида, да и с кормом ничего не случилось бы.
Ксендз Баричка покачал головой.
– Это еще не все, – подхватил хозяин. – Послушайте, о чем рассказывает Грох: волосы дыбом становятся.
Ксендз повернулся к судье.
– Ужасно! – произнес Грох. – Я слышал, что собираются писать новые законы.
Баричка улыбнулся.
Грох начал свои нарекания, все более и более увлекаясь, но на духовного слова его не произвели никакого впечатления, и он равнодушно слушал.
– Это еще не самое скверное из того, что делает король, – молвил он строгим голосом.
Оба собеседника замолчали. Лицо ксендза стало грустным.
– Он хотел иметь наследника, в этом не было ничего плохого, он сватался к этой чешке, которая вскоре умерла… В этом был перст Божий! Вскоре после этого король Ян и его сын сосватали ему Аделаиду Гессенскую… Долго ли он с нею жил? А что теперь делается?
Грох покачал головой.
– Эта немка, которая ему даже двух тысяч копеек в приданое не принесла, а вдобавок еще уродлива…
– Он ведь знал об этом и все-таки женился, – прервал ксендз.
– Я ее видел, – пробормотал Неоржа, – и хотя я короля не люблю, но я его не обвиняю. Она безобразна, не знает по-нашему ни слова, и говорят, что она не совсем нормальная…
– Однако, она его жена.
– За эту жену вам нечего так вступаться, – произнес Грох, – она ни в чем не терпит недостатка. Король питает к ней отвращение, и ее устроили в замке, в Жарновце, где она живет, как подобает королеве, но мужа не видит. Она уж больно уродлива…
Грох покачал головой.
– Он не мог с нею жить, – произнес Баричка, – хотя по церковному уставу он должен был… Потому что человек не рожден для роскоши. Он ее удалил… Пускай так… Но зачем же он ищет других женщин… И вводит людей в искушение и соблазн?
Эти слова, отчетливо и строго произнесенные ксендзом Баричкой, не нашли сочувствия и подтверждения в его слушателях, отнесшихся к ним так же, как Баричка раньше отнесся к жалобам на законы.
Неоржа и Грох опустили глаза. Они тоже не были без греха, а в те времена, когда людские страсти проявлялись с особенной силой, редко кто мог похвалиться праведной жизнью. Поэтому строгий суд ксендза Барички приняли с молчанием.
– Это вина короля, – продолжал духовный, – зачем он дает себя склонить к плохому… Почему он поддается своим страстям; но не меньше виноваты и наши капелланы, которые с ним имеют сношения, живут вместе с ним, видят все его безобразия и не хулят, и не порицают его за это. Об его излишествах вероятно знает епископ гнсзнинский, потому что он часто бывает при короле, знает и ксендз Сухвильк, который почти из королевского замка не выходит, знают и ксендзы… Но ничего не говорят.
Слушатели хранили упорное молчание.
Грох находил, что составление новых законов это самый страшный грех короля, а Неорже казалось, что изгнание из Вслички его коней – еще большее преступление.
– Если б я был при дворе, – прибавил Баричка, – я не потерпел бы этих любовниц, о которых все знают и на которых указывают пальцами.
– Но в Кракове их нет, – шепнул Грох, указывая рукой в различных направлениях. – Они сидят в королевских поместьях, в Опочне, в Чехове, в Кжечове…
– Везде их полно, – говорил Баричка, продолжая возмущаться, – найдутся и в нашем городе… Это еще не все! – воскликнул он: – Люди рассказывают о еврейках!
Грох и Неоржа, услышав это страшное известие, заломали руки от волнения.
– Этого не может быть, – вставил Грох.
Неоржа молчал… Разговор о короле прекратился, потому что по двору проскользнула какая-то фигура, и никто из них не желал быть подслушанным.
Один лишь мужественный Баричка готов был всегда и перед всеми повторить свои слова.
Хозяин дома поднялся со своего места и ожидал появления в комнате человека, только что прошедшего через двор.
Двери медленно раскрылись, и на пороге показался хороший знакомый Неоржи, один из семьи Яксов Меховских; это была одна из богатейших семей в прежние времена; некоторые из них и по сию пору сохранили свои богатства; другие обеднели, и к числу последних принадлежал вошедший в комнату Якса Микула.
У Неоржи была единственная дочь: говорили, что Микула намерен был к ней свататься, но… Якса принадлежал к двору короля, и на него косо глядели. Когда он вошел, наступило молчание.
По лицу вошедшего сразу можно было узнать о его знатном происхождении, хотя одет он был бедно. У него была красивая рыцарская внешность, но черты его лица были слишком нежными и мягкими для мужчины. В нем было что-то барское, несмотря на его скромную одежду.
Неоржа его холодно принял; он догадывался, что Якса, находившийся при дворе короля, принес ему какой-нибудь выговор или неодобрение. Он предпочитал не говорить с ним о происшедшем.
– Я пришел с вами попрощаться, – отозвался Якса, – потому что боялся, может быть вы уедете. Мне так казалось!
Хозяин пристально на него посмотрел.
– Конечно, мне здесь делать нечего, – произнес он, – но и торопиться мне не хочется, потому что я не желаю, чтобы кому-либо показалось, что я скрываюсь от разгневанного короля.
Якса в ответ молча на него взглянул.
– А что же король? – угрюмо спросил Неоржа.
– На охоте.
– Сердитый?
– Я его почти никогда не видел сердитым, – возразил Якса. – Он на секунду вспылит, но быстро сдерживает себя.
– А вероятно он на меня гневается! – воскликнул Неоржа.
Яксе не хотелось прямо высказать то, о чем он думает.
– Я этого не знаю, – проворчал он, – однако я полагаю, что если вы на некоторое время сойдете с его горизонта, то по вашем возвращении забудется обо всем происшедшем.
– Но я об этом не забуду, – пробормотал Неоржа.
Ксендз Баричка встал и, попрощавшись с дядей, ушел.
Грох и Якса остались.
Воспоминание о короле снова взволновало Неоржу; он расхаживал по комнате и ворчал. Хотя он и узнал, что Якса находится в свите короля, однако он дал волю своему языку в надежде на то, что гость, сватавшийся к его дочке, примет его сторону и будет с ним одного мнения.
– Нам не такой король нужен, – произнес Неоржа. – Это король для хлопов, но не для нас… Он знать не хочет дворян и их не милует, но и мы его поэтому тоже не жалуем.
Якса покраснел и живо воскликнул:
– Простите! Но мы, которые при нем находимся, мы его любим!
– Ну, так и на здоровье! – насмешливо сказал Неоржа, и лицо его залилось румянцем.
Якса не мог больше сдерживаться и, поднявшись со скамейки, прибавил:
– Да, мы, которые ему служим, должны его любить, потому что он добр, справедлив и нам добра желает, но он несчастный человек.
– Он! – заворчал Неоржа – он! Чем же он несчастен? Сокровищница, бывшая пустой при старике отце, при нем наполнилась, ему не представило затруднений отсчитать немцам двадцать тысяч гривен; драгоценных камней и серебра у него без счета… Чего же ему еще нужно?
– Милый мой пан, – начал Якса ласково, – я не знаю, дает ли это счастье… У него нет потомка.
– Почему же он не живет с женой?
Якса промолчал.
Неоржа выведенный из терпения этим маленьким отпором, уж больше не хотел глядеть на будущего зятя.
Обиженный гость, заметив это, слегка кивнул головой и удалился. Неоржа, окинув взглядом удалившегося, присел к столу рядом с Грохом, в единомыслии которого он был уверен.
– Как вы полагаете, судья, – тихо спросил он, – следует ли нам его переносить?
– Кого? – спросил гость немножко удивленный.
– Да, короля! – промолвил Неоржа. – Когда-то дворяне сами выбирали себе королей, и если они им приходились не по душе, то их свергали с престола.
– Но ведь это коронованный король! – робко прошептал Грох.
– Э, – возразил хозяин, размахивая рукой, – что нам в его короне! Я знаю, что здесь, в Кракове, мы ему ничего не сделаем, но нужно начать с другого конца. В Великопольше, в Познани найдутся такие, которые восстанут; потому что они совсем не довольны тем, что король не живет в Гнезне и что их столицу превратили в маленькое местечко. Там каждому наместнику мерещится, что он, подобно Поморью, отделится и освободится из-под власти короля. Там одни радовались бы бранденбургцам, другие силезцам. Там…
Говоря эти слова, он взглянул на своего собеседника и вдруг запнулся. Грох, хотя и жаловался на короля, но таких дерзких речей не мог похвалить. Он многозначительно сдвинул брови, и Неоржа спохватился, что сболтнул много лишнего. Стараясь исправить свою ошибку, он сконфуженно улыбался.
– Вот я болтаю, – произнес он, – вот, болтаю! Это потому что я не могу простить ему за лошадей! Они в Величке хорошо откормились бы!
Грох не дал себя ввести в обман этой переменой фронта.
– Напрасно вы о таких вещах говорите и вспоминаете об обиде, – проворчал он. – О чем велькополяне думают – это Господь их ведает, но подобно тому как Винч из Шамотуль, будучи недоволен старым королем Локтем, должен был раскаяться в этом и впоследствии был наказан дворянами, так может случиться и с теми, которые попробуют восстать против Казимира, если они на это осмелятся.
Неоржа стоял, задумавшись.
– Разве он такой же сильный, как его покойный отец, – начал он, успокоившись, – воевать-то он не особенно способен… Ему бы только строить и все переделывать… Он женщин любит, на охоту ездит, турниры устраивает…
– В том-то и дело, что вы его не знаете, – произнес Грох, качая головой. – Все это правда, но вся беда в том, что у него такая же железная воля, как и у отца, да ум у него более хитрый и изворотливость большая.
Неоржа был очень удивлен, слушая эти слова и недоумевая, что он может сделать против человека, характер которого ему не удалось определить; он пожимал плечами.
– Каково это нам будет, когда он все перевернет вверх дном и захочет по-своему переделать, – сказал Грох, – это еще неизвестно, но он настоит на своем, – со вздохом добавил судья, встревоженный слухами о своде законов. – Нам придется плохо, – продолжал он. – Какое значение будет иметь тогда судья? Вероятно, он урежет нам наши доходы… потому что он больше заботится о мужике, о поселенце, о бедном темном люде, чем о нас и о дворянах… Но что он решил, то… и докажет! Я его знаю! А то, что вы говорите о велькополянах… то на это не особенно можно надеяться. Хотя рыцарство и не особенно пожелает, но найдется какой-нибудь услужливый воин в Венгрии…
Грох вздохнул, а Неоржа задумался.
– Если он захочет, то у него вскоре будет много русского люда, – закончил судья.
Все, о чем он говорил, сильно подействовало на хозяина, который печально молчал.
Так как все пиво уже было выпито, а хозяин хранил молчание, то гость решил уйти.
Они довольно холодно расстались.
Неоржа взглянул вслед уходившему.
– Брешет! – произнес он про себя. – Дворяне что-нибудь да значат! Посмотрим! Я ему этого не прощу и отомщу за стыд и за прогнанных лошадей.
Самое великое дело, которое должно было прославить его царствование, Казимир хотел совершить в Вислице, для того чтобы почтить память своего отца, имя которого было связано с этим городом.
Покойный король два раза отбивал Вислицу от врага, там он молился и оттуда он, едва подкрепив свои силы, предпринимал походы для приобретения новых владений. Это место служило Локтю гнездом и приютом в тяжелые минуты жизни, и он им очень дорожил, а потому нет сомнения в том, что король руководился мыслями и воспоминаниями об отце, принявшись первым делом за устройство этого города.
Он окружил его каменными стенами и начал строить здания из кирпича и камня. Построили новый костел из теса на том же самом месте, где Владислав молился во время своих бедствий.
Это был старый городок, у устья реки Ниды, выделявшийся как остров на возвышенности, кругом окруженный лугами, которые весною затапливались водой. Топи и трясины с незапамятных времен были царством жаб, лягушек, змей, ужей, кишевших там десятками тысяч.
Старое предание гласило, что, когда ксендз служил обедню в маленьком костеле, находившемся в предместье, и лягушки своим кваканьем ему мешали, он проклял их во имя Божие, и они с тех пор начали вести себя тише.
Хотя Вислица, благодаря стараниям Казимира, была украшена новыми каменными зданиями, которым большая часть городов могла бы позавидовать, в ней все-таки было очень много старинного, оставшегося с незапамятных времен, о происхождении которого старожилы не помнили.
Еще во времена язычества на этом холме поселились рыцари, окопались, и там совершались такие кровавые дела, о которых окрестные жители рассказывали чудеса. Но больше всего хранилось в памяти воспоминание об этом маленького роста богатыре-короле Локте, о бедном изгнаннике, который в течение полустолетия оказывал чудеса, пока не соединил в одно распавшееся при Храбром королевство и не возложил корону на свою уставшую голову.
Давно уже по всей земле ходили слухи, вызывавшие злобу и насмешки, будто бы король хотел выкроить из всех старых законов один новый общий для всей Польши; рассказывали о том, что Сухвильк над этим работал и что намеревались созвать в какой-нибудь город представителей от велькополян и малополян, и затем все эти писаные законы будут обнародованы, и все должны будут руководствоваться и повиноваться им, а не прежним.
Несколько лет к этому готовились. Люди обыкновенно не любят нововведений, а потому относились недоброжелательно к этому новшеству, опасаясь нового закона, вместо старого, основанного на обычае, словесного, неточного, который каждый мог понимать и разъяснять по своему усмотрению.
Судьи, подобно Гроху, больше всего были недовольны, находя, что писаные законы являются для них унижением.
В то время в Польше не были убеждены в том, что осуществление идеи короля о соединении всех земель в одно и о введении общего закона и общей монеты, должно быть желательным для всех, так как оно увеличит силу страны. Каждое отдельное владение защищало свой обычай, настаивало на нем и старалось сохранить свою особенность.
Дворяне боялись, чтобы этот новый закон не уменьшил их власти над мужиком, лишив их прав, к которым они привыкли с незапамятных времен.
Некоторая часть населения поселилась на основании немецких законов и вероятно поэтому беспокоилась и опасалась, чтобы польский закон не нарушил их независимости.
Одним словом, накануне вислицкого съезда, которому должны были предшествовать еще другие съезды, страшное беспокойство овладело всеми.
Даже и духовенство не чувствовало себя в безопасности. Известный уже нам Сухвильк из Стжельца, главный советник короля, его правая рука, которому он поручил составление писаных законов, хотя и был племянником архиепископа, да еще и духовным лидом, однако не особенно был любимым духовенством. Его упрекали в том, что он больше занимался светскими делами, чем делами церкви, что его больше интересовало государство, чем служба Богу. Опасались, чтобы введением нового законоположения не урезали старой свободы, которой пользовалось духовенство.
Собирались на съезды и на великое вече или сейм, созванный в Вислице, не с радостью, а скорее с любопытством и обеспокоенные.
Некоторые говорили, что силой будут защищать свои прежние права; другие сами еще не знали, как они поступят. Однако всякий, кто только мог и хотел поддержать свое достоинство, собирался в Вислицу.
Мужики тоже промеж себя толковали о новом законе, не возлагая на него больших надежд, так как они были убеждены, что дворяне и рыцари сильнее короля, хотя они и верили в то, что Казимир о них не забудет.
Вядух после известного уже нам посещения короля, весть о котором широко распространилась и которое вызвало столько толков, расспросов и зависти, притих и погрузился в работы в поле и хозяйстве, избегая встреч с людьми, которые на него как-то странно глядели.
Неоржа, вначале преследовавший его, затем требовавший лишь покорности, в конце концов оставил его в покое, ничего не добившись. Экономы, очевидно получившие другие приказания, больше не трогали Вядуха, а наоборот, были с ним милостивы. История о причиненных ими убытках была предана забвению, и Вядух не вспоминал о них.
Король как раз в это время был очень занят, а потому забыл о Вядухе.
Год продолжался поход против Руси, увенчавшийся большими приобретениями, завоеванием Перемышля, Галича, Луцка, Владимира, Санока, Любачева, Трембовли, а вместе с тем и богатой военной добычей, целыми возами привезенной в Краков. Затем Казимир женился на немке, но лишь только он ее привез в замок, тотчас же удалил из-за уродства и чужеземных обычаев.
Это непреодолимое отвращение, которое он питал к ней, подстрекаемый и поддерживаемый вероятно его сестрой Елизаветой, потому что она была заинтересована в получении польской короны для своего сына, лишало Казимира всякой надежды на потомка мужского рода.
За это время он и дочку выдал замуж за Богуслава Щецинского в Познани и дал ей богатейшее приданое. Затем обнаружилась измена Дашкова и его приятелей, вызвавшая нападение татар на границы; после великой дружбы с чехами пришлось с ними тоже сразиться, и Господь помог их победить.
За все это время Казимир редко бывал в Кракове и недолго оставался в Вавеле, так что Вядух уж потерял надежду его когда-нибудь увидеть.
Так прошло несколько лет. Богну выдали замуж, Цярах тоже обзавелся женой, которая его наградила сыном.
Вядух, не особенно состарившийся за это время, не хотел отказаться от хозяйства и предаться отдыху. Как человек рассудительный, он выстроил недалеко в лесу для сына и невестки отдельную хату, для того чтобы, как он выражался, бабы не грызлись друг с другом. Гарусьница, хотя и очень любила свою невестку, однако она сына еще больше любила и всегда находила, в чем упрекнуть молодца; поэтому гораздо лучше было, что они не всегда были вместе.
Прожитые годы не особенно отразились на Лексе. Он как и раньше ходил за плугом, принимался за молотьбу, когда нужно было, пробовал свои силы, стараясь не отвыкнуть от работы. Он лишь к старости стал более молчалив, но когда бывал в духе, то по-прежнему давал волю языку.
В 1347 году была ранняя весна, потому что уже во время поста, лишь только растаяли лед и снег, покрывавшие землю, Вядух начал готовиться к посеву. Он находился в сарае вместе с Вонжем, где осматривал плуг, соху, борону, заступы и разные другие, тогда бывшие в употреблении, хозяйственные приборы.
Вдруг он услышал на дворе возглас:
– Гей! Хозяин…
Вслед за этим раздался с порога хаты голос Гарусьницы:
– Куда же он делся? Только что он был тут. Лекса! Отзовись!
На этот зов крестьянин вышел из сарая, и взглянув на ворота, он увидел всадника, лица которого он не мог разглядеть.
Хотя солнце своими слабыми лучами согревало землю, однако было холодно, и голова прибывшего была закутана в капюшон, которые были тогда в большом употреблении в Европе и у нас. Любившие наряжаться для красоты носили их не с одной кистью, а с целым пучком.
Когда всадник повернулся лицом к хозяину, Вядух узнал в нем короля, хотя и сильно изменившегося. Он не лишился прежних красивых очертаний лица, ни его свежести, но на нем лежала печать грусти, тоски по счастью; он как бы тяготился жизнью, стал более серьезным, постарел и был грустен.
Он по-прежнему был ласков и по-человечески разговаривал с крестьянами, обращаясь с ними как с рыцарями или высшими должностными лицами, но видно было, что его тяготит бремя, которое он нес.
Вядух низко склонился перед ним, упав к его ногам.
Король прибыл с небольшой свитой в сопровождении своего неизменного спутника Кохана, охотников, нескольких собак; за ними везли соколов.
Казимир, казалось, колебался; сойти ли ему с лошади, затем, шепнув что-то Кохану, он оставил коня у ворот и, похлопав старика по плечу, направился вместе с ним к хате.
Гарусьница с радостью и с благоговением встретила короля; она была горда оказанной ей честью и счастлива тем, что такая высокая особа вторично посетила их дом.
Как заботливая хозяйка, она тотчас же начала готовить угощенье, но Казимир предупредил ее, что ничего есть не будет. У нее был старый мед, и она начала искушать им гостя; Казимир, не желая ее обидеть, со снисходительной улыбкой согласился, хотя и не был любителем этого напитка.
Вядух стоял перед королем, который внимательно его разглядывал.
– Ты даже не постарел за эти годы, – обратился он к нему.
– Потому что я и тогда уже был стар, – возразил Вядух веселым голосом. – У нас рассказывают об одном человеке, который, взяв теленка в руки в первый день его появления на свет Божий, носил его на руках и на второй и во все последующие дни ежедневно и впоследствии до того привык к тяжести, что мог поднять целого вола. Так и с нашим трудом и работой, милостивый пан. Если их не бросать, силы не уменьшаются и человек не слабеет. Если б я хоть на один день отдохнул, на следующий день меня одолела бы старость и немощь.
Король с грустью рассмеялся.
– Ты это умно придумал, – прошептал король.
– Я лишь повторил то, что от других слышал, – возразил крестьянин.
– Я охотно почерпну что-нибудь из этой премудрости, – прибавил Казимир.
Через секунду король, оглянувшись кругом, опираясь рукой о стол, обратился к мужику со следующими словами:
– А знаешь ли ты, старина, что тебя ждет?
Вядух отрицательно покачал головой.
– А я прибыл к тебе, чтобы попросить тебя об услуге…
Крестьянин поклонился.
– Прикажите, милостивый пане.
– И не маленькой, – добавил король, – но она мне нужна…
После некоторого молчания Казимир прибавил:
– Вы, вероятно, слышали, что я пригласил в Вислицу дворян на четвертой неделе великого поста. Им там объявят новые законы, которые будут введены не для одних лишь дворян и духовенства, но и для всего люда и для крестьян тоже.
Вядух улыбнулся с недоверием.
– Милостивый пане! – произнес он. – Я ежедневно наблюдаю одно и то же, когда кормлю лошадей и им приходится есть из общих яслей, наполненных кормом. Если бы человек за ними не смотрел бы, то старшие и сильнейшие все съели бы, не оставив ничего на долю слабых и маленьких. Так может случиться и с вашими «яслями», к которым, вероятно, нам даже не дадут протиснуться…
– Это уж ваше дело, – произнес король с улыбкой, – я наполню «ясли», и, пока жить буду, останусь при них. В Вислицу съедутся дворяне, духовенство, рыцарство и обыкновенные паны… необходимо, чтобы и мужики там были…
Вядух с удивлением взглянул на короля и ничего не ответил.
– А допустят ли туда другие? – шепотом спросил он после размышления.
– Вы скажете тем, которые захотят вас прогнать или запретят вам доступ, – что вы повинуетесь моему приказанию. Я хочу, чтобы вы там были.
Крестьянин как будто не видел в этом надобности и покачивал головой.
– Поезжай ты, – произнес король, – возьми с собою несколько состоятельных крестьян, пользующихся у вас почетом; будьте вы при мне, для того чтобы не могли сказать, что я о вас забыл или пренебрег вами. Ведь и без того меня называют королем холопов, – пускай, по крайней мере, знают, что я им хочу быть так же, как я король для дворян рыцарства и всего люда, который живет в этом королевстве… Поэтому я вам приказываю, чтобы вы привезли в Вислицу нескольких ваших собратьев. А для того, чтобы вам не пришлось израсходоваться в случае, если не хватит корма для ваших лошадей, потому что в Вислице его могут съесть лошади дворян, возьмите это на дорогу.
При этих словах король вынул из кошелька приготовленный сверток с деньгами и положил его на стол…
– В Вислицу-то я поеду, – с гордостью промолвил крестьянин, – если только жив буду, – но не за ваши деньги, милостивый король. Это годится для бедняков. Мы – люди простые и живем попросту, такими родились и так привыкли; мы золота на себе не носим, но и у нас кое-что найдется припрятанным в горшке под лежанкой про черный день.
– Возьмите это; меня вы этим не разорите, – рассмеялся король, – возьмите для других, для того чтобы вы могли выбрать других не по богатству, а по уму и их серьезности… и – всего хорошего!..
С этими словами король встал и, чуть-чуть отведав налитого меда, направился к дверям. Вядух шел вслед за ним, почтительно склонившись. У порога король, повернувшись к нему, добавил:
– Помните, что к четвертой неделе поста там необходимо быть… непременно… потому что я осведомлюсь о пас…
Когда король вышел к своим людям, они еще сидели за медом, которым их угостили; наскоро допив кубки, они вытерли усы и вскочили на лошадей.
Казимир отъехал уже большое расстояние от двора, а мужик все еще стоял задумавшись, как бы приросший к земле…
Гарусьница даже вынуждена была выйти к нему и хлопнуть его по плечу, чтобы заставить очнуться.
– Что с тобой, старина?
Ничего не ответив, Вядух вошел в хату, где на столе еще лежал королевский мешочек, и, опустившись на скамью, погрузился в глубокую задумчивость.
Жена остановилась перед ним с заложенными руками, устремив на него испытующий взгляд и покачивая головой.
Лекса не мог собраться с мыслями и долго не отвечал на ее вопросы. Наконец, он встал, сотворил крестное знамение и, поправив шапку на голове, тяжело вздохнул.
– Да совершится воля Господня. Если нужно в Вислицу, то попаду и в Вислицу…
– Что же, разве это для тебя обида, а не честь? – спросила Гарусьница.
– Ты, старуха, лучше молчала бы, потому что ты ничего не знаешь! – воскликнул Вядух. – За такую честь человек потом расплачивается жизнью. Я никогда не кичился своим богатством, потому что не хотел вызывать зависти, а теперь нельзя ударить лицом в грязь и осрамить себя и свое сословие!
Поохав немного, Вядух прошелся несколько раз по комнате, выпил оставшийся после короля бокал с медом, поправил на себе пояс, крепче стянув его, осмотрел свои лапти и, выглянув через окно, чтобы по солнцу определить время, обратился к жене.
– К ужину, вероятно, возвращусь, а может быть и нет… Смотри, голубушка, чтобы я, возвратившись, нашел похлебку. А теперь мне нужно собраться в путь.
Выбрав самого лучшего коня, старик, не отказавшийся еще из-за возраста от верховой езды, бодро уселся на лошадь и уехал.
По соседству жило несколько богатых крестьян, но не все они были похожи на Вядуха. Самые выдающиеся из них льнули к дворянам и в них заискивали, поступали к ним на службу, обязывались нести повинности. С ними нельзя было говорить о положении крестьянства, ибо они, хоть и принадлежали к этому сословию, но не принимали близко к сердцу его интересы.
Другие предпочитали спокойно оставаться у себя, не подвергаясь никаким неприятностям, потому что несомненно надо было быть подготовленными к тому, что рыцарство недоброжелательно отнесется к их присутствию; некоторых Лекса не мог пригласить, так как они уже слишком просты были; поэтому выбор был очень труден, и Лекса был сильно озабочен, так как он стыдился удовольствоваться небольшой горсточкой сотоварищей.
Дорогой Лекса тяжко вздыхал о том, что король возложил на его плечи такое тяжелое бремя, но сбросить его он уже не мог.
До самого позднего вечера Гарусьница, дремля на скамье, напрасно поджидала его возвращения. И на следующий день ни к обеду, ни после обеда, ни вечером старика все еще не было. Жена не столько беспокоилась о нем, сколько злилась. Она пошла с жалобой к сыну, и когда возвратилась, мужа все еще не было дома; лишь на третий день она услышала голос Лекса, звавшего Венжа, чтобы убрать коня.
Она тотчас же обвела взглядом лицо старика, желая узнать, в каком расположении духа он возвратился; лицо его было спокойное, ясное, и на губах играла улыбка. Он потребовал еды и это было уже хорошим признаком. У него не было привычки отдавать отчет жене в своих делах, поэтому она и не расспрашивала его, зная, что он потом сам расскажет, если она не выкажет своего любопытства.
На следующий день он начал готовиться к отъезду в Вислицу. В первый раз в своей жизни Лекса сдал все хозяйство на руки сыну, потому что у него было слишком много работы. Вынули из сундуков и приготовили самую лучшую одежду, так как им придется и в Кракове остановиться, и, хотя Лекса не любил выставлять на вид свое богатство, он на этот раз говорил, что не желает осрамить свое сословие…
Нужно было приготовить прочный возок, подобрать к нему лошадей, потому что, хотя крестьяне и ездили верхом, в дорогу приходилось брать с собою всякие запасы, так как там, где много народа собирается, иногда и за деньги хлеба не достанешь, а в Вислице следовало надеяться на многолюдный съезд.
Время быстро летело; некоторые крестьяне начали приезжать к Вядуху, который назначил день отъезда в Вислицу. Почти ежедневно кто-нибудь из них обращался за советом к Лексе, так как все его считали как бы своим вождем.
Они не все вместе тронулись из Прондника, потому что некоторые должны были присоединиться по дороге. Вядух молча попрощался с женой, угрюмо велел сыну смотреть в оба за хозяйством, а то ему потом несдобровать.
Отряд крестьян, хоть и без оружий, без щитов, шишаков, имел довольно представительный вид, и каждый из них запасся для дальней дороги секирой, топором, большой палкой, которыми можно было защищаться в случае нападения.
Находчивый крестьянин выбирал товарищей, сообразуясь не только с их умом и материальным положением, но обращая внимание на то, чтобы они его своим внешним видом не осрамили. В числе их были и седые, серьезные старики, и молодые, румяные лица. Все они сознавали, что едут не ради себя, а в качестве представителей всего крестьянского сословия.
Все те дороги, по которым они проезжали, были переполнены; со всех сторон по ним тянулись дворяне, духовенство, воеводы, с челядью и со стражей, отряды рыцарей.
В те времена можно было почти всякое сословие узнать по его одежде и вооружению. Духовные правила строго определяли, как духовенство должно быть одето дома, в костеле и во время путешествия. Мещанам нельзя было наряжаться ни в шелки, ни украшать себя драгоценными камнями, хотя бы у них и были на это средства; бароны и знать везли с собою свиту, а потому всякий встретивший кучку крестьян при первом взгляде на них узнавал, кто они такие и что они не принадлежат к дворянскому сословию.
Встречные, не стесняясь, громко выражали свое изумление, недоумевая зачем мужики едут в Вислицу. Не верили даже тому, что они осмелятся туда прибыть.
Времена, когда рыцарство еще не выделялось в отдельное сословие, когда все имели право участвовать в вечах, куда старики стекались со всех сторон, давным-давно уже были забыты. По мере того как шляхтичи и рыцари росли, значение крестьян падало, и за ними уже не признавали никаких прав, а на них лишь лежала тяжесть повинностей.
Поэтому эта поездка крестьян, собравшихся в довольно большом количестве, вызвала удивление дворян. Их останавливали на дороге, расспрашивали, но осторожный Вядух заблаговременно предупредил своих путников о том, чтобы не вдаваться ни в какие разговоры, а молча проезжать мимо тех, которые их заденут; товарищи Вядуха придерживались его распоряжения.
Для того чтобы не быть задетым и избегнуть любопытных расспросов, Лекса ехал окольным путем, а не по обыкновенной проезжей дороге.
Наконец, они доехали к болотистой равнине на берегу Ниды и к стенам замка. Издалека они увидели новый костел, построенный Казимиром, и перед их глазами предстали стены, окружавшие город, расположенный на холме у устья реки, с воротами и башнями.
Но по мере приближения к замку и к городу – а везде на дорогах была большая давка – они могли понять, что не только в самой Вислице, но ни в Гориславицком предместье, ни в Кухарах, они для себя не найдут помещения.
Везде было переполнено. Над замком развевалось королевское знамя. Возы с припасами епископов и вельмож ехали, охраняемые челядью: по дороге толкали друг друга, обгоняли, затевались ссоры, и люди хватались за оружие. Видя все это, крестьяне должны были осторожно отыскать себе местечко где-нибудь в стороне и там расположиться, потому что все сухое пространство вблизи было занято расставленными возами, лошадьми, палатками и горевшими кострами.
Весна была ранняя, только что началась, травка на лугах чуть-чуть показалась, а потому нечего было и надеяться на свежий корм для лошадей. Но крестьяне не особенно заботились в этот момент о лошадях, так как дело шло о них самих.
Протиснуться между дворянами и занять среди них место было неудобно и опасно, поэтому они остановились на дороге, в стороне, перед Краковскими воротами, а Вядух на авось поехал искать какого-нибудь пристанища и кое-что разузнать…
Но это было не легко и пришлось долго блуждать. По дороге, по которой они ехали от Латанич и Кобыльник до Красного Ходча, везде было много народа, и повсюду, где мужик показывался, его провожали глазами и каждый задавал себе вопрос: что он тут делает?
Наконец, на самом конце Гориславицкого предместья, Лекса, заметив хату, не слишком бедную и не слишком богатую, решил на всякий случай зайти в нее. Изба была похожа на крестьянскую; а около города было изрядное количество полумещан, полуселян.
Свой своего всегда узнает. Вядух сошел с лошади и хотел войти в хату, но заметил, что она уже занята рыцарской челядью. Он очень неудачно попал туда, потому что оказалось, что это челядь Неоржи, которая тут расположилась. Один из слуг, часто видевший его, сразу узнал прибывшего.
– Вядух, гм? Что ж это, ты тоже приехал в Вислицу в гости к королю? – начал насмешливо слуга воеводы.
Старик не имел желания ответить на эту колкость, хотя в нем кипело от обиды.
– Как видите, – произнес он, – и мы в гости!
Не желая вдаваться ни в какие дальнейшие разговоры, Вядух выскользнул из комнаты. Вслед за ним вышел и хозяин хаты, представительный крестьянин, пожелавший узнать, что ему надо.
Вядух в первый момент колебался, открыть ли ему цель своего приезда, и вначале ограничивался неопределенными ответами. Наконец, он решил ему сказать, кто он.
– Зачем я буду это скрывать? – произнес он. – Король нам приказал приехать сюда, чтобы и мы услышали то, что будет обнародовано. Тут нас целая кучка и нам негде приютиться. Посоветуйте.
Тут трудно было что-нибудь посоветовать. Болотистая местность, залитая еще теперь весенним разливом реки Ниды, с трудом могла вместить в себя всех, которые сюда съехались. Король приютился в замке в нескольких небольших комнатах, вместе с архиепископом Ярославом Богорьей и с Янгротом краковским. Познанский епископ, Войцех Палука и Мацей Влоцлавский остановились в доме ксендза при костеле. Из воевод лишь двое, более близких к королю, кое-как поместились в замке, остальные в местечке у мещан по два человека в одной комнате; даже городские ворота – Краковские, Буские, Замковые были переполнены людом; приехавшие расположились на улицах и на рынке.
Крестьяне не нашли угла для себя и отправились в Бжезинь. Там они упросили крестьян позволить им переночевать; они решили на следующий день потихоньку пробраться в замок, потому что слышали, что именно в этот день – как раз была четвертая неделя поста – после торжественного богослужения в костеле, где обедню должен был служить сам архиепископ, на дворе королевского замка будут объявлены новые законы. Тем временем они вдоволь могли наслышаться о том, как заранее отзывались об этих законах. Простой люд рассказывал о них разные небылицы, а духовенство не скрывало того, что оно совсем не радуется этому королевскому новшеству.
– Он знает, что он делает, – говорили одни, – он добровольно не ослабит своей власти, он скорее ее отнимет у других, увеличив этим свою собственную. Понемногу он лишит рыцарей их свободы, и у нас будет, как на Руси, где имеют право голоса одни лишь князья, а дворяне лишены его. Тот же порядок он захотел ввести и у себя.
Духовенство, знавшее более подробно об этих новых законах, находило их варварскими и неприменимыми, указывая на то, что можно ввести другие законы чужеземные или римские, более подходящие для страны.
В их словах проглядывало недоброжелательство и недоверие, которое они питали к ксендзу Сухвильку. Однако архиепископ стоял на стороне короля, а он был высшим пастырем.
Но не обошлось и без нареканий на него, о которых шепотом передавали друг другу. Ксендз Сухвильк был его племянником; знали о том, что архиепископ очень снисходителен к королю и однажды в трудную минуту выдал ему из гнезнинской сокровищницы на несколько тысяч гривен крестов, чаш и драгоценных камней, за что впоследствии ему назначен был доход из копей в Величье; поговаривали о том, что архиепископ для удобства обменивался с Казимиром церковными землями.
Малополяне и великополяне, куявцы, а также и мазуры опасались потерять свои владения.
Наконец, всем известное пристрастие короля к хлопам, и его желание им покровительствовать внушало опасение, что он увеличит их права в ущерб дворянам.
Поэтому умы волновались; однако власть короля, хотя права его и границы их ничем не были определены, признавалась всеми и ее почитали. Король мог, как высший судья, приговорить к смертной казни всякого дерзко выступившего против него, и никто не осмеливался и не мог этого сделать, а лишь потихоньку роптали…
Окружающие короля, наученные Сухвильком, повторяли то, что многократно от него слышали: что новые законы обеспечат справедливость, уменьшат и уничтожат все насилия и злоупотребления, что было бы стыдно, если бы Польша не ввела бы у себя постановления, принятые всеми другими государствами.
На следующий день благовест возвестил о богослужении, а так как большая часть прибывших не могла поместиться в костеле, то громадная толпа осталась на дворе. По окончании службы вся толпа во главе с королем и архиепископом направилась к замку.
Погода не особенно благоприятствовала торжеству; холодный ветер завывал, небо было покрыто тучами. Но ни Казимир, шествовавший с победоносным видом, ни другие этого не заметили. Свита короля в этот день выступила с истинно королевской пышностью, во всем блеске оружия, в дорогих платьях, окаймленных драгоценными мехами.
Сам Казимир был в черном, с цепью на шее, на нем был роскошный пояс, а на плечи его был накинут пурпуровый плащ на горностаевом меху. Часть свиты была в пурпурных платьях с польскими орлами на груди, другие с оружием и позолоченными шишаками, на которых были символические знаки: топоры, соколы, луна.
Хотя толпа стихла, однако когда король начал говорить, слов его никто не слышал, так как ветер шумел, а издали доносились крикливые голоса.
Затем видели лишь, как Сухвильк поднял вверх пергаментные листы с печатью на шнуре, как архиепископ благословлял, затем как король опять что-то говорил, причем лицо его так сияло, глаза были такие радостные, как будто он достиг высшего счастья. Лицо короля возвещало народу, что совершилось великое, бессмертное дело.
Пока все это происходило, Вядух вместе со своими спутниками, каким-то чудом протолкавшийся в замок, не найдя другого места, влез на забор. Хотя ему было очень неудобно, потому что и там была страшная давка, однако он был вознагражден тем, что Казимир, обводя толпу глазами, увидел его и ему усмехнулся.
Вслед за взглядом короля взоры всех устремились на крестьян, о прибытии которых Неоржа уже знал, с гневом рассказывая о том, что они осмелились это сделать.
Накрыли столы, часть толпы начала расходиться, и Вядух недоумевал, как поступить; к нему подошел один из придворных, который бывал вместе с Казимиром в его доме и знал его хорошо.
– Король приказал мне вас угостить, – обратился он к крестьянам. – Для вас приготовлен отдельный стол. Пойдемте.
Мужики колебались, опасаясь вызвать ревность других, но не посмели ослушаться. Придворный, Гослав Кройц, повел их к назначенному месту, но они уже издали заметили, что там расположились землевладельцы. Мужики хотели тотчас же уйти обратно, но Гослав не допустил и приказал рядом со столами, самовольно занятыми дворянами, поставить другие столы с угощеньями и усадил мужиков.
Паны, увидев рядом с собой крестьян, подняли шум и гам, выражая свое негодование. Их волнение передалось другим, сидевшим дальше, и дело грозило закончиться скандалом…
Во избежание этого Вядух, вместе со своими товарищами, не смочив губ и не дотронувшись до королевского угощенья, удалились окольным путем, который им указал Гослав.
Уход крестьян не успокоил рыцарей и дворян. Некоторые предполагали, что мужики приехали с жалобами на них, и возмущение их все более и более увеличивалось. Они грозили отомстить им за это. Хотя и были слухи о том, что мужики приехали по приказанию самого короля, но они этому верить не хотели.
Вядух, возвратившись с товарищами на свою квартиру, стал с ними советоваться, что теперь делать, что предпринять. Большая часть была того мнения, что им следует возвратиться домой, ибо они исполнили свою обязанность, явившись сюда; другие предлагали всем вместе отправиться к королю и поблагодарить его за оказанную им честь. Вядух советовал оставаться и ждать, не будет ли каких приказаний.
– Чего ждать! – воскликнул возмущенный старый крестьянин Строка. – Дождемся того, что рыцарство нас саблями изрубит… Нам здесь нечего делать, да и теперь нет необходимости ехать всем вместе; каждый может руководствоваться своим умом и своим желанием.
На следующее утро явился к только что вставшим мужикам придворный и пригласил их в замок от имени короля. По дороге в замок встречные останавливали крестьян с насмешками, но толпа значительно поредела, и они легко пробрались.
Крестьян пригласили в приемную. Король в сопровождении нескольких придворных вышел к ним с ласковой улыбкой на устах. Взглянув на Вядуха, он приветливо кивнул головой.
– Я желал, – громко сказал король, – чтобы и вы присутствовали здесь, когда с благословением Божьим новые законы или, вернее, старые законы наших дедов, но писаные… будут обнародованы. Они будут защищать и охранять от опасности каждого, и вас в том числе, крестьян… Возвращайтесь спокойно по домам и передайте всем и каждому, что отныне суд творить будет не судья… а закон, перед которым все будут равны.
Мужики преклонили головы, а король, ласково взглянув на них, улыбнулся и, обратившись к окружавшим его сановникам, произнес:
– Они наши кормильцы и должны находиться под покровительством закона и пользоваться защитой власти.
Обращаясь к мужикам, он прибавил:
– Идите с миром.
Присутствовавший королевский духовник благословил крестьян, и они удалились, обрадованные тем, что миссия их уже окончилась.
Каждый из них торопился как можно скорее уехать из Вислицы… Они не сознавались в этом, но насмешки и угрозы дворян и рыцарства их очень пугали.
Вядух не успел сговориться с кем-нибудь из товарищей о том, чтобы ехать вместе, и остался один. Но это его не смущало, и он не испытывал никакого страха, так как у него была хорошая лошадь, и батрак его Вонж был вместе с ним. Хорошенько отдохнув, он после обеда тронулся в путь.
По дороге не было шумно и людно, ибо не все одновременно разъехались. Лекса совершал свой путь, погруженный в раздумье, припоминая обо всем, что видел и что слышал.
Как старый, опытный человек, он, несмотря на все обещания и надежды на новые законы, остался при своем прежнем убеждении, что ничего не изменится и что при новых законах будет твориться то же, что и без них. Он не сомневался в том, что король желает самого лучшего, он лишь не верил, в его силу.