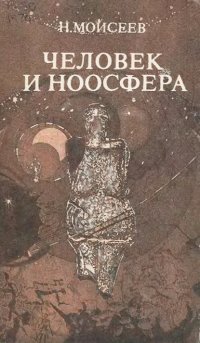Читать онлайн Как далеко до завтрашнего дня… Свободные размышления 1917–1993. Вехи-2000. Заметки о русской интеллигенции кануна нового века бесплатно
- Все книги автора: Н. Н. Моисеев
© Моисеев Н. Н. 1994
© Оформление: АНО «Журнал «Экология и жизнь», 2017
© Составитель: Самсонов А. Л. 2017
Как далеко до завтрашнего дня… Свободные размышления 1917–1993
К читателям
Эту книгу я писал для себя, своей жены, своих детей, может быть, для других своих близких. Я сначала не думал о других возможных читателях. Но постепенно понял, что написанное может быть интересным и для значительно более широкого круга людей.
Книга о моей работе и моей стране. Однако я не могу себя отделить от них. Значит, эта книга прежде всего обо мне самом. Я старался писать честно и искренно. И фактически точно.
Всех людей, которые встречались на моем пути, я называл здесь их настоящими именами. Неточности могут быть только в датах. В то же время это не мемуары в обычном смысле – это действительно размышления на фоне воспоминаний.
Родился я в 1917 году, за несколько месяцев до Октябрьской революции, и пережил весь трагичный период истории становления, триумфа и крушения социалистического государства. Моя собственная судьба тоже нетривиальна. В некотором смысле она даже исключительна: из огромной семьи, разбросанной по всем городам России, уцелел в конечном счете я один, если говорить о моем и более старших поколениях. И при этом со мной произошло, если пользоваться языком биолога, множество метаморфоз, говорящих об особенностях эпохи не меньше, чем специальные трактаты.
И, может быть, мои «Свободные размышления», рассказывающие о прихотливости тех путей, тех мостов, которые проходили над бездной десятилетий, сохранят прошлое и таким образом перекинут мост к следующим поколениям.
Начало (Вместо предисловия) Туман… Тамань…
Антонине – жене и другу
(Георгий Иванов. 1918 г.)
- Пустыня внемлет Богу.
- – Как далеко до завтрашнего дня!
- И Лермонтов один выходит на дорогу,
- Серебряными шпорами звеня.
Мысль о том, что однажды я, может быть, напишу эту книгу, появилась у меня более пятидесяти лет тому назад – в июне 1942 года.
Мы только что выбрались из нелепой ловушки, откуда, как вскоре поняли, – могли бы вообще не выбраться. Несколько дней мы шли по колено в грязи по старым торфяным разработкам где-то к югу от станции Войбокала, не рискуя вылезать на сухую землю: над нами все время барражировал немецкий самолет-разведчик, который мы называли рамой. А в торфяной грязи нас не было видно. Мы тогда еще не знали, что такое Мясной Бор, не знали, что генерал Власов сдался немцам… Мы только искали линию фронта. А ее-то и не было в тех приладожских болотах. Так мы и вышли к станции Войбокала, не найдя линии фронта и не встретив, на наше счастье, ни одного немца.
А дальше была баня, чистое белье и более или менее сносная еда.
И вот я сижу на берегу Ладоги. Передо мной белесая гладь воды, уходящая за горизонт, неширокая полоска камышей, в которых прорублены дорожки для лодок. И кругом разлит удивительный покой. Я не знаю, который час: в этих широтах в июне вечер незаметно переходит в утро. Да так ли это важно, когда война отступила, пусть лишь на какое-то время? Она тоже ушла за горизонт, как и бесконечная гладь озера. А есть ли у него вообще другой берег? Прерывается ли где-нибудь эта спящая в предутренние часы спокойная водяная равнина?
О будущем как-то не думается. Через месяц остатки полка отвезут в город Алатырь, где мои товарищи начнут осваивать новые самолеты Казанского завода, с которыми в июне сорок третьего мы неожиданно появимся под Мценском. В середине зимы и я окажусь в Алатыре. Но меня еще ожидает осень под Шлиссельбургом, куда меня отправят с моими оружейниками.
Там будут разные перипетии, в которых шансов выжить, вероятно, было не так уж много. Но мне «повезет». Однажды, когда блокада Ленинграда уже будет прорвана, кусок мерзлой глины во время бомбежки ударит по моему позвоночнику. И меня отправят в госпиталь под Волхов, а затем в мою старую часть, в славный город Алатырь. Что же касается моих оружейников, то их всех оставят в четырнадцатой воздушной армии, где их будут использовать и как оружейников, и как задних стрелков на ИЛ-2. Я так и не знаю, дожил ли кто из них до конца войны. Никого никогда я больше не встретил. Вот и задумаешься, от чего тебя охранила судьба! Может быть, ею и был тот кусок мерзлой глины, из-за которого я всю жизнь страдал радикулитом.
Но все это будет позже, а пока я наслаждался покоем, смотрел на гладь озера и слушал шепот камышей. Я повторял какие-то стихи. То ли сам их придумал, то ли они выплыли из памяти. Но помню я их и сейчас, через пятьдесят лет. Вот они:
- Как светлы без луны
- Эти белые ночи.
- Серым блеском полны
- От движенья волны
- Камыши у подножия рощи.
Я лежал на траве у корней старой березы, смотрел на водную гладь и лениво думал о будущем. Мне не приходило в голову, что я могу погибнуть. Нет. Вот окончится война, и пройдут десятилетия. Мне, наверное, будет дано многое сделать: я чувствовал в себе столько энергии и силы – это свойство юности, как и вера в то, что со мной не может случиться плохого! Я, конечно, знал, что порой мне будет очень трудно, но был бесконечно убежден, что со всем справлюсь и, может быть, однажды напишу ко всему пережитому и сделанному свое послесловие. А может быть, и наоборот – предисловие?
Я уже тогда понимал, что жизнь – это всего лишь хрупкий мостик между двумя небытиями. Но все же мне хотелось, чтобы книга, которую я, вероятнее всего, напишу, была предисловием. А уж если послесловием, то послесловием к стихам, как символу чего-то прекрасного. Так думал я тогда.
Но такому свершиться было не суждено. Да и не могло оно свершиться. Тогда я этого еще не понимал, как и того, что силы и время человека ограниченны, а замыслы, как правило, не сбываются. Да и жизнь, как оказалось, вовсе не была похожа на стихи. А что касается предисловия, то мне даже трудно вспомнить: что я имел тогда в виду?
Но все же вот она, книга. Не «даль свободного романа». А даль свободных раздумий и дань памяти. Некий своеобразный документ об авторе, его работе и его стране. О бесконечно сложном, противоречивом и трудном XX веке, который я в одной из своих работ назвал веком предупреждения. И мне хочется думать о том, что эта книга кому-то будет интересной и кому-то окажется нужной в его пути по шаткому мостику. Может быть, для него она и окажется предисловием.
Часы, проведенные на берегу Ладоги, их сосредоточенное одиночество остались со мной на всю жизнь. Я понял прелесть таких часов. Я шел на озеро, собираясь купаться, но так и не вошел в воду. Но когда уходил почувствовал себя как бы крещенным в новую веру. Эти часы действительно вошли в мою жизнь – и в горе, и в радости я часто снова остаюсь наедине с собой. Тогда в своих раздумьях я часто вижу снова бледные, бескрайние и успокаивающие просторы озера, в шуме камышей мне чудится какая-то скрытая сила. И это дает опору в невзгодах. Может быть, тогда у Ладоги, у ее спокойных бледных просторов, я научился в одиночестве находить защиту от одиночества.
Эту книгу правильнее всего было бы назвать так: «Избранные места из моих размышлений на Ладожском озере». О прошлом, настоящем и, может быть, будущем.
Глава I. По острию ножа
Сочетание случайностей
Я думаю, что у многих из тех, кто добивался успеха в каких-то начинаниях или ненароком обходил неизбежные рифы на своем пути, невольно возникала мысль: а что в происшедшем, в полученном, в дарованном тебе жизнью действительно твое, заслуженное, заработанное? Где в этом успехе ты сам? А может быть, твоей судьбой руководила случайность, может быть, тебе просто повезло? И для таких размышлений у меня было много поводов.
Действительно, в жизни мне удивительным образом помогал счастливый случай. И даже тому, что имею возможность говорить об этом, я обязан череде случайностей.
Я много занимался проблемами самоорганизации и знаю, что неопределенность и случайность пронизывают весь мир, весь Универсум, от процессов микрофизики элементарных частиц до одухотворенной деятельности человека. Но тем не менее та цепь случайностей, благодаря которой я могу работать над этой книгой, мне кажется порой фантастической. Известно, что Лаплас на вопрос Наполеона о месте Бога в его космогонической теории ответил весьма лаконично: «Мой император, такая гипотеза мне не потребовалась». Выстраивая тот уникальный ряд событий, который называется прожитым, я вряд ли смог бы принять позицию графа де Лапласа. Впрочем, любое событие как уникальный акт невероятно! Одним словом, я прошел по лезвию – судьба меня хранила «без нянек и месье».
Вот она, частица этой событийной цепи.
Я начал повествование с того, что вспомнил о куске мерзлой глины, который, повредив позвоночник, вероятнее всего, спас мне жизнь, ибо испытывать судьбу заднего стрелка на ИЛе никому долго не удавалось. Произошло, казалось, несчастье, а обернулось оно возможностью прожить долгую жизнь.
А за несколько месяцев до этого произошло нечто подобное. Перед выпуском из Академии имени Жуковского мне предложили лететь в Америку в составе команды специалистов, которые должны были обеспечить поставки авиационной техники по ленд-лизу. Кое-какое знание языков, хорошие отзывы преподавателей и, как ни странно, успехи в спорте – все это оказалось весомым для тех, кому было поручено подобрать команду выпускников Академии. Правда, я не был комсомольцем. Но кто на это смотрел в апреле сорок второго? Предложение было заманчивым, меня все поздравляли, мне завидовали. Но я категорически отказался. Фронт и только фронт! И я получил назначение на Волховский фронт в четырнадцатую воздушную армию в качестве старшего техника эскадрильи по вооружению самолетов.
Этим решением, как оказалось, я тоже сохранил себе жизнь, хотя об этом долго и не догадывался.
«Американская команда» была укомплектована и под руководством некоего полковника благополучно прибыла на западное побережье Соединенных Штатов. Года четыре она работала не за страх, а за совесть. Но дальнейшая ее история трагична. На обратном пути через Аляску и Сибирь во время одной из многочисленных посадок то ли в Магадане, то ли в Хабаровске ее почти в полном составе отправили туда, откуда в те годы люди обычно не возвращались. Кажется, отправили всех, кроме самого полковника, который благополучно вернулся в Москву. Во всяком случае, больше ни о ком из тех «счастливцев» я никогда ничего не слышал. А полковника, по слухам, однажды в конце сороковых годов нашли застреленным в собственной московской квартире.
Война меня щадила несколько раз. Над правым глазом, на три-четыре миллиметра выше глазной впадины, до сих пор видна метка, оставленная каким-то «лесным братом». Эту метку я получил в первых числах мая сорок пятого в глубоком тылу, на летном поле недалеко от города Августов, на границе с Восточной Пруссией. Хотя автоматная пуля и была, вероятно, на излете, но попади она в меня на несколько миллиметров ниже, и книга эта не была бы написана.
Во время войны возникали и другие опасные для моей жизни ситуации, из которых я более или мене успешно выкрутился. Но они носили скорее приключенческий, чем судьбоносный характер и более говорили о пользе, которую приносит юношам занятие настоящим спортом, чем о роли случайности в моей судьбе.
Но один раз действительно случайность в облике лени или недоработки одного из чиновников по-настоящему спасла мне жизнь. Но об этом эпизоде я узнал гораздо позже и совершенно случайно, уже в благополучные пятидесятые годы…
Неразорвавшиеся бомбы и поцелуй Иуды
В 1955 году я был назначен деканом аэромеханического факультета Московского физико-технического института. На этом факультете готовили специалистов для работы в аэрокосмической промышленности. Наши выпускники шли в самые престижные и самые закрытые конструкторские бюро, работа в которых требовала очень хорошей подготовки. Надо сказать, что и учили мы их соответственно, по-настоящему! Если к этому добавить огромный конкурсный отбор, который в те годы был обычным явлением для Физтеха, то имидж нашего выпускника – сочетание способностей и высокого профессионализма – был общепризнанным. В последующие годы я много бывал за границей, где участвовал в бесчисленном количестве семинаров и конференций, читал лекции в престижных университетах, и могу объективно сравнивать уровень западных и наших молодых специалистов. Технические успехи пятидесятых и шестидесятых годов я связываю, прежде всего, с превосходством наших инженерно-технических кадров. Качество подготовки молодых специалистов во многом компенсировало плохую организацию, отраслевой монополизм и лень чиновного аппарата (впрочем, ничуть не меньшую, чем бездарность, с которой мне приходилось сталкиваться в Америке или Франции). И наблюдая все это, не раз думалось: если бы тогда, в пятидесятых годах, весь этот интеллект и всю энергию да в хорошие бы руки…
Быть деканом аэромеха в те годы означало быть причастным к сверхсекретам аэрокосмической, да и ядерной техники. Впрочем, как мы теперь понимаем, настоящей тайной государства в то время были не технические секреты, а затраты на обеспечение коммунистического режима. Для того чтобы иметь право выполнять свои обязанности, я должен был получить соответствующий формальный допуск, который оформлялся органами госбезопасности по представлению администрации.
Необходимые документы МФТИ подготовил, они ушли, куда следует, время шло и… никакого ответа! Я начал работать, а начальство начало беспокоиться, ибо имело место прямое нарушение железного порядка: допуск к работе без оформления нужной формы допуска.
Ректором МФТИ был тогда генерал-лейтенант Петров Иван Федорович – в прошлом матрос, «штурмовавший» Зимний дворец, в прошлом известный летчик, в прошлом начальник ЦАГИ, в прошлом командующий авиацией Северного флота, в прошлом начальник авиации Северного морского пути и прочая и прочая. И отовсюду его снимали. Как-то он мне доверительно сказал (правда, уже после XX съезда): «Все спрашивают, почему меня все-таки ни разу не арестовали? Я и сам этого не понимаю. Вот я и придумал ответ: потому что меня вовремя снимали». При всей его матросской «интеллигентности», при том, что он был истинным сыном своего времени, И. Ф. Петров был абсолютно уважаемым человеком.
Он сделал много хорошего для тех учреждений, которыми руководил – потому его, наверное, и снимали с работы. Так, он вывез ЦАГИ из тесных помещений на улице Радио и создал в Жуковском современный центр авиационной науки (до сих пор принято говорить о «допетровском» и «послепетровском» ЦАГИ). Но главным его достоинством была искренность побуждений, которой люди верили, несмотря на изрядную долю присущей ему крестьянской хитрецы. Он умел подбирать людей и защищать их. Благодаря чему у него было много настоящих, искренних друзей, и многие, многие его вспоминают добрым словом. Будучи начальником ЦАГИ, он, например, на свой страх и риск допустил М. В. Келдыша – будущего президента Академии наук СССР и будущего Главного теоретика советской космической техники – до работы в ЦАГИ, хотя тому, сыну генерала и внуку генерала, в конце тридцатых годов тоже не давали допуска к секретной работе. А вот теперь и я оказался в похожем положении: он на свой страх и риск разрешил мне начать работу без допуска нужной формы, что могло грозить ему самыми разными осложнениями.
Так вот, однажды, когда дальнейшее ожидание могло грозить руководству МФТИ серьезнейшими неприятностями, Иван Федорович сам поехал на Лубянку. Он знал, как и с кем надо разговаривать. Петров получил возможность прочитать мое досье, в котором, по его словам, увидел элементарный донос, донос «особняка», некоего старшего лейтенанта, начальника СМЕРШ того авиационного полка, в котором я прослужил всю войну. Уже не помню его фамилию. Но хорошо помню, как этот «особняк» стремился быть в числе моих друзей. Часто приходил ко мне. Я поил его спиртом, благо этого добра у меня было сколько угодно. Да и закусь у меня водилась – уж очень хозяйственным мужиком был мой старшина.
Будучи инженером полка по вооружению, я, тем не менее, не любил жить вместе с полковым штабом. Устраивался обычно поближе к самолетам вместе со старшиной Елисеевым, бывшим колхозным шофером, мужиком добрым и умельцем на все руки. Он был у меня шофером, писарем и одновременно папой и мамой. Он был ровно в два раза старше меня и, действительно, относился ко мне по-отечески. Иногда забывался и обращался ко мне «сынок». Так вот, Елисеич, как я его называл, терпеть не мог нашего «особняка». «У-у-у, гнида, любит на дармовщину» (выражение «на халяву» тогда еще не использовали). Спирта он не жалел – казенный. Но луковицу и ломоть хлеба на закуску приходилось вытягивать из Елисеева клещами.
«Особняк» никогда не напивался, и мы вели долгие и, вообще говоря, добрые беседы. Он был чудовищно невежествен и с видимым удовольствием и интересом расспрашивал меня, о чем угодно. Говорили мы и о русской истории, и о литературе. Всю войну в моем вещевом мешке вместе с домашним свитером и шерстяными носками лежал томик «Антология русских поэтов», который я купил в городе Троицке Челябинской области перед самым вылетом на фронт. Мы иногда читали что-нибудь вслух. Иногда одно и то же по многу раз. Мы оба очень любили «Вакхическую песнь». Я иногда пробовал что-то сочинять. Мне казалось, что и он тоже: во всяком случае, он хорошо чувствовал музыку русского стиха. Однажды я вернулся с передовой, где целую неделю пробыл в качестве офицера связи нашей авиадивизии. Елисеич был рад моему возвращению, где-то раздобыл банку свиной тушенки, и мы собрались с ним отметить мое благополучное возвращение. И тут в мою землянку ввалился «особняк». В тот вечер его приход не испортил настроения даже Елисееву. Мы тогда, как помню, очень славно выпили. Во время моего дежурства на КП, откуда, если понадобится, я должен был держать связь с авиационным начальством, я написал вот такие стихи:
- С утра пушистая зима
- Одела праздничным убором
- И лес и поле. Из окна
- Видны холмистые просторы.
- Ковер усыпан серебром,
- Блестящим радостным огнем
- Бесчисленных песчинок света.
- И бруствер снегом занесен,
- И танк, как белая громада
- На минном поле, заснежен.
- Разрыв последнего снаряда.
- И снова в мире тишина.
- Светла, прекрасна и ясна
- Улыбка зимнего рассвета.
«Особняк» был первым и, может быть, единственным человеком, которому я прочитал эти стихи. Он слушал внимательно и, как мне казалось, вполне искренне сказал мне какие-то добрые слова. Я доверял ему. Особенно после того вечера, когда капитан, старший лейтенант и старшина под американскую свиную тушенку выпили хорошую дозу казенного спирта. У меня начали складываться с «особняком» отношения, похожие на дружеские. И я даже говорил моему закадычному другу, отличному летчику и доброму, смелому человеку, старшему лейтенанту Володе Кравченко: вот и «особняки» бывают людьми. Но Володя относился к нему совсем по-другому и не раз говорил: «Не может нормальный парень залезть в шкуру «особняка». Вот потребуют от него процента раскрываемости шпионов, и продаст он тебя за милую душу». Под воздействием таких слов я все-таки немного остерегался неожиданного друга-«особняка», не выкладывая ему все, о чем хотелось поговорить. И, как оказалось, совсем не зря!
Наш полк в 1944 году стал получать трофейные авиабомбы. В отличие от наших, они требовали боковых взрывателей. Немцы использовали электрические взрыватели без ветрянок. У нас их не было – мы должны были использовать механические взрыватели. У таких взрывателей ось ветрянки была перпендикулярной боковой поверхности бомбы. Подобные взрыватели использовались в русской армии в первую мировую войну – это так называемые взрыватели Орановского. На наше счастье оказалось, что на военных складах еще со времен самолета «Илья Муромец» сохранилось довольно много таких взрывателей, и они начали поступать в полки. Но с использованием взрывателей Орановского дело гладко не пошло. Очень часто сброшенные авиабомбы по неизвестной причине не взрывались, хотя сами взрыватели были безусловно исправными.
Начальство заволновалось и начало издавать грозные приказы, в которых вина за отказы, само собой разумеется, приписывалась стрелочникам. В приказах приводились одни и те же аргументы: небрежность в подготовке авиационного оружия, нарушение инструкций по эксплуатации. На бедных оружейников сыпались довольно жесткие наказания. Особенно неистовствовал мой непосредственный начальник, главный инженер по вооружению пятнадцатой воздушной армии полковник Тронза, педантичный жестокий латыш, из тех, которые делали русскую революцию в 1917 году. И вот он добрался до нас. Прилетел однажды в полк на У-2 вместе со своим механиком. Демонстративно при всех снарядил несколько бомб, взлетел на том же У-2 и сбросил их на ближайшем болоте. Все бомбы взорвались!
Тронза публично обвинил меня в предательстве рабоче-крестьянского государства (не Родины, а государства!), отстранил от должности и приказал отдать под суд. Одновременно он сказал, что уже давно собирался прислать нового инженера полка. Каждый знал, чем мне грозит происшедшее: по существу, это был смертный приговор.
Я ничего не мог понять. Мы, готовя бомбы, делали все то же самое, что делали нагрянувший полковник и его механик. Но у нас бомбы почему-то не взрывались! В мучительном поиске решения, от которого зависела моя жизнь, неожиданная помощь пришла от Елисеева. Он сидел в другом конце избы и мрачно смотрел на улицу. Неожиданно он повернулся ко мне с каким-то просветленным лицом: «Товарищ капитан, может все потому, что он бомбил с У-2?» И меня осенило.
Скорость наших самолетов была в пять раз больше скорости знаменитого «кукурузника». Значит, сопротивление воздуха лопастям ветрянки взрывателя будет больше в двадцать пять раз. Значит, нагрузка на ветрянку станет больше тоже в двадцать пять раз. Да такая сила просто согнет ось ветрянки, она ее заклинит. Ветрянка не вывернется, и взрыватель не взведется. Вот и все! Надо только уменьшить нагрузку на лопасти ветрянки. А для этого достаточно кусачками откусить все ее лопасти, кроме двух симметричных. Для того чтобы это понять, не надо было быть инженером.
Позднее за эту догадку меня публично поблагодарит – нет, не полковник Тронза, с ним никогда больше судьба меня не сведет – сам командующий армией генерал-лейтенант Науменко. Предложенный способ «откусывания лишних лопастей» станет широко использоваться и в других полках, а сбрасываемые бомбы перестанут «не взрываться». Но это произойдет несколько позже, а тогда – тогда я без оглядки побежал к командиру полка. Он сразу все понял, крепко выругался, вспомнив и меня, и Тронзу, и наших родителей. Мы мгновенно поехали на летное поле. Я сам подготовил бомбы, дрожащими от волнения руками откусил лишние лопасти, и самолет командира ушел в воздух. И на том же болоте взорвались все шесть бомб!
Когда командир выходил из самолета, неожиданно появился Тронза. Он уже собирался улетать из полка, когда услышал взрывы. Раздался грозный рык: «Подполковник, кто разрешил? Я же отстранил капитана Моисеева. Вы за это ответите!» – и так далее в том же духе. Но все это уже не имело никакого значения!
Так вот, мой «особняк» описал в своем доносе всю эту историю, конечно, без финала, без упоминания о благодарности командарма. Он так же, как и полковник Тронза, называл меня предателем Родины и предлагал незамедлительно арестовать. Но на его рапорте кто-то размашисто и неразборчиво что-то написал, а за непонятными словами стояло «отложить» или «подождать» и не менее неразборчивая подпись. Так этот донос и оказался в моем досье. Ну, а на Лубянке на всякий случай меня решили не допускать до секретной работы.
Когда весной 1946 года я уезжал из действующей армии, где я уже исполнял обязанности инженера авиационной дивизии, «особняк», который тоже поднялся в чинах, пришел меня провожать. Он меня облобызал (я тогда и не знал, что это поцелуй Иуды!) и пожелал всяких благ.
Эпизод, о котором я рассказал, мог легко стоить мне жизни, а искалечил бы ее наверняка. Если бы не подсказка старшины Елисеева, если бы не лень или нерадивость кого-то из начальников моего «особняка»… А может быть, как говорил капитан Кравченко, в дивизионную СМЕРШ не поступило нужной разнарядки на выявление предателей Родины или старая разнарядка была уже выполнена и донос отложили про запас!
Ну, а Ивану Федоровичу Петрову, когда он понял, в чем суть дела, не потребовалось больших усилий, чтобы все поставить на свое место: Сталин уже умер, Берия был расстрелян, и приближался XX съезд партии. Обстановка изменилась коренным образом. Я благополучно получил первую, то есть высшую форму допуска к секретной работе, и даже больше того: у меня никогда не возникало трудностей с совмещением полетов на полигон и командировками за границу.
Бегство, обернувшееся победой
Но последняя из историй, которая могла полностью исковеркать мою жизнь, произошла уже на грани пятидесятых годов.
Моя мачеха, которая уже более четверти века работала учительницей младших классов сходненской школы, неожиданно была арестована по статье 58, как активный участник группы, готовившей, ни больше ни меньше, вооруженное восстание. Ее осудили на десять лет и отправили в лагерь около города Тайшет. В общем, история весьма заурядная для тех времен. Для меня лично она имела весьма тягостные последствия и могла бы обернуться настоящей трагедией, если бы… если бы снова не счастливый случай. Но обо всем по порядку.
После демобилизации в конце 1948 года я стал работать сразу в двух местах. Моя основная работа проходила в НИИ-2 Министерства авиационной промышленности, где меня назначили одним из «теоретиков» в группу Диллона, Главного конструктора авиационных реактивных торпед. Несмотря на то, что Диллон болел чахоткой и физически был очень слаб, работал он удивительно много и всегда был полон разнообразных идей и начинаний. О его изобретательности ходили легенды: проживи он подольше, появилось бы много технических новинок.
Я оказался в одной группе с моим товарищем Юрием Борисовичем Гермейером. Мы познакомились и подружились еще в десятом классе, в математическом кружке, который вел в Стекловском институте И. М. Гельфанд, тогда доцент МГУ. В студенческие годы мы жили с Юрой в одной комнате в общежитии на Стромынке, кончали мехмат в МГУ по одной кафедре теории функций и функционального анализа и под руководством одного и того же профессора – Д. Е. Меньшова. И вся наша жизнь в конечном счете прошла рядом. Позднее, когда я стал работать в Академии наук, я перетащил Гермейера в Вычислительный центр, где он организовал отдел исследования операций, а на факультете прикладной математики создал кафедру с тем же названием, вероятно, одну из самых интересных кафедр этого факультета.
Ну, а тогда, в сорок восьмом? Гермейер не был на фронте. Как человека, носящего немецкую фамилию, его вообще не призывали в армию, и хотя мать у него и была русской, его должны были отправить на спецпоселение, как всех лиц немецкой национальности. Для начала он оказался в Сталинграде, где его взяли работать на завод. Во время наступления немцев на Сталинград, в той суете и неразберихе, которая предшествовала героической Сталинградской эпопее, Юру кто-то зачем-то послал в Москву. А возвращаться было уже некуда. И ему предложили работать в одном из секретнейших КБ в Москве, там, где создавались первые «Катюши». Вот так мы с Юрой оказались снова в одной комнате, теперь уже не в общежитии, а в НИИ-2. Он занимался проблемами эффективности, а я динамики и баллистики авиационных торпед.
Работал наш отдел с увлечением, это был общий настрой послевоенных лет. Работа шла быстро и очень успешно. Начальником института был тогда генерал-майор П. Я. Залесский, хороший инженер, плохой математик и, как всякий одессит, очень остроумный человек. Когда ему надо было участвовать в совещаниях, где предстояло обсуждать результаты каких-либо сложных расчетов, Павел Яковлевич брал меня с собой. И публично именовал «ученый еврей при губернаторе», хотя и евреем и «губернатором» был он сам. Короче, работа в институте была не только интересной – вся атмосфера была творческой, как теперь любят говорить. Мы очень быстро продвигались вперед, наш отдел и весь институт были на подъеме.
Исследовательскую работу я совмещал с преподавательской. Она была не менее увлекательной. Я был принят на работу в качестве исполняющего обязанности доцента на кафедру ракетной техники в один из лучших технических вузов страны – МВТУ, который еще в далеком XIX веке окончил мой дед и к которому еще с детства я привык относиться с великим уважением. Кафедру возглавлял профессор Победоносцев Юрий Александрович. Личность легендарная.
Прежде всего он был одним из немногих отцов советской ракетной техники, избежавших тюрьмы во время разгрома, учиненного Сталиным незадолго до войны всей нашей ракетной технике, которую долго пестовал расстрелянный Тухачевский. Юрий Александрович мне говорил, что он в течение двух лет каждую ночь ожидал ареста. И хотя так же, как и И. Ф. Петров, он не мог бы найти для этого сколько-нибудь разумных оснований, сумка со всем необходимым для арестанта всегда была наготове возле его постели.
Главным своим научным достижением он считал изобретение таких флегматизированных порохов, скорость горения которых была постоянна в очень широком диапазоне природных условий (температуры, влажности). Собственно, это и определило успех наших «Катюш», грозного оружия Отечественной войны. Юрий Александрович справедливо полагал, что его основательно обобрал Костиков, сумевший присвоить себе все лавры изобретателя «Катюш».
В 1949 году профессор Победоносцев был в зените своей карьеры. Он был главным инженером, то есть фактически научным руководителем знаменитого НИИ-88, в одном из конструкторских бюро которого начинал тогда работать еще не реабилитированный С. П. Королев. Юрий Александрович в канун пятидесятых годов был не только руководителем НИИ-88, но и реальным руководителем складывающегося коллектива инженеров и ученых, который за стремительно короткое время создал основы современной космической науки и техники.
В те годы он создал в МВТУ кафедру реактивной техники, позднее ею в течение многих десятилетий заведовал профессор Феодосьев. Победоносцев собрал на кафедре очень интересный коллектив людей, казалось бы, совершенно несовместимых. На кафедре в качестве доцента без степени работал будущий Главный конструктор ракетной и космической техники Сергей Павлович Королев, превосходно читал лекции молодой профессор Челомей, работал мрачноватый и нелюбезный будущий академик Бармин и многие другие, которым страна обязана созданием своей ракетной техники. Позднее они все разошлись по собственным квартирам, но в конце сороковых годов все еще были вместе.
Ну, а сам Победоносцев, к сожалению, был в те годы уже на излете. Его все меньше интересовала наука, и мысли его больше были в семье, в саду, который он очень любил. Лекции Юрий Александрович читал небрежно, не особенно к ним готовясь, часто поручая их молодым преподавателям. Так, мне он порой поручал лекции по горению порохов, в чем я очень плохо разбирался. Текущими делами кафедры он также не очень интересовался. Однажды в комнате, где проходили заседания кафедры, я повесил лозунг: «Братцы, ударим палец о палец». Юрий Александрович был человеком добрым и не лишенным чувства юмора, он искренне посмеялся, увидев лозунг, и попросил его сохранить. Надо заметить, что наш коллектив был подобран так, что научная работа и учебный процесс катились по накатанным рельсам, несмотря даже на то, что Юрий Александрович порой не приходил на заседания кафедры, а руководил ими по телефону. Но неожиданный выговор я все-таки получил… от секретаря парткома МВТУ, не за работу, и даже не за шуточный текст плаката, а за то, что я повесил плакат, не согласовав его текст в парткоме.
Однажды в преподавательской столовой за обедом я начал что-то с энтузиазмом рассказывать Юрию Александровичу. Речь шла об особенности управления какой-то ракетной системой. Он вежливо слушал меня, а затем вдруг перебил:
– Никита, а вы ведь тоже живете за городом?
– Да, на Сходне.
Он живо повернулся ко мне, лицо его помолодело, и он с воодушевлением стал говорить: «Знаете, у меня вот такая маленькая яблонька, – он протянул руку над полом, показывая, какая она у него маленькая, – а приносит вот такие яблоки». И он показал двумя ладонями некий объем, равный небольшому арбузу. В этом эпизоде он был весь – наш добрый, умный завкафедрой. Если он воодушевлялся, то мог свернуть горы. Но только если….
Мне на кафедре был поручен первый в жизни самостоятельный курс: динамика управляемых снарядов и ракет. Он был целиком разработан мною. Я думаю, что это вообще был первый подобный курс, прочитанный в высших учебных заведениях страны. Он шел с грифом «совершенно секретно», и его рукопись я держал в своем сейфе в НИИ-2. Мой тамошний начальник Диллон ее не раз смотрел и настаивал на том, чтобы я ее представил в качестве своей докторской диссертации. Что я и предполагал сделать в самом ближайшем будущем. Победоносцев тоже поощрял эту работу, ценил ее и часто брал меня с собой на семинары в Подлипки, в НИИ-88, где тогда рождались проекты будущих ракетных систем и закладывались основы ракетной науки.
Таким образом, в моей научной деятельности все складывалось, как нельзя лучше. Каждый день я понимал что-то новое. Перспективы казались безграничными. И было еще одно, для меня очень важное. Я видел интерес к своей работе. Чувствовал ее нужность. Это создавало ощущение того, что моя работа не просто удовлетворение собственного любопытства, что она нужна. Нужна моим товарищам, нужна моей стране, которая только что вышла из труднейшего испытания. Я никогда никому не говорил об этих чувствах, но для меня они были очень важной внутренней опорой. Я не знаю, всем ли такое чувство было тогда свойственно, но мне было бы без него жить невыносимо. Самыми мрачными периодами моей жизни были те, когда у меня возникало убеждение, что моя работа не находит «потребителя». И хотя в жизни мне приходилось много работать «в стол», я так и не научился этого делать. Вот почему с началом горбачевской перестройки, когда государство и страна начали терять интерес к научным исследованиям, я стал тратить время на различную публицистику, хотя, наблюдая за усилиями диссидентствующей интеллигенции, понимал, сколь бессмысленна такая деятельность. Но все-таки мои писания печатали, их читали, чего нельзя было сказать о научной продукции.
Но все это было позднее, а в 1949 году я жил в радостном возбуждении, которое вызывала работа.
Итак, моя исследовательская деятельность хорошо спорилась, и я быстро входил в число если и не ведущих, то заметных исследователей-теоретиков в области ракетной техники, что не могло не давать удовлетворения. Я читал интересный и новый предмет в одном из самых престижных инженерных высших учебных заведений. Мои лекции пользовались успехом не только у студентов. Их приходили слушать и сотрудники различных НИИ.
И вдруг – крах! Крах всему. Арестовывают мою мачеху. Я сначала даже не оценил масштабы личной катастрофы: мне было бесконечно жалко невинного пожилого человека, прожившего трудную и горькую жизнь, так мало видевшего хорошего на своем веку. Но случившееся я не очень связывал с собственной судьбой, наивно считая себя достаточно защищенным и своей квалификацией, и службой в действующей армии, и вполне почетным набором боевых орденов… Но очень скоро я почувствовал и на себе всю тяжесть происшедшего.
Когда однажды я пришел на работу в НИИ-2, в проходной мне сказали, что мой пропуск аннулирован, а в отделе кадров объявили, что я уволен по сокращению штатов. Генерал Залесский принять меня отказался. Нечто похожее случилось и в МВТУ. Правда, там народ был повежливее: мне объяснили, что я лишен допуска к секретной работе и исполнять обязанности доцента на закрытой кафедре не имею больше права. Мне предложили работать ассистентом на кафедре математики или физики, но только на почасовой оплате. То есть задаром. Расставание с Юрием Александровичем было грустным. Он был искренне огорчен происшедшим, проводил меня до метро, давал разные нелепые советы. Я понимал, что ничего другого он мне сказать не мог. Мы встретились с ним снова лишь в шестидесятом году на конференции в Баку. Он был уже на пенсии. В номере гостиницы мы выпили бутылку красного вина, ели виноград и разговаривали о прошлом. Нам обоим было очень приятно это свидание через десять лет.
А в сорок девятом я очутился не просто на улице, но даже без права работать по специальности; каких-либо возможностей заняться научной деятельностью у меня, казалось бы, не было совсем. Рукопись докторской диссертации осталась в сейфе, я ее никогда больше не видел. Однажды мне сказали, что ее все-таки использовали. Но это было уже в другой жизни и меня не интересовало.
Месяц, а может быть, и больше я ходил как в воду опущенный. На работу меня никто не брал. Сначала говорили весьма любезно, но как только видели штамп в моей трудовой книжке, всякие переговоры прекращались. Я как-то жил, пока оставались деньги. Большинство друзей меня сторонились. И постепенно меня начала охватывать настоящая паника – речь теперь шла уже не о научной карьере, а о жизни. Все происходившее было куда страшнее того, что я испытывал на фронте.
И снова меня спас случай, невероятное стечение благоприятных обстоятельств.
Один из моих друзей по альпинизму и товарищей по службе в Академии имени Жуковского, один из немногих, которые тогда, зимой пятидесятого, меня не сторонились, был Александр Александрович Куликовский. Тогда, будучи в чине майора, он преподавал радиотехнику в академии.
В ночь ареста мачехи Саша с женой Ниной были у меня дома на Сходне. После ареста они остались жить со мной. Всю эту зиму мы так и прожили втроем на старой сходненской даче. И вот однажды, когда я после очередного дня бесплодных поисков работы вернулся из Москвы в совершенно подавленном состоянии, Саша мне сказал: «Знаешь, Никита, уезжай-ка ты куда-нибудь подобру-поздорову. Да подальше. Придется тебе, пока не поздно, послать Москву к чертовой матери». Вот так и сказал!
Но куда ехать? Кто я? Что я умею делать? Несостоявшийся математик, инженер по вооружению самолетов, выгнанный с работы как неблагонадежный элемент. Может, и правда, меня возьмут где-нибудь в провинциальном вузе: учителя математики всюду, наверное, нужны?
И вот утром следующего дня я и поехал в Министерство высшего образования, в Главное управление университетов, мало представляя себе, что шел навстречу судьбе. Судьба подстроила неожиданную встречу. В коридоре я столкнулся с бывшим заместителем декана механико-математического факультета МГУ профессором Двушерстовым Григорием Ивановичем. Он меня увидел и узнал.
«Моисеев? Так значит, жив?» – вопрос, типичный для послевоенного времени, когда с радостью встречали каждого вернувшегося с фронта. – «Как видите». – «Повоевал, значит». Он с уважением потрогал мои ордена на кителе без погон – мы все, бывшие фронтовики, донашивали тогда свою старую офицерскую форму, ибо костюмы стоили в пятидесятом году баснословно дорого. А ордена на кителе носить было тоже принято. – «Ну что ж, пошли поговорим».
Оказалось, что он был начальником Главного управления университетов, то есть тем человеком, к которому я собирался записаться на прием.
Разговор сразу начался в добром ключе.
– Рад, что меня помните, Григорий Иванович.
– Ну как же забыть? Как зимняя сессия, так нет Моисеева: то на соревнованиях, то на лыжном сборе. Ну рассказывай, как воевал, до чего дослужился?
– До безработицы…
И я, поддавшись некоему импульсу, как на исповеди, рассказал Григорию Ивановичу все, что со мной произошло.
Двушерстов был добрым и участливым человеком, и студенты его любили. Это особенно чувствовалось в сравнении с другим замдекана, Ледяевым – сухим и неприветливым. Одно плохо – попивал Григорий Иванович. И изрядно. Через несколько лет, когда я уже стал профессором МФТИ, как-то встретил его около памятника Пушкину. Он уже был под хмельком.
– Моисеев, здорово!
– Григорий Иванович, здравствуйте.
– Пойдем выпьем.
– Не могу, Григорий Иванович, меня ждет Алексей Андреевич Ляпунов. Завтра он улетает в Новосибирск. Нам надо о многом переговорить.
– Ничего, подождет твой Ляпунов. Вот – тут рядом, за углом.
В те времена в доме в начале Тверского бульвара – теперь этот дом уже давно снесли – был кинотеатр «Великий немой» и маленькая паршивая забегаловка, где можно было стоя нечто вкусить и основательно выпить.
Мы подошли к стойке. Командовал Григорий Иванович: «Два по сто, две кружки пива и вон тот бутербродик разрежьте пополам».
Вот такой был Григорий Иванович…
После моего рассказа он задумался. Довольно долго молчал, задал мне пару вопросов. Потом внимательно посмотрел на меня, как бы что-то оценивая: «Поезжай-ка ты, батенька, в Ростов. Там у меня посадили всю кафедру механики во главе с профессором Коробовым. Некому лекции читать. Будешь читать гидродинамику и общую механику».
– Но ведь я же не механик, университет кончал по функциональному анализу у Меньшова.
– Ну, знаешь ли! Когда речь идет о голове, о шее не думают. Завтра у меня будет ростовский ректор Белозеров. Я ему о тебе расскажу. Приходи завтра в полдвенадцатого и обо всем с ним договорись. И чтоб через неделю духа твоего не было в Москве!
Вот так я и уехал в Ростов-на-Дону исполняющим обязанности доцента по кафедре теоретической механики местного университета. Туда же Двушерстов направил на такую же должность Иосифа Израилевича Воровича. Он так же, как и я, защитил кандидатскую диссертацию в Академии имени Жуковского и, несколько по другой причине, тоже был безработным. И не только в этом наши судьбы оказались общими: так же, как и я, он однажды был избран действительным членом Академии наук Советского Союза.
Этот отъезд из Москвы сыграл решающую роль в моей жизни.
И не только потому, что условия жизни в Ростове и преподавание в университете дали мне несколько лет спокойной работы, дали возможность во многое вдуматься и получить те знания, которые затем составили основу моей профессиональной деятельности. Самое главное, как я теперь понимаю, было в другом. На несколько лет я исчез из поля зрения органов госбезопасности. Если бы я остался в Москве, то в любой момент при очередной «разнарядке на шпионов», как говорил Володя Кравченко, я мог оказаться на крючке.
И действительно, через год-полтора после моего отъезда в Ростов, мной начали интересоваться районные органы госбезопасности. Как мне стало известно, именно они организовали донос и дело моей мачехи. По рассказам соседей, ко мне приходили, и не раз, но дом был заперт, а соседи и на самом деле ничего обо мне не знали – я никому на Сходне не говорил о том, куда я уехал. Конечно, найти меня было нетрудно, но меня выручила обычная чиновничья безалаберность. И нежелание делать хоть что-то, что не являлось их прямой обязанностью.
И все же органы безопасности меня однажды нашли, но это было уже в конце 1952 года.
Сегодня я уже точно знаю, что на меня в Ростове начали составлять досье. Я даже знаю, кого и куда вызывали и о чем спрашивали. И счастлив тем, что могу с полной уверенностью сказать: не нашлось никого, кто написал хоть что-нибудь, меня порочащее, даже среди тех, кого я не относил к числу своих друзей. Донос тогда, на грани 1953 года, не вышел. А ведь время под занавес эпохи было страшное: били наотмашь и преимущественно тех, кто защищал Родину. И от этого удара мне удалось уйти. Ну, а в марте пятьдесят третьего в бозе почил Иосиф, осенью вернулась из тайшетского лагеря моя мачеха, и очередная страница жизни оказалась перевернутой.
Итак, судьба, счастливые случаи хранили меня в те трудные годы. А молодость брала свое: я жил, не очень отдавая себе отчет в том, что надо мной многие годы висел топор. Я этого не знал и не понимал. На мое счастье!
Глава II. Несколько по-настоящему счастливых лет
1921 год и возвращение в Москву
Счастье – это очень субъективное понятие. Разумеется, у каждого бывают минуты или часы, когда рождается особая легкость, особая радостность восприятия жизни. Так бывает, когда человек чувствует себя очень здоровым или когда он ощутил вдруг прелесть окружающей природы, когда его действиям сопутствовал неожиданный успех… Такое радостное ощущение меня охватывает всякий раз, когда спорится работа. Даже сейчас, когда я уже так немолод и не могу хвастаться здоровьем.
Как это ни грустно, такое радостное возбуждение с годами приходит ко мне все реже и реже. Но все-таки приходит, и иногда, ложась спать, я и сейчас готов повторять слова детской песенки: «завтра будет день опять». Тогда у меня возникает радостное ожидание завтра, которое обязательно настанет, ожидание, созвучное оптимизму детского восприятия, которое так хорошо передается этой незамысловатой строчкой из детской песенки.
Но сейчас я хочу рассказать немного о другом. У каждого человека бывали периоды жизни, которые он выделяет из других, считая их более счастливыми, которые он чаще вспоминает. Особенно наедине с собой, и особенно в тяжелые минуты, когда он стремится в воспоминаниях о прошлом найти опору в настоящем. У меня было два таких счастливых времени, два отрезка жизни, которые ничем не были омрачены – ни болезнями, ни горем, ни арестами.
Первый – это несколько детских лет, когда наша семья жила на Сходне еще в полном составе. Именно тогда я по-настоящему пережил то, что принято называть счастливым детством. И прочувствовал то, что означает для человека, и особенно для ребенка, настоящая семья. И эти воспоминания для меня священны.
Второй – когда после демобилизации, после ареста мачехи и крушения всех моих московских начинаний (о чем уже я рассказал) – вдруг все неожиданно сложилось: я получил настоящую, целиком захватившую меня работу в Ростовском университете, тогда же у меня появилась собственная семья и родилась моя старшая дочка, вокруг которой вдруг закрутилась совершенно новая, наполненная очарованием жизнь.
Эти периоды были очень разные. Но их объединяло одно: спокойная ритмичность жизни, спокойная благожелательность дома, возможность заниматься, чем хочется и возможность много, много жить на природе. И все-таки главное, что было тогда, – сердечность отношений.
Но сначала о начале.
Я родился 23 августа 1917 года в Афанасьевском переулке в мансарде дома № 7. Сейчас это улица Мясковского; нумерация домов изменена, но сам осабнячок сохранился. Там даже есть мемориальная доска, правда, не имеющая никакого отношения к моей семье. Крестили меня в церкви Николы в Хамовниках. Там же был крещен и венчался мой отец.
Те годы были очень трудными для моих родителей. В 1918 году отца уволили из университета, где он тогда работал, и семья осталась без средств к существованию. Выручил наш родственник, предложивший отцу работу в деревне. И вот мы – папа, мама и я, которому тогда не исполнилось еще и года, уехали в Тверскую губернию, в деревню Городок, расположенную на берегу реки Молога, в семи километрах от большого и в прошлом богатого села Сундуки, недалеко от станции Максатиха. Считалось, что отцу очень повезло: он получил место начальника небольшой конторы, которая заготовляла и сплавляла в Москву дрова.
По рассказам отца, жили мы там скудно, но голода не испытывали. У отца была казенная лошадь, с которой он научился хорошо управляться. Она занимала большое место в нашей жизни, и даже у меня остались о ней смутные воспоминания. Был огород, а зажиточный крестьянин, у которого контора арендовала дом, снабжал нас молоком. Труднее было с хлебом – своего в Тверской губернии всегда не хватало. Революция шумела где-то вдалеке. На берегу Мологи люди работали и старались выжить.
Мы прожили там три самых трудных и голодных года нашей революции. Может быть, и еще прожили бы некоторое время, но у меня должен был появиться брат, и родители решили возвращаться в Москву.
Если жизнь на Мологе оставила в памяти лишь туманные картинки, то обратную дорогу в Москву я помню очень хорошо.
Путь от Максатихи до Москвы занял целую неделю. Ехали мы в переполненном товарном вагоне, который почему-то называли телячьим. Нам повезло: мы устроились на верхних нарах. Поезд регулярно останавливался: у паровоза кончались дрова, и тогда мужчины с топорами и пилами шли в лес. Паровоз вызывал у меня живейший интерес, даже сейчас перед глазами его высоченная труба. Видимо, это был какой-то допотопный локомотив, чудом сохранившийся на запасных путях. Мальчишек всегда привлекает техника. Я вспомнил об этом паровозе, когда первым в жизни словом, произнесенным моим старшим внуком, стало не слово «мама» или «папа», а слово «кран», что повергло его родителей в некоторое смятение. Но все объяснялось просто: перед его окном шло строительство, и подъемный кран, видимо, производил на него особое впечатление. Не меньшее, чем на меня первобытный паровоз.
Но однажды поезд все-таки пришел в Москву на Николаевский вокзал – так в то время назывался Ленинградский вокзал Октябрьской дороги. Была ли тогда ночь, или поздний вечер, или ранее утро, не знаю. Но помню – было темно. И сейчас я вижу огромную пустынную Каланчевскую площадь и снег, который приходил сверху, из ночной темноты.
Отец куда-то надолго ушел. Мы остались одни. Маме было очень трудно. Через пару месяцев должен был родиться брат. Я прижался к ее ногам и чувствовал, как она плачет. Я думаю, что она даже не плакала, а слегка стонала. Ей было холодно и плохо. Раньше, когда ей бывало трудно, она любила прижать меня к себе, тихо говоря при этом: «охохонюшки, трудно жить Аленушке на чужой сторонушке». Маму звали Еленой.
Но вот появился отец и привез санки. На санки положили наш незатейливый скарб и водрузили меня. И начался длинный путь по ночной Москве 1921 года. И сейчас у меня перед глазами эта ночная московская пустыня без единого огонька. Вместо тротуаров горы снега, а посередине улицы протоптанная дорожка.
Мы, наконец, дошли до Афанасьевского переулка, до того дома, в мансарде которого я родился. Дом принадлежал Николаю Карловичу фон Мекку, сыну знаменитой Надежды Филаретовны фон Мекк, столь много сделавшей для того, чтобы Чайковский был лишен материальных забот и мог посвятить свою жизнь музыке. Надежда Филаретовна никогда не встречалась с великим композитором, но их опубликованная переписка сделалась своеобразной классикой. Николай Карлович более десяти лет назад удочерил мою маму, которая в одночасье сделалась круглой сиротой. Он никогда не отличал ее от других своих детей. Более того, мне кажется, мама была его любимой дочерью.
Нас не ждали. Письмо, которое написала мама, не дошло до «дедуси», как звали в семье Николая Карловича. Весь дом всполошился. Стали охать и ахать, говорить о том, как опасно ходить по Москве ночью, и что-то еще, что говорят в таких случаях. Нагрели на буржуйке воду, меня посадили в ванну и стали отмывать грязь, накопившуюся за неделю путешествия в телячьем вагоне. А потом чистая кровать и блаженный сон!
Роды у мамы проходили тяжело, она заболела родовой горячкой, а через несколько месяцев скончалась от общего заражения крови. Еще во время болезни к нам приехала мамина приятельница, вернее сослуживица – они вместе работали сестрами милосердия в санитарном поезде на галицийском фронте. После кончины мамы она осталась в нашей семье, а вскоре вышла за отца замуж. Так у меня и моего брата Сергея появилась мачеха.
Брат звал ее мамой. Она и была ему настоящей матерью – ведь он остался у нее на руках всего лишь нескольких месяцев от роду. А я так и не смог забыть, как прижимался к маминой ноге, как она гладила меня по голове и приговаривала: «Ох, Никитка, ты мой Никитка». И никогда в жизни я не знал большей любви и ласки, чем было в этих словах. И никогда не мог забыть, как она мне тихо напевала на ухо: «…ямщик лихой, он спал полночи». А мачеха, при всей ее любви к отцу и брату, при всей способности к самопожертвованию, так никогда и не стала мне близким человеком. Нас всегда что-то разделяло. Меня это очень огорчало. Но я ничего не мог с собой поделать.
Сходня
Итак, о Сходне.
Сходня – самое дорогое для меня место на Земле, и время, там прожитое, – самое счастливое в моей жизни, хотя трудностей и горестей в той жизни было больше, чем достаточно. Но, может быть, именно это сочетание и было тем дорогим, что жило во мне всю жизнь.
Итак, гражданская война позади. Дальний Восток стал снова частью России. Это позволило моему деду вернуться в Москву. Сергей Васильевич Моисеев в 1915 году был назначен начальником дальневосточного железнодорожного округа. В него входили все русские железные дороги на восток от Читы, в том числе и знаменитая КВЖД. Во время существования Дальневосточной республики дед был некоторое время министром железнодорожного транспорта (или путей сообщения – я не знаю, как точно называлась его должность). Во время же оккупации Дальнего Востока он жил на каком-то полустанке под Хабаровском, в старом бронированном вагоне, оставшемся от разбитого бронепоезда. С ним жили мои бабушка и прабабушка. Как уж они там пережили трудные времена оккупации, не знаю. Бед было, во всяком случае, немало. Одним словом, дед не эмигрировал, а японцы и белые его, вроде бы, особенно и не трогали. В 1922 году, по окончании войны, в том же вагоне, в котором он жил последние два года, Сергей Васильевич Моисеев приехал в Москву.
В тот год мы уже поселились на Сходне. Тогда это был очень симпатичный пригородный поселок. Он возник еще во время строительства Николаевской (позднее Октябрьской) железной дороги, и в нем жили главным образом квалифицированные железнодорожные рабочие и служащие разных рангов. До революции там было построено и некоторое количество благоустроенных дач, в одной из которых мы и сняли несколько комнат. Была там и дача Гучкова, в советское время превращенная в местную школу. В этой школе я учился до 1929 года, когда она неожиданно сгорела.
Наш поселок был примечателен во многих отношениях. Большинство его улиц было мощеными, что тогда было редкостью в подмосковных поселках. Прямые улицы, которые тогда именовались проспектами, выходили к чистой-пречистой и холодной речке Сходня – одному из источников радости здешней ребятни. Кроме того, поселок был непьющим. В отличие от большой и грозной деревни – вечно пьяной Джунковки, которая начиналась прямо за Сходней, через овраг. Но самой главной достопримечательностью нашего поселка был кооператив железнодорожников. Его организовали еще в восьмидесятые годы XIX столетия.
Многие железнодорожники, жители поселка, имели коров и другую скотину. Это и была основа кооператива. Он арендовал у волости покосы и имел магазин. Так он и назывался – железнодорожная лавка. Кооператив производил и продавал не только молоко, но и свежую сметану и творог, мясо и овощи. Вся эта деятельность процветала и вносила важный вклад в благосостояние поселка. Кооператив успешно пережил мировую войну и гражданскую. Пережил коллективизацию. Выстоял он и в трудные годы Отечественной войны, хотя фронт был от него всего в трех километрах. В пятидесятые годы я еще ходил в кооперативную лавку за молочными продуктами для своих детей. Но пережить реформы Хрущева кооператив не смог. Коров уничтожили, и весь поселок, тогда уже несколько тысяч жителей, сел государству на шею. Снабжение населения резко ухудшилось. Все подорожало…
Так вот, однажды на запасных путях станции Сходня, в одном из тупичков, появился вагон от бронепоезда, в котором приехал дед со своей семьей. Внутри вагона была настоящая квартира, в какой он жил последние два года, – просто ее прицепили к поезду, который шел в Москву. Мое детское воображение поразила не только обстановка этой квартиры с хорошим письменным столом, кроватями, мягкими креслами, картинами на стенах, особое впечатление на меня произвел бочонок с красной икрой, который также совершил далекое путешествие. Дед мне очень понравился: большой, сильный, лысый и усатый. (На фронте я однажды тоже отпустил было рыжие усы, они свисали, как у моих любимых запорожцев, и в них застревала лапша, как и у деда.) Мы с ним сразу сделались настоящими друзьями.
С приездом деда начался самый спокойный и счастливый период моей жизни, шесть-семь детских лет до расстрела дедуси Николая Карловича.
Сергей Васильевич был приглашен с Дальнего Востока для работы в НКПС – Народном комиссариате путей сообщения. Он получил крупное назначение: член коллегии наркомата и начальник финансово-контрольного комитета (Фи-Ка-Ка, как называл дед свой комитет) с хорошим окладом (жалованием, как говорил Сергей Васильевич) и разными прочими благами. Отец работал в том же здании наркомата у Красных Ворот старшим экономистом Центрального управления внутренних водных путей. После памятного разговора с Луначарским, о котором я еще расскажу, отец понял, что университетская, да и любая научная карьера для него закрыта раз и навсегда. Он очень переживал крушение своих научных замыслов и невозможность опубликовать диссертацию. Как я узнал уже в шестидесятых годах, она была опубликована Йельским университетом на английском языке еще в самом начале двадцатых годов. Об этом отец так никогда и не узнал. Русский же экземпляр диссертации был изъят во время обыска и, наверное, приобщен к делу. Мои попытки его разыскать не увенчались успехом.
Постепенно отец, видимо, смирился со своей судьбой и начал активно работать на новом для себя поприще. На его столе появилось много книг по статистике и разные годовые отчеты. Он начал серьезно заниматься статистическим анализом речных грузопотоков. Мне трудно судить о его успехах на экономическом поприще, но время от времени в отраслевом журнале он печатал статьи, которые хорошо оплачивались, что было немаловажно. А один из известных тогда специалистов, профессор Осадчий (в будущем «член промпартии», из-за знакомства с которым, вероятнее всего, был арестован отец) написал ему письмо со всякими похвалами и предложил вести совместную работу.
Одним словом, очень скоро служебные дела деда и отца сложились вполне благополучно. Семья обрела материальный достаток, причем такой, которого я больше не имел никогда, даже когда меня избрали действительным членом Академии. Мы построили собственный дом, в котором прошли мои детские и юношеские годы.
Иван Бунин однажды сказал: сегодня трудно представить себе, какой умной и содержательной была наша жизнь. Нечто подобное могу сказать и я: сегодня с удивлением вспоминаю, сколь размеренной, содержательной и умной была тогда жизнь моей семьи; в сегодняшней суете невозможно себе и вообразить, что люди могут жить, спокойно, работая без нервотрепок и стрессов. Весь тогдашний распорядок был каким-то душеоблагораживающим. Каждое утро отец и дед выходили из дома в восемь утра, шли, не торопясь, на станцию и ехали на работу (дед всегда говорил – на службу) одним и тем же поездом, В-15. Тогда по Октябрьской дороге ходили паровички. Но путь до Москвы занимал только сорок минут. Это быстрее, чем теперь ходят электрички.
За несколько минут до прихода поезда у первого вагона собирались несколько инженеров, едущих на работу в наркомат путей сообщения. Все знали друг друга и здоровались, называя по имени и отчеству. Провожать их обязательно приходил начальник станции. Это был железнодорожный служащий старой пробы. Он всегда был в красной фуражке, хотя в другое время, не на станции, носил обычную железнодорожную фуражку с инженерным значком. Так повелось со времен Николая Первого, когда еще строили дорогу, – начальствующие лица должны были носить красную фуражку, чтобы их было видно издалека.
К деду начальник станции относился с особым почтением, называл его «Ваше превосходительство» без тени юмора. Дело в том, что согласно петровской табели о рангах дед занимал генеральскую должность, следовательно, его должно было именовать «превосходительство». А служащие на железной дороге еще долго после революции чтили старые порядки. И не зря: русские железные дороги всегда были нашей гордостью. Да и транспорт после гражданской войны железнодорожники восстановили очень быстро, и во времена нэпа он работал «как в мирное время». Во всяком случае, дед с гордостью утверждал это. Начальник станции был один из наших постоянных гостей. Он любил зайти на огонек, попить чаю, покидать карты. Вообще в карты у нас играли мало. Мужчины иногда играли в винт. А бабушка Ольга Ивановна любила рамс. Что это за игра – не знаю. Кажется, что-то вроде преферанса, только еще более примитивная по сравнению с винтом, который считался мужской игрой в отличие от «дамского» преферанса.
Поезд приходил минута в минуту. Октябрьская дорога славилась точностью, и все служащие ревниво следили за тем, чтобы расписание поездов не нарушалось. В первом вагоне уже было несколько ехавших на работу железнодорожных служащих. Они жили в Фирсановке и Крюкове. Все здоровались и занимали «свои места». Если кто-нибудь ненароком сядет не на то место, ему сейчас же скажут: извините, но это место Ивана Ивановича или Петра Петровича. Дед всегда сидел во втором купе, у окна, лицом по ходу поезда. Отец неизменно садился от него слева.
От вокзала вся группа наркоматовских служащих шла пешком и не спеша. Работа начиналась в девять тридцать, а до Красных Ворот было недалеко.
Поскольку ритмичность – основа работы транспорта и всех его служб, возвращались обычно одним и тем же поездом, и ритуал возвращения не нарушался. Дед очень любил, чтобы я его встречал. Я это делал с удовольствием. Мы с дедом шли впереди, я рассказывал ему сходненские новости, а отец на шаг сзади. На улице все друг с другом здоровались.
К нам любили приходить гости.
Приходили просто так, на огонек. Как-то само собой сложилось, что у нас образовался «приемный день» – суббота. После работы заходили местные «железнодорожники». Я помню милейшего железнодорожного врача Н. А. Шалякина, который лечил всю нашу семью. Приходил тот же начальник станции, еще кто-то, кого уже почти не помню. Но часто приезжали и из Москвы. Отец был неплохим художником-любителем. В студенческие годы он учился и в школе живописи и ваяния, и у него сохранилось много знакомых в этом мире. Он был в приятельских отношениях с Кориным, который не раз бывал у нас в гостях. Однажды к нам приезжал и великий русский художник Нестеров. Это был кумир моего отца.
Никакого специального стола не делалось. Ужин бывал очень простой. Даже не ужин, а скорее чай. Бабушка обычно пекла пирог. Особенно ей удавался пирог с грибами. В те времена, как известно, «ничего дешевше грибов» не было! У деда всегда был в запасе графинчик водочки, настоянной на зубровке. Но подавался он крайне редко. Разве что по рюмочке в честь дня рождения кого-нибудь из гостей или в двунадесятый праздник. Семья не была особенно религиозной. Дед и отец ходили в церковь крайне редко. Только бабушка посещала нашу сходненскую церковь каждое воскресенье, хотя и была лютеранкой. Но все положенные праздники семья соблюдала неукоснительно.
Когда приходили гости, меня из столовой не выгоняли, как сейчас принято обращаться с детьми в большинстве семей. Более того, считалось, что я должен присутствовать при разговоре старших. Но и не сажали за общий стол. Рядом ставили маленький столик. И я очень любил слушать то, о чем говорили взрослые. А говорили о чем угодно, никак меня не стесняясь. И о политике в том числе. Но больше об истории, литературе или о самых неожиданных вещах. Говорилось о заветах Рериха, которого отец считал не только великим художником, но и замечательным мыслителем. Спорили о мадам Блаватской, сочинения которой позднее, во время одного из обысков, были у нас конфискованы. Я помню, как обсуждалась болезнь художника Кустодиева, которого у нас в семье очень любили.
Я слушал внимательно, хотя понятно было далеко не все, а встревать в разговор и спрашивать мне не разрешали.
Иногда читались вслух стихи. Эти вечера были особенно памятными. До декабря 1942 года, когда я получил небольшую контузию во время бомбежки, у меня была очень хорошая память. Я легко выучивал наизусть все, что угодно. В университете я на пари однажды выучил наизусть второй том теоретической механики Бухгольца, книгу до ужаса занудливую, и мог читать ее на память с любой страницы. Поэтому почти все стихотворения, которые читались за нашим субботним столом, я запоминал и мог декламировать. Читали различных русских поэтов, особенно Пушкина, Тютчева, А. К. Толстого. Любили крамольных тогда Есенина и Гумилева. До сих пор я помню и могу прочесть на память гумилевских «Капитанов». Пробовали читать новых, например, Мандельштама, Маяковского и кого-то еще. Но они «не пошли». Так у меня на всю жизнь осталось неприятие этой, как бы ненастоящей, поэзии. Уже совсем недавно, когда Бродский получил Нобелевскую премию, я попробовал читать то, что называлось его стихами. Но мне показалось, что все это имеет очень малое отношение к русской культуре, к нашему духовному миру, и особенно к поэзии, хотя и написано по-русски.
На наших субботних встречах много говорили об истории и судьбах России – традиционная тема русской интеллигенции.
Эти вечера оставили неизгладимый след в моей памяти и формировали мировоззрение куда более эффективно, чем любая пропаганда и изучение краткого курса истории партии. Очень важно, что они побуждали меня к чтению «взрослых книг». Мне было восемь лет, когда я прочел всю трилогию Мережковского «Христос и Антихрист».
Сейчас у нас полностью исчезла культура неспешной беседы, столь распространенная в былые годы в среде русской интеллигенции. Людям было просто интересно общаться за чаем. Сейчас же, когда приходят гости, мы много пьем, не рассуждаем, а «обмениваемся информацией» о жизненных тяготах; почти не принято, как в былое время, размышлять вслух. Наши сегодняшние встречи больше напоминают американские вечеринки, чем традиционные русские посиделки.
Для моего будущего было крайне важно постоянное общение со взрослыми. Из разговоров, которые я слушал, мне очень многое западало в душу и осталось там на всю жизнь. А непонятное – оно служило источником вопросов, которые я позднее задавал отцу и деду во время прогулок. Я любил гулять со взрослыми, любил возникавшее при этом ощущение единства команды. Я чем-то напоминал щенка, который, гуляя с людьми, все время на них оглядывается, чувствуя себя членом компании: все вместе!
Мне были очень интересны жизнь и работа отца и деда. О том, что происходит в мире, я узнавал из их разговоров между собой, и у меня возникал образ мира, моей страны и нашего в ней положения. О многом я спрашивал, когда мы бывали одни, и дед и отец охотно отвечали на мои детские вопросы. Они мне также многое рассказывали и об истории семьи и судьбах наших многочисленных родственников.
Из разговоров деда и отца я уяснил, что в те благословенные годы позднего нэпа положение в стране постепенно стабилизировалось, Россия снова становилась державой, с которой считаются. И этому все радовались. Только вот по-прежнему большевички в косоворотках постоянно делают глупости. Но они быстро учатся. И мой мудрый дедушка думал, что лет этак через десять все снова выйдет на круги своя. Отец был более реалистичен, но и он переоценивал возможности здравого смысла: там, наверху, идет борьба за власть, победят мерзавцы, причем те, кто мерзее. А современное государство, конечно, снова возникнет. Но не такое, как Германия или Франция, а наше, русское. И нескоро – через поколение. Но оказалось, что и отец был чрезмерным оптимистом.
Отец и дед многое оценивали по-разному. Сергей Васильевич считал революцией только Февральскую, полагал, что именно в ней корень всех бед, которые испытывает наш народ. Не случись ее, не возьми верх демократы, сбежавшие потом из России и оставившие нам все расхлебывать, война закончилась бы еще в начале 1918 года. Октябрьскую революцию дед считал только переворотом, сохранившим, однако, целостность страны, – что считал наиважнейшей задачей любого правительства. Поэтому и относился к большевикам гораздо терпимее, чем отец. Отец же не мог им простить гражданской войны, миллионов жертв и разрухи. Отец был уверен, что Россия была накануне нового взлета и в экономике, и, особенно, в культуре. Ее серебряный век должен был перерасти в золотой. Главной низостью, учиненной большевиками, отец считал удар по культуре, российским традициям, прививку России европейского мышления с его гипертрофированной экономичностью и атеизмом.
Его понимание революционных событий было, наверное, близко к тому, которое было у Черчилля, сказавшему в те годы: «Русский дредноут затонул при входе в гавань». Отец считал, что никакими аргументами, в том числе и сохранением государственной целостности, Октябрьская революция и гражданская война оправданы быть не могут. Он полагал также, что Февральскую революцию предотвратить было уже нельзя, что корень зла был в том, что Россия вступила в германскую войну, как ее называли и отец и дед. Отец был человеком «серебряного века» нашей страны. Он видел лучше деда взлет ее культуры, быстрый прогресс во всех направлениях, ценил нашу самобытность и в культуре, и в организации жизни и остро горевал об утере всего этого. Он много рассказывал о героизме русских войск на германском фронте, но считал, что это уже ничего не могло изменить. Трагедия произошла раньше. Он считал, что это было убийство Столыпина. «И зачем охранке это понадобилось?» – он часто повторял эту фразу, когда речь заходила о Столыпине. Теперь я, наверное, смог бы ответить на такой вопрос.
Но в одном сходились и дед и отец: они были искренними русскими патриотами в самом цивилизованном понимании этого слова. Одной из официальных доктрин в двадцатые годы была борьба с русским шовинизмом. Объявлять себя русским, обнаруживать интерес и симпатию к русской культуре, и особенно к традициям и истории, считалось проявлением чуть ли не антисоветизма. Русскую историю мы в школе вообще не учили. О Петре Великом, о победе на Куликовом поле и о других страницах истории мы могли узнать только в своих семьях и то тайком. У нас дома было много книг по истории России, были исторические романы Загоскина, Толстого, Мережковского. Отец все это давал мне читать (что я делал с удовольствием), и потом мы долго обсуждали прочитанное. Тогда было принято читать вслух. Иногда читал я, иногда моя мачеха. Так мы прочли «Войну и мир». Сцена кончины князя Болконского произвела на меня такое впечатление, что я потом не спал почти всю ночь.
Вот так в десяти-двенадцатилетнем возрасте я входил в мир.
Я помню, как во время прогулок отец рассказал мне историю Пунических войн, и Ганнибал надолго сделался моим любимым героем. Однажды, это было в 1927 или 1928 году, мы вдвоем поехали в деревню, расположенную в верховьях Западной Двины. И прожили там почти месяц. В нашем распоряжении были лодка, удочка и все тридцать лет похождений трех мушкетеров на французском языке. Мы отплывали в какой-нибудь тихий заливчик, становились на якорь (то есть бросали в воду камень на веревке), и начинались увлекательные часы. Мы по очереди следили за удочкой и по очереди читали вслух. Ловилась ли тогда рыба, я не помню, но приключения отважного гасконца до сих пор могу воспроизвести в деталях. Отец ими увлекался ничуть не меньше меня.
Такая совместимость поколений полностью исчезла в послевоенное время. У меня, к моему великому огорчению, уже не было душевных контактов с моими детьми. Я им был неинтересен. Может быть, это веяние времени. А может, я был настолько увлечен своей работой, спортом, жизнью, что не мог отдавать им нужную частицу собственного «я»? Нужную сердечность? А без этого мои попытки «организовать духовную преемственность» были обречены, даже простые попытки более глубоко вникнуть в детали их жизни категорически ими пресекались. Эта отстраненность от детей, может быть, самое тяжелое бремя, которое я несу на склоне лет. Я утешаю себя мыслью о том, что в таком разобщении проявляется дух времени. Ведь подобное происходит сейчас почти во всех семьях. То же я видел и за границей, дети очень рано уходят в самостоятельную жизнь. Но мне от этого не легче, душевный вакуум остается незаполненным. Да эта разобщенность – не только личное горе, она опасна для нации в целом. Мы лишились очень многого, утеряв ту общность поколений, которая была характерна для всего русского общества, особенно для интеллигенции и крестьянства…
Наши субботние посиделки продолжались еще довольно долго. Люди к нам тянулись, хорошие люди, как я теперь понимаю. Но постепенно разговоры начали менять свой характер. Несмотря на кажущееся нэповское благополучие, в атмосфере появилось нечто тревожное. Начались «чистки». Людей увольняли с работы, и они стали отъезжать за границу. Правительство особенно не препятствовало эмиграции интеллигенции. И она собиралась понемногу в дальний путь с глубокой убежденностью в том, что этот отъезд ненадолго. И, тем не менее, с горем и болью, с ясным сознанием того, что там, за кордоном, лежит земля чужая, а вовсе не обетованная. Как непохожа была эмиграция двадцатых годов на нынешнюю полуинтеллигенцию, которая называет Россию «эта страна». Мне иногда хочется сказать: ну, и скатертью дорога, а мы попытаемся эту страну сохранить нашей страной!
Каждый раз, когда шел разговор об отъездах, я слышал, как называли то одну знакомую фамилию, то другую. Особенно памятно прощание с семьей Петрункевичей. Глава семьи был сослуживцем отца, вроде бы даже каким-то начальником. Но однажды его «вычистили», предложив, правда, должность бухгалтера в небольшом учреждении железнодорожного ведомства. Причины увольнения даже не скрывали. Петрункевичи – старая тверская помещичья фамилия, а их ближайший родич, кажется, дядя, был известным кадетом.
Отец еще в студенческие годы вступил в партию кадетов, но скоро в ней разочаровался. Но факт пребывания «в кадетах» тщательно скрывал. По тем временам это был настоящий криминал.
Я помню, как мадам Петрункевич, обняв мою мачеху, рыдала на ее плече. Мы, как могли, успокаивали. Дед говорил о том, что через два-три года они вернутся. В стране начинается индустриализация, понадобятся хорошие инженеры. Мой милый, хороший дед, так похожий на Тараса Бульбу, – он всегда был чересчур оптимистом, он – весь в своего внука.
Я хорошо помню и отъезд Шлиппенбахов. Забавное семейство: папа, два сына и дочь, и все ростом около двух метров. Отец говорил: четыре сажени Шлиппенбахов. Их предок, какой-то пленный швед, остался в России еще во времена Северной войны. Шлиппенбахи тоже были инженерами, и все работали на одном заводе (кажется, на Гужоне, как раньше называли «Серп и Молот»). Вся их вина состояла в том, что пленный швед во времена Петра Великого сумел сохранить не только свою фамилию, но и баронский титул.
Получил предложение уехать за границу и мой дед. Знаменитая фирма «Вестингауз» приглашала его на работу в качестве консультанта с каким-то фантастическим окладом. Однажды дед вернулся со службы очень поздно и был мрачнее тучи. Оказывается, было заседание коллегии наркомата, рассматривалось письмо фирмы «Вестингауз», которое пришло по официальным каналам. Коллегия решила: рекомендовать Сергею Васильевичу Моисееву выехать в Америку, причем обязательно со всей семьей, включая детей и внуков.
Обедали мы обычно около семи часов вечера, когда отец и дед возвращались со службы. В этот день обедали много позднее. За столом царила тяжелая атмосфера. Дед угрюмо молчал. Потом сказал: «Я не уехал тогда из Хабаровска, хотя оставаться там было опасно, а теперь…» Дед встал, вынул из-за галстука салфетку и ушел в другую комнату.
Вскоре он вышел на пенсию.
Атмосфера сгущалась, это чувствовали все. По субботам теперь все меньше говорили о политике. Да и сами встречи стали малочисленнее, а потом и вовсе прекратились.
В конце 1928 года был неожиданно арестован Николай Карлович фон Мекк, занимавший довольно высокий пост в ВСНХ. Вскоре он был расстрелян. Наша семья поняла, что снаряды ложатся уже прямо по цели. Через год по делу о промпартии был арестован отец. В конце тридцатого года в больнице Бутырской тюрьмы отец скончался от сердечного приступа, так, во всяком случае, было сказано моей мачехе. Проверить этот факт мне не удалось.
Через несколько месяцев скоропостижно скончался и дед. Пережить смерть сына он не мог. Горе сковало семью. Средств к существованию не было. Так закончилось мое счастливое детство.
Начиналась новая, очень трудная страница жизни.
Ростов-на-Дону
Другой очень радостный период моей жизни начался после переезда в Ростов-на-Дону. Он отрылся неожиданно после всех страшных передряг, горя и опасностей, которые свалились на меня зимой сорок девятого – пятидесятого года. Неожиданно пришло счастье – я к нему не был готов.
В начале зимы пятидесятого меня лишили работы, надо мной нависла угроза ареста. Вот тогда мне пришлось оставить все: и дом, и Москву – и уехать в неизвестность. Причем уже не одному – к этому времени я был женат и нес ответственность не только за себя. Зима того года была одним из самых трудных периодов моей жизни. Обрушилось все – сразу и вдруг, когда, казалось бы, успех мне во всем сопутствовал. Война была позади, все двери, так мне казалось, были передо мной открыты. Жизнь налаживалась, в сейфе моего институтского кабинета в НИИ-2 лежал черновик докторской диссертации, начиналась семейная жизнь… Как я тогда не сломался? Ума не приложу!
Помогли, конечно, обстоятельства – о чем я уже рассказывал, и может, больше всего друзья – Саша и Нина Куликовские. Они (может быть, только они одни) по-настоящему были тогда со мной.
Тогда неожиданно была арестована моя мачеха, которая, проработав более четверти века учительницей сходненской школы, уже вышла на пенсию. Тогда-то и произошла катастрофа – и не только для нее, но и для меня. Я был мгновенно лишен допуска к секретной работе, а значит, и к диссертации – она так и канула в Лету (через пять лет я защищал уже совсем другую работу, та – первая моя докторская диссертация – была связана с теорией управляемых ракетных снарядов, важной и очень закрытой темой).
Я должен был поставить крест на своей научной деятельности, на своей специальности, искать какие-то иные формы работы, существования наконец.
Как только я был лишен допуска, в моей трудовой книжке появился штамп: уволен по сокращению штатов. Но в те годы, когда всюду не хватало людей, такой штамп означал одно – уволен как не заслуживающий доверия, то есть как родственник репрессированного и кандидат в арестанты. Я пробовал устроиться в разные места. В отделах кадров сидели тогда обычно фронтовики. Видя мой китель без погон, три ордена и серию медалей, которые я носил, как и все, кто в то время еще донашивал старые гимнастерки, начинали разговор доброжелательно, с явным желанием помочь. Но как только обнаруживался штамп в трудовой книжке, лица сразу каменели, и следовал стандартный ответ: «Извините, но…»
Деньги стремительно таяли. Оставались те, которые я сумел отложить на первый гражданский костюм. Я собирался его купить сразу после войны. Но растаяли и они… Костюм я купил лишь через несколько лет, уже работая в Ростове, накануне защиты докторской.
Стал реальным вопрос – как выжить? Теперь уже вдвоем – моя жена была еще студенткой Энергетического института.
Выручил случай, о котором я уже рассказал. Мне предложили занять должность исполняющего обязанности доцента кафедры теоретической механики Ростовского университета. И это несмотря на штамп, о котором я заранее рассказал ректору, профессору Белозерову. Вечно ему благодарен! Ведь время было страшное, и он рисковал.
Вот и началась моя жизнь в Ростове-на-Дону – почти пять очень счастливых лет. Несмотря на многие, как говорят математики, технические трудности, жизнь очень скоро вошла в спокойное русло. Квартирные дела довольно скоро устроились. Во всяком случае, к моменту рождения старшей дочери у меня уже были две хорошие большие комнаты в шестикомнатной профессорской квартире одного из лучших домов на улице Энгельса, в самом центре города. В той же квартире жили еще две семьи сотрудников университета.
Сегодня принято ругать коммуналки. Конечно, это не отдельные квартиры, а тем более коттеджи. Но мы жили очень дружно, и я с удовольствием вспоминаю частые вечерние посиделки на общей кухне. Как это ни странно, но наиболее дружными между собой оказались женщины.
Я никогда не забуду, как в известный день марта пятьдесят третьего года я вернулся домой и застал трех обитательниц нашей квартиры на кухне – они дружно ревели. Я же шел домой в приподнятом настроении и размышлял: вот теперь, наверное, мою мачеху скоро вернут в Москву, а меня перестанут подвергать остракизму. Глядишь, и в Москву скоро можно будет вернуться. Поэтому, увидев энтузиазм кухонных плакальщиц, я сказал фразу, которую они мне долго не могли простить, и за возможные последствия которой я потом весьма опасался: «Чего, дуры, ревете? Может, теперь только и начнется жизнь без страхов и оглядок».
В те годы мы почти не говорили о политике. Это была запретная тема, нас всех научил горький опыт. Но и еще – она нас и не интересовала. Мы знали: никто ни о чем не должен спрашивать, все, что нам надо знать, нам скажут, не стоит проявлять инициативу ни в чем, что даже отдаленно относится к компетенции «компетентных органов». Занимайтесь своим делом и не суйте ни во что свой нос! Вот так мы и жили – работали, растили детей.
В Ростовском университете мне как-то поручили вести философский кружок по методологическим вопросам физики. Одна из тем – «критика Копенгагенской школы», о которой я тогда впервые услышал. Поэтому я постарался добросовестно разобраться в том, что утверждают Бор, Гейзенберг и их ученики. В библиотеке я раздобыл статьи Бора и других крупных физиков, которые дискутировали с ним. Проблема мне казалась очень интересной, по-настоящему научной, и я радовался такому партийному поручению. Замечу, что именно с того времени я стал считать Бора одним из величайших мыслителей XX века и моим первым настоящим учителем философии.
Однако эти занятия методологическими вопросами физики чуть было ни окончились трагически. Кто-то кому-то рассказал о наших занятиях. Меня вызвали в отдел науки обкома партии и спросили: «Что это вы там порете всякую отсебятину? Вместо того чтобы заниматься творческой работой и изучать рекомендованные материалы, популяризируете Гейзенберга (накануне мы разбирали его статью). Так можете и положить на стол свой партбилет!» Я был снят с поста руководителя кружка.
Итак, мы избегали любых обсуждений, хоть как-то относящихся к политике. Даже смерть Сталина никак не обсуждалась. Умные пожимали плечами – поживем, увидим. Те, кто поглупее, повторяли написанное в газетах. У меня был тогда лишь один запомнившийся разговор. В соседнем подъезде жил известный профессор-ихтиолог Пробатов Александр Михайлович. Я пошел как-то погулять по улице Пушкина – тихая улица с бульваром посредине – и встретил его. Поздоровались, сели на лавочку. Помолчали. Подумали, как выяснилось, об одном и том же. – «Хочется надеяться, Александр Михайлович». – «Хочется, Никита Николаевич. Но хуже не будет – некуда. Мера все-таки есть». Вот и весь разговор.
Мое отношение к Сталину было однозначным и выработалось еще в детстве, в семье – ее бедами. Отец их связывал со Сталиным и его стремлением утвердиться единовластным, монархоподобным, как он говорил, хозяином страны. Он считал, что революция только и может кончиться абсолютным единовластием, а тираном может стать только Сталин – «мерзавец должен быть в этой ситуации абсолютным», как он говорил деду. Вот я воспринимал и Сталина, и все происходящее сквозь призму этих разговоров отца и деда. Несмотря на свое крайнее неприятие Сталина как политической персоны, во время войны я готов был кричать как все: за Родину, за Сталина. Но и намека на ту любовь к Сталину, которую я видел в некоторых стихах Симонова, у меня не было. Я его в те годы принимал как неизбежность, даже как историческое благо. Сталин второй раз сохранял Россию как целое.
Здесь я во многом шел по стопам деда. Он ненавидел либералов временного правительства и прощал большевикам многое за то, что они сохранили целостность страны. Большевики придут и уйдут, а Россия останется – любил он говорить. Ни с кем никогда не делясь мыслями, я думал примерно так же и о Сталине. Мне только казалось, что после войны, когда столь неоспоримо было показано единство народа, когда цели, его личные цели «абсолютного повелителя» и победителя фашизма, были вроде бы достигнутыми, Сталин должен начать вести себя по-другому. Я понимал, что Ягода, Ежов, Берия – всего лишь его креатуры. Я думал, что после окончания войны такие персонажи перестанут быть нужными ему. Но я тогда не понимал еще, что дело не только в Сталине – он лишь образ и реализация СИСТЕМЫ! Системы, достигшей в его лице «оптимальной» реализации.
И вот постепенно мои иллюзии, вернее, надежды, начали отступать. Я видел, что сбываются худшие предчувствия – все эти «особняки» ушли в тень лишь временно. Они опять понадобятся. И снова подбираются к нам, к людям, стоящим вне системы, и ко мне лично. Вот я и удрал из Москвы по совету мудрейшего Саши Куликовского! А теперь Сталина нет. Неизбежна некоторая передышка. А потом – история не повторяется, трагедия перерождается в комедию, так же как демократия в хаос – это сказал, кажется, еще Цицерон. Жить будет мерзко, но можно. Менее опасно, во всяком случае. И все же вся эта сволочь однажды оставит Россию, прекратит ее терзать – об этом говорили и дед, и отец. Они просто ошиблись во времени – они оказались чрезмерными оптимистами, и им не приходило в голову, что одну сволочь заменит другая.
Но хочется думать, что следующие будут лучше предыдущих. А если так, то надо работать и работать – все это пойдет на пользу России. Вот так я думал сорок лет тому назад, в мартовские дни 1953 года!
Я иногда говорил об этом моей жене. Она была медицинской сестрой и работала в медсанбате на Волховском фронте, и в ту памятную весну сорок второго, вероятно, находилась где-то недалеко от меня; примерно в тех же условиях, что и я, вступила в партию. Ее медсанбат тоже попадал в окружение. Она с ужасом слушала мои рассуждения, не спорила и только просила, чтобы я об этом ни с кем никогда не разговаривал. Но я ни с кем и не разговаривал на подобные темы. Даже с Иосей Воровичем.
Новая жизнь, новая работа и новые друзья
Вот мы и стали жить в двух наших роскошных комнатах в самом центре Ростова. Поначалу денег катастрофически не хватало – я получал оклад ассистента. Думаю, что уровень жизни был примерно таким же, как у меня сейчас, то есть как у нормального научного сотрудника, живущего на зарплату в девяносто третьем году, вне зависимости от степеней и званий. Но разница все же была: тогда я не был академиком и был на сорок лет моложе.
Но денежные дела нас особенно не смущали. Самое главное – мы были полны надежд и уверенности в будущем, чего теперь, увы, нам всем так недостает. Я старался, где мог, подработать. На все лето уезжал в горы в качестве инструктора по альпинизму. Этим я тоже кое-что зарабатывал, да и семья могла жить со мной в горах, в альпинистском лагере, практически бесплатно. Кроме того, материальные дела скоро наладились. Я был утвержден доцентом, и моя зарплата увеличилась вдвое, начала работать жена, появились и дополнительные заработки, и я довольно скоро вышел, вероятно, на уровень жизни академика доперестроечной эпохи. И смог, наконец, купить костюм.
Я постепенно отходил от шока – дома было хорошо и уютно, несмотря на почти полное отсутствие мебели. В ней ли дело, когда люди молоды, здоровы и им хорошо вместе!
Особенно я любил ростовский сентябрь. Первый учебный месяц, нагрузка еще небольшая, из университета я возвращался рано. А погода в сентябре стоит еще жаркая. Но жара уже не угнетающая, как в июле или августе. Мы часто ходили на Дон, брали лодку и втроем под вечер плыли вверх по реке. Там есть несколько песчаных островков, где немноголюдно, особенно в будние дни. Моя дочурка была очаровательным существом – мы с женой ее звали «славнюшечка». Она была очень занятная, топала своими ножками по самому урезу воды и заливисто хохотала.