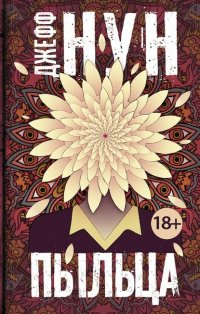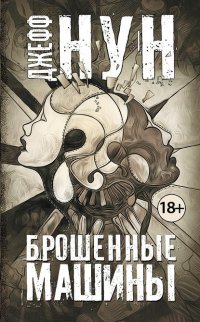
Читать онлайн Брошенные машины бесплатно
- Все книги автора: Джефф Нун
Эдгару Алану По
Джордж Эллиот
Майклу Брейсвеллу
Самуэлю Пепису
© Jeff Noon, 2002
© Перевод. Т. Покидаева, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
* * *
ПЕРЕДАЧА
Ты откуда?
И куда?
ПРИЕМ
1
>
Вчера все сорвалось. Чтобы так плохо – такого у нас еще не было. Они все были дома, вся семья в полном составе, и все как один – психопаты. Пришлось уходить ни с чем. Хендерсон получила по голове. Она обвиняет во всем меня. Нам надо было где-нибудь отсидеться, и мы вписались в мотель на окраине города. Местечко унылое, мрачное. Какие-то люди шатались по коридору всю ночь, причитали, стонали в голос. Заснуть – невозможно. Кровь в унитазе, говно на стенах. Все зеркала и даже экран телевизора густо замазаны черной краской. Но там было дешево – и безопасно. Нас никто ни о чем не спросил, даже когда мы сказали, что хотим снять одну комнату на троих. А утром – снова в дорогу, и ехать еще далеко. Очередная работа. А нам оно надо? Настроения после вчерашнего – никакого. Все сидят мрачные и подавленные. Все молчат.
Мы остановились поесть. Самое лучшее, что нам попалось, – передвижная закусочная, припаркованная у шоссе на площадке для остановки транспорта. Там же стояло несколько столиков. Кормили, кстати, вполне прилично. Мы поели и приняли порошок. Павлин сказал: пусть нам всем будет хорошо – отныне и впредь, несмотря ни на что. У него бзик насчет правил. Хендерсон поморщилась.
За соседним столиком сидела семья: папа, мама и дочка. Девочка подошла к нам. На вид лет шесть-семь; с грязными русыми волосами и как будто застывшим взглядом. Она спросила меня: «Хочешь поиграть с моей куклой?» Я дернула за веревочку, как мне было сказано, и кукла заговорила – таким противным тоненьким голоском, растягивая слова. Я не поняла ни единого слова, но девочка так обрадовалась, словно игрушка призналась ей в вечной любви. Она завизжала от счастья и принялась прыгать на месте.
И пока я смотрела на этого смеющегося ребенка и слушала надломленный кукольный голосок, ко мне снова подкралась боль – холодная и пронзительная тоска. Я попыталась закрыться, не подпустить к себе этот холод, но было поздно. Да, поздно. Что мне делать?
Куда идти?
>
Уже не один час в пути. Все было нормально, пока мы не попали в пробку. Рваные вспышки полицейских мигалок в мягких вечерних сумерках. Любопытство, опасность, смерть – уже состоявшаяся или в процессе. Рев сирен. Машины сгоняют на одну полосу. Полицейский показывает: проезжайте. Мы проезжаем.
Я смотрю на него в окно.
Очень молоденький, нервный. Руки в белых перчатках. Серия повторяющихся движений, по одному взмаху на каждый автомобиль. Все должно было быть очень просто: упорядочить движение, освободить проезд для «скорой». Но нет. Впечатление было такое, словно тут исполняют какой-то сложный ритуал. Первобытный обрядовый танец. Лицо полицейского скрыто под хирургической маской.
Его руки как будто ласкали воздух, так нежно. А потом указали прямо на меня. Руки трепетного любовника. Но я все равно не смогла понять смысл его жестов.
Надо быть осторожнее.
Мы проехали дальше, теперь – совсем медленно, к месту аварии. Большой грузовик с прицепом лежал на боку. Его, наверное, вынесло со встречной полосы. Должно быть, он шел на приличной скорости, потому что снес центральное ограждение и выехал где-то на середину крутого травянистого ската с той стороны дороги. Мне представилось, как эта громада на мгновение замерла там, наверху, потом пошатнулась, и рухнула вниз, и сползла к тому месту, где лежала теперь, сложившись чуть ли не вдвое: длинный прицеп так и остался на травянистом склоне, а кабина частично перегородила шоссе.
– Закрой окно, – сказал Павлин.
– Зачем?
– Тебе же показали, что надо закрыть.
На месте аварии было полно полицейских. Хотя до темноты было еще далеко, там уже установили прожекторы – то есть пытались установить. Искусственный свет мерцал в рваном, сбивчивом ритме: вспыхнет на пару секунд, потускнеет, снова вспыхнет, погаснет, опять загорится. А потом вдруг единственный луч взметнулся в небо. Багровое небо, первые звезды.
Холодная голубая Венера только-только взошла.
И вот над нами навис опрокинутый грузовик; с такого близкого расстояния он казался огромным, как дом. Раздалось сердитое шипение, полетели искры. Это кто-то из пожарных пытался разрезать дверцу кабины автогеном. Санитары «скорой» уже стояли наготове с носилками и аптечкой.
Бедняга водитель был заперт в кабине, живой или мертвый, пока непонятно. Что же пошло не так?
Мы еле-еле ползли в плотном ряду машин, а потом и вовсе остановились. Оттуда, где мы стояли, было хорошо видно, что при падении прицеп открылся, и часть груза вывалилась на дорогу. Это были какие-то деревянные ящики. Асфальт поблескивал битым стеклом. Облако пыли висело в воздухе. Столько подробностей… у меня голова пошла кругом. Слишком много всего, слишком много информации. Шум опять подступал вплотную.
Луч прожектора вращался по кругу. Вот он высветил блескучие золотистые искры; у меня перед глазами как будто раскрылось соцветие из фиолетовых и золотых переливов. Пахло горелым металлом. Во рту появился сухой металлический привкус. В ушах звенело.
Шипение горящего газа.
– Эй, ты чего?
Это Хендерсон: обернулась ко мне с переднего сиденья. Ее лицо, ее волосы, спутанные и всклокоченные, налились ярким, насыщенным цветом, когда луч прожектора мазнул по машине.
– Марлин?
Голос был смазанный и какой-то далекий. Луч уже сдвинулся дальше, но все равно мне казалось, что вся машина искрится бликами.
– Марлин, с тобой все в порядке?
– Да… да, все нормально.
Павлин меня научил, что надо делать: ни в коем случае не закрывать глаза, а сосредоточиться на какой-нибудь мелкой детали из внешнего мира. У меня на коленях лежала тетрадка, я опустила глаза и сосредоточилась на картинке на обложке. Почему-то мне было неловко: нельзя, чтобы они видели, как мне плохо. И я сидела, тупо таращилась на свою тетрадь, стараясь не замечать ничего вокруг, и складывала в голове картинку.
Пытаясь ее удержать, удержать…
Кажется, у меня получилось. Ощущения пронеслись сквозь меня: искры, свет, струя горящего газа. Наконец я решилась поднять глаза. Кто-то из полицейских постучал по боку нашей машины и сказал, чтобы мы проезжали.
Давно я не видела столько полиции в одном месте. Все полицейские были в белых хирургических масках. Некоторые вооружены. Я сперва не поняла зачем, но потом луч прожектора высветил фирменный знак на боку прицепа.
– Ой, бля, – сказал Павлин. – Вы видите?
– Видим, – сказала Хендерсон.
Большой распахнутый синий глаз и завиток золотистой пыли. И вот тогда я поняла, что значит облако пыли, зависшее над дорогой. Пока мы медленно проезжали мимо, крупицы препарата осели на стеклах. Блестящие ярко-желтые крапинки. Полиция охраняла опрокинутый грузовик, чтобы народ не растащил выпавший груз. Мы уже набирали скорость, а мне так хотелось выйти из машины, выпрыгнуть на ходу. Безумный порыв: хоть раз в жизни попробовать порошок по-настоящему. Пробежать сквозь взвесь золотистой пыли, широко открыв рот, – и надышаться до полной передозировки.
>
Меня зовут Марлин Мур. Это моя книга.
Это такая тетрадка, которую могла бы купить себе школьница старших классов, с тигром на обложке. У тигра синие полоски. Бумага тонкая, почти прозрачная; чернила проступают на той стороне листа. Все эти строчки. Тени, взгляды.
Это моя история. За последние две-три недели со мной столько всего случилось. Но сейчас, когда я просматриваю свои записи, я вижу лишь беспорядочное нагромождение слов. Слова, предложения, абзацы, целые страницы – жирно зачеркнуты. Словно тронуты порчей. Ошибки. Этот шум проникает повсюду. Страницы надорваны, кое-где вырваны напрочь; что-то я выбросила, что-то подклеила на другие места. Грязные пятна, еда и кровь. Отпечаток цветка, сжатого между страницами; пятнышки от хлорофилла, пыльца, кусочки засохшего лепестка.
Это моя история.
Я решила начать все заново. Начать с того, в чем я уверена: с того, что случилось сегодня, а точнее – вечером накануне. Я так делала уже не раз, но каждый раз начинала сбиваться и путаться. Я все помню: детали, подробности, переживания и ощущения, общее настроение, – просто каждый раз что-то теряется, что-то важное. Шум – как рука темноты, мягкий зажим, медленный яд, порча, болезнь, он меня не отпустит. И все же бывают мгновения пронзительной ясности, внезапные воспоминания – как приступы боли, целостные и живые; ускользающий проблеск, который надо немедленно удержать, иначе он потеряется навсегда. Мне надо быть сильной. Я уже начала писать – и останавливаться нельзя. Потому что другого спасения нет, и тем более теперь, когда мне, похоже, становится хуже.
Вот моя книга.
Я достаю фотографию из кармашка на обороте верхней обложки.
Может быть, дело в неверном, мерцающем свете. Изображение слегка расплывается. Лица на снимке размыты. Только держа фотографию под одним строго определенным углом, я могу разглядеть эту ласковую улыбку.
Анджела.
Эти слова…
>
Едем на юг. Хотим добраться до нового города до того, как стемнеет. Теперь, когда мы проехали сквозь золотистое облако, дорога снова свободна. Машин очень мало. Похоже, водители не особо стремятся на этот участок шоссе. А те машины, которые есть, еле-еле ползут.
Слишком много аварий.
Через каждые пару миль – очередная машина, брошенная на обочине. Причем разбитых и прогоревших совсем немного. В основном они просто стоят, одинокие и покинутые, как будто водитель просто вышел на пару минут, а потом вдруг решил уйти прочь. Это похоже на иллюстрации к эпизодам из фантастических книг, которые я читала еще подростком.
Брошенные машины.
Тогда мне казалось, что это очень романтичный образ, символ умирающей цивилизации. По-моему, почти все подростки хотят, чтобы наступил конец света: просто чтобы увидеть, как это будет. Но теперь, когда этот возвышенный образ становится самым обычным явлением, он утратил свое поэтичное очарование. Все очень просто: водители бросили свои машины, потому что они уже не доверяют себе.
А какие еще могут быть причины?
Павлин с Хендерсон обсуждали опрокинувшийся грузовик и облако. Они чуть не поругались. Павлин хотел остановиться, понаблюдать за полицией на месте аварии, может быть, даже стянуть под шумок пару ящиков. Лекарство, снадобье, препарат. Наше суточное спасение, как он его называет. Но Хендерсон сказала «нет», и мы поехали дальше. Как-то само собой получилось, что она у нас вроде как главная в нашем сомнительном предприятии.
Я уже больше недели путешествую с этой парочкой. Не сказать чтобы очень давно. Мы познакомились в тот достопамятный вечер, когда я рылась в городском саду, разгребая землю голыми руками. Вот чем приходится заниматься. Черные цветы в том саду, их всепоглощающий аромат. Указатели и подсказки привели меня к этому месту, но там не было ничего, только земля, корни, камни и червяки. Ну и где оно? Что за херня?!
Я уже собралась плюнуть на все и уйти, но тут у меня за спиной раздалось:
– Ни фига себе, нет, ты глянь.
Это был Павлин. И они с Хендерсон мне помогли. Мы все-таки выкопали этот клад – это сияющее сокровище. Мне было так странно, что мне помогают какие-то люди, и я до сих пор не уверена, что им от меня нужно, ну, кроме доли в добыче. Но без них я бы точно не справилась.
Павлин – большое грубое животное. Страшный, как смертный грех. Он ходит в замшевой куртке и коричневой кожаной шляпе с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями. Без шляпы я его видела редко, всего пару раз. У него на голове жуткий шрам от пореза ножом – память о бурном прошлом. Но он очень много чего умеет. Например, он почти постоянно сидит за рулем, даже когда ему плохо. В общем-то это не страшно, надо лишь вовремя принимать порошок и соблюдать дозировку, но я все равно за него волнуюсь. С ним легко и приятно общаться, но иногда он вдруг мрачнеет, и тогда к нему лучше не лезть. У него израненное лицо, и эту жесткость он носит как маску: не для того, чтобы скрыть свои раны, а наоборот, выставить их напоказ. Я уже видела, и не раз, каким он бывает жестоким и грубым. Война, годы, проведенные за границей, эта холодная отчужденность, что вдруг возникает в его глазах. Но за его жесткой личиной скрывается что-то еще, я уверена. Мне хочется, чтобы так было. Что-то там, в глубине; что-то, что он не пускает наружу. Я не знаю его настоящего имени.
У него есть пистолет.
Хендерсон, или Бев, как ее называет Павлин в приступах грубой нежности, личность еще более загадочная. В каком-то смысле она круче Павлина: я имею в виду перепады ее настроения. Она может распсиховаться на ровном месте, ее очень легко вывести из себя – иногда это полезное качество, но иногда оно только мешает. Она ходит в зеленых спортивных брюках, в спортивной куртке, ярких кричащих кроссовках. В любую секунду готова сорваться с места и приступить к делу. Она не курит, почти не пьет. Каждое утро делает тайчи. Ей лет двадцать пять, она на пару лет моложе Павлина. Мы все так или иначе поражены болезнью, но Хендерсон держится лучше нас с Павлином. Я не знаю, чем она занималась до того, как мы встретились. Наверное, просто скиталась без цели. Потому что я знаю, что в наше время не так-то легко найти путь: мы все потерялись, все вместе – все люди. В этих спутанных тропах, в петлях дорог. Мимолетные встречи и расставания, уже навсегда. Чужие, вечно чужие друг другу…
Иногда мне начинает казаться, что Хендерсон нравится этот хаос. Болезнь позволяет ей проявить свой характер, и ей не нужно при этом искать никаких оправданий. Я вспоминаю себя в ее возрасте. Что я делала лет десять назад? Да ничего, собственно, и не делала. Просто жила. Была замужем и ждала ребенка. Временно не работала. Мы как раз переехали в Оксфорд, в новый дом. Все было просто прекрасно. Ну, скажем, нормально. Правильное начало для правильной жизни. Теперь все это кажется миражем: историей, сотканной из тумана.
На самом деле, хотя нам уже столько всего довелось пережить – за ту неделю, пока мы вместе, – я по-прежнему не доверяю ни Павлину, ни Хендерсон.
Это очень непростое решение.
Мы еще не обсуждали, что было вчера, разве что Хендерсон пару раз высказалась в том смысле, что у нее жутко болит голова. У нас и раньше случались не очень удачные дни, так что вчера был не первый, и, может быть, мы еще вернемся в тот дом, я не знаю. У меня ощущение, что я приближаюсь к концу, вот только никак не пойму – чего. Но я знаю одно: с меня хватит. Еще пару дней, еще пару мест, взять, что нужно, – а потом я хочу отвезти чемоданчик Кингсли и получить свои деньги. Это просто работа. Человеку же надо на что-то жить. Но дело не только в деньгах.
Хотя в чем еще, я не знаю.
Я постоянно думаю об Анджеле. Тогда, в больнице. В последний раз. Как я наблюдала за ней сквозь стеклянную перегородку, и мне хотелось войти в палату, сесть рядом с ней, взять ее за руку. Я знала, что это опасно, что к ней нельзя прикасаться, нельзя ее трогать, нельзя, чтобы она меня видела рядом, нельзя даже с ней заговорить – но мне все равно так хотелось к ней. Может быть, я уже тогда знала, что это будет последний раз. Я не знаю. Мне так хотелось туда, но врачи меня отговорили. И я дала себя отговорить. Как всегда.
Теперь мне стыдно и больно.
Получается, я ее бросила.
Моего единственного ребенка…
Может быть, эти мысли и определили мое решение. Мы уже приближались к съезду с шоссе, на дорогу до нового города, и тут Хендерсон сказала:
– М-да, печальное зрелище.
Девочка-стопщица на обочине. Совсем молоденькая девчонка.
– Проезжай, – сказала я Павлину.
– А что у нее там написано? – спросил Павлин.
Мы уже поравнялись с девушкой. Она держала в руках картонку, на которой было что-то написано. Уже почти стемнело, и девушка подсвечивала табличку маленьким фонариком, но я все равно не смогла разобрать, что там написано. Когда мы проехали мимо, она показала нам вслед поднятый средний палец.
– Еще и хамит, – сказал Павлин.
– Куда-нибудь, – сказала Хендерсон.
– Чего?
– У нее так написано на картонке. Куда-нибудь. Нормально, да?
За эту неделю нам попадалось немало стопщиков. Все вроде бы молодые, и большинство – девушки. Очень часто бывало, что они просто шли вдоль шоссе, вдалеке от развязок и автозаправочных станций: как будто упали с неба. Я не знаю, от чего они все бежали, и считаю, что лучше всего просто их не замечать. У нас есть работа, вот и давайте думать о работе и ни на что не отвлекаться.
Я обернулась и посмотрела сквозь заднее стекло; девушка уже скрылась из виду, слившись с вечерним сумраком. А потом – кстати, я до сих пор не пойму, что меня подтолкнуло, – я сказала:
– Нет, стой. Давай развернемся.
>
Вчера ночью, когда мы все втроем забились в один тесный номер, в том кошмарном мотеле. Там было всего две кровати, две односпальные кровати. Я никак не могла заснуть: люди ходили по коридору всю ночь и постоянно меня будили. Но вот я проснулась в очередной раз и поняла, что теперь разбудившие меня звуки доносятся не из-за двери, а с соседней кровати.
Приглушенный стон, тихий вскрик, шелест дыхания.
Я давно поняла, что Хендерсон с Павлином – вместе, хотя они никогда не показывали своих чувств и никак не проявляли своей привязанности. Но все равно мне было неловко, что они тут же, рядом… когда я лежу на соседней кровати…
Все было на удивление нежно и трепетно. Особенно если учесть, как эти двое ведут себя на людях. Хотя, может, они себя сдерживали из-за меня. Я не знаю.
Интересно, а что они чувствуют; болезнь как-то влияет на ощущения? Во что превращается удовольствие, тронутое этой порчей? Должно быть, в такие минуты шум становится просто убийственным; каждое прикосновение – как будто тебя полосуют ножом или, наоборот, присыпают пылью, и ветер сдувает пыль с кожи.
Все эти прерывистые сигналы…
А потом я попыталась припомнить, как я в последний раз занималась любовью. Когда это было? Не помню. У меня что-то с памятью: какие-то события из прошлого вспоминаются живо и ярко, болезнь еще не заразила всю память, но в последнее время, все чаще и чаще, воспоминания ускользают. И их уже не догнать, не вернуть. Недели, годы – они растворяются без следа – в растерянности и смятении.
Любовь? Где это было, когда? В последний раз? Наверное, с мужем… или не с мужем? У меня был еще кто-нибудь после мужа? Куда все подевалось? Любовь, близость, привязанность.
Где они?
Где?
>
Хендерсон, разумеется, была против. Она обзывала меня по-всякому, а потом заявила, что она у нас главная. Я сказала, что да, ты главная, но я все это начала – я же и закончу. Как сочту нужным. Тем более что это моя машина. И самое главное – ключ от чемоданчика у меня.
– Ладно, – сказала она. – Как хочешь.
– Но только до следующей остановки, – добавил Павлин.
– Хорошо.
Дорога была абсолютно пустынной. Мы развернулись и поехали назад. Когда мы проехали мимо девушки, она даже не посмотрела в нашу сторону. Она просто стояла, сгорбившись и склонив голову. Картонка валялась на земле. Мы опять развернулись и подъехали к девушке.
Теперь я разглядела, что она была еще моложе, чем мне представилось с первого раза. И вправду, даже не девушка, а девчонка. Девочка-школьница. Павлин остановил машину, но девочка не подошла. Она просто стояла и смотрела на нас. Я опустила стекло и спросила, куда ей нужно. Я думала, что она хотя бы улыбнется. Но она лишь повторила, что было написано у нее на картонке:
– Куда-нибудь.
Я ей сказала, куда мы едем, и она спросила:
– В новый город?
– Ага.
– Слишком близко.
– Слушай, девочка, – сказала ей Хендерсон, – если хочешь, садись. А не хочешь, так мы поедем.
Девочка оглядела дорогу, как будто в любую секунду могла показаться другая машина. Но других машин не было – не было даже проблеска фар вдалеке. На небе уже появилась луна. Было так тихо, что казалось, весь мир затаил дыхание.
– Ладно.
Я открыла свою дверцу и подвинулась на заднем сиденье, освобождая ей место.
– А можно это убрать? – спросила она.
Чемоданчик. Я молча убрала его с сиденья и поставила на пол. И мы поехали дальше. Я назвала свое имя, представила Павлина с Хендерсон, но девочка ничего не сказала, и какое-то время мы ехали молча.
– Да, прикольно, – сказала Хендерсон.
Фонари у дороги горели через два на третий, но в этих прерывистых проблесках света я хотя бы смогла разглядеть нашу новую пассажирку.
Чистенькая, аккуратная. Очень серьезная с виду девочка. Лет шестнадцати, может, семнадцати. В сущности, еще ребенок. Черные длинные волосы собраны в узел. Одета просто: джинсы, заношенная джинсовая куртка, шарф на шее. С собой – ничего, только серая сумка на длинном ремне, перекинутом через плечо. Сразу видно, что она путешествует совсем недавно. В ее чертах была странная мягкость, которую не сумели испортить ни яркие губы, густо накрашенные красной помадой, ни родинка на правой щеке, нарисованная косметическим карандашом. Я помню, когда-то такие родинки были в моде. Как раз перед тем, как разразилась беда. Болезнь. Но эта девочка до сих пор следует той, давней моде. Даже теперь, когда все зеркала заразились и в них никто больше не смотрится.
Вот так, не видя себя… зачем-то…
А потом она обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Темные глаза, непроницаемый взгляд. Она носила очки в тонкой оправе.
Что ей нужно? Теперь так не делают. Люди больше не смотрят друг другу в глаза. Это недопустимо, невежливо, даже опасно. Это сродни нехорошему отражению. Мы с Павлином и Хендерсон всегда избегали встречаться взглядами, и вот вдруг появляется эта девочка – и смотрит мне прямо в глаза. Напряженно, внимательно. Мне пришлось отвернуться.
– Слушай, девочка, – сказал Павлин. – Ты хоть скажи, как тебя зовут.
– Тапело.
– Тапело? Странное имя.
– Есть такой город, в Штатах.
– Так ты что, из Америки?
– Нет.
– А откуда? – спросила я.
Она не ответила на мой вопрос, и мы все опять замолчали. Мы уже съехали с автострады. Павлин принялся рассуждать о том, что в новом городе наверняка что-то делается для обеспечения безопасности. Пограничная область, стены, ворота, может быть, даже охрана.
– Нам надо быть осторожнее, – сказал он. – После вчерашнего. Мы же не хотим, чтобы Кингсли расстроился.
– А вы что-то затеваете? – спросила девочка. – Кто такой Кингсли?
– Не твоего ума дело, – сказала Хендерсон.
Тапело взяла с сиденья мою тетрадку. Я ее не убирала, потому что, пока мы едем, я обычно работаю, чтобы не терять время.
– Это ваше?
Я сказала, что да, и она пролистала тетрадку.
– Вы что, писательница?
– Журналист.
Она еще раз пролистала тетрадку, теперь – внимательнее. Что она там, интересно, увидит при таком тусклом свете?
– А сейчас пишете книгу?
– Пишу.
– Про болезнь?
Она опять посмотрела мне прямо в глаза.
– Про болезнь.
Больше она ни о чем не спросила, и мы опять замолчали.
>
Павлин остановил машину. Прямо тут, на обочине. Открыл дверцу, вышел. Никто не понял, в чем дело. Раздался приглушенный скрежет, потом Павлин выругался. Ага, понятно. Он пытался отломать боковое зеркало. В конце концов он поднял ногу и сбил зеркало ботинком. Опять грязно выругался. Объяснил, что, когда он высовывается из окна, он волей-неволей видит свое отражение. Пусть мельком, пусть краем глаза, но все же. Еще одно боковое зеркало и зеркало заднего вида – их давно уже нет. Как и часов на приборной панели; теперь они сломаны, и две стрелки застыли в одном положении под растрескавшимся стеклом.
– Ну и правильно. Мы не оглядываемся на прошлое, – сказала Хендерсон.
Мы теряем себя. Теряем все связи и воспоминания, все мгновения жизни одно за другим.
Мне надо писать свою книгу.
>
Жуткое зрелище. Павлин заехал на бензоколонку, чтобы заправить машину и купить шоколада и сигарет. Я пошла в магазин вместе с ним, и там был маленький мальчик. Пораженный болезнью. И с ним как раз приключился приступ. Он лежал на полу перед игровым автоматом, и бешено колотил руками по воздуху, словно отбиваясь от чего-то невидимого, и выл в голос. Это было ужасно. Родители мальчика просто стояли над ним, испуганные и растерянные – абсолютно беспомощные. А двое сотрудников бензоколонки пытались его удержать. Меня вдруг охватило холодное серое оцепенение. Мне вспомнился первый приступ Анджелы. Я схватила Павлина за руку и потащила туда, к мальчику. Павлин удерживал его рот и язык, а я быстро открыла три капсулы и высыпала порошок ему в горло. А потом… потом мы купили шоколада и сигарет, заплатили за бензин и поехали дальше.
>
Там была очень хитрая система развязок, и нам пришлось попетлять, пока мы не нашли нужный съезд. Слишком много всего: указатели, знаки, мигающие светофоры, рекламные щиты и большие экраны с движущимися картинками. Неоновые изображения искрились яркими, насыщенными цветами, и каждый стремился завлечь внимание. Но чем больше я на все это смотрела, тем меньше я видела.
Слишком там было шумно.
И над всем этим довлел необъятный рекламный щит компании «Просвет», производящей лекарство с одноименным названием. «Просвет» – в смысле, просвет при психозе. Прояснение сознания. Тот же самый распахнутый глаз, что и на прицепе опрокинувшегося грузовика, только сложенный из сотен и сотен маленьких лампочек, которые то зажигались, то гасли в определенной последовательности, так что казалось, что глаз то открывается, то закрывается.
– Вот они, наши спасители, – сказал Павлин.
– Ага, спасители. Мудаки и мерзавцы, – сказала Хендерсон. – Прикинь, сколько они рубят бабок.
Глаз был пронзительно электрически-синий, а из центра зрачка вырывался спиральный завиток золотистой пыли, который как бы раскручивался вовне. Зрелище было почти гипнотическим.
А снизу, под глазом, шли буквы. Бегущей строкой. Мне показалось, я видела фразу: «Если вы смогли это прочесть…», – но уже через секунду буквы слились в сплошную подсвеченную полосу.
– Что там написано? – спросила я.
– Ты что, не можешь прочесть? – сказала Хендерсон.
– Не могу.
В машине вдруг стало тихо. Очень тихо.
– Что там написано?
Мне ответила девочка. Тапело:
– Если вы смогли это прочесть, значит, вы еще живы.
>
Я просматривала свои ранние записи: те куски, которые я начинала, а потом бросала. Сидела в машине, подсвечивала страницы фонариком, который дала мне Тапело, и пыталась найти, где я описывала свой последний телефонный звонок в больницу. Где-то ближе к началу. В самом начале этого путешествия, еще до того, как я встретила Павлина и Хендерсон, я провела столько долгих ночей в гостиничных номерах: не спала до утра, сидела – писала. Просто писала. Вспоминая все до мельчайших подробностей. Насколько это вообще получалось – вспомнить.
Тогда мне казалось, что эти подробности очень важны… Слова ускользали, как будто прячась от лучика света, такие нервные и испуганные. Ну где же? Где? Я же помню, что я записала ответ врача.
Я постаралась припомнить сам разговор.
Откуда я позвонила? Кажется, я была на работе. Вот только не помню где. В общем, где-то. После последнего раза в больнице я себя чувствовала абсолютно разбитой. Потому что устала оцепенело таращиться на экран монитора – весь день и всю ночь – в безумной надежде на то, что моя дочка хоть как-то проявит себя. Я все ждала и ждала, но видела только несчастную девочку, которая бродит, как будто вслепую, по своей абсолютно пустой белой комнате или просто лежит в барокамере.
И мягкая жидкость окутывает ее всю.
Я ничем не могла ей помочь, и мне пришлось с этим смириться. В конце концов. Мне оставалось лишь ждать, и ожидание растянулось на целую вечность, и я сбежала оттуда. Погрузилась в работу. Наверняка это была очередная пустая статейка. Какой-нибудь репортаж. Но откуда? О чем? Я тогда не могла ни о чем думать, в голове все плыло, но я как-то сумела найти телефон, который работал. В то время болезнь еще не захватила всю телефонную сеть, но линии были уже заражены – помехами, шипением и треском, призраками голосов. Но я все равно старалась звонить каждый день, чтобы узнать, как там Анджела. Шепоты и шумы на линии. Или множество разных людей, и все говорят одновременно. Тут уж как повезет. Но иногда сигнал проходил без помех. Бесприютный звонок, заблудившийся в проводах. Я позвонила в больницу.
И что мне сказали?
Что сказал врач в тот раз, прежде чем линия сдохла? Я еще раз пролистала тетрадку туда-сюда. Оно должно где-то быть. Я же все записала. Я помню, как я записывала. Я не могла этого не записать.
Состояние: стабильное.
Да, наверное, это оно. Или нет? Неожиданно пустая страница, и только эти два слова. Посередине. Подчеркнутые.
– Что с вами?
– Что?
Эта девочка, Тапело. Она спрашивала, что со мной.
– С вами все в порядке? А то у вас такой вид…
– Слушай, оставь ты меня в покое.
Состояние: стабильное. Мы въехали в какой-то туннель. Лампы – полосы света под потолком, словно натянутые струны. Указывали дорогу, мерцали искрящейся красотой. Впереди, сквозь сумрак и золотистый свет, летела птица, и все это великолепие обжигало глаза. До слез.
>
В новом городе, как мне показалось, была своя особенная атмосфера. Свой собственный климат. Павлин ошибся: там не было никаких стен, никаких кордонов. Просто когда мы въехали в город, стало заметно теплее. И чем ближе к центру, тем тише. Спокойнее, безмятежнее. Небо как будто спустилось ближе к земле, не давая ночному теплу ускользнуть с зеленых бульваров.
Мы приехали поздно. Не для работы – за работу мы примемся глубокой ночью; в последний раз, когда мы говорили с Кингсли, он дал очень четкие указания на этот счет. И еще он договорился со своей старинной подругой, что мы остановимся у нее. Это была пожилая женщина. Леди Ирис, как назвал ее Кингсли. И сказал, чтобы мы ехали прямо к ней.
Павлин остановился, чтобы спросить дорогу. Молодой человек, к которому он обратился, отвечал как-то медленно и неуверенно, как будто боялся собственной речи. Пока они там разбирались, девочка, Тапело, вышла из машины.
Даже «до свидания» не сказала.
– Корова убогая, – высказалась Хендерсон.
Дом стоял чуть на отшибе, на вершине холма. Большой старомодный дом, построенный задолго до своих современных блочных соседей. Каменный особняк со стенами, черными от глубоко въевшейся грязи.
Как я поняла, было около восьми вечера. Мы опоздали часа на два. Кингсли почему-то хотел – и настойчиво повторил несколько раз, – чтобы мы приехали ранним вечером. Но у меня теперь плохо со временем. Часы я давно не ношу, и дни делятся на какие-то смутные, размытые периоды: примерно, около, где-то, ближе к полудню, ранний вечер, ближе к ночи и т. д. И только прием лекарства придает нашей жизни хотя бы какую-то упорядоченность.
Нас встретил мужчина, Эдвард, вроде как слуга леди Ирис. Мы припозднились, но он ничего не сказал по этому поводу. В прихожей стояли большие антикварные напольные часы: без стрелок. Эдвард сказал, очень вежливо, что хозяйка дома уже отошла ко сну и что она пообщается с нами утром. Все это было так странно и непривычно, но меня радовало уже то, что сегодня у меня будет отдельная комната.
Где я сейчас и сижу. Я более или менее пришла в себя, собралась с мыслями. Очень скоро мы выйдем на поиски очередной ценности. Сейчас мне спокойнее, чем было вчера. С болезнью – временное затишье, и я могу писать дальше. Хотя сомнения все-таки одолевают. Остается надеяться, что сегодня проколов не будет. У Павлина есть любимая фраза, что мозги иногда следует отключать. Я попробую.
Это такой странный дом. Электричества нет – только свечи. Шорохи, тени. Что-то скребется за стенами. Я пишу, сидя за антикварным туалетным столиком. Прямо передо мной – пустая деревянная рама с крошечными углублениями в уголках, где раньше крепилось зеркало. Еще одна рама без зеркала – резная, из черного дерева – висит на стене. Точно такие же пустые рамы были в прихожей и в тихих, сумрачных коридорах, освещенных свечами. Пустые рамы и выделявшиеся более насыщенным цветом прямоугольные участки обоев.
Официальные распоряжения на этот счет были вполне однозначны: не смотреть на себя ни во время приступов болезни, ни после, когда проявляются ее последствия. Потому что иначе безумие охватит твое отражение. Большинство людей просто переворачивают зеркала «лицом» к стене или чем-нибудь их завешивают. Но в этом доме все зеркала убрали.
Мне вдруг очень живо представилось, как наша таинственная хозяйка, леди Ирис, поручает своему верному Эдварду снять все зеркала. Может быть, они хранятся в какой-нибудь дальней комнате – в ожидании, пока не пройдет эпидемия или пока не найдут лекарство.
Мне представляется темный подвал, заставленный отражениями.
>
Отражения. Духи с той стороны стекла. Образы, выражения. Внешний облик. Лицо. Да, лицо: этот странный объект, который мы каждый день пристально изучали на предмет складок, морщинок, отметин неумолимого времени, красоты и уродства. Теперь мы их спрятали. Мы от них отвернулись. Когда я в последний раз смотрела на себя в зеркало?
Я все думала про наш разговор с Кингсли, когда он впервые упомянул о том, что у него есть для меня работа. Предложение, как он это назвал. Мы сидели за маленьким столиком у него в саду и пили чай, который нам принесла служанка. Я только-только закончила с интервью. Это была наша последняя встреча. Дело было весной, то есть не то чтобы очень давно, но и не скажешь, что совсем недавно. Анджела еще не болела, во всяком случае, ее болезнь пока себя не проявляла; шум нарастал исподволь, незаметно. Недопонятая фраза, неверно истолкованный знак, тихий звон в ухе. Я приходила в этот дом теней дважды в неделю, чтобы взять серию интервью у Кингсли, записать на компакте его приключения; каждую ночь я проигрывала эти записи и никак не могла понять, почему у меня не получается различить некоторые слова.
Эта работа давно уже вышла за рамки редакционного задания. В журнале мне охотно разрешили взяться за этот проект – собрать материал для одной из статей по необычным хобби, – но теперь у меня появилась идея, пока еще очень нечеткая, что из истории Кингсли можно сделать целую книгу.
Интересный человек, интересная жизнь.
Он рассказал о себе очень много, показал мне свою коллекцию викторианских диковин, но я все равно не могла бы сказать, что я знаю этого человека; тусклый налет непреходящей печали у него на лице, холодная боль в глазах. И когда мы сидели в саду, в мягких вечерних сумерках, и Кингсли в последний раз попросил меня выключить «эту бесовскую машину», он повернулся и посмотрел мне в глаза.
– Моя дорогая Марлин, – сказал он, – скоро я уже не смогу вот так смотреть тебе прямо в глаза.
Я спросила, что это значит, но он лишь улыбнулся в ответ. Редкий случай. Потому что он почти никогда не улыбался.
Из открытых окон доносилась музыка; это клавиши механического пианино наигрывали свою призрачную мелодию. Кингсли поднялся и протянул мне руку. Ему было уже много лет, но годы не отняли у него изящества: это был импозантный красивый старик в льняном костюме, с напомаженными волосами и своей неизменной тростью из красного дерева. Он сказал:
– Я растратил всю жизнь в поисках редких вещей. Но это всего лишь кусочки сна, и не более того.
И так, рука об руку, мы пошли прогуляться по саду. Краешек заходящего солнца уже коснулся верхушек деревьев; краски дня потускнели еще на чуть-чуть.
Кингсли живет в большом доме, вернее, в поместье, неподалеку от Оксфорда. Огромный ухоженный сад постепенно сливается с окружающим лесом, безо всяких заборов и меток, и в какой-то момент, когда мы с Кингсли проходили по узким тропинкам среди деревьев, я вдруг осознала, что уже не понимаю, где мы. Это был лабиринт, но не распланированный и построенный человеком; как будто сама природа, свернувшись хитрой спиралью, создала эти запутанные тропинки. Кингсли решительно шел вперед, сворачивая то туда, то сюда, как мне казалось, почти наугад, и вот наконец мы с ним вышли на маленькую, затененную поляну.
И там, в круге деревьев, ветви которых сплелись у нас над головой, стояла какая черная каменная штуковина. Высотой где-то по пояс, очень старая, вся обвитая цветущей лозой.
Церковная купель.
Тусклый, унылый свет скопился под лиственным пологом. Где-то в листве ворковал дикий голубь – в остальном было тихо. Кингсли сделал мне знак, чтобы я подошла поближе. Купель была накрыта деревянным щитом, который я убрала по молчаливому знаку Кингсли. Я заглянула в каменную чашу.
Там была налита вода, и вода светилась. Бледно-лиловым. На поверхности подрагивала картинка, как будто вода – это экран, и на нее проецируют фильм. Что это? Очередная диковина из знаменитой коллекции Кингсли? Какое-нибудь хитроумное оптическое приспособление, созданное для забавы и обучения, типа тех волшебных фонарей, которые Кингсли показывал мне сегодня?
Постепенно размытый образ обрел четкость. Это было лицо. Лицо старика, увиденное как будто мельком; старик широко раскрыл рот, словно чтобы набрать больше воздуха, пока его не утянуло обратно под воду. На его месте возникло другое лицо. Потом еще. И еще. Они появлялись одно за другим, все – не похожие друг на друга: они на миг поднимались к поверхности, молча хватая ртом воздух, а потом погружались обратно в лиловую глубину. А когда я наклонилась поближе, чтобы лучше разглядеть эти лица, я увидела себя. Свое собственное лицо. Под водой. На глаза навернулись слезы. Упали в воду. Я сама толком не поняла, почему я расплакалась. Я слегка отстранилась, но вода не отпустила мое отражение. Она поймала меня, заворожила, отобрала. И пока я смотрела, оцепенев от ужаса, в трансе, похожем на сон, мое отражение ушло под воду. Мне вдруг стало нечем дышать.
У меня что-то забрали…
Кингсли тихонечко кашлянул. Шагнул вперед, мне навстречу, и без единого слова опустил руку в воду. Он вздрогнул, а потом вынул руку. И в руке у него что-то было. Свет блеснул серебром, отразившись от этого маленького треугольничка. Это был осколок зеркала. И он светился бледно-лиловым светом.
– Ничто не теряется навсегда. Отражения не могут сбежать. – Кингсли говорил спокойно и тихо, но в каждом его слове сквозила все та же затаенная печаль. – Представляешь, Марлин? Лица всех, кто смотрелся в это зеркало, навсегда остаются там, живые, захваченные в отражении. – Прикрыв глаза, он медленно провел в воздухе рукой, державшей зеркальный осколок. Туда-сюда. – Я в первый раз посмотрелся в него, в это зеркало, уже очень давно. Я тогда был молодым. И я постоянно хожу сюда и смотрю в это зеркало снова и снова. Я видел множество лиц. Незнакомых. И ни разу не видел своего молодого лица. Да, ни разу. – Он уронил кусок зеркала в воду. – Но мы по-прежнему ждем…
Мне показалось, что стало заметно темнее. Молчаливые деревья как будто склонились еще ближе к нам, источая запахи зелени. Кингсли взял меня за руку.
– У меня есть для тебя предложение, – сказал он. – Может, оно тебя заинтересует.
Пока мы шли по запутанным тропкам обратно в сад, Кингсли рассказывал мне, в чем состоит его предложение. А когда мы уже подходили к дому, до нас сквозь листву донеслись одинокие звуки печального механического пианино.
>
Перед самым выходом из дома мы все приняли порошок. На самом деле вечернюю дозу следовало принимать перед сном: чтобы не снились кошмары. Первый прием – утром, как только проснешься. Второй – в середине дня. Третий – на ночь. Вот такой распорядок. Но Хендерсон настояла, чтобы мы приняли порошок перед выходом. Как я понимаю, чтобы снять синдром вечернего отупения и застраховаться на случай всяких неожиданностей. Тем более если учесть, куда мы идем и за чем.
Так легко ошибиться.
Принять слишком много или, наоборот, слишком мало; принять сколько нужно, но не в то время. Принять сколько нужно, а потом загрузить восприятие на полную мощность, когда ощущения вырываются из-под контроля. В общем, все очень сложно.
Мы собрались на кухне, все трое, и Павлин раздал капсулы. Каждому – по одной. Я сидела, вертела свою в руке.
Желтая оболочка, крошечный синий глаз.
Кем бы я стала, не будь «Просвета»? Я бы наверняка не смогла писать. Я бы не понимала элементарных слов, их звучания и значения. Мир переполнился бы шумом, и я потерялась бы в нем целиком.
– Пусть нам будет хорошо, – сказала Хендерсон.
Она запила свою капсулу глотком холодной воды. А потом наблюдала за тем, как Павлин повторяет это нехитрое заклинание. Как было необходимо.
– Пусть нам будет хорошо. Только так, и никак иначе.
И он проглотил свою дозу.
Я все думала о той аварии на шоссе. О грузовике с порошком. Вспоминала подробности, снова и снова. У меня был легкий приступ, хотя я с утра приняла лекарство. А потом я увидела это красивое облако пыли. И мне вдруг захотелось выйти из машины, пробежать сквозь золотистую взвесь, вдохнуть порошок полной грудью. Много и сразу. И что бы тогда со мной было?
Врачи, наблюдавшие за моей дочкой, рассказывали, что происходит в случае передозировки. Они говорили, что в этом случае между тобой и миром образуется пелена. Чернота. Непроницаемая завеса. И ты перестаешь воспринимать окружающий мир: не видишь, не слышишь, не осязаешь, не чувствуешь вкуса. Тело как бы закрывается и становится невосприимчивым к внешним воздействиям. Так говорили врачи. И, собственно, именно это они и сделали с Анджелой. Ближе к концу. Окружили ее темнотой. И теперь я хочу того же? Для себя?
Павлин и Хендерсон смотрели на меня.
И я сделала то, что должна была сделать. Сделала то, что положено. Потому что такие правила. Только я уже не могла вспомнить, что это такое, когда тебе хорошо.
>
Следуя инструкциям Кингсли, мы сразу нашли турагентство. Оно располагалось в унылом здании, чистеньком и совершенно невыразительном, как и все дома на той улице. Все одинаковые. Над дверью висела вывеска: ПУТЕШЕСТВИЯ. Одно слово, ярко-красными буквами. В большом окне на первом этаже висели поблекшие плакаты: белое здание отеля, тропический пляж, одинокий бассейн. Над плакатами – еще одна надпись. «Тебе куда?» Пол в витрине был посыпан песком, а на песке были разбросаны окурки, смятые пакетики из-под чипсов и фотографии на тему семейного отдыха. Еще там был большой надувной мяч и детское ведерко с совочком. И штатив, на котором стояла старенькая фотокамера. Внутри было темно. Окна на втором этаже занавешены плотными шторами.
– Ну что, сразу войдем? – спросил Павлин.
– Нет, – сказала Хендерсон. – Чуть попозже. И ты, Марлин, сегодня никуда не лезешь. Хватит с нас прошлой ночи. Ты слышишь?
Я кивнула, и мы разделились. Павлин с Хендерсон ушли вместе. Я слышала, как они спорят, в какой бар пойти. Хорошо все же побыть одной. Я решила пройтись по улицам. Просто так. Никто на меня не смотрел, то есть смотрели, но не в упор, никто не смотрел друг на друга по-настоящему. Я прислушивалась к разговорам прохожих; это были разговоры-воспоминания, разговоры-цитаты, а не разговоры-творения, которые здесь и сейчас.
– Мы с женой хотим пригласить тебя в гости на ужин. Завтра вечером сможешь?
– С большим удовольствием.
– Нет, это для нас удовольствие.
– У вас такая приятная семья.
Острый дефицит эмоций. Все телефонные будки уже были закрыты на ночь.
Из дорожных знаков и указателей в городе были только самые основные, где-то с полдюжины символов. НАЛЕВО, НАПРАВО, СТОЙТЕ, ИДИТЕ, ДА, НЕТ. Лишь немногие магазины имели собственные имена. По большей части они назывались без всяких затей: МЯСО, или БУЛОЧНАЯ, или даже ПРОДУКТЫ. Я насчитала несколько магазинов, которые назывались просто МАГАЗИН. Все это делалось для безопасности: минимум информации.
Часы на башенке городской ратуши были закрыты брезентом. В темном дверном проеме стояла молодая женщина. Она пела. Это был немелодичный речитатив, холодный плач. А потом я прошла мимо киоска с надписью ЛЕКАРСТВО. Перед киоском была небольшая очередь. Люди пришли за вечерней дозой. Они протягивали продавцу свои карточки, тот ставил на них печать и выдавал каждому по одной капсуле.
На крыше киоска мерцал синий глаз.
Я купила себе поесть: что-то мягкое и зеленое. Уличный торговец выдавил эту пасту на кусок теста. Спросил, какой добавить ароматизатор. Я выбрала «Пикантный», и продавец брызнул на пасту тонкой струйкой жидкого соуса.
Я пошла дальше, держа в руке купленную еду. Все здания в городе были похожи. Их строили по одному образцу, используя одни материалы: серая сталь, желтовато-коричневые каменные блоки. Синее неотражающее стекло. Я слышала про это новое изобретение, но раньше не видела, и сейчас я постоянно ловила себя на том, что, проходя мимо домов, заглядываю в синие окна.
Какие-то заведения еще работали, но их было мало. Бары, кафе, все в таком роде. ПАБ, КАФЕ, РЮМОЧНАЯ. В одном баре, прямо у окна, выходившего на улицу, сидела молодая пара. Девчонка и парень. Они играли в шахматы. И не разговаривали друг с другом. Может быть, это были манекены. Или даже роботы. А потом, на одной сумрачной улице, я нашла место, у которого было свое название. Настоящее название.
Меня потянуло туда.
Музей хрупких вещей.
Высокое узкое здание. Единственное освещенное здание на всей улице. Странно. Уже так поздно, а музей был открыт. В окне – пустота. Чистое, белое пространство. Которое тускло поблескивало и как бы переливалось бесцветными искорками. Я подошла поближе. Сперва я не видела ничего, но потом – медленно, постепенно – все-таки разглядела, что это было.
Тоненькая паутинка.
Шелковая паутинка, растянутая во все окно. От края до края, от пола до потолка. Сложное переплетение почти невидимых нитей. Маленький электрический вентилятор на задней стенке создавал ветер, отчего вся конструкция легонько подрагивала; кое-где нити уже порвались. И там, на одном из таких мест разрыва, был сам создатель узора.
Крошечный механический паучок очень тонкой работы. Стеклянный. Его прозрачное тельце было заполнено наполовину какой-то серебристой жидкостью. Теперь он проворно пополз по паутинке к другому месту, которое требовало починки.
Конечно, мне захотелось пойти посмотреть, что там еще. Музей занимал четыре этажа, и самые интересные экспонаты располагались на верхнем этаже. Мне так сказала женщина за конторкой.
– Самые хрупкие вещи у нас наверху. – У нее был ровный, взвешенный голос, тихий и хорошо поставленный. – Поэтому, будьте добры, вы там осторожнее, на четвертом.
Я купила билет и пошла наверх, мимо скульптур из папиросной бумаги, пластмассовых зверюшек, подвешенных на водяных струях, мимо маятника изо льда. Экспонатов было немало. Облако, составленное из бабочек, опустилось на ветку дерева, и на секунду там образовалась красивая композиция из цветов с трепетными лепестками-крылышками. Я видела много чего интересного. Последний вздох умирающего человека, пойманный в стеклянную банку. Я слушала музыку, которую создавали капли воды, падающие на ксилофон. Ее можно было услышать, только склонившись к самому инструменту. Мелодия показалась знакомой, но я не смогла вспомнить ее названия. На третьем этаже мне понравился необычный портрет: лицо молоденькой девушки, сотворенное из пламени газовой горелки.
Она улыбалась, это дитя огня.
Я на секунду закрыла глаза, а когда снова открыла, лица уже не было.
>
Состояние стабильное. И что это значит? Почему врач так сказал? Это действительно так? Или, может, у них что-то не так с оборудованием? Или врач говорил неправду? Но зачем ему врать? Состояние стабильное. Что скрывалось за этим словом? Стабильный. Такое слово. И что оно значит? Стабильный, то есть устойчивый. Находящийся в равновесии, на самом краешке. На грани падения. Падение. Состояние стабильное. Я позвонила на следующий день. Во всяком случае, пыталась звонить. С того же самого телефона, теперь я вспомнила. Но на этот раз связи не было.
Состояние стабильное.
А в тот же день, поздно вечером, почти ночью, как я узнала уже потом, моя Анджела умерла. Она умерла. Меня как будто накрыло холодной волной; такой холодной, такой мучительно медленной. Волной, проникшей в меня и сомкнувшейся у меня на сердце. И я поддалась, поддалась этому холоду. Я должна была быть рядом с ней. Почему меня не было рядом? Только этот пронзительный холод…
Ей было всего девять лет. Она умерла.
>
Весь четвертый этаж занимал один зал. Огромное, хорошо освещенное помещение, заставленное книгами. И там была Тапело. Та девчонка, которую мы подвозили. Сидела – читала книгу.
– Ой, это вы, – сказала она. – Хендерсон, правильно?
– Нет. Хендерсон – это другая. А я Марлин.
– Марлин, ага.
– Любишь читать? – спросила я.
– Это сильно. Это действительно сильно.
Я огляделась. Все четыре стены были сплошь завешены книжными полками. Книги стояли вплотную друг к другу. Очень старые книги, почти все – в твердых матерчатых переплетах, хотя попадались и современные издания в мягкой обложке. Кроме нас с Тапело, в зале был еще мужчина, служитель музея, который сидел в уголке. И, кажется, спал.
Я подошла к ближайшей полке и провела пальцем по корешкам. Интересно. Я взяла одну книгу и сразу – другую. Глянула на обложки. Прошлась вдоль полок, вынимая книги наугад.
– Они без названий.
– Да, – сказала Тапело. – Уже без названий.
– Что значит – уже без названий?
– А вы внутрь загляните.
Я открыла книгу, которую держала в руках.
– Пожалуйста, осторожнее, – сказал служитель музея, сонно кивнув головой.
Вроде бы самая обыкновенная книга, только на странице пропущено несколько строчек.
– Прочтите мне, что там написано, – попросила Тапело. – Вслух.
И я начала читать.
– Средь бела дня, в окружении призраков, трепещущих на ветру, хотя листья были неподвижны…
Я запомнила эти слова. Сейчас, когда я пишу, они вспоминаются сразу. Но тогда, когда я прочла их вслух, мне вдруг стало холодно. Зябко. Мне пришлось оторваться от книги.
– Я не понимаю.
– Ага, – сказала Тапело. – Странное ощущение, правда?
Я опустила глаза на страницу. Сперва я думала, мне показалось. Но нет. Те слова, которые я только что прочитала… они исчезли.
– Что здесь происходит?
– Давайте, – сказала Тапело, – читайте дальше.
Я посмотрела на девушку. Наши взгляды встретились. В ее глазах была нежность.
– Читайте.
Я опять опустила глаза на страницу…
– Чуждые всем человеческим устремлениям, в погоне за лунным лучом.
И одно за другим, у меня на глазах – тронутые моим взглядом, произнесенные моим языком, – слова исчезали с листа.
Что меня больше всего удивило, так это то, что за время нашего путешествия я повидала уже столько странностей и, надо думать, повидаю еще немало, но эти книги, слова, исчезающие со страницы… это меня пробрало. Почему-то. Может быть, потому, что я до сих пор зарабатывала на жизнь, работая со словами. Или же потому, что я всегда очень любила книги, много лет собирала библиотеку, читала книги и перечитывала самые любимые. Сказки, которые мне читал папа; сказки, которые я, в свою очередь, читала Анджеле до того, как ее поразила болезнь; очень часто бывало, что я очень долго читала ей ту же самую сказку, вечер за вечером.
Теперь ничего этого нет. Ничего нет…
Книги, собранные в этом зале, нельзя прочесть дважды. Я взяла с полки еще одну книгу. И опять на обложке не было названия. А на страницах было еще больше пустого пространства. Там были страницы, почти полностью чистые.
– Пожалуйста, осторожнее, – сказал служитель музея.
Я пролистала книгу и нашла страницу, где еще сохранилось достаточно слов, и начала читать.
– Таково было влияние Боуи на Англию: удар, сотрясение. От брака инопланетянки и утонченного денди родился ребенок, чужой всем и вся, великий посторонний современной эпохи, странный мессия из космоса…
Мне опять пришлось остановиться. Мне было грустно смотреть, как слова исчезают с листа.
– Нет, я не могу. Не могу.
– Это красиво, – сказала Тапело.
– Нет.
– Все книги должны быть такими. Я одну видела, в колледже. Хрупкий рассказ, что разрушается прямо в процессе чтения. Это как будто… любовь, самая чистая, самая безупречная, с которой можно соприкоснуться, но лишь на мгновение, понимаете, а потом она сразу исчезнет, уже навсегда. Как вы думаете?
Я не знала, что ей ответить.
– Марлин, когда-нибудь все эти книги станут пустыми и чистыми. Они будут наполнены пустотой.
– А куда исчезают слова?
– Пожалуйста, осторожнее, – сказал служитель музея. – Мы уже закрываемся.
И там, в блекнущем свете, Тапело ходила по залу, брала с полок книги, читала по фразе из каждой.
– Вы посмотрите, – сказала она. – Тут осталась всего одна строчка. Всего одна строчка. «Все сокрушенные дети учатся танцевать». Вот и все. Ее уже нет.
– Куда они исчезают?
– Что?
– Когда слова исчезают, они куда-то деваются. Но куда? Мне надо было узнать.
Мне надо было узнать, что происходит с этими словами: они растворяются в ткани бумаги или переселяются в сознание человека, который их прочитал. Или, может, они расплываются по пространству и остаются, невидимые, в этом зале. Мне надо было узнать, но Тапело мне не ответила. Она читала. Она вычитывала слова.
Шелест страниц, шепот девочки. Блекнущий свет.
>
Может быть, запомнив слова, которые я прочла там, в музее, я спасла их от небытия. Может быть, переписав их к себе в тетрадку, я не дала им исчезнуть.
Я не знаю.
Разумеется, я не могу вспомнить все фразы дословно. Построение каждого предложения. Все эти отрывки были мне не знакомы. Раньше я этих книг не читала. Я могу лишь попытаться подарить этим словам вторую жизнь. Но даже в тех двух-трех фразах, которые я записала после похода в музей, наверняка есть ошибки.
Но опять же и в моей собственной книге немало ошибок. Полузабытые разговоры; затененные события, преувеличенные значения. Туманное изложение. Слова, исчезающие с языка, как только ты их произнес.
Но эта первая фраза. Я ее никогда не забуду.
Средь бела дня, в окружении призраков, трепещущих на ветру, хотя листья были неподвижны…
>
В окнах поблескивал мягкий желтый свет. Плотно задернутые занавески на миг пропитывались этим светом, а потом вновь темнели. Это было неправильно. Вопреки правилам нового города. В остальных домах не было света. Павлин объяснил, что на ночь здесь отключают энергию – везде, кроме самых необходимых служб. Но было в городе одно место, это самое турагентство, где забили на правила и зажгли свет. Может быть, от домашнего генератора.
– Что здесь происходит? – спросила девочка.
– Не знаю.
– Чем вы вообще занимаетесь? Вся ваша компания?
– Слушай, тебе лучше уйти.
– Почему?
Мы стояли в густой тени, неподалеку от нашей машины. Фонари работали, но свет был приглушенным, тусклым. Не было слышно ни звука. На улице – ни единой машины. Весь город замер, отключенный на ночь. Даже луна, хотя и почти полная, еле-еле проглядывала сквозь пелену облаков.
– Просто уйди, и все. Это не для тебя.
– А куда мне идти?
Когда мы вышли из музея, она увязалась за мной, эта девочка. Тапело. Павлин с Хендерсон, как я поняла, уже отправились «на задание».
– Они всегда вас бросают одну?
– Что?
– Ваши друзья. Этот парень и женщина. У вас так всегда: они делают всю работу, а вы пишете свою книгу?
– Ну, типа того.
– Но вы все это начали, правильно? И в вас вся проблема.
– Какая проблема?
– Ну, то есть вы же все это затеяли?
– Да, я все это затеяла.
– А в чем тогда дело? Вы уже очень сильно больны? И не можете сами все сделать? Да?
Я обернулась к ней.
– Мы все больны, девочка.
– Да, мы все больны. Но вам хуже, чем им.
Она стояла, прислонившись к стене, и курила. Всем своим видом давая понять, что ей на все положить. Как она стояла, как выдыхала дым – во всем сквозило деланное безразличие. Хотя, наверное, в ее возрасте все такие.
– Тебе есть, где сегодня переночевать? – спросила я.
– Ну, найду что-нибудь.
– Тебе это уже не в новинку?
– Ага. Я давно путешествую.
– Очень давно?
– Ну, так…
– Так – это сколько?
– Ну, долго.
Она врала. И я это знала, и уже собралась предложить ей переночевать у нас, но тут она обратила мое внимание на дом. Теперь свет стал ярче. Он то загорался, то гас – безо всякой системы.
– Это хорошо или плохо?
– Не знаю.
Мы подошли сюда где-то полчаса назад, а сколько Павлин с Хендерсон пробыли в доме – этого я не знала. Но в любом случае слишком долго. Я пошла к машине, чтобы взять фонарик.
– Вы куда?
– Я за ними.
– Хорошо. Ладно. Я с вами.
– Нет.
– А вдруг я смогу чем-то помочь.
– Слушай. – Я повернулась к ней. – Может, ты просто…
– Что?
– Тапело, пожалуйста…
– Да?
– Уйди. Я тебя очень прошу. Отъебись.
– Ага.
Я ее обидела. Я это увидела и пожалела, что обошлась с ней так грубо и что послала ее матом, но у меня просто не было выхода. На тот момент.
– Уходи.
И я отвернулась, и перешла через улицу, и пошла прямо к входу в турагентство.
>
Я обошла здание сбоку, по узенькой улочке, и там были ворота, что вели в маленький дворик. Задняя дверь была не заперта, и я вошла внутрь. Это был склад. Лучик фонарика высветил картонные коробки, пачки рекламных брошюрок, два компьютера с разбитыми мониторами. Пол был влажным и липким. Там было что-то разлито. Какая-то темно-красная жидкость. Потеки такого же цвета были и на стенах. Жидкость сочилась сверху, с потолка. Из-под плафонов верхнего освещения. У меня было странное ощущение, что в комнате переизбыток воздуха: слишком много молекул набились в тесное пространство. Жарко, душно и влажно. Даже свет фонарика был каким-то разморенным и вялым. Луч болезненно желтого света как будто прилипал ко всему, к чему прикасался.
Жутковатая тишина, звон в ушах. Далекие проблески звука.
Я все думала, почему они так беспечно не заперли дверь. А потом я вошла в помещение агентства, и все стало ясно. Там была женщина. Одна, в темноте. Она вся дрожала, забившись в угол. Водила руками в воздухе перед собой, раскачивалась из стороны в сторону.
Да, ей было уже совсем плохо.
Искушение было велико. Мы уже видели это не раз. Необратимые повреждения. Люди владеют сокровищами и считают, что обретут в них спасение; но потом выясняется, причем всегда слишком поздно, что есть только боль, только печаль. Но это был очень тяжелый случай. Женщина полностью выпала из реальности. Может, она меня видела. Как я стою и смотрю на нее. Не знаю.
Я поднялась на второй этаж. Густая красная жидкость, разлитая на ступеньках, источала сладковатый, насыщенный запах. Вроде бы очень знакомый запах: что-то из прошлой жизни, вспомнить бы еще что. Звуки сделались громче – размеренные, гипнотические. Две двери, одна ведет в помещение, что выходит на улицу; осторожно, тихонько…
Каждый раз все по-другому. Всегда.
Кингсли действует, исходя из своих собственных домыслов и догадок, иногда он вообще ничего не знает, но, как правило, он знает место, где находится очередной кусок зеркала. Он дает мне подсказки, но у меня все равно каждый раз возникают сомнения. Мне не верится, что так бывает. Несмотря на все то, что я уже видела за последние месяцы.
Я застыла в дверях и вдруг поняла, что не могу сдвинуться с места. Как будто что-то меня держало. Это было то самое помещение, за которым мы с Тапело наблюдали с улицы. Я водила фонариком, пытаясь понять, что это за фигуры, там, в темноте. Едва различимые в слабом свете. Сперва я подумала, что это статуи. Они стояли вразброс, по всей комнате, около дюжины людей, захваченных в судорожно застывших позах. Руки подняты над головой, головы запрокинуты к потолку, шеи вытянуты вперед. Они все замерли неподвижно. Как заколдованные. Ближайший ко мне, молодой человек, стоял на коленях, закрывая руками лицо; такая неправильная молитва.
Ни движения, ни звука. Только шум у меня в голове – словно где-то вдали звучит старомодный вальс и ветер доносит обрывки мелодии.
Я осторожно шагнула вперед, прошла от фигуры к фигуре. Луч фонарика высвечивал лица в мелких крапинках красной жидкости. Пол тоже был залит красным, при каждом шаге подошвы слегка прилипали, и мне приходилось их отдирать.
Искаженные лица…
На одних – выражение боли. Глаза зажмурены, губы кривятся. Другие – задумчивые, удивленные. Одна из женщин, миниатюрная старушка с седыми волосами, смеялась от радости, ведомой только ей.
У меня было явное и жутковатое ощущение, что я попала в музей, что это просто такая художественная инсталляция. Живые скульптуры или даже трехмерные голографические изображения. Странный пьянящий запах пробудил воспоминания. В редакции, когда я сидела в лаборатории и ждала, чтобы мне проявили снимки. Когда мне не терпелось скорее посмотреть, что получилось. Да. Здесь пахло так же. Фотопроявителем. Здесь, в этой комнате, время застыло. Мгновение остановилось. Как на фотографии. В моменты подобных открытий я всегда напоминаю себе слова Кингсли, что люди играют на публику. Постоянно, в любой ситуации. Когда им больно и когда им приятно. Потом за это придется платить. Не обязательно – деньгами. И не всегда – по собственной воле. Но так или иначе платить придется.
Там, среди них, был Павлин.
И Хендерсон тоже. Рядом с Павлином, в двух шагах от него. Ее лицо не выражало вообще ничего: абсолютно пустое. Но на Павлина было страшно смотреть. Глаза широко распахнуты, в ужасе. Рот перекошен в беззвучном крике. Тело согнуто вбок, застывшие руки хватают пустоту. Я ни разу не видела его таким и теперь испугалась по-настоящему. Маска сорвана.
Это страшно.
Я прикоснулась к его лицу.
Оно было теплым и твердым. Мышцы, сведенные судорогой. Старый шрам. Но оно было живым. Когда луч от фонарика упал ему на лицо, оно словно вспыхнуло красками, и зрачки жадно расширились, впивая свет. А потом он шевельнулся, Павлин. Я это видела. Он шевельнулся. Медленно, словно во сне. В недостижимых глубинах сна.
Мои пальцы, его кожа. Раньше я никогда не подходила к нему так близко. Никогда к нему не прикасалась. Интересно, а он меня видел? Он понимает, что это я?
Я вернулась на лестничную площадку, ко второй двери. Там, за дверью, была небольшая комната, освещенная густым красным светом. Вот она, фотолаборатория. Длинный стол, заставленный оборудованием. Все стены увешаны фотографиями. Лучик моего фонарика выхватывал их из подсвеченного красным сумрака: фотографии людей, застывших в последнем движении, ошеломленных, испуганных, удивленных. Холодных. Людей, что в отчаянии падали на колени или спокойно встречали свою судьбу. Разнообразные позы смерти. У меня по спине пробежал холодок.
Конец пути.
Слова Кингсли: за все надо платить, в том числе и за то, чтобы произвести впечатление. Но людям не хочется это знать, правда?
Там была одна женщина, на фотографиях. Ее фотографий было, наверное, больше всех. Как будто она не могла поверить в свою собственную смерть. Вновь и вновь мне попадался все тот же снимок: женщина в пламени.
Мое внимание привлек сдвиг цвета. На столе. Едва уловимое шевеление, бледный проблеск лилового в кроваво-красном пространстве. Я подошла поближе, направив фонарик в ту сторону. Луч закружился.
Да, цвет. Сигнальный оттенок.
Я подошла к столу. Очень медленно. Мне приходилось буквально продираться сквозь плотный, сгустившийся воздух. Шаг за шагом. Там стояли кюветы для проявки, и над одной из них как будто зависло бледно-лиловое облачко. Над проявителем, налитым в ванночку. В проявителе плавали фотографии. Их было много, они занимали почти всю кювету, и на самом верху были снимки Павлина и Хендерсон.
Я их достала.
Они были теплыми, липкими. И они еще не проявились – не до конца. Я чего-то добилась, вытащив их из светящейся жидкости, осветив их фонариком? Этого хватит, чтобы разрушить чары, чтобы освободить друзей? Мне действительно показали всю правду о них? Чем я могла им помочь?
Я убрала фотографии в сумку.
Там, на столе, был пинцет. Я достала из ванночки почти все фотографии. А потом, в самом низу, краем глаза я увидела фиолетовый проблеск иного мира. Вот оно. Зеркало. Еще один кусочек. Зеркальной поверхностью вверх, на дне кюветы. Источник страшного волшебства.
Кусочки сна, и не более того…
Главное – не смотреть. Туда, в зеркало. Смотреть можно лишь сбоку, под определенным углом. Кингсли специально предупредил. Это зеркало не такое, как все. Оно опаснее всех остальных. Я подцепила его пинцетом и достала из ванночки, осторожно, отражающей поверхностью от себя.
Осколок был маленький, размером с игральную карту, не больше. Как обычно, неправильной формы. Просто кусочек разбитого вдребезги целого. Меня била дрожь. Я положила осколок на стол, зеркальной поверхностью вниз. Нужно вернуться в ту комнату и взять сумку Павлина. Специальный чехол. Но когда я повернулась к двери, там стояла она. Женщина, которую я видела внизу. Она стояла в дверях и все так же водила руками по воздуху, но теперь уже более твердо, не так рассеянно.
Это она делала фотографии?
Она попыталась заговорить, но у нее ничего не вышло. Только невнятное бормотание, невразумительный набор звуков. Она то и дело хлопала себя по рукам, по плечам – словно сбивая воображаемое пламя. Теперь я все поняла. И разглядела печаль, страшную, неизбывную, всепоглощающую печаль, которую видела столько раз прежде; печаль, которой пронизано все, что так или иначе соприкоснулось с осколками этого зеркала.
– Пожалуйста…
Всего одно слово. Все, что она смогла произнести. А потом она шагнула вперед. Глядя на зеркало, что лежало теперь на столе рядом с ванночкой для проявки. Проходя мимо, она задела меня, и я подвинулась, освобождая дорогу.
Мне хотелось скорее закончить все это. Я пошла в ту, вторую, комнату. Кое-кто из застывших людей очнулся. Они шевелились, двигали руками, медленно вертели головой. Один мужчина лежал на полу и стонал. Еще один парень шагнул вперед, неуверенно, осторожно. Как будто перешагнул через порог. Павлин с Хендерсон тоже уже приходили в себя. Просыпались. Во мне поселилась уверенность, что теперь все будет хорошо и вместе мы справимся. Обязательно справимся.
А потом я увидела девочку, Тапело. Она стояла в дверях. – Что здесь происходит? – спросила она, оглядев комнату.
И тут раздался еще один голос.
Я обернулась. Та самая женщина. Она нацелила на меня объектив фотокамеры, и мне показалось, я вижу, как открывается линза – чтобы вобрать и меня тоже в свое потайное пространство. Это было приятное ощущение. Как будто тебя обнимают, так ласково. Быстрая серия вспышек, мягкие желтые завитки перед глазами, черный силуэт женщины на желтом фоне, а потом я отвернулась или попробовала отвернуться, пока линза опять не закрылась и не заперла меня там, внутри, насовсем, но все вдруг стало таким далеким, и я уже не могла пошевелиться, то есть по-настоящему пошевелиться, я уже ничего не могла.
>
Я плыла сквозь какую-то странную жидкость. Больше я ничего не помню. Сквозь текучее серебро. Просто плыла, покачиваясь на поверхности, а потом вдруг стала падать. Не погружаться, а именно падать. Сквозь жидкость.
В темноту.
Больше я ничего не помню. Ничего.
>
Движение, шум. Россыпь света. Меня тащили по лестнице, вниз. Я спотыкался на каждой ступеньке. Голос той женщины. Долгий, протяжный крик. Жуткий вой. Кто-то держал меня за руку. Девочка, Тапело. Она тянула меня за собой. Вниз по лестнице, через заднюю дверь – во двор.
– Пойдем, Марлин. Пойдем!
– А где остальные? Где все?
– Уже идут. Марлин, пойдем.
Глаза по-прежнему горели, обожженные горячим химическим блеском. Перед глазами стоял темный силуэт, отпечатавшийся на сетчатке. Я вообще ничего не видела, пока не появилась Хендерсон. Она возникла словно ниоткуда, проломив призрачный образ.
– А где…
– У меня. – Хендерсон показала мне маленький сверток из плотной ткани.
– Что там? – спросила Тапело. – Можно мне посмотреть?
Павлин вышел наружу. В руке у него был пистолет.
– Черт, – сказала Тапело.
– Уходим.
Павлин пошел первым, мы – следом за ним. По переулку, на улицу. И Тапело увязалась за нами. Дошла с нами до самой машины, забралась на заднее сиденье.
– Это еще что такое? – спросила Хендерсон.
– Я…
– А ну вылезай, нах.
– Слушай, я же вам помогла. Я вам помогла.
Хендерсон схватила ее за куртку, вытащила из машины. Влепила спиной в стену.
– Эй, ты полегче!
– Иди домой, девочка.
– Что?
– Я сказала, иди домой, нах.
Я хотела вмешаться. Я правда хотела вмешаться. Хотела что-нибудь ей предложить, этой девочке. Только что я могла ей предложить? И что я могла сделать? Когда Хендерсон вот так вот психует, тут умри все живое.
– Оставь ее, – сказал Павлин.
Вот так все просто. Хендерсон отпустила Тапело и вернулась к машине.
– Ну ладно, блядь. Хорошо. Как скажешь.
Вот так.
Я посмотрела на девочку и отвернулась. Мне пришлось отвернуться. Павлин уже открывал багажник, чтобы положить туда зеркало. Ради него мы сюда и приехали. Теперь дело сделано, и все же…
Вспышки желтого света в окнах дома напротив, желтые пятна перед глазами, они накладывались друг на друга, и силуэт женщины, отпечатавшийся на сетчатке, как будто пойманный у меня в зрачках, у меня внутри. Меня начало отпускать только сейчас.
Женщина, фотограф.
Я не знаю, где она раздобыла этот кусочек зеркала и сколько она за него заплатила. То есть по-настоящему заплатила. Не сколько, а чем. И эта печаль. Ужасающая печаль – в этой женщине, и что мы с ней сделали, и что мы делаем, то есть вообще.
А потом я села в машину.
Павлин завел двигатель. Девочка стояла на тротуаре и смотрела, как мы уезжаем. Но мы не остановились, нет. Нас уже ничто не остановит. Сейчас – ничто.
>
Сквозь тишину, по пустым улицам. Все дорожные знаки закрылись, как лепестки. Спите, шептали они, надо спать. Столько глаз – все закрыты. Произнеси одно слово, пусть даже шепотом – и ты разбудишь весь город.
Что осталось невысказанным?
Нас остановил полицейский патруль. Может быть, женщина подала жалобу? Такого с нами еще не бывало, ни разу. Сейчас все нарушают закон. Но полицейские просто поинтересовались, что мы делаем на улице в комендантский час. Павлин справился очень даже неплохо. Он объяснил, что мы в первый раз в этом городе, приехали в гости к друзьям, а сейчас едем домой, вот и все. Мы здесь пробыли всего один вечер и не знаем, какие тут правила, так он сказал.
Мы не знаем, какие правила.
>
Мы не смогли разбудить пожилую хозяйку, а Эдвард куда-то пропал. Было уже очень поздно, далеко за полночь. Я позвонила еще пару раз, а потом Хендерсон выругалась и выломала окно.
В доме было тихо. Мы зажгли свечи на кухне. Хендерсон помогла Павлину смыть с лица красную жидкость, а потом он помог ей. Они не сказали друг другу ни слова. Все делалось молча.
Павлин заявил, что ему хочется есть. Мы облазили все шкафы, но нашли только кошачью еду и большую жестяную банку сливок. Кошек мы в доме не видели; только тени, мягко скользящие в сумраке, и зеленые проблески в темноте. Хендерсон откопала бутылку виски, и мы выпили по чуть-чуть.
Потом разобрались с зеркалом.
Соблюдая все необходимые меры предосторожности, в тишине, мы завернули осколок в кусочек бархата из тех, что мне выдал Кингсли. Красная жидкость по-прежнему сочилась из зеркала – из дыры в ткани мира, проделанной этим стеклом. Я понимала, что мы сейчас соприкасаемся с неким потусторонним чудом, с чем-то, что пребывает за гранью привычной реальности. У меня тряслись руки. Мы плотно прижали завернутый в бархат осколок к стенке чемоданчика, чтобы остановить этот нездешний поток. Будем надеяться, это поможет. Никто из нас не смотрел на зеркало. Только сбоку, под определенным углом, чтобы даже случайно не увидеть свое отражение или отражение кого-то другого.
Называется: техника безопасности.
А потом все закончилось. Осколок лежал в чемоданчике, рядом с другими, которые мы нашли раньше.
– Ну, вот и все, – сказала Хендерсон. – Вот и все.
– Что-то не так?
– Да нет, все так. Я просто устала.
– Я тоже, – сказал Павлин.
Всего шесть осколков. И у каждого – свое волшебство. Некоторых не хватает. Вот вчера ночью у нас был прокол. И еще пару раз – до того. Так что сейчас их должно было быть семь, или восемь, или даже девять. Я уже потеряла счет. Но шесть – это тоже неплохо. Шести вполне хватит. Ну хорошо. Может, еще один – и тогда уже все. Еще один осколок разбитого зеркала – и на этом мы остановимся. И пусть Кингсли ворчит сколько хочет.
Наверное, сам этот дом, его атмосфера, налет серой пыли, пламя горящих свечей, все это вместе, и наша вылазка в турагентство, и то, что мы еще под впечатлением от всего, что случилось сегодня, все это вместе располагало к молчанию. Мы сидели на кухне и пили виски. Павлин выпил больше всех.
– Ну, эта… – сказал он наконец.
– Вот только не надо сейчас начинать, – сказала Хендерсон.
– Так чего с этой девочкой?
– А чего с этой девочкой?
– Она очень даже неплохо управилась.
– А что она сделала? – спросила я.
– А ты не видела, Марлин? Девчонка была хороша.
– Правда?
– Ага. Она набросилась на ту тетку. Выбила у нее камеру. А потом повалила ее на пол и сама тоже упала, прикинь.
Вцепилась в нее мертвой хваткой, и они стали кататься по полу. Это надо было видеть.
– Блядь, – сказала Хендерсон.
– Ты это к чему?
– Может, хватит уже про девчонку?
– Да что с тобой?
– Ничего.
– Бев?
Хендерсон отвернулась.
– А что там было сегодня? – спросила она. – Марлин? – Я не знаю.
– Не знаешь?
– Нет.
Она повернулась к Павлину.
– Мы с тобой танцевали?
– Чего?
– Мы с тобой танцевали сегодня? Ну, после вспышки.
Что было потом? Мне надо знать.
Павлин налил себе еще виски.
– Нет, – сказал он. – Нет.
– Точно?
– Мы не танцевали.
– Ага. Хорошо.
– А почему ты спросила?
– Ладно, проехали.
– Ну, как скажешь. Блин. Что-то мне сонно. – Он залпом допил свой стакан. – Ну, чего, пойдем спать?
– Я еще посижу.
– Ага. – Павлин взял свою сумку. – Хорошо.
И мы остались вдвоем с Хендерсон. Сперва мы молча сидели, и Хендерсон потягивала свое виски. А потом она заговорила:
– Это был пляж. Тропический пляж. Очень красивое место, сплошной золотистый песок, ну, ты знаешь. Как в раю.
И мы с Павлином танцевали на песке. Ты нас видела?
– Как вы танцевали? Нет, не видела.
– Но ты нас видела в комнате? Да?
– Да.
– И как мы смотрелись со стороны?
– Ну, вы просто стояли. Как статуи.
– Мы с ним, оба?
– Да, ты и Павлин. В двух шагах друг от друга.
– И мы не касались друг друга?
– Нет.
– А какое у меня было лицо? Счастливое, нет? Я казалась счастливой? Я улыбалась?
У нее на лбу осталось одно красное пятнышко.
– Ну, почти, – сказала я. – Почти улыбалась.
– Хорошо. Почти – это тоже неплохо. Знаешь, это был какой-то старинный танец. То есть мы никогда раньше так не танцевали. Теперь так никто не танцует. Вальс. Да, вальс.
А теперь уже все.
– В каком смысле все?
– Я не знаю. Но почему-то мне кажется, что мы с ним были вместе в последний раз…
– Да брось ты. Не надо. Вы еще с ним потанцуете. И не раз. Обязательно потанцуете.
– А Павлин? Он тоже улыбался?
– Да, – сказала я. – Он улыбался.
А что еще я могла сказать?
>
Хендерсон пошла спать. А я осталась на кухне, одна. Сидела, смотрела на пламя свечи, которую Павлин поставил на стол. А потом, когда отсветы пламени наигрались в моих зрачках, я достала из сумки пачку фотографий.
Я их вынула из проявителя слишком рано, и они так и остались бледными и нечеткими. Над изображением плыла шумовая завеса из тихого треска. Но все было видно.
На самом деле лучше бы я их не видела, эти снимки. Последние мгновения из чужих жизней.
На первой фотографии была старуха: лежала, скорчившись на грязном полу. Снимок сделали сверху. Зеленая кофта, жиденькие прилизанные волосы, морщинистое, потасканное лицо. По всему полу были разбросаны страницы, вырванные из какой-то книги. Пустая бутылка из-под водки. Грязные пятна на ковре, что-то похожее на лужу блевотины. Маленькое ручное зеркальце.
О Боже. Какой ужасный конец, и тем более для такой женщины, как Хендерсон. Жуткий конец, нехороший.
На второй фотографии был Павлин.
Он стоял, привалившись спиной к красной кирпичной стене, и зажимал руками живот. Его лицо искажала гримаса боли, но даже теперь он пытался держаться и не показывать, как ему больно. Сквозь пальцы сочилась кровь.
На фотографии он был почти такой же, как сейчас. Немногим старше.
Я просмотрела все фотографии в пачке. Потом – еще раз. И еще. Я все думала про эту женщину из турагентства. Про ее страшную камеру.
Тебе куда?
А ведь она и меня тоже сфотографировала сегодня. Интересно, а что получилось бы на этом снимке? Какая история была приготовлена для меня? И это падение сквозь серебристую жидкость. Что ждало меня там, внизу? И ждало ли что-то вообще?
Тебе куда?
Интересный вопрос.
Я поднесла фотографии к пламени свечи. Бумага почернела, свернулась в трубочку, осыпалась ломким пеплом. Мужчина и женщина, два подобия на сгоревшей бумаге, теперь превратившейся в черные хлопья, что парили в сумрачном пространстве.
>
Я поднялась по лестнице. На самом деле я не слишком устала, и мне не то чтобы очень хотелось спать – просто хотелось залечь в нормальную постель, на чистую простыню, укрыться мягким, теплым одеялом и, может, еще поработать над книгой. Но когда я проходила по длинному темному коридору, что вел к моей комнате, я вдруг услышала свое имя.
– Марлин…
Кто меня звал? Может быть, наша хозяйка?
– Марлин? Это ты, милая?
Наверное, Кингсли, когда договаривался, упомянул мое имя. Да, скорее всего.
– Марлин…
Там была дверь, приоткрытая.
– Леди Ирис?
– Войди. Я хочу на тебя посмотреть.
Самая обыкновенная спальня. Обставленная безо всяких затей. Леди Ирис сидела в кресле у окна. На столике рядом с креслом горела свеча, единственная на всю комнату. На коленях у старой леди лежала закрытая книга.
– Мы думали, вы уже спите.
– Я спала, – сказала она. – А потом позвонили в дверь.
– Прошу прощения. Мы вас разбудили…
– Я не понимаю. Я же, кажется, говорила Эдварду, чтобы он не запирал дверь на ключ.
Только теперь я разглядела ее как следует. Но не сумела определить ее истинный возраст. Густо напудренное лицо, все в глубоких морщинах. Седые волосы, серая кожа. Волосы тоже присыпаны пудрой.
– Да, вы ему говорили. Спасибо.
Пламя свечи отражалось в линзах ее очков. Два крошечных огонька, как будто захваченных в толще стекла. Я не видела ее глаз.
– Как все сегодня прошло? Удачно? – спросила она.
– Как все прошло? Да, наверное, удачно.
– Ты взяла, что хотела?
– Взяла.
– Мистер Кингсли будет доволен.
Она отвернулась к окну. Я тоже выглянула на улицу. Проблески света вдали, россыпи городских огней. Но здесь, в новом городе, было темно. Единственный свет в темноте – недремлющий пристальный глаз.
– Кошмарное место, – сказала леди Ирис. – Я здесь как в ловушке.
– А вы давно знаете мистера Кингсли?
– Когда-то у нас был роман.
Я обернулась к ней:
– Правда?
– Конечно, тогда я была моложе; а мистер Кингсли – еще моложе.
Я попыталась представить себе молодую леди Ирис. Может, когда-то она была настоящей красавицей, но теперь от былой красоты не осталось и следа.
– Ты садись, не стой.
В комнате не было других кресел, только кровать. Мне было как-то неловко садиться задницей на чужую постель, и я присела на самый краешек. На отвернутом уголке простыни было вышито имя, крошечными золотыми буквами.
Ирис Уайт…
Белый ирис…
Старая женщина не повернулась ко мне. Она продолжала смотреть в окно.
– Мистер Кингсли – замечательный человек, очень хороший и добрый. В глубине души, – сказала она. – Он просто не знает, где у него душа.
– Да, наверное.
Больше она ничего не сказала, и я уже было решила, что она снова заснула. С того места, где я сидела, мне не было видно ее лица – только затылок, серебристые волосы.
– Я, наверное, пойду.
Леди Ирис с шумом втянула в себя воздух и сказала:
– Подай мне, пожалуйста, ящик.
– Какой ящик?
– Там, под кроватью.
Я наклонилась и заглянула под кровать. Там стоял фарфоровый ночной горшок, а рядом с ним – маленькая деревянная коробка. Из темноты выглянули два сверкающих глаза.
– Ой.
– Что там, милая?
– Нет, ничего. Я…
Зеленые глаза. Это была просто кошка. Черная кошка. Сидела там, под кроватью, и таращилась на меня.
– Видишь там ящик?
– Да.
Я достала его из-под кровати. Самый обыкновенный ящик, без крышки, без каких-либо украшений. Внутри были бумаги и письма. И два пластмассовых шприца в запаянных пластиковых упаковках с синим распахнутым глазом на этикетке. Раньше я видела препарат в жидкой форме только в больнице, когда приходила к Анджеле. Мне вдруг вспомнилось, очень живо, как ей кололи лекарство. Самая сильная доза.
– Быстрее. Давай сюда.
Я подошла к леди Ирис и поставила ящик ей на колени, прямо на книгу.
– Сейчас я тебе покажу.
Она смотрела прямо перед собой, но ее пальцы проворно перебирали бумаги в ящике. Она достала несколько фотографий.
– У тебя есть дети?
Вопрос оказался таким неожиданным, что я поначалу просто растерялась.
– Есть?
– Да. Один ребенок.
И больше я ничего не сказала. Не смогла ничего сказать. – А вот мои дети.
Я взяла у нее фотографии. Уровень шума над этими снимками был очень высоким; чтобы что-то увидеть, на них надо было смотреть под строго определенным углом и на определенном же расстоянии. На первом снимке, раскрашенном от руки, был сад при загородном доме. На втором – велосипед, прислоненный к стене. На третьем… это была даже не фотография, а открытка с репродукцией какой-то картины: ваза с фруктами, курительная трубка, французская газета. На последнем, четвертом снимке была собака. Черная собака, лежащая на коврике.
– Они красивые, правда?
Я посмотрела на леди Ирис. Ее глаз по-прежнему не было видно за отражением пламени.
– Да, очень красивые дети.
– И зачем ты мне врешь?
– Я…
– Ах, если бы мир снова стал чистым, нетронутым порчей. Но похоже, что это уже навсегда. А это, как я понимаю, тебе. – Она протянула мне конверт. – Сегодня утром пришло, курьерской почтой.
Это было письмо от Кингсли. Очередная порция денег на текущие расходы. И два листочка. На одном – подробное описание наших следующих заданий.
– И куда вы теперь?
Я назвала ей только первое место.
– На побережье, как мило. И еще в театре. Я и сама тоже была актрисой. Конечно же. Когда-то меня называли неземным божеством лондонской сцены. Мистер Кингсли тебе не рассказывал?
– Нет, кажется, нет.
– Ну да. Он такой забывчивый.
Пока мы говорили, я успела прочесть и второй листок. Там было всего несколько строк: «Я так огорчился, узнав о смерти леди Ирис. Надеюсь, ее слуга встретил вас как положено».
– Что-то случилось, Марлин?
– Что? Нет, нет. Все в порядке.
– Такой забывчивый. Ты уж прости меня, старую.
По морщинистой щеке покатилась слеза. Леди Ирис аккуратно смахнула ее шелковым носовым платком.
– Я что-то устала. Ты побудешь со мной?
– Вы хотите, чтобы я тут спала?
– Кровать в твоем полном распоряжении.
>
Я сходила к себе, чтобы взять вещи. Когда вернулась, старая леди уже спала, прямо в кресле. Вот она сидит: мне виден только ее затылок, густо напудренные волосы. Я лежу на постели, в одежде. На шкафчике рядом с кроватью горят две свечи, я сама их зажгла. В их неверном, дрожащем свете я пишу эти строчки.
Лежу на боку и пишу.
И думаю над письмом Кингсли. Насчет леди Ирис. Вероятно, он просто ошибся. Получил неверную информацию. И ничего удивительного: все, что нас окружает в последнее время, – это сплошная неверная информация. Обман чувств. Смещение восприятия. Каналы между приемником и передатчиком забиты помехами, сумраком и тенями, и с каждым днем шум все сильнее.
Забиты помехами, сумраком и тенями…
Я помню эти слова. Я их употребила в одной статье. Пару недель назад, месяц назад?
В другой жизни, будучи кем-то другим.
Интересно, а что сейчас делают Павлин с Хендерсон? Наверное, уже спят? А перед тем как заснуть, они опять занимались любовью? А может, они, как и я, до сих пор не спят и обсуждают, что они видели сегодня вечером, когда их захватила вспышка фотокамеры. Мне живо представилась та фотография… Интересно, а сам Павлин знает о том, как ему суждено умереть? И если знает, тогда что он делает с этим знанием?
И эта девочка, Тапело. Где она сейчас? Она нашла, где ей переночевать? Может быть, она познакомилась с каким-нибудь парнем, и сейчас они спят, обнявшись, в какой-нибудь затемненной спальне, и им хорошо и тепло. Или застопила очередную машину: машину получше нашей, где пассажиры добрее нас. Или она так и осталась на улице. И как же она теперь?
И еще Кингсли. Мне представляется, как он бродит по дому, не в силах заснуть. Один, в доме зеркал. Потому что он не завесил свои зеркала. Он однажды сказал, что закрытое зеркало – это место, где отражения умирают. И теперь, когда мир поражен болезнью, он заходит в те комнаты, где зеркала, только ночью. В темноте. Я представляю себе, как он ходит по темным комнатам, и его собственный призрак движется следом за ним. Неотступно, от зеркала к зеркалу.
Все эти люди, их жизни, их сны.
Мой отец…
Я нечасто думаю об отце, а когда все-таки думаю, то не как о человеке, а как об отсутствии человека. Неизвестный объект, смутный силуэт в тумане. Он ушел, когда я была совсем маленькой. Я его совершенно не помню: его лицо, его жесты. Помню, что он читал мне сказки перед сном. И больше ничего. Я не знаю, почему он ушел. Однажды ночью меня разбудил непонятный шум. Я выглянула в окно и увидела, как к нашему дому подъезжает машина. Я не знаю, кто был за рулем, я не смогла разглядеть водителя, но там, внизу, был мой отец, и он что-то сказал водителю, а потом сел в машину. Они уехали вместе. Раньше я думала, что это я виновата; что я нечаянно сделала что-то такое, что заставило папу уйти.
Мой отец, человек без лица. Смутный силуэт во мраке. Сейчас он не спит, я не могу представить его спящим. В моих мыслях отец всегда только уходит. Повернувшись ко мне спиной, он уходит прочь, насовсем, и каждый раз он как будто окутан тенью.
Где-то в доме пробили часы. Бой часов расцветает в пространстве бутонами звука, которые не схватишь и не измеришь. Воздух смыкается, вбирая в себя звук.
Завтра, если получится, я позвоню Кингсли; скажу, что я возвращаюсь.
Леди Ирис шевельнулась во сне и снова затихла. Слышно чье-то дыхание. Тихое-тихое. Наверное, это мое дыхание. Может быть, это я дышу, я одна – в этой ночи, что подступает со всех сторон.
>
Я достала фотографию Анджелы.
На снимке мы с ней вдвоем. Анджеле тогда было семь. Я хорошо помню мгновение, когда нас засняли. Дочка стоит на переднем плане, смотрит прямо в камеру, слегка наклонив голову. Она не улыбается, но кажется, что сейчас улыбнется. Короткая стрижка под мальчика, чистые глазенки. Один – синий, другой – карий. Прямой и бесхитростный детский взгляд. Я – чуть подальше. Сижу на траве, смотрю в сторону. Разгар лета, тени на лужайке, кошка свернулась клубочком в высокой траве. Все до мельчайших деталей. По памяти. Потому что сейчас я смотрю на снимок и вижу только туманную дымку. Фигуры исчезли. Они потерялись. Солнце включили на полную мощность.
Моя девочка, моя радость.
Что мне делать? Время идет, дни проходят. Столько всего потерялось уже безвозвратно, а дни проходят, время идет, и с каждым прожитым днем я все дальше и дальше от того мгновения, когда я могла бы тебя спасти. И шум, отнявший тебя у меня; даже теперь он не отпускает. Он выжигает твои следы…
Мне нужно заснуть.
>
Ты в своей барокамере, в черной воде. Тебя кормят через капельницу, ты уже ничего не увидишь и не услышишь. Тебя оградили от мира звуков и зрительных образов. Теперь твой язык никогда не почувствует вкуса. К тебе не пробьется ни один запах. Я уже и не помню, когда я в последний раз прикасалась к тебе, к твоей коже. Потому что боюсь передать информационный сигнал, который окажется слишком болезненным. Невыносимым.
Колыбель.
Такой была твоя жизнь в самом конце. Под контролем сложной системы жизнеобеспечения. Такая хрупкая. Состояние стабильное. Жизнь, которую я теперь вижу во сне в образе данных, выведенных на экранах.
Мерцающие огоньки в темноте.
И больше ничего.
В глухой изоляции. Даже от любви, самого болезненного из сигналов.
>
Я не знаю. Что-то случилось. Только я мало что помню. Кажется, я просыпалась под утро. Да, наверное. В комнате кто-то был. Было очень темно, свечи уже догорели, и поэтому я не могла ничего разглядеть. Но я знала, что это слуга, который нас встретил сегодня вечером. Эдвард. Он стоял рядом с креслом. Головы леди Ирис не было видно. Должно быть, она сползла в кресле, во сне. Он обернулся и посмотрел на меня, Эдвард.
– Что вы тут делаете? – спросила я.
– Выполняю свои обязанности, – сказал он.
И больше я ничего не помню.
>
Утром, когда я проснулась, леди Ирис не было в комнате. Слуга тоже куда-то делся. Теперь в доме хозяйничали только кошки. Они уже не скрывались, как прежде. Их было так много, что и не сосчитать. И все разных цветов.
Я обыскала весь дом, но телефона так и не нашла.
Запах талька указал мне дорогу обратно, в коридор на втором этаже. Кресло, окно, постель, где я спала, – все было присыпано пудрой. Меня знобило. Деревянный ящик лежал на полу рядом с креслом. Письма и другие бумаги вывалились наружу.
Два шприца. С «Просветом».
Я решила взять их себе. Когда я наклонилась, я увидела книгу. Под креслом. Томик английской поэзии. Под названием книги были какие-то черные точки, в определенном порядке. Шифр. Тайный язык. Я открыла книжку наугад. Прошлась пальцами по одному стихотворению. Всего несколько строк. Жесткие выступы на плотной бумаге.
Азбука Брайля.
2
>
Мы вышли из дома, и оказалось, что Тапело ждет нас на улице. Она стояла, прислонившись к машине. Такая же чистенькая и аккуратная, как всегда. Шарфик на шее, сумка через плечо. Волосы все так же собраны в узел.
– Как-то вы поздно встаете, – сказала она. – Нам по пути?
– Нет, – отрезала Хендерсон.
– А вам куда?
– В прямо противоположную сторону.
– Ага, мне тоже туда.
– Что вообще за дела? Откуда она узнала, где мы остановились?
– А я доктор? – сказал Павлин.
– Она была с нами в машине, – сказала я, – вчера, когда мы спрашивали дорогу.
– Слушай, Марлин, – сказала Тапело. – Я не знаю, куда вы едете, мне все равно. Но возьмите меня с собой. Только дотуда.
– Это очень далеко.
– Мне все равно. И если что, я могу сесть за руль.
– Сесть за руль? – переспросила Хендерсон. – А тебе сколько годиков, девочка?
– Я умею водить. Я хорошо вожу, правда.
Хендерсон повернулась ко мне.
– Марлин, ты можешь как-нибудь от нее избавиться?
– Да чем она нам помешает?
– Что?
– Да пусть едет, – сказала я.
– Только за руль я ее не пущу, – сказал Павлин.
– Садись в машину, – рявкнула Хендерсон.
– Уже сел.
Павлин уселся на водительское сиденье.
– Ладно, – сказала Хендерсон. – Вот что мы сейчас сделаем. Как можно скорее уедем из этого мрачного места. Найдем кафе где-нибудь у дороги и нормально позавтракаем. Настоящей едой. А потом мы поедем дальше, а девчонка останется там, в кафе. Без разговоров. Да? Марлин?
– Да, хорошо.
– Сама поражаюсь, какая я сегодня добрая.
Так начинается день.
>
На запад, к лондонской окружной. Солнца почти не видно, оно бледное-бледное, почти такого же цвета, как небо. По-моему, где-то мы повернули не туда. Проехали мимо маленькой деревеньки, которая еще строилась. Стены домов были выкрашены в яркие основные цвета. Там не было ни заборов, ни нормальных садов: только зелень травы и прямые гравийные дорожки. Мы проехали через деревню под объективами камер слежения. Только в демонстрационном доме наблюдались какие-то признаки жизни: молодые родители, двое детишек. Когда мы проезжали мимо, они нам помахали, как старым знакомым.
– И чего они лыбятся, интересно? – спросила Хендерсон.
– Им все обеспечат по полной программе, по последнему слову техники, – сказал Павлин. – Электронный «Просвет», все дела.
– Ты так думаешь?
– Да. Ты глянь, какие у них тут камеры, и спутниковые антенны на каждом доме.
– Ну да. У них все по полной программе, а мы опять в полной жопе.
– Кстати, а где мы?
– А хрен его знает. – Хендерсон пролистала атлас автомобильных дорог. – На картах этого места нет.
– Мы что, заблудились? – спросила Тапело.
– Не знаю.
– Не знаешь?
– Там, где я был, – сказал Павлин, – вообще нету карт. Зато есть дыры в земле.
– И где ты был?
Мимо, по встречной полосе, проехала маленькая оранжевая машина.
– А, понятно, – сказала Тапело. – Ты был на войне?
– Ну, недолго.
– Ух ты. Так вот откуда у тебя пистолет.
– Не твоего ума дело.
– И ты убивал людей? Много убил?
– Много, бля. Даже слишком. А теперь помолчи.
– Хорошо.
– А то у меня мозги сводит, – сказала Хендерсон.
– Почему? – спросила Тапело. – Ты разве не приняла «Просвет» утром?
– М-да, хамоватая девочка. Знаю я вашу породу. Целый день жрут колеса и думают, будто им все нипочем.
– Я не такая.
– Опасная практика. Ты когда-нибудь видела человека в черном трансе?
– Я принимаю сколько положено.
– А, ну пусть тебе будет хорошо. Тебе хорошо?
– Я хочу есть. Кажется, мы собирались найти кафе.
– Все вопросы – к штурману, – сказал Павлин.
– Бля. Ты там рулишь, вот и рули по дороге. – Она швырнула атлас через плечо. Он упал на сиденье рядом со мной.
– Может быть, мы никогда уже не позавтракаем, – сказала Тапело. – И не пообедаем, и вообще. Может, мы так и застрянем в этой машине и будем ездить кругами по тем же дорогам, пока не умрем. Без еды и воды. А когда мы умрем в этой машине, она все равно будет ехать. Ну да. Она все равно будет ехать, сама по себе. Наш гроб на колесах. В буквальном смысле.
Хендерсон обернулась к нам. Посмотрела на Тапело, покачала головой и отвернулась.
– Бензин раньше закончится, – сказал Павлин.
Какое-то время мы ехали молча, а потом Тапело достала из сумки какую-то черную коробочку. Там с одного боку была маленькая застежка. Тапело ее расстегнула, и коробка раскрылась, как книга. Это были дорожные шахматы: небольшая доска и фигуры.
– Хочешь, сыграем? – спросила Тапело.
– А толку?
Девочка лишь улыбнулась.
Во время нашего путешествия мы не раз видели, как люди играют в шахматы. Как ни странно, в последнее время шахматы сделались популярными, и особенно среди молодежи. Никто не знает, почему на какие-то вещи шум влияет заметно сильнее, точно так же, как он влияет и на людей: на кого-то больше, на кого-то меньше. Но шахматы чуть ли не в первую очередь утратили всякое ощущение упорядоченности. Часы, зеркала, шахматы…
– А ты можешь играть? Но как?
Девочка пожала плечами, расставила на доске крошечные фигурки и принялась передвигать их, играя сама с собой: и за черных, и за белых. Я так и не поняла, по каким правилам она играет, но какое-то время я все-таки понаблюдала за ней, а потом отвернулась и стала смотреть в окно.
Теперь вдоль дороги тянулся лес. Дорожные знаки и указатели на перекрестках и боковых съездах были практически неразличимы в густой тени листьев, под слоем грязи, и мха, и неразборчивых граффити, за какими-то странными облачками пыли. Многие были затянуты черным брезентом.
Мне удалось разглядеть только считанные единицы, но я все равно не смогла ничего прочитать. Мне показалось, что надписи сделаны на иностранном языке. А на каком – непонятно. И еще были пустые знаки. Просто белое поле, цветной ободок, а внутри – ничего. Никаких надписей, никаких значков.
Я была абсолютно уверена, что эту церквушку мы уже проезжали. Хотя, может быть, все деревенские церкви выглядят более или менее одинаково. Собака перебежала дорогу, и Павлину пришлось резко выкрутить руль. Он остановил машину.
– Ты как? Нормально? – спросила Хендерсон.
– Ага. Вот блин, на фиг. Его трясло, я это видела.
– Хочешь я поведу? – предложила Тапело.
– Нет я, – сказала Хендерсон.
– Я сказал, я в порядке. И хватит уже.
Мы поехали дальше. Но все осталось по-прежнему: куда бы мы ни сворачивали, вокруг был все тот же пейзаж, унылый и тусклый.
Мимо, по встречной полосе, проехала маленькая оранжевая машина.
– А вы знаете, – сказала Тапело, – что некоторые места заражены больше, чем все остальные?
– Знаем, – сказала Хендерсон.
– Да я просто сказала.
– Очень вовремя, – заметил Павлин.
– Что там?
– Дома. Похоже, деревня.
– Будем надеяться, там есть кафе.
Но когда мы подъехали ближе, оказалось, что это та же деревня, где мы уже были: всего одна улица, ничем не засаженные участки, ярко раскрашенные дома.
– Тут мы уже проезжали, – сказала Хендерсон.
На этот раз краски на стенах домов казались еще насыщеннее, еще ярче. Воздух вибрировал цветом; у меня в голове гудело.
– Ага, – сказал Павлин, – а вон и демонстрационный дом. Молодое семейство так и сидело в саду, в полном составе, и они опять помахали нам, когда мы проехали мимо.
– Это не они, – сказала Тапело.
– Что?
– Это другая семья. Смотрите, жена – блондинка. А в прошлый раз была брюнетка.
– Да ладно.
– Это другая деревня.
– Блин, а девчонка права, – сказал Павлин. – Где мы вообще? Что за хрень?
– Всё, мне надоело, – сказала Тапело, закрыла шахматную доску и убрала ее в сумку. При этом она как-то неловко дернула рукой, и часть содержимого вывалилась из сумки. Книжка в мягкой обложке, пара монеток, сигареты и маленькая пластмассовая штуковина. Я сперва даже не поняла, что это было. Плоская прямоугольная штука бледно-зеленого цвета с эмблемой в уголке.
Зеркало.
Маленькое раскладное зеркальце в футляре с крышечкой. С эмблемой известной компании, производившей косметику.
Запрещенная вещь.
Тапело заметила, как я уставилась на ее зеркальце. Глядя мне прямо в глаза, она убрала его в сумку. А потом поднесла палец к губам в безмолвной просьбе не выдавать ее.
– Что там у вас происходит? – спросила Хендерсон.
Девочка посмотрела на меня и покачала головой.
– Ничего, – сказала я.
Тапело улыбнулась на долю секунды, а потом взяла в руки атлас, который Хендерсон зашвырнула к нам, на заднее сиденье. Пролистала, открыла на определенной странице. Потом она пару секунд пристально изучала карту, водя пальцем по линиям дорог. Сопоставила то, что снаружи, и то, что на карте.
Закрыла глаза.
– Следующий поворот налево, – сказала она. – А потом второй – направо.
– Что? – сказала Хендерсон.
– Ты уверена? – спросил Павлин.
– Просто делай, как я говорю.
>
Лес закончился, мы выехали в более «обжитую» зону. Дорожные знаки вновь обрели смысл. На одной придорожной площадке для остановки автомобилей какая-то пожилая пара устроила маленький рынок. Всего-то два раскладных столика, несколько стульев, брезентовая ширма от ветра.
Женщина продавала цветы.
Мужчина сидел за мольбертом. Рядом стоял большой щит с отпечатанной надписью. Мы притормозили, и Тапело прочитала, что там написано.
– Портреты маслом. Гарантировано сходство с оригиналом.
Тут же стояли образцы работ: кляксы в темных тонах и размашистые мазки более ярких цветов – как следы от порезов.
Я не смогла разглядеть ни одного человеческого лица.
>
За соседним столиком сидели двое мальчишек. Они подкалывали друг друга, изощряясь в остроумии, и, похоже, вовсю веселились. Они то и дело поглядывали на Тапело: то один, то другой.
– И чего вы уставились? – спросила Хендерсон.
Мальчишки вернулись к своей игре.
Мы все же нашли, где позавтракать. Какую-то грязную забегаловку. Но это все-таки лучше, чем ничего. Тапело, как оказалось, дала правильное направление. А теперь Хендерсон принялась до нее докапываться.
– Ну ладно, девочка, давай прощаться.
– Вы что, правда бросите меня здесь?
– Можешь не сомневаться. Вот, видишь, ребята. Они тебя и покатают. Иди познакомься. Они вроде прикольные. Повеселишься.
– Интересно, – сказал Павлин, – а какой вкус у этой фабричной еды? То есть на самом деле?
Он уже принялся за вторую порцию «сытного завтрака». – А тебе не все равно? – сказала Хендерсон. – Ешь, насыщайся.
– Слушай, девочка…
– Что? – спросила Тапело.
– Что это, по-твоему? На вкус?
– Господи, – Хендерсон закатила глаза, – на вкус это завтрак.
– Давай попробую, – сказала Тапело.
Павлин подцепил на вилку свою еду и передал вилку Тапело. Она прожевала кусок. Прикрыла глаза, перекатывая пищу во рту. Устроила настоящее представление, изображая великого дегустатора.
– Меня сейчас вырвет, – сказала Хендерсон.
И все это время Тапело смотрела на меня; как будто у нас с ней был общий секрет. Хотя, собственно, так и было.
– На вкус это яичница с беконом, – сказала она.
– Усраться можно, – сказала Хендерсон.
– Прикольно, – сказал Павлин. – А мне кажется, это заварной крем. Не яичница, а сладкий крем.
– А вместо бекона? – спросила Тапело.
– Чернослив. Да, именно так. Заварной крем с черносливом.
Я пошла звонить Кингсли. Мужчина за стойкой сказал, что телефон – в том конце коридора, и пожелал мне удачи. Телефон лежал на полу, у входа в мужскую уборную. Я наклонилась, подняла аппарат, сняла трубку. Треск и помехи на линии. Никакого гудка. Я потыкала пальцем в кнопки. Безрезультатно. А потом я заметила перерезанный провод.
Тогда откуда взялись помехи?