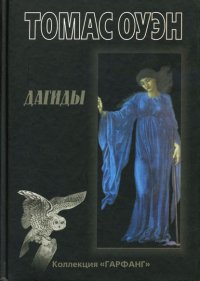
Читать онлайн Дагиды бесплатно
- Все книги автора: Томас Оуэн
Девушка дождя
Еще есть время убежать…
Роже Маржери
В стакане на столе букетик ландышей увял окончательно. В углу комнаты рядом с лакированным шкапом расположились два серых саквояжа. Он сидел на кровати, зажав ладони меж колен и не поднимая глаз, – какой толк смотреть в окно: дождь шел и шел без конца. Созерцал мыски своих туфель, слушал монотонный шум на мостовой и в водосточной трубе. Скука медленно превращалась в унылую злобу.
Доппельгангер тяжело вздохнул и вопросил себя еще раз, продолжать ли такой отдых или вернуться домой. В мае месяце на берегу Северного моря бывает очень плохо или очень хорошо. Ему явно не повезло. Многие постояльцы отеля мрачно собирали вещи. Он задумал остаться до вечера, а потом решить свою судьбу.
Ближе к вечеру, соответственно одевшись, он отправился гулять, невзирая на погоду. Горничная в холле возила пылесос вяло, без всякого вдохновения. Портье заглянул в свой ящик, сообщил об отсутствии корреспонденции и пожелал Доппельгангеру хорошей прогулки. Выражение физиономии портье соответствовало погоде. Он проводил его до двери, которую моментально закрыл, и сказал несколько слов горничной. Доппельгангер, хоть и не расслышал, понял, что это по его поводу. Не все ли равно! На безлюдной дамбе косой дождь бил в лицо. Серое и неприкаянное море гнало беспорядочные волны, которые, рыча, как монстры, разбивались в пену против черных и сверкающих волнорезов. По синим каменным ступеням, где в погожие дни сновали туда-сюда веселые купальщики, он спустился на покинутый пляж. Он шел против ветра, стараясь регулировать дыхание. Дождевые струи секли щеки, но покалывание кожи не вызывало особого огорчения – только время от времени из прищуренных глаз выкатывалась слеза и горячо щекотала холодную щеку. Он шел спокойно, правильным шагом. На затвердевшем после отлива песке под его каблуками похрустывали раковинки. Позади остались последние прибрежные виллы – далее до самого горизонта тянулась безрадостная пустошь. Дождь застил глаза, и туманная пелена столь сгустилась, что, если бы путник остановился и повернулся вокруг своей оси, он легко вообразил бы, что стены водяной тюрьмы изолировали его от всего остального мира. Однако море находилось слева, а дюны, хотя и неразличимые, справа – он не мог заблудиться. К тому же и волнорезы служили недурным ориентиром. Но чувствовал он себя не очень-то блестяще – томило смутное беспокойство. Стоило ли продолжать неуютный променад? Его брюки от колен до щиколоток вымокли насквозь, и мало-помалу сырость давала себя знать через обувь. Он хотел вернуться восвояси, как вдруг из тумана проступила фигура девушки. Молодая и бледная, с живописно растрепанными волосами, она ему напомнила известное изображение Бонапарта на Аркольском мосту. Она была одета в анорак и узкие брюки. Она улыбалась. Ее руки были в пятнах крови.
Доппельгангер вскинул глаза: рана либо увечье? Девушка отрицательно и весьма грациозно покачала головой. Она медленно подняла руки на уровень груди, как делают обычно после возни со смородиной для конфитюра, чтобы не запачкать платья. Но в мае не случается смородины, да и девушка не походила на любительницу подобных занятий.
Они стояли неподвижно лицом к лицу. Испуганный поначалу за ее здоровье, Доппельгангер теперь недоуменно хмурился. Неизвестная, напротив, находила ситуацию забавной. Она, казалось, поддразнивала его, но беззлобно. Он прервал наконец молчание:
– У вас, похоже, кровь на руках.
– Верно. Это замечательное средство. Кровь и дождь хорошо смягчают кожу. Получше, чем всякие там кремы и массажи.
Он вздумал ядовито подшутить:
– Убили кого-нибудь?
Девушка подняла бровь, высунула кончик языка, лизнула дождевую каплю на верхней губе, потом холодно произнесла:
– От вас ничего не скроешь.
Она перестала улыбаться. Ее лицо стало вдруг напряженным и серьезным, и Доппельгангер уяснил: что-то действительно происходит и вряд ли ему удастся сейчас уйти.
Ламия – так назвалась явленная дождем девушка – повела Доппельгангера напрямик через дюны. Они с трудом поднимались по зыбкому песку, цепляясь, сколько возможно, за пучки песчаного колосняка, осторожно ступая в поисках более твердой почвы, и наконец вышли на широкую равнину, поросшую чахлой травой и колючим кустарником. Потом пересекли разоренную бетонированную дорогу, заброшенную еще с военного времени, и миновали обломки срытых фортификационных сооружений.
И на всем этом пути, который изобиловал неожиданными поворотами среди кустарников и бетонных руин, они не встретили ни единой живой души. Погода была ужасная.
Вдоль земляной дамбы, засаженной ивами, тянулось узкое шоссе, мощенное большими выпуклыми щитами, – оно и привело их к цели. На отшибе от поселка, посреди буйно заросшего сада, окруженного высокой дикой изгородью, стояла довольно внушительная вилла из красного кирпича. Нежилая, судя по всему. Полуразмытая табличка удостоверяла, что собственность продается. На главной двери висел старый нотариальный акт, сильно пострадавший от ветра и дождя. Ставни были закрыты.
Доппельгангер охотно бы перевел дыхание – он вспотел от быстрой ходьбы, – но Ламия не желала оставаться на шоссе. Она схватила его руку и потащила за собой. Обогнув здание, они очутились вне пределов любопытного взгляда случайного прохожего. Повсюду валялся какой-то хлам: старые промокшие бумаги, пустые бутылки в гнилых деревянных ящиках. Какой беспорядок, какое запустение… А ведь это место знавало, безусловно, лучшие времена.
Ламия резко толкнула плечом скрипучую дверь. Они проникли туда, где когда-то, вероятно, размещалась кухня. На грязных стенах виднелись квадраты и прямоугольники, оставленные холодильником, плитой, подвесными шкафами. Теперь торчала одна раковина. Кран и почти все трубы отсутствовали. Тщательно закрытая дверь погрузила их в полутьму – слабый сумеречный свет едва проникал сквозь ставни. Все это было печально и грязно, все это пахло драмой или житейской катастрофой.
Несмотря на интерес, пробужденный спутницей, Доппельгангер ощущал все возрастающую и непреоборимую тревогу. Ламия наблюдала за ним цинично и насмешливо. Но в то же время в ней угадывалась боязливая дрожь, которая придавала странную неопределенность ее поведению. Она судорожно проглотила слюну и спросила:
– Вы любите черный юмор?
– Что вы имеете в виду?
– Успокойтесь. Я вам скоро объясню… только сначала поцелуйте меня.
Она запрокинула голову и вытянула губы. Доппельгангер без особого порыва, почти из вежливости ей повиновался. Маленький рот был очень свеж и прохладен. Поцелуй доставил ему больше удовольствия, нежели он ожидал.
– Теперь пойдемте.
Они поднялись на второй этаж и прошли мимо запущенных помещений и разбитых ванных комнат: в коридорах валялись старые иллюстрированные журналы, пустые бисквитные коробки, осколки зеркал, раздавленные тюбики из-под зубной пасты. В треснувшем горшке рваная лента едва поддерживала высохшее растение. Словно смерч просвистел здесь, словно поле битвы было когда-то здесь.
Доппельгангеру не нравилась экспедиция такого рода. Он повернулся к Ламии и сказал раздраженным и усталым тоном:
– Вы очень привлекательны, милая моя, и обожаете авантюры, надо полагать, но я не совсем понимаю, что нам здесь делать. Думаю, эта заброшенная вилла отнюдь не обетованный уголок, где вы проводите вакации или принимаете друзей.
– Ошибаетесь. У меня здесь устроено очаровательное гнездышко. Никто его не видел и не знает. Я владелица тайного апартамента.
Она засмеялась, снова подставила губы для поцелуя и провела его выше на несколько ступенек, где лестничная площадка удивляла внезапной чистотой. Из окна открывалась деревня под дождем, беспокойная листва больших тополей; вдали проглядывалась тропинка на гребне старой дамбы, где велосипедист в куртке с капюшоном старательно крутил педали против ветра.
Ламия остановилась перед закрытой дверью. Ее черты исказились. Прогулочный румянец растаял – осталась бледная маска, которую подергивала иногда судорога зловещего экстаза. Ужас, гордость, напряженность сходились вокруг глаз сеткой беглых морщин.
Доппельгангер ожидал услышать рыдание или смех – безумный и спазматический. Но Ламия только прошептала:
– Здесь.
И толкнула дверь. Доппельгангер увидел хорошо, даже кокетливо убранную комнату. На кровати лежала молодая женщина, едва прикрытая одеялом, – ее нагая грудь застыла в косом ракурсе. На горле резаная безобразная рана. Кровь стекала по ключице и груди и растворялась в простыне, чтобы затем, очевидно, сгуститься на полу.
Доппельгангер почувствовал тошноту. Он сжал ладонями виски, потом повернулся, помыслив о бегстве. Потом спросил как-то беспомощно:
– Полагаю, ничего сделать нельзя?
Ламия посмотрела на него спокойно:
– Она мертва.
Он остановил взгляд на красных пятнах – дождь еще не смыл их окончательно с ее деликатных рук, и все понял. Но верить не хотелось.
– Какой ужас, – прошептал он.
Он не испытывал негодования или какой-то обеспокоенности, скорее, мрачное равнодушие. Размышлять не хотелось. Посредине этой уютной комнаты, где явленная дождем девушка то казалась усталой и сонной, то склонной к истерическому взрыву, в зависимости от расположения на ее лице последних световых бликов, его охватило вялое безразличие, в котором угасал всякий интерес к рассуждению.
Он помотал головой, потер лоб и глаза и обратился к Ламии, что прислонилась спиной к двери:
– Несчастная, – в его голосе послышалась жалобная, тоскливая интонация, – что вы собираетесь делать?
– Исполнить ее просьбу.
– Какую?
– Мы решили умереть вместе.
– Но как?
Он проследил ее руку, медленно указующую на ночной столик – там тускло блестела не замеченная им поначалу опасная бритва. Он отрешенно уставился в пол, чувствуя, как откуда-то из глубины вздымается холодная боль.
– И что вы хотите предпринять сейчас?
– То же самое.
Она не сводила с него взгляда. Экзальтация обреченности бросала огненный отблеск на ее щеки.
Доппельгангер подошел к ней, решив применить силу в случае, если она захочет взять бритву. Минуту они оставались в неподвижном молчании.
– У меня есть оружие. – Она рассекла молнию своего анорака.
Он инстинктивно согнул руку в защитном жесте, и она улыбнулась:
– Не волнуйтесь, я не причиню вам зла. Я должна умереть, поймите. Вы поможете мне, правда? Я не могу оставить ее. Да и что меня ждет? Тюрьма или клиника. Мне уже двадцать пять лет… Я довольно пожила. Еще час назад я думала убежать от этого кошмара. Но разве от судьбы убежишь? Когда я встретила вас на пляже, то поняла: надо вернуться сюда и умереть рядом с ней, как обещала.
Он хотел ее перебить, она резко откинула прядь волос:
– Секунду. Я прошу вас, мой роковой друг, поверенный моей тайны, помогите мне. Это так просто. Окажите мне эту услугу – вы согласны, не так ли? – и потом унесите бритву. Бросьте в море, и песок ее быстро затянет.
Ламия говорила как во сне, голосом мягким и монотонным. Начала раздеваться, готовясь лечь в постель, и глядела на Доппельгангера с нежной признательностью. Потом приблизилась к нему совершенно спокойная и посмотрела в его глаза глубоким взглядом:
– Если вы хотите…
* * *
Когда Доппельгангер очнулся, у его кровати стояли незнакомые люди. Один из них усмехнулся:
– Не тревожьтесь, любезный. Вы, верно, считаете, что здесь ночлежка.
Какой-то мужчина подошел вплотную и возмущенно проговорил:
– Эй, вы! Вставайте! Я агент по недвижимости, и никто не имеет права заходить сюда без моей санкции. Вон отсюда! И скажите спасибо, что я не вызвал полицию.
Потом обратился к своим спутникам:
– Вот, убедитесь, как неудобно иметь дело с заброшенным владением. Продажная цена пустяковая – едва ли выше стоимости участка. Хозяева готовы на все, лишь бы избавиться от этой громадины, за которой больше не могут ухаживать…
Доппельгангер с трудом поднялся и поправил костюм. Бессмысленно огляделся. Он чувствовал себя до крайности неловко и принялся извиняться.
– Ладно, ладно, – проворчал агент. У него явно была куча дел.
Остальные смотрели, улыбаясь, на заспанного человека, который уходил, пятясь и бормоча какие-то глупости. Один из них миролюбиво сказал:
– Простите, что нарушили сон праведника.
Доппельгангер удалился при всеобщем оживлении.
Он вернулся в отель, недоумевая, где же все-таки провел ночь. Потом узнал, что пять лет тому назад в заброшенной вилле нашли двух зарезанных женщин, лежащих в одной постели. Таинственную драму так и не удалось распутать. Не нашли ни убийцы, ни орудия преступления. Это понятным образом затруднило продажу недвижимости.
«Пять лет тому назад… – размышлял Доппельгангер, когда остался один. – Пять лет…»
Черт его знает, где он был тогда.
Нефритовое сердце
Что я могу искать, кроме возвращения?
Сюзанна Пиляр
Волосы тусклые, матово-рыжие, лицо блеклое и нарумяненное, улыбка застывшая, глаза беспокойные и в то же время отсутствующие… Одетая в длинное платье из экзотического шелка в изумрудно-аметистово-рубиновых тонах старая женщина или, лучше сказать, женщина без возраста, вне времени, сомнамбулически вошла в зал, где размещалась экспозиция.
Наши глаза встретились. Несмотря на жалкую свою патетику, эта женщина, которая казалась воплощением смерти, меня потрясла.
В момент появления она произвела среди приглашенных на светский вернисаж некоторую сенсацию. Хозяева приема почти не скрывали улыбки, глядя на нее; служащие гардероба принялись шушукаться, а посетители оборачивались, когда она проходила мимо.
Откуда взялась эта креатура? Вероятно, с какой-нибудь картины Энсора, из фильма Феллини или с двусмысленной античной фрески. Она шла медленно, маленькими шагами, и можно было вообразить, что ее плохо сгибающиеся колени должны скрипеть при ходьбе.
На выставке произведений искусства Центральной Америки в мраморном холле солидного банка экспонировались удивительные фрагменты цивилизаций доколумбовой эпохи из Мексики и Гватемалы.
Эта старая дама, столь причудливо одетая, распространяла атмосферу странную и необъяснимую. Мы случайно встретились около ниши, где стояла терракотовая статуэтка, изображающая, по всей видимости, танцора.
– Вещь очень редкая, – обратилась она ко мне, торопясь поделиться своим энтузиазмом. – Взгляните на это подобие крыльев за спиной. И на волшебный оттенок свежей глины.
Я кивнул, решив поскорей отойти, дабы не общаться с обладательницей хриплого голоса, розовато-гипсового лица и прически цвета тусклой меди.
– Подойдите-ка сюда, – продолжала она. – Здесь нечто весьма любопытное.
В ее глазах сверкнул неожиданный блеск, огонек наслаждения или вызова. Она дотронулась до моей манжеты и увлекла меня к скульптурной группе – творению, как мне показалось, скорее коллективно-фольклорному, нежели индивидуальному.
– Посмотрите. Среди этих простеньких фигурок имеется одна, которая может вам кое-кого напомнить. А именно даму, которая в данный момент с вами беседует. – Она кокетливо улыбнулась. – И вправду, я нахожусь здесь. Фантастическая встреча через века…
Скульптурную группу составляли маленькие женщины, толкущие зерно или несущие корзины, музыканты, воины, спрятанные за большими щитами.
– Простите, но я не вижу вас.
– Вы плохо ищете. Смотрите внимательней.
И в самом деле. Я заметил двух несколько схематично изображенных собак в эротическом соединении. И самка, хотя я не очень хорошо разглядел голову, самка, почти женщина, едва деформированная анимальностью, поразительно походила на мою собеседницу.
– Ну! Что скажете?
– Потрясающе!
– Общая экспрессия этого животного поистине человеческая, и мы обнаружим аналогичный замысел во многих других статуэтках, выставленных здесь. Это часто встречается в терракоте и керамике доколумбовой эпохи. У меня имеются экземпляры еще более шокирующие, нежели на этой экспозиции. Я их вывезла из Веракруса много лет назад – когда мой муж был дипломатом в Мексике.
Я великолепно попался на крючок, и, когда она пригласила меня посмотреть ее коллекцию, вид у меня был весьма озадаченный. Она засмеялась моему смущению. В ее смехе звенели молодые и энергичные нотки:
– Ведь пожилые месье приглашают молодых женщин полюбоваться японскими эстампами!
Мы формально представились друг другу и посвятили некоторое время осмотру, который оказался приятным и полезным благодаря эрудиции и хорошему настроению моего добровольного гида.
Мы вышли вместе. Служащие гардероба, знавшие меня в лицо, разглядывали нас с большим интересом. Признаться, я не очень-то стремился афишировать себя в обществе этой персоны с лицом мумии, одетой словно ацтекская императрица. Она взяла меня за руку и тяжело оперлась, поскольку визит ее утомил. Моя машина стояла неподалеку. Она устроилась с трудом – ее старые суставы прямо-таки затрещали при хлопотливой посадке. Однако ей хватило присутствия духа беспечно поглядеться в ретровизор и взбить свои рыжие волосы. Она жила в предместье, которое потеряло престиж, но где еще остались изящные аристократические особняки, – наниматели, правда, часто менялись и большинство дверей и подоконников нуждалось в основательной покраске. Во время поездки моя новая знакомая не проронила ни слова. Я решил, что она задремала, и моментами предполагал самое худшее, так как не улавливал даже легкого дыхания.
Я остановился по указанному адресу, и она довольно ловко вышла из машины. Особняк серо-голубого камня с тремя фасадными окнами. Матовое стекло входной двери украшала причудливая металлическая резьба.
Моя спутница долго копалась в сумочке, достала наконец ключ и широко раскрыла дверь. Пахнуло пропыленными коврами, тканями, съеденными временем, – специфическим запахом музея.
– Это запах изгнания, – грустно улыбнулась она. – Запах прошлого. Для всех, кто был вынужден покинуть родину, прошлое сокровенно. Единственное, от чего невозможно освободиться. Но, слава Богу, у меня остались еще кое-какие привязанности. Вы увидите.
Она вошла бодрой походкой, контрастирующей с мертвой усталостью предыдущих минут, и усадила меня на кожаное канапе цвета горшечной глины. В комнате, весьма обветшалой, кроме канапе стоял еще низкий столик из какого-то черного камня. Она принесла поднос с бутылками и бокалом:
– Прошу вас. Я скоро вернусь.
Я рассмотрел бутылки, налил и выпил. Чем все это кончится? Через некоторое время владелица особняка предстала передо мной в просторном нефритово-зеленом халате. Она также сменила черные туфли с позолоченными каблуками на простые сандалии с ремешком между пальцами. Ее ноги поразили меня: ноги молодой женщины, отнюдь не отмеченные усталостью или возрастной деформацией.
– Я живу в курьезном пространстве посреди двух миров, – сказала она, усаживаясь подле меня. – Одновременно в очень далеком прошлом и в настоящем, которое быстротечно и неуловимо. И никогда не знаю точно, где я. Конечно, хочется поверить в неукоснительные законы игры жизни и смерти, когда все безгранично позволено и все обещано… понимаете, все.
Но вдруг откуда-то вздымается чудовищная волна ужаса, и почва уходит из-под ног, и я шатаюсь, погружаюсь, утопаю. Вам еще не дано познать зыбкого и едкого страха неопределенности, который обезоруживает и уничтожает все, буквально все. Если бы вы знали, в каких страданиях и в какой безнадежности переживаются подобные состояния!
В процессе монолога ее поза стала более непринужденной и на лице появились легкие, живые краски. Можно было подумать, что присутствуешь при любопытном феномене ревитализации.
– Счастливы те, – она многозначительно улыбнулась, – кто умеет снова прожить жизнь, как бы вам объяснить… прожить наоборот.
Она слегка прикоснулась ко мне, и этот жест, который, вернее всего, перепугал бы меня полчаса назад, сейчас глубоко взволновал. Мои щеки окрасила дерзость известного замысла. Лицо буквально пылало.
Мы поднялись и неторопливо прошли в другую комнату, освещенную продуманно и очень искусно – при видимом отсутствии ламп или других источников света. Возле затянутых темно-красным шелком стен располагались витрины с античными статуэтками. Здесь были сплетенные тела влюбленных, экспрессивные звери, танцоры в масках, забавные человечки – ремесленники очень отдаленной эпохи, фаллические персонажи. Несмотря на оригинальность и очевидную редкость этих произведений, внимание постоянно отвлекалось и глаза обращались к середине комнаты-музея. Там стояла, словно образуя средоточие тайного святилища, женская статуя размером чуть меньше натурального, приблизительно с девочку-подростка. Но то была зрелая женщина, удивительно пропорциональная. Мы подошли, и наши лица оказались на одном уровне с ее лицом. Сотворенная вдохновенно и тщательно, покрытая глазурью, она переливалась нежным, сдержанным колоритом. Эманация неведомой, интенсивной жизни исходила от нее, и самое странное – она была безусловно похожа на мою спутницу.
Я изумленно переводил взгляд с этого идеально красивого образа, созданного много веков назад неизвестным мастером, на женщину, что стояла рядом со мной. Куда девались тоскливые следы ее старости? Медленно и грациозно она обнажала грудь… и сходство с молодой богиней стало еще более поразительным. В этой тревожной и магической атмосфере я потерял способность хоть как-то критически мыслить и всякое понятие о реальности.
Женщина, которую я впервые увидел старой, изношенной, страдающей, могла теперь сравниться красотой и соразмерностью пропорций, ликующей гибкостью плоти с роскошным творением, пришедшим из глубины времен.
И здесь произошло нечто такое, о чем я затрудняюсь точно рассказать сегодня. Мне почудилось, что пленительная статуя сошла и растворилась в теле моей новой знакомой или, возможно, с помощью какого-то древнего заклинания, она сама превратилась в драгоценную терракотовую скульптуру. У женщины, вокруг талии которой сомкнулись мои руки, от маски Энсора остались только рыжие волосы. Но теперь они искрились и даже чуть потрескивали, словно кошачья шерсть перед грозой.
Что я делал и что делала она? И что она дала мне выпить? Я не в силах вспомнить. Желание святотатственное и неистовое затуманило голову, и я отдался безраздельно упоительной страсти. Вспоминаю только банальное торжество, непременное завершение мимолетной связи, и все же… это случилось – вспышка внутренней красоты, спиритуальный ожог, рождающий идею любви в тот самый момент, когда думают только о наслаждении.
Сколько времени прошло, когда я наконец пришел в себя? Цоколь пустовал – пленительная статуя исчезла, равно как и владелица дома. Я лежал на ковре, и вокруг меня валялись терракотовые обломки, какие-то старые безделушки, прядь рыжих волос… На кромке ковра, посреди этих последних свидетелей двойной и таинственной аппариции, покоился серо-голубой нефрит в форме сердца, который я принял поначалу за яйцо чибиса! Я взял его и рассмотрел, в глубине моей ладони лежало нефритовое сердце, полированное и тяжелое.
Впрочем, вот оно, взгляните…
Ночь в замке
Всякая случайная встреча – это рандеву…
X. Л. Борхес
Развихренные кусты, растоптанные лужайки, раскиданная садовая мебель, черно-белый тент, рассеченный ударом сабли… Мы галопом проскакали к подъезду, я проскользнул между Людвигом и Отоном, бросил лошадь в застекленную дверь и въехал в просторный холл.
Неподалеку от замка спешивались всадники, отрывисто и коротко отчеканивая приказания. Мои лейтенанты медленно спустились по серой каменной лестнице и остановились, не слезая с седел, в аллее, посыпанной гравием.
Когда мы только прибыли в парк, раздался выстрел из окна. По крайней мере я расслышал сухую детонацию, а кто-то из моих людей видел дымок. По счастью, никто не пострадал. Мы, конечно, могли бы поджечь здание, и это бы многих позабавило. Но замок предстал так гордо и так красиво, что я почувствовал «укор цивилизации» – ведь не всегда же я был солдатом.
Итак, я въехал в просторный холл. Напротив главного входа блистали причудливые застекленные окна, сквозь которые виднелась легкая листва нескольких берез. По левую руку змеилась большая лестница: сужаясь в пролете бельэтажа, она расширялась у подножия. Мозаичный пол пестрили звезды и квадраты, а в его центре блестел, как черное солнце, полированный мраморный круг. Моя лошадь находилась точно в этом месте, и я возвышался наподобие конной статуи современного Коллеони. Лошадь нетерпеливо ржала и била копытом, железные подковы отзывались странным звоном, и я начал опасаться за их сохранность.
На лестнице появилась сравнительно молодая женщина; за ней на некоторой дистанции следовал довольно угрюмый старикан, который комично жестикулировал.
– Это мой… отец, – сказала она. У меня было впечатление, что она хотела сказать «мой муж». – Это он выстрелил. Не сердитесь, Бога ради, он не совсем в здравом уме.
Она улыбнулась заискивающе-неловко, опасаясь, видимо, самого худшего.
– Вот его оружие, – она протянула, рукояткой вперед, старинный кремневый пистолет. Подошла к голове моей лошади, внимательно посмотрела на меня. В данных обстоятельствах я предпочел бы видеть на ее лице более смиренное выражение. Я взял это допотопное оружие, отныне безвредное, и сунул в чересседельную сумку. Владелица замка (так, вероятно, я должен был ее называть) еще раз извинилась за слабого, но гордого старика – сей гордец мельтешил вокруг нее и уговаривал поскорее удалиться. Но она ловила мой взгляд, и, когда это ей удавалось, я замечал в ее глазах тревогу, именно тревогу, а не страх.
Это была молодая женщина обыкновенной внешности, хотя мне она показалась очаровательной. На войне все женщины прекрасны.
Я спешился, подал знак, и кто-то пришел увести мою лошадь.
– Так вы мне больше нравитесь, – сказала она. В ее голосе прошла приятная хриплая нота.
Я отстегнул подбородный ремень, поставил каску на согнутую руку, церемонно щелкнул каблуками и назвал себя.
– Баронесса Кухринци, – представилась она в свою очередь.
Я поклонился. Глаза баронессы потеплели, почти засмеялись. Губы у ней были тонкие и насмешливые, но не вызывающие. И костюм отличался вкусом и качеством: она носила старомодную прелестную амазонку – юбку с длинной шлицей и узко приталенный жакет.
– Не могу предложить вам ничего особенного, капитан. Слуги сбежали. Я здесь одна с моим старым… отцом, которому вы, безусловно, не по душе. Он участвовал когда-то в сражении при Ормузе и сохранил дурные воспоминания о ваших соотечественниках.
– Какое далекое прошлое! – я махнул рукой в знак презрения к занятиям и завоеваниям человеческим.
Баронесса улыбнулась:
– Вы здесь у себя, капитан. Я хорошо понимаю изменчивость воинской славы и нервозность в отношениях между победителями и временно побежденными. Ведь окончательный успех неизвестен до последнего часа.
Мне понравилось ее достоинство и здравомыслие. Ей, видимо, не были свойственны ни глупое кокетство, ни самоуверенность. Когда она лениво отбросила шатеновую прядь, я заметил на ее запястье тяжелый золотой браслет, переплетенные звенья коего отличались великолепной ювелирной отделкой.
– Элизабет, – закаркал нетерпеливый старик. – Идем отсюда.
И поднялся на несколько ступенек. Он, без сомнения, боялся за свою дочь или жену (несмотря на сомнительность подобного союза) и предвидел малоприятные возможные последствия нашей беседы.
Молодая женщина колебалась, ожидая, вероятно, что-либо от меня услышать. Но я затруднялся подыскать подходящие ситуации слова.
– Увидимся вечером, капитан, – заявила она решительно. – Я буду здесь в девять часов.
Я заметил блеск обещания и вызова в мрачной глубине ее зрачков.
Наступил вечер. Я размышлял о том, о сем, сидя на лестнице. Наступление продолжалось. Мой эскадрон держался в боевой готовности, поскольку мы могли получить приказ в любую минуту. Эстафеты были разосланы повсюду.
Возбуждение, охватившее меня несколько часов назад, понемногу улеглось. Да и как иначе? Беспокойное ожидание баронессы смешалось с беспокойным ожиданием внезапного отъезда.
Итак, я сидел и томился уж не знаю сколько времени, как вдруг ощутил флюид, легкую вибрацию постороннего присутствия. По лестнице скользил тонкий силуэт. Это была Элизабет Кухринци – широкие складки ее длинного платья доходили до щиколоток. Я не мог ошибиться – в легком предвечернем сумраке хорошо различались ее черты. Она приложила палец к губам и поманила за собой. Я поцеловал протянутую руку. Она улыбалась, но тем не менее в ней чувствовалась некоторая манерность или скованность. Надо полагать, нас обоих несколько стесняли классические роли: владелица захваченного замка и победитель-офицер.
Мы миновали один лестничный пролет, и она открыла дверь, ведущую в коридор. Нас окружила прохладная и полная тьма, наша осторожная поступь рождала смутное эхо в тягучей тишине. Она держала меня левой рукой, правой нащупывала стену, продвигаясь вперед медленно и решительно.
Хотя в обычных условиях я всегда предпочитал владеть ситуацией, здесь мне пришлось подчиниться обстоятельствам. Да и что оставалось делать? Почему-то я счел вполне естественным следовать за незнакомой женщиной в лабиринт, где таилось, возможно, черное лицо моей судьбы.
Наконец мы проникли в комнату, также погруженную во тьму. Пол был покрыт, скорее всего, ковром; угадывались кресла и еще какая-то мебель. В комнате царил запах бензойной смолы и кедрового дерева.
Она отпустила мою руку, повернулась, ее губы жадно искали мой рот. Она прижалась ко мне в самозабвенном и отчаянном порыве, и мои пальцы принялись нащупывать и расстегивать пуговицы на ее спине. Плечи освободились, платье соскользнуло, и никто более им не занимался.
Обнаженная Элизабет Кухринци изгибалась в моих руках, и ощущать ее нежную, наивную, почти инфантильную наготу было и приятно, и стеснительно. Я не видел ее. Мои пальцы ласково творили тонкое и гибкое бытие ее тела. Но когда я прижал к своей груди ее лицо, то почувствовал, что оно залито слезами. Я смутился и было отступил. Но в создавшейся ситуации отступать было некуда.
Маленькая рука начала блуждать по моей униформе в аналогичном поиске пуговиц. Я вежливо отстранился, дабы расстегнуть жесткий воротник, и застыл в напряженной неподвижности, прижав к себе худенькое, нервное, трепещущее тело. Воображаю, какое неудобство причинила ей портупея и металлические пуговицы мундира. Она высвободилась, чтобы перевести дыхание, прошептала что-то невразумительное и слегка подтолкнула меня к постели. Остальное понятно.
Я был не слишком деликатен, должен признаться. На войне все меняется – аппетиты, сантименты. Опасности и постоянная угроза смерти ожесточают. Баронесса поначалу стонала, затем успокоилась.
Меня разбудила труба, и я спросонья решил, что нахожусь в казарме. Потом вытянул затекшие ноги – оказывается, я спал, не снимая сапог. Поискал мою ночную подругу – никого. Рука наткнулась на что-то твердое, на какую-то палку или ветку – так я сперва подумал.
Я с трудом встал на ноги и услышал треск разорванной ткани, зацепившейся за шпору. Сообразуясь с тонким лучиком света, подошел к окну и толкнул тяжелый ставень, который устрашающе заскрипел. Раскрылось яркое синее небо. Легкий туман плыл над парком, поднимался запах листьев и влажной травы. Я внимательно осмотрелся. Просторная спальня, пустовавшая, надо полагать, долгие годы. Обои свисали клочьями, шелковая обивка кресел полиняла и разлохматилась, густая пыль скопилась на дубовой мебели и тусклых зеркалах. Обильная и многослойная паутина подчеркивала отчужденность и заброшенность помещения.
До сих пор не могу забыть терпкой интенсивности мгновения, змеиного холодка страха, перешедшего затем в угрюмый ступор.
Кровать, которую я покинул, зацепив шпорой длинное, до полу, шерстяное покрывало… Там покоилась мумия цвета песка или охры, узкий череп был стянут сухой пористой коростой, с костей свисала прогнившая волокнистая плоть – она не увеличивала объема, но придавала мумии еще более зловещий оттенок. Такова была дневная реальность нежного и желанного тела, которое я любил этой ночью.
Смерть, смерть, как ее писал Ганс Бальдунг Грин – белесые утолщения, узловатые суставы, вывороченное, мрачное бесстыдство тазобедренных костей. И на том, что когда-то было рукой, висел тяжелый золотой браслет изысканного плетения.
Я остался безгласный и неподвижный перед этими нищенскими останками, перед этим страшным закатом человеческой плоти.
Трудно выйти из ночи забвения, собрать мысли воедино, чтобы найти магическое измерение немыслимого.
К тому же я не имел досуга наблюдать эту сцену, достойную кисти старого мастера, изображавшего тщету всего земного; не мог также оценить ее значения для собственной судьбы. Труба зазвенела снова, и отголоски долго перекатывались в утренней тишине.
Я попытался сколь возможно привести себя в порядок, осторожно снял несколько женских волос, запутавшихся за форменную пуговицу, и спустился в холл, стараясь держаться прямо и официально.
От меня исходил запах постели, пота, любви и смерти.
Внизу – никого. Пустота и заброшенность. Единственный след вчерашнего вторжения – кусок навоза, раздавленный на черном мраморном круге. За две три минуты ожидания так никто и не пришел. Когда я появился на пороге, ординарец подбежал ко мне с флягой и котелком горячего кофе. После нескольких глотков вернулось ощущение реального мира, реального в противоположность тем мирам, которые обрушиваются в Лету навсегда.
Эскадрон строился в парке под командой Людвига. Приказ был получен. Я спустился к лужайке, потрепал холку уже оседланной лошади и напоследок оглядел замок. Серые стены, черепичные кровли, истерзанные градом и солнцем, коньки крыши, обвитые плющом. Полуоткрытая входная дверь, а там, наверху, распахнутый ставень – окно комнаты, где я провел ночь.
И вдруг в этом окне показался тот самый мстительный старик, который вчера утром едва не превратил меня в поджигателя. Он сделал вид, будто прицеливается из ружья. Он целился в меня и послал в меня воображаемую пулю. И вдруг в голову пришла догадка касательно всех этих странных инцидентов: «Все это произойдет со мной в ближайшем будущем». Сомнений нет: столько знаков не может обмануть.
Я приподнялся в стременах и окинул взглядом эскадрон. Потом отдал приказ выступать.
Парк
Радость утоления дикого инстинкта несравненно более интенсивна, нежели удовольствие от удовлетворения инстинкта укрощенного.
Зигмунд Фрейд
Сабине надлежало пересечь парк два раза в день после полудня. Не по всей длине, а наискосок: вход со стороны аллеи каштанов, выход – к памятнику капрала Муратори. Она делала это регулярно с понедельника по пятницу, согласно английскому регламенту променада. Пересекала парк и возвращалась той же дорогой.
В принципе она могла пройти аналогичное расстояние, обогнув парк по дуге, но предпочитала углубиться в маленькую лощину, поросшую густыми деревьями, – бывшее приватное владение, рассеченное на куски: муниципалитет отобрал последние гектары в пользу зеленой зоны.
Дорожки, посыпанные гравием, содержались в идеальном порядке. Когда после грозы на территории оставались ямки и выбоины, а к тому же проступали известковые породы, служители быстро все налаживали. На некоторые лужайки запрещался доступ собакам. На скамейках, как водится, дневными часами болтали пенсионеры, а вечером ласкались влюбленные. Словом, вполне банальный городской парк. К деревьям были привешены опознавательные желтые таблички: «Береза – Betulla», «Клен – Acer», «Ясень – Fraxinus»… Урны для мусора, сарай для инструментов, потайные уголки за высокими кустами, где маленькие девочки могли спокойно делать пипи… Все как полагается.
Но однажды прознали, что на какую-то женщину вечером напали. Сабине предложили изменить курс. «По крайней мере, если хочешь гулять по-прежнему, – прибавил отец, смеясь, – не забудь захватить большой нож».
Неосторожные слова. Сабина много дней размышляла над ними, поскольку пришлось теперь огибать парк, а ей хотелось совершать привычную прогулку. Случай с нападением не столько ее напугал, сколько заинтриговал. Что могло произойти с этой женщиной, которую она принимала скорее за дуру, чем за несчастливицу? Украли сумку? Ударили? Раздели, расцарапали физиономию или что-нибудь еще похуже? Сабина тщетно приставала к матери и служанке.
– Не ходи в глубину, – говорили ей. – Не забивай голову ерундой. Огибай парк, и ничего не станется.
Но все это очень занимало Сабину. Как и всякая умная девочка, она отличалась пылким воображением и неуемным любопытством. Она больше страшилась скуки, нежели неизвестности.
К тому же ей так хотелось возобновить традиционный маршрут. Она перестала спорить – к чему? – но приняла собственные предосторожности.
Прежде всего, должно воспитать в себе определенное чувство опасности. Ничего нет глупей – она это знала – безоглядной уверенности. Всегда надо быть готовым к любой неожиданности, уметь рисковать, но рассудительно рисковать. Она разыскала в ящике шкафа забытый невесть когда нож своего деда-лесника. Охотничий нож со стопорным вырезом и роговой рукояткой. Лезвие – длинное и заостренное – освобождалось нажатием на полукольцо. Раскрытый, он внушал больше страха, чем кинжал. Гладкая рукоятка была не слишком велика для маленькой руки. Сабина испытывала неведомое доселе наслаждение, ласкала лезвие кончиками пальцев, сжимала в ладони этот чуждый, длинный, плавно закругленный предмет.
Она любовно чистила лезвие, полировала роговую рукоятку, смазывала стопорный вырез, с удовольствием взирала на угрожающе занесенную кисть, без устали наблюдала, как после щелканья пружины из тайника выпрыгивает сверкающее стальное чудо…
И Сабина вернулась в парк. И даже осмеливалась проникнуть в область, где почва была более вязкой и трава росла не так густо. Из щелистого дна старого порфирового бассейна давным-давно утекла вода, и маленький ручей пробился в низину. Там Сабина часто играла в раннем детстве. Однажды она увидела посреди камней, образующих брод, нечто удивительное: в прозрачной воде на гравии лежал кругляшек теплого ярко-красного цвета, напоминающий солнце на глубоком закате, – это была пастилка в белой пластмассовой скорлупке. Но когда Сабина, вымочив рукав, достала ее и положила на ладонь, она растеклась подобно свежей крови и медленно закапала с пальцев. Сабина тогда поморщилась и убежала. И сегодня она вспомнила вдруг о своей детской находке, о жестоком разочаровании, вспомнила, как удивительная штучка стала вдруг кровоточить, бледнеть и пропала совсем.
В отдаленной части парка было сумрачно и неуютно. Шум города мало слышался здесь и тени наступали – темные и угрожающие. Среди кустов рыскала черная гладкошерстная собака, ее гибкий хвост дергался резко и противно. Пожилая женщина с отвислой грудью пронесла разные объедки для бродячих котов, – Сабина видела ее прежде, но сейчас почему-то едва признала. Старая симпатичная чудачка показалась ей сейчас омерзительной ведьмой. Толстый, задыхающийся сторож в грязной фуражке, торопящийся последний раз обойти территорию, стал подозрительным свидетелем зловещих встреч. Влюбленная пара в довольно зрелом возрасте, которая с трогательным бесстыдством демонстрировала свое право на полное одиночество, бросила ей озорной взгляд и странную улыбку. Служанка врача-дантиста, томная и красивая испанка, корпулентность коей пленяла многих пациентов, вдруг поднялась и распустила шиньон. Проходя мимо, эта каналья ни с того ни с сего подмигнула Сабине. И, наконец, старичок – завсегдатай парка – скромный, невзрачный, юркий… Она чувствовала, что у нее со старичком давно уже установилась какая-то смутная связь, хотя ни разу онине обменивались ни словом, ни взглядом. Она придумывала для него всякие прозвища: «филин», «пилюля», «папаша Вик». Она чувствовала его внимание и даже подозревала в шпионстве, ведь он при встрече отводил глаза. Обычно он семенил мелкими шагами и всегда располагался в самом отдаленном углу парка, где почти никто не гулял и где начинало темнеть сразу после полудня. Он словно бы ждал Сабину, наблюдая за ней исподтишка, надеясь, что в один прекрасный день она к нему подойдет.
На сей раз, заметив ее, он пошел навстречу бодрым шагом, словно вдруг куда-то заторопился, и в показной своей спешке чуть не столкнулся с ней. Вероятно, это была простая случайность, но, пытаясь разминуться, они уклонялись в одну сторону: он влево – она вправо, он вправо – она влево.
Сабина расценила это как провокацию, но реальной опасности не ощутила. Что можно ожидать от худого, нервного и, по всей видимости, беззащитного старика? Однако он ей, пожалуй, улыбнулся. Лицо морщинистое, темно-желтое, словно старая слоновая гость, уши вытянутые и прижатые. Что-то лукавое и хитрое было в этом лице – такие лица часто встречаются у пожилых людей, которые привыкли лгать на всякий случай и по любому поводу. Когда они в конце концов разошлись, Сабина посмотрела ему вслед. Он шел быстрым, уверенным шагом, опустив руки в карманы длинного, слишком свободного дождевого плаща.
Встреча на следующий день с маленьким странным человеком не дала ничего нового. Неизвестный прошел безразлично, занятый своими мыслями, и даже не взглянул в ее сторону. Она обернулась, несколько удивленная, и он, словно чувствуя ее разочарование, остановился и тоже обернулся. Вероятно, ждал какого-либо жеста, конкретного выражения любопытства. Ей показалось, что он слегка кивнул, и она невольно наклонила голову. В последующие дни он не появлялся в парке, и ей стало недоставать атмосферы смутного, интригующего присутствия.
Сабина постепенно привыкла к своим страхам. Она вобрала их в свое бытие – можно сказать, пропитала ими душу. Нынешние прогулки в парке привнесли в ее жизнь нечто секретное и угрожающее: перед ней раскрылась иная вселенная, которая околдовала едкой, неведомой радостью. Она и не подозревала ничего подобного несколько недель назад.
Этим вечером ее нервы были особенно возбуждены. Что-то зловещее вползло в парк, блуждало среди кустов и скамеек. Ее медленные шаги по дорожке, казавшейся сегодня особенно твердой, рождали чуждый призвук в обычном резонансе. Дыхание стало прерывистым, словно у зверька в западне. Ветерок, лениво шелестевший в листве, вдруг засвистал, подобно взмахам бича. Тоскливая луна безобразного цвета мыльной пены пряталась в густых и тяжелых облаках.
Сабина ощутила себя совершенно одинокой. Она, в сущности, всегда была одинокой – домашние относились к ней безразлично. Ее не понимали, да она этого и не жаждала. Ей нравилось оставаться загадочной, холодной, независимой, способной жить как заблагорассудится и полагаться только на себя. «В конце концов, – думала она, – мне никто не нужен. Меня не любят, а я не очень-то нуждаюсь в их любви. Мою гордость и одиночество они считают признаком раздражительного и злого нрава».
В последние вечера она часто рассматривала себя в зеркале, перед тем как лечь спать, и в принципе оставалась довольной. Ей нравился выпуклый, словно у куклы, лоб, маленький влажный рот, где таилась розовая нежность резвого язычка. Подбородок, правда, резковат, а груди еще совсем детские. Напрасно она взвешивала их в ладонях – они не весили ничего, упрямо держались на своем месте и проявляли только минимальное волнение. Плоский живот с маленьким смешным пупком убегал вниз совсем незаметно и рождал дискретную треугольную тень. Бедра, напротив, явственные и хорошо развитые, ноги сильные, с чересчур большими ступнями. Более всего ее печалил плохо сформированный ноготь большого пальца правой ноги, особенно когда приходилось идти купаться. Но за исключением подбородка и ступней, все обстояло недурно.
Что-то зашевелилось, зашумело в кустах. Сабина вздрогнула, повернулась, беспокойная и решительная. Нащупала в кармане нож, выгнула локоть, чтобы лезвие прошло вверх, крепко прижала рукоятку ладонью и запястьем, чуть наклонила корпус – острие коснулось предплечья. Неподвижная, напряженная, внимательная, Сабина чувствовала себя тем не менее свободно и отрешенно.
Судьба шла навстречу. Выпорхнув неизвестно откуда, занятный старичок оказался в нескольких шагах от нее. Он держал руки в карманах плотно запахнутого плаща.
– Добрый вечер, – заявил он с хрипотцой и проглотил слюну.
Сабина не сделала ни единого движения, хотя могла продолжить путь, или свернуть в сторону, или вернуться к аллее каштанов. Она оставалась неподвижной и, сознавая неопределенность своей позиции, резко подняла голову и с вызовом посмотрела на одинокого пожилого человека. Сумерки сгустились, встреча происходила под высоким фонарем: лампа колебалась от ветра и лишь бегло освещала место действия.
– Добрый вечер, красоточка, – повторил старик и приблизился на шаг. – Я принес тебе конфеты.
Какое право он имел так с ней разговаривать? Сабина покраснела от подобной фамильярности. Лоб и ладони покрылись влагой.
– Да, конфеты, – продолжал старый любезник. —Ты, надеюсь, не боишься меня? Мы ведь с тобой давно знакомы.
Она хотела закричать, что ей наплевать на его конфеты, что она ненавидит сладости, что он ей докучает и ей не хочется его больше видеть. Но какая-то неизвестная сила словно предписала ей молчание, и она стала пленницей роковой секунды. В глубине ее существа словно разматывался мрачный ледяной клубок: решение было принято – сегодня или никогда.
Старичок подошел совсем близко. Он был одного роста с ней. От него пахло одеколоном. Он хрипло хихикал.
– Красоточка, – он медленно протянул пальцы к ее щеке. – Какие у тебя черные и сердитые глаза.
Обрывки непонятной фразы мелькнули у ней в мозгу. Она лишь предчувствовала смысл этой фразы – кажется, о том, что ничего невозможного нет. Она сделала два выпада с быстротой дикого зверя. Старик схватился за живот, застонал и согнулся пополам. Глаза сощурились, губы раздвинулись – лицо выражало удивление и нечто вроде укоризны.
Сабина отпрыгнула. Она продолжала держать свое оружие. В мигающем свете лампы кровь на лезвии ножа то сияла, то чернела. Кровь текла по запястью, капала с пальцев. Старик упал на колени, потом рухнул набок и остался лежать в такой натуральной и удобной позиции, что казалось, будто бы он полностью ответил на главный вопрос своей судьбы.
Она склонилась, вдруг ужаленная паникой, и похлопала его по щеке онемевшей ладонью:
– Месье! Это ничего… Очнитесь, я сейчас позову врача. Подождите, прошу вас, подождите…
Но «филин» не хотел ждать. Он умирал. Сукровица проступала на губах и потекла на подбородок. Пленка затягивала глаза.
Кто-то бесшумно выпрыгнул позади Сабины, схватил за лицо и втиснул в рот тряпку. Ей выкручивали руки. Чуть не сломали. Боль была адская. Несмотря на сопротивление, ее грубо потащили в кусты. Что-то резко стрекануло по голым ногам. «Остролист», – подумала она.
Сострадание к призракам
Страх – это разновидность любопытства.
Пьер де Мандиарг
Мы выбрали места малопосещаемые. Презрев туристские банальности, ехали оригинальным маршрутом. Песчаная желтая дорога, где машина катилась с умеренной скоростью, извивалась по темно-рыжей равнине. Почва под напором белых пористых камней потрескалась, словно слишком сухая кожа. Какая жара! Цикады звенели так пронзительно и так монотонно, что мы на всякий случай остановились, опасаясь какой-либо неисправности в моторе, настолько нас обманула ритмичность всесторонних тонких потрескиваний.
Под категорической небесной синевой бугры, холмики, холмы чередовались одуряюще монотонно. Облако пыли за нашим автомобилем долго стояло в воздухе, начисто закрывая видимость. Непосредственное прошлое уничтожалось мгновенно, словно по мере продвижения обломки вселенной рушились в небытие.
Усталость, жара, утомленность от бесчисленных виражей, плохая дорога. Никто не имел ни малейшей охоты ты разговаривать. Я безрадостно сидел за рулем с видом человека, который фанатически упорствовал в своем заблуждении.
Мотор гудел вполне добродушно. Пока никаких неприятностей в этом плане. Да и тряска была терпимая. Нет, тоска входила извне, от угнетающего пейзажа, раскинутого, казалось, до последних границ мыслимого мира. Крутой скалистый склон, очертаниями напоминающий руины, то пропадал, то вновь появлялся в перспективе уже искаженной – создавалось впечатление, что мы не продвигаемся вперед, а все время возвращаемся на непонятный исходный пункт.
Солнце палило беспощадно. Мы опустили все стекла в кабине и тем не менее проклинали нашу авантюру. Аурелия, сидевшая рядом со мной, хрустнула последней ментоловой пастилкой и простонала: «Господи Боже мой! Черту бы под хвост эту страну!»
Дежурная фраза, которая нас обычно забавляла, сейчас ни у кого не вызывала улыбки. На заднем сиденье Серж обливался потом и ворчал:
– Только абсолютный идиот мог выбрать такой маршрут. Куда мы приедем? Да никуда не приедем. А если попадем в аварию, то и за неделю не выберемся.
Он, конечно, преувеличивал, но основания для беспокойства имелись. Уже два часа, как мы покинули шоссе, а пустыня и не думала кончаться. Цивилизация, развиваясь, как бы колеблется вокруг основной оси, но амплитуда этих колебаний не отличается размахом – в этом я многократно убеждался. Моя рубашка приклеилась к спине. В ретровизор был виден Серж, вытирающий шею смятым и мокрым платком; рядом с ним Блонда, которую жара довела до тошноты, принимала немыслимые позы, чтобы минутку-другую подремать.
– Там! – завопила Аурелия, упорно смотревшая вперед.
–Что там?
– Здание. Ферма, думаю, или монастырь. Там за холмом видна башня.
Настроение изменилось. Если она угадала правильно, мы найдем тенек, отдохнем, перекусим. Я нажал на акселератор. Женщины утешились и принялись причесываться.
* * *
Мы оставили машину внизу, не решаясь рисковать на крутом подъеме, усеянном острыми камнями. Она жарилась на солнце настежь раскрытая. Тем хуже.
Белые камни, редкая и пожухлая, серая от пыли трава. Обрушенная стена с решетчатыми воротами на ржавых петлях. Квадратный двор заброшенной кирпичной фермы. Лучше все-таки, чем руины. Двери кое-где были, но какие двери! Обшарпанные, треснутые, скособоченные. В некоторых оконных проемах чудом уцелели рамы и даже стекла.
Мы сложили провизию в тени какого-то строения и пошли инспектировать ферму. Комнаты были в состоянии ужасающем. Сквозь дырявые потолки виднелась крыша, а в провале крыши – небо, густое, как стоячая вода. Нам казалось, что мы глядим в перевернутый колодец. Мебели никакой. Ободранные обои, стены в разводах. На полу солома. Повсюду солома, словно комнаты предназначались для стада коров. Мы обошли разломанную ригу, сунули нос в конюшню —в яслях еще оставался фураж. Потом наткнулись на довольно просторную часовню с каменным алтарем и разбитой скамьей, в стенах кое-где торчали железные подсвечники. Серые и бугорчатые гнезда ласточек под кровельными балками. И повсюду солома.
И никакого следа жизни в этом унылом покинутом месте. Неподалеку мы нашли высохший колодец. Но он был столь глубок, что мы все равно не смогли бы добраться до воды. Что оставалось делать? Мы устроились у стены часовни и занялись трапезой.
* * *
Я отдыхал на сухой и теплой земле, заложив ладони за голову. Вероятно, я задремал, так как с трудом услышал чей-то громкий голос.
– Иди сюда! – кричал Серж. – Вставай скорее.
Из капеллы доносился гулкий стук, словно кто-то бил по каменной плите. Стряхнув сонную вялость, я присоединился к друзьям.
– Смотри! – победно воскликнула Аурелия. – Смотри, что мы нашли.
В центре молельни, раскидав солому, они обнаружили могильную плиту солидных размеров. На ней был вырезан равноконечный крест. Аурелия и Блонда изо всех сил пытались ее сдвинуть, и, действительно, плита слегка шаталась. Серж притащил откуда-то ржавое зубило и попытался просунуть в щель – напрасно. Я вспомнил, что видел во дворе около стены часовни железный лом, и пошел за ним. Рычаг оказался годным.
Соединив наши усилия и взывая: «Берегите пальцы!» – мы вытащили плиту из альвеолы и сдвинули в сторону. Из отверстия пахнуло прохладной сыростью…
Мы посмотрели друг на друга, не очень гордые результатом.
– Не нравится мне все это, – сказала Блонда.
– Будто грабители какие-нибудь, – фыркнула Аурелия.
– Причем здесь грабеж? – воодушевился я. – Это склеп. Мы прослывем дураками, если расскажем, что нашли заброшенный склеп и даже не поинтересовались туда заглянуть. Фонарь! Кто спустится со мной?
Серж тотчас принес фонарь.
Лежа на животе, я просунулся, сколько мог, в отверстие, зажег фонарь и сразу погасил. Я заметил нечто необычное.
– Глубоко? – спросила Аурелия.
– Не очень.
Я уселся на край, свесив ноги. Посмотрел Сержу в глаза. От него зависело, спускаться или нет. Вид у него был весьма отрешенный. Я вяло спросил:
–Ну как?
Мой не очень уверенный голос и вопросительная. интонация все равно подействовали.
– Да… Пошли, – сказали они хором.
Я сунул фонарь за пояс, повернулся, уперся ладонями и локтями о край и начал осторожно спускаться. При мысли, что кто-то в кромешной тьме схватит меня за ногу, я покрылся гусиной кожей и смущенно взглянул на Сержа. Но мои друзья только смеялись.
– За сегодня управимся? – спросили меня.
– Да. За сегодня управимся.
Я опустился ниже. Ткнул ногой что-то деревянное. Теперь я держался только на пальцах, но, поскольку в мышцах еще сохранился запас эластичности, сумел угадать почву и наконец встал на полную стопу. Не очень глубоко. При известном навыке к такого рода упражнениям выбраться наверх достаточно просто. Для нескольких человек это вообще не составит труда. Я поднял руку и крикнул:
– Спускайтесь!
Остальные быстро присоединились ко мне: сначала Серж, затем женщины. Помогая им спускаться, я заметил явное беспокойство Блонды. Ее голая пятка задергалась в моей ладони, ее тело нервно затрепетало в моих руках.
– Зажги фонарь, – прерывисто и хрипло попросила она. – Надо посмотреть, где мы.
Помедлив секунду, я взглянул наверх и увидел гнезда ласточек под крышей часовни. Солома на краю проема слегка шевельнулась от ветерка. Я проговорил как можно спокойнее:
– Подождите. Надо кое-что прояснить. Не прикасайтесь ни к чему и тем более не кричите.
– Черту бы под хвост все это, – проворчала Аурелия.
Она произнесла эти слова принужденно и хрипловато, но мы тем не менее засмеялись. Она, верно, никогда не теряла головы. Зыбкий сумрак слабо очерчивал наши волосы. У высокого Сержа можно было различить глаза. Остальное поглотила тень.
Стук. Кто-то из нас ударил согнутым пальцем… очевидно, по деревянной панели – словно в дверь хотел войти. Потом еще раз. Потом тишина. Серж не выдержал и закричал:
– Черт возьми! Ты зажжешь, наконец, фонарь?!
Я нажал кнопку. Женщины завизжали. Серж ругнулся и сунул руки в карманы. Хоть я и знал приблизительно, что откроется нашим глазам, тем не менее зрелище, рожденное лучом фонаря, заставило меня брезгливо содрогнуться.
Перед нами на каменном пьедестале полуметровой высоты тянулся длинный ряд гробов.
– Нет! Нет! – запричитала Блонда, закрыв ладонями лицо. – Не хочу! Дайте мне подняться. Уйдем отсюда.
– Подождите минутку.
Я решил во что бы то ни стало осмотреть склеп. По своим кондициям гробы явно различались – были совсем старые, были и относительно недавние. Патина времени по-разному отравила дерево. На самом сохранившемся гробу, на его серо-коричневой дубовой крышке, тускло блеснула свинцовая табличка: «Бланш де Кастиль, 1915». На других гробах прочитывались соответственно нисходящие даты: 1902, 1886, 1865, 1832, 1820…
– Фантастично, – пробормотал я. – Вот уж не ожидал найти нечто подобное в таком месте.
Я повернул световой кружок фонаря к Сержу и нашим спутницам. Женщины, видимо, немного успокоились в его надежных объятиях. Все трое смотрели на меня с любопытством и ожиданием.
Я осмотрел склеп более тщательно. Здесь, разумеется, кто-то уже побывал. Чьи-то пальцы, не менее жадные, чем мои, потревожили крышку одного из гробов. Я еще немного отодвинул ее. Скелет был в хорошей сохранности. За некоторые фаланги и локтевые суставы еще цеплялась фиброзная, волглая ткань. В черных орбитах шевелились… нет, оптический обман…
Я загорелся неистовым желанием приобщить других к моим поискам. Мрачное сладострастие всех осквернителей.
– Подойдите взглянуть! Уверяю вас, это не так уж страшно. Представьте, что вы в музее…
Схватил Блонду за руку. Она резко высвободилась:
– Нет! Не могу. Это гнусность. Насилие над мертвыми.
Она, однако, приблизилась, положила руку мне на плечо и посмотрела. Ее лицо исказилось, дыхание прервалось, тонкая вибрация прошла от ее руки до моего сердца. Белокурые волосы источали пряный, дурманящий запах. Серж, должно быть, почувствовал новую, неизъяснимую связь между нами, ибо произнес торжественно и мрачновато:
– Мертвые отомстят за себя. Оставайтесь, если хотите. Мы уходим.
Блонда охотно присоединилась к ним, а я повернулся к тому гробу:
– Еще секунду.
Мне вдруг страстно захотелось узнать, что осталось от этой Бланш де Кастиль, дату кончины которой возвещала свинцовая табличка: 1915. Сорок лет… Мумия? Кости? Вообще ничего?
– Хватит с нас, – сказала Аурелия откровенно устало. – Пошли.
Серж подставил спину, и женщины успешно выбрались из склепа. Перед тем как влезть наверх, Серж крикнул:
– Идем! Это глупо, наконец.
– Сейчас.
– Мы идем к машине, – услышал я голос Блонды. – Не задерживайся!
Нелепое и неблагодарное занятие – идти на поводу своего каприза. Держа фонарь в левой руке, я попытался правой приподнять крышку гроба. Нет, слишком тяжело. Положил фонарь на землю – световой кружок застрял в известняке свода. Я наклонился, сколько возможно засунул пальцы под крышку и напряг мышцы. Крышка поддалась, и в нос ударил неприятный, нарастающий, сложный запах. Мне показалось, что крышка скользит, я постарался ее удержать, и в результате она остановилась, сойдя несколько наискось и обнажив примерно треть гроба. Какой демон овладел мной? Я взял фонарь и направил свет…
В гробу Бланш де Кастиль стояла черноватая, густая, неописуемо отвратительная жидкость, из которой выступала костистая геометрия черепа и сплетенные фаланги обеих рук. Я вперил, вонзил, погрузил глаза в пустые окулярные впадины в поисках Бог знает какого взгляда. Приступ тошноты взбунтовал желудок. Сначала я верил, что меня начнет рвать, потом мятеж словно застыл во внутренностях холодным колким комом ужаса. Дикая, чудовищная вонь этой человеческой жидкости, которую нельзя было даже назвать разложением плоти, ворвалась в нос, рот, легкие. Я зашатался, в сердце своем вымаливая прощение, заклинал отвести проклятие, несомненный знак коего разрывал мое горло. Ноги приросли к полу, зубы стучали…
Я с великим трудом стряхнул оцепенение и осторожно, пробуя каждый шаг, направился к световому прямоугольнику, где свешивалась голова моего беззаботного друга – он был явно рад избавиться от могильного сумрака.
Я еле взобрался, вернее, мои спутники помогли мне выбраться на пол часовни, где я лежал добрую минуту, не способный ни соображать, ни действовать. Наконец поднялся, раздвигая рот в жалкую улыбку. Мои друзья смотрели на меня с веселым интересом. Я, должно быть, напоминал преступника, весьма довольного понесенным наказанием, или кающегося грешника, всему на свете предпочитающего грязную соломенную подстилку.
Надо было трогаться в путь. Сколько возможно, я попытался очистить свой костюм. И вдруг, оттирая ладонью брюки, я почувствовал: мое кольцо медленно соскальзывает и покидает палец… Поздно! Я не успел его поймать.
– Кольцо!
Все кинулись мне помогать. Но, вероятно, второпях я толкнул кольцо ногой, и оно укатилось. Предстояло кропотливо обшарить весь пол проклятой часовни.
– Мертвые мстят, – многозначительно усмехнулся Серж.
– Не расстраивай его, – заступилась Блонда. – Помоги лучше.
Мы ползали на четвереньках более часа. Бесполезно. Но никто из нас не выразил общую мысль: «В склепе, надо полагать».
Я сказал себе откровенно: кольцо укатилось, упало в раскрытый гроб Бланш де Кастиль и нарушило многолетний покой неподвижной черной клоаки. Неодолимый страх стиснул сердце. Ресницы забились в предчувствии слез, в солнечном сплетении застыла ледяная судорога.
Это был очень ценный перстень, украшенный звездчатым сапфиром редкой красоты. Он достался мне от покойного дяди, который свято верил в его магическую силу. Я и всегда-то боялся его потерять, но оставить его здесь, в таком месте! Боже мой, Боже мой…
Однако надо ехать. Подавленные тщетным поиском, мы спускались к машине. Я боялся выдать свое беспредельное отчаяние. О, если б повернуть время вспять, перечеркнуть глупость, начертанную в вечности, погасить огонь безрассудного жеста…
Солнце стояло еще высоко в безразличной синеве. Цикады затихали. Я посмотрел на свои пальцы: белая полоска эффектно контрастировала с бронзовым летним загаром…
К вечеру мы доехали до А. На маленькой уютной квадратной площади разрослись платаны – в окна врывалась шелестящая темно-зеленая волна. Листву населяли сотни птиц – мостовые, скамейки, автомобильные стоянки были сплошь усеяны белым пометом. В мою комнату доносились рулады, щебет, беспрестанная воркотня, шум крыльев, тонкие пронзительные жалобы, не смягченные даже вечерним сумраком.
В большой и старомодной комнате бросался в глаза умывальник из белого фаянса, размалеванный крупными синими цветами. Из маленького медного крана, изогнутого наподобие лебединой шеи, постоянно сочилась вода. Кран, видимо, уже лет пятьдесят блистал в комнате. Санитарные удобства соответствовали приблизительно тем понятиям о комфорте, которые имелись у путешествовавших в дилижансе в начале столетия.
В ту эпоху, очевидно, мало заботились о проблемах деликатных: две двуспальные кровати победоносно красовались друг против друга. Аурелия недоверчиво их обследовала, нашла сравнительно чистыми, выбрала одну:
– Ложись рядом со мной. Я боюсь спать в одиночестве.
Мысль об одиноком ночлеге меня тоже беспокоила, и я охотно принял ее приглашение. Полоскание под неудобным душем за сиреневой кретоновой занавеской не доставило нам особой радости. Мы быстро улеглись спать.
Ночь в незнакомом месте всегда полна маленькими тревогами. Шорохи и потрескивания где-то в доме, запах постельного белья и вощеного пола, скрип матраца, шепот платанов за окном, дыхание чуждого пространства – все это отвлекает и будоражит, несмотря на усталость.
Осторожный стук в дверь пробудил меня от тяжелого сна. Господи, который час?! Я сел на кровати, зажег ночник, чтобы не беспокоить Аурелию верхним светом, и на цыпочках подкрался к двери. Не решаясь сразу открыть, приложил ухо. Мне показалось, что на сей раз панель поскребли ногтем. Кто бы это мог быть? Вероятно, Серж или Блонда? Я бесшумно открыл дверь и… отступил на два шага.
Передо мной стояла высокая молодая женщина. Глядя на нее, я сразу вспомнил портрет моей матери в молодости. Может быть, мне показалась знакомой улыбка в уголке губ? Нет. Ее силуэт и покрой костюма ассоциировались с той дивной эпохой, которую кинематограф возродил из семейных альбомов. Она не произнесла ни слова, и ее руки недвижно покоились в маленькой муфте. Очень медленно возникла мысль о необычности ее присутствия, очень медленно зашевелился холодок тревожной отчужденности. Но в нескольких шагах спокойно дышала Аурелия, а на площади кто-то смеялся и разговаривал. Я поклонился и ждал, когда неизвестная что-нибудь скажет. Но она снова улыбнулась и поднесла палец к губам.
Белокурая. Волосы еще светлее, чем у Блонды. Изысканная и сложная прическа придавала ее лицу какое-то надменное очарование. В темном, очень длинном платье, узко стянутом в талии… влекущая и грациозная. Я, должно быть, отступил на несколько шагов, пока ее разглядывал, так как вдруг убедился, что мы стоим не у порога, а уже внутри комнаты. Она тихо прикрыла дверь, и комната погрузилась в полумрак. Едва освещенная Аурелия мирно спала. Я секунду смотрел на нее, потом повернулся к странной посетительнице:
– Кто вы?
Я задал этот банальный вопрос и проговорил еще несколько пустых фраз, не желая вносить какой-либо диссонанс в атмосферу холодной очарованности мгновения. Неизвестная продолжала молчать. Молчание вообще окружило ее присутствие: разговор на площади затих, трепетание листвы остановилось, Аурелия, казалось, перестала дышать.
Мы пересекли комнату в направлении незанятой кровати. Аурелия в смутном свете ночника скрылась далеко, недостижимо далеко. Я почему-то решил пожать плечами, заговорить громко, сказать что-либо вроде «прекратите эту комедию», но голос не повиновался. Вместо этого я услышал собственный шепот о страсти, любви, восторге… Она тронула мои волосы… я погладил ее шею, мои пальцы искали аграфы ее платья… Платье растаяло шумящей пеной шелка…
* * *
Утром меня разбудили птицы. Одного. Стойкий запах гнили и затхлости исходил от постельного белья. Очень знакомый запах. Я сидел на кровати. Аурелия сидела на своей, смотрела на меня и смеялась:
– Если бы ты мог сейчас на себя полюбоваться! Ты случайно не провел ночь с Бланш де Кастиль?
И тогда я посмотрел на руку.
Кольцо было на месте.
Мотель
Нет, поверьте, я это точно знаю. Я знаю очень мало, но это знаю точно. Не можем ли мы на секундочку оставить логику в покое?
Б. Д. Фридман
Ветер не прекращался ни на секунду, истощая, угнетая нервы. Огромные воздушные волны обрушились на Великую Равнину. Они вырывали блуждающие борозды, словно бичом рассекали злаковые поля, и казалось, смятые, прибитые, раздавленные колосья уже никогда не воспрянут. В пустошах и на раскаленных дорогах, прямые линии которых исчезали за горизонтом, вставали неожиданные, как взрывы, пыльные смерчи и через несколько секунд расползались в бесконечных зеленых далях облаками цвета охры, рассеянные бешеным шквальным ветром.
Я буквально подыхал от жары. Мотор перегрелся донельзя. Уже четыре или пять раз, когда представлялся случай, я останавливался у какой-нибудь фермы, чтобы освежить радиатор. Фермы попадались довольно регулярно, почти совсем одинаковые, окруженные чахлыми, измученными ветром деревьями без листьев, – их сажали здесь без конца, и, вероятно, еще во времена пионеров они выглядели столь же привлекательно.
Наконец машина въехала по узкой каменистой дороге в поселение, и.я принялся гудеть у каждого дома; если кто-то выходил навстречу, я вылезал, поднимал пылающий капот, совал зеленый или красный шланг – от водяной струи вздымались шипящие клубы пара. Заодно я и себя не забывал и, окончив сладостную водную процедуру, распаренный не хуже мотора, благодарил хозяина и продолжал путь. Впереди показались рекламные вывески, изрядно потрепанные дождем и ветром. Это был мотель, не очень-то авантажный, судя по мусорным ящикам, переполненным в такой поздний час. Здесь имелись бензоколонка и гараж, где нашелся механик, готовый заняться моей машиной. Местечко называлось Шарон – захолустье на дороге между Вудвордом и Элксити.
Десяток маленьких коттеджей, чуть более презентабельный кафетерий и лавка, где продавались бидоны с машинным маслом, уздечки и резиновые сапоги. Я попросил комнату на ночь, зашел в кафетерий и занял столику окна. Угнетенный кошмарной дорогой, слушал вой неукротимой прерии, следил глазами за старым журналом, который ветер волочил по дороге, словно большую птицу с перебитым крылом. Затем, без всякого аппетита проглотив яичницу с ветчиной и сиреневое, слишком сладкое пирожное, я повернул стул к телевизору. И тогда, случайно взглянув в окно, заметил въезжающий на стоянку розовый пикап. Из него вышли двое мужчин и женщина. Они осмотрелись вокруг с очень пренебрежительным видом. Они почему-то сразу мне не понравились, все трое. Один из мужчин чин выглядел вожаком – высокий, сильный и румяный, при этом белобрысый, с голубоватыми, почти бесцветными глазами. Другой казался по сравнению с ним довольно маленьким. Он производил впечатление человека скрытного и беспокойного – его черные подвижные глазки так и прыгали с предмета на предмет. Он беспрерывно вытирал шею и лоб и явно предпочел бы находиться в другом месте. Женщина, очевидно, что-то забрала из кабины – я услышал, как щелкнула дверца. Она прошла в зал, когда ее спутники уже устроились за столом. Высокая, более или менее привлекательная, она кивнула всем и никому. Ее прищур мне показался лукавым и бесшабашным.
Я отвернулся к телевизору, где крутили фильм с претензией на фантастику. В заброшенном доме некто – судя по всему, оборотень (какие клыки, Боже всемогущий!) – кромсал случайных постояльцев. Фильм, похоже, не имел ни начала, ни конца, рекламные вставки (средства от головной боли, от запоров, от депрессии, от всего…) не прибавляли шарма этой мрачной ленте.
Новоприбывшие между тем закончили свой ужин. Они удалились все вместе и вошли в коттедж, соседний с моим. Окно осветилось, штора опустилась. Черноглазый выскочил забрать чемодан из пикапа и проверить, надежно ли заперты дверцы. Я добрался до своей комнаты и мимоходом услышал женский смех, завлекающий и дразнящий. Долго держал лицо под краном. Губы пересохли, веки горели.
Сколько времени я спал? Пожалуй, не очень долго, поскольку в ушах еще звенела полуоторванная доска, которую ветер столь старательно бил о стену, что я перевернулся раз десять, прежде чем заснуть. В дверь осторожно стучали, и, должно быть, уже давно. Я спросил «кто там?» голосом очень сдержанным, словно инстинктивно разделял неведомый секрет. Женский голос за дверью произнес какие-то непонятные слова. Еще вяло соображая, споткнувшись в темноте о свои туфли, я кое-как натянул брюки, которые повесил рядом на стул, где лежали портфель и ключи – поблизости, на случай пожара. Тихонько открыл дверь.
– Добрый вечер, – сказала женщина, неотчетливо проступившая в сумраке. – Извините меня.
Я догадался наконец зажечь свет и увидел маленькое усталое личико с выражением симпатичной патетики.
– Меня зовут Молли… Молли Янг. Я путешествую с друзьями. Мы разминулись у Лонг-Лейка… Могу я войти?
– Не люблю таких вещей, – поморщился я. – Знаете, женщины приносят много хлопот и неприятностей, в чем я много раз убеждался.
– Не будьте злюкой. Это важное дело.
Я уловил неподдельную серьезность и тем не менее колебался:
– А вы не начнете вопить через пять минут и потом обвинять меня в попытке изнасилования?
– Моя добродетель меня сейчас мало волнует.
Она очень мягко отстранила меня и вошла. Улыбнулась. Маленькая симпатичная мордашка с голубыми, очень светлыми глазами.
– Мне вправду совестно вас беспокоить так поздно. Умираю от усталости. Долго шла пешком.
Я указал на кресло, и она буквально свалилась в него. Но пружины даже не скрипнули, такая, верно, она была легкая. Я сел на край кровати. Рисунок ее пестрых туфель не сразу различался – столь грязны они были. Она молча пила предложенную мной холодную воду. Потом откинулась на спинку кресла, сняла с головы платок в желтую и черную полоску, стягивавший белокурые волосы, и они, освобожденные, мятежно всколыхнулись. Резко пригладила их руками. Посмотрела на расцарапанную коленку, послюнявила палец, потерла. В конце концов взглянула на меня и спросила равнодушно, словно заранее знала ответ:
– Мои друзья… вы их видели, не так ли?
– Возможно. Кто они?
– Бесцветная, почти белая блондинка и с ней двое мужчин. Один румяный, высокий, другой маленький, чернявый.
– Да, видел. Они здесь. В соседнем коттедже.
– В соседнем коттедже? Втроем? – поразилась она.
– По-моему, да.
– Скотина!
Она побледнела, погрызла в раздумьях ноготь, потом вкрадчиво спросила:
– Можно здесь поспать?
Мое лицо вытянулось. Я встревожился. Но раз уж я ее впустил, трудно теперь выгнать.
– Не волнуйтесь. Я уйду на рассвете, тихо, спокойно.
Моя дикая усталось помогла ей выиграть партию.
– Ладно, – кивнул я без энтузиазма. – Примите душ, если хотите. Это вас взбодрит.
Но она уже раздевалась, бросая поочередно в кресло брюки-бермуды в цветочек, блузку, трусики и лифчик. Смеясь, продефилировала передо мной, повязав на бедрах шелковый платок в желтую и черную полоску, потом бросила его на стол и опрокинула стакан.
Я растянулся на постели, закинув руки за голову. Она влезла под душ и принялась болтать. Женщины, если им представится случай, всегда охотно рассказывают о своей жизни.
– Мой муж тот румяный верзила. Его зовут Джонни. У нас нелады. Я хочу его бросить.
Стоя на одной ноге, она старательна мылила другую.
– Он чокнулся на игре. Вы понимаете меня?
Да, я понимал.
– …другие – это Бамбергеры, Дин и Мэри. Не знаю точно, на что они живут. Он вроде какой-то комиссионер. Терпеть их не могу. Они меня тоже. Увиваются вокруг моего муженька.
Я совсем засыпал. Ее история меня не интересовала.
– Эта троица хочет меня бросить, избавиться от меня.
– И это не так просто, не так ли?
Произнес ли я эту фразу или только подумал, не помню. Ясно только, что, когда она легла в постель, я уже спал.
Утром я проснулся один. Возможно, моя гостья пошла подышать воздухом. Нет, из окна по крайней мере не видно.
Соседняя кровать еще хранила форму ее тела. Накануне я не слишком желал контактировать с незнакомкой. Усталость доконала меня. Но сегодня уже чувствовал надлежащую свежесть и смелость для дорожной интрижки. Увы, упущенную возможность не вернешь, и Молли должно расценивать как таковую.
Я привел себя в порядок, немного огорченный, честно говоря. Молли, надо полагать, присоединилась к супругу: ссоры такого рода кончаются, как правило, бурным примирением.
Я вышел, внимательно огляделся и направился в кафетерий. Двое мужчин и женщина с обесцвеченными волосами кончали завтракать. Металлический кувшин с холодной водой был совершенно пуст.
Молли рядом с ними не было. Слегка озабоченный, я приблизился к их столику:
– Добрый день. Вы не видели Молли?
Вопрос им не очень понравился. Они молча переглянулись, потом высокий блондин произнес:
– Молли? Не знаю такую…
– Что за чепуха! Симпатичная девушка небольшого роста. На ней еще бермуды в цветочек… Молли… Молли Янг…
На этот раз замешательство стало очевидным. Судя по их нахмуренным лицам, они совсем не были расположены продолжать разговор.
И вдруг, словно по сценарию детективного фильма, в кафетерии появились двое полицейских. Готов поклясться, мы все вздрогнули – компания за столом и даже я. Без всякой видимой причины, поскольку полицейские пришли просто так – выпить по чашке черного кофе, скорей всего. Это были крепкие, солидные, медлительные парни из дорожной полиции. Они долго и аккуратно расстегивали каски, снимали и вешали на стул кожаные куртки и наконец предстали перед нами во всем своем мужском очаровании: в запахе пота и бензина, в рубашках цвета хаки с коротким рукавом, на одной из четырех мощных волосатых рук синела татуировка – голова индейца.
Я их рассматривал, завороженный. Какое зрелище – моторизованный полицейский вне шоссе и мотоцикла. Трогательно и человечно. Лишенное кожаного панциря… другое существо – более доступное, более ранимое, быть может, напоминающее – в сравнительной пропорции – обнаженную креветку.
Словом, я подошел к ним. Узнав, что я иностранец, они преисполнились любезности и внимания. Поговорили о погоде, об алюминиевом привкусе кофе, о кампании в Арденнах, где погиб старший брат одного из них. После этого я предложил им на минутку выйти из кафетерия – имею, мол, сообщить нечто важное. Я рассказал о внезапном ночном визите Молли, о ее не менее внезапном исчезновении, о ее отношениях с троицей в кафетерии, о странном замешательстве этих людей.
Полицейские слушали внимательно. Один из них направился переставлять свой мотоцикл, дабы воспрепятствовать отъезду розового пикапа. После этого не торопясь пошел в кафетерий.
– Идет звонить, – заметил другой. Поскольку нам было нечего больше сообщить друг другу, он принялся чесать подбородок. Я между тем с почтением воззрился на золотой перстень с печатью какого-то тайного общества, который красовался на его мизинце.
За окном в зале кафетерия мелькнула голова скрытного брюнета Бамбергера. Он, верно, старался узнать, что происходит.
Второй полицейский кончил телефонный разговор и кивнул мне, насвистывая сквозь зубы.
– Как ее звали, говорите вы?
– Молли Янг.
– Блондинка?
– Блондинка. Стройная, небольшого роста. Глаза голубые, очень светлые.
– Каких-либо украшений не помните?
– Нет, кажется, нет. Хотя подождите: золотая цепочка у щиколотки.
– Она и есть, – обрадовался полицейский. —Только знаете что: вы никак не могли ее видеть ночью.
– А почему, собственно говоря?
– По той веской причине, что двенадцать часов назад ее труп плавал в канаве возле Доусона.
– Что ты там рассказываешь? – вмешался второй.
– Девушка мертва, говорю, и, если бы случайно там из-за аварии не задержалась машина, никто бы еще ничего не знал.
Словно тяжелая, ледяная глыба придавила мне плечи. Я задрожал, несмотря на буйный, горячий ветер, рассекающий прерию и грохочущий неплотно прибитым кровельным железом. Я впустил в свою комнату мертвеца… слушал женские пустячки, украдкой разглядывая девушку под душем, сожалел об ее исчезновении на рассвете, об упущенной возможности… Странное и болезненное ощущение ужалило сердце, в мозгах заклубился макабрический и абсурдный мираж. И через этот мираж доносился голос полицейского, который скорее рассуждал с собой, нежели со мной:
– Я так полагаю, что нельзя было видеть эту Молли, если она лежала мертвая в канаве на расстоянии ста миль отсюда.
– Понимаю ваше недоумение, сержант, но объясните, каким образом, если я с ней не разговаривал, я знаю все эти вещи?
– А что вы конкретно знаете?
– Спросите документы у этих людей. Молли назвала мне их имена. Тот румяный, высокий, около стойки – ее муж Джонни Янг. Двое других – Дин и Мэри Бамбергер. Они все что-то замышляли против нее, и она имели веские основания их опасаться.
– Минуту.
Полицейские пошептались, потом вразвалку, словно моряки на суше, двинулись в кафетерий. Они, должно быть, изжарились в своих черных кожаных галифе. Это были здоровенные, даже слишком упитанные молодцы – их животы приятно круглились над ремнями, где висели кольты. Я увидел в окно, как подозреваемые достали свои бумаги. Полицейский жестом подозвал меня.
– Вы правы. Это действительно Джонни Янг, Дин и Мэри Бамбергер. Но это ничего не проясняет. Они уверяют, что ваша история – чепуха или вымысел. Они уже давно путешествуют втроем, а Молли Янг находится у своей матери в Денвере. Ее не могло быть вчера вечером ни здесь, ни в Доусоне.
– Они также говорят, – прибавил другой, – что вы их преследуете. Они хотят знать ваше имя, чтобы подать на вас жалобу.
Джонни Янг разглядывал меня с ненавистью и удивлением. Его блекло-голубые глаза почему-то ассоциировались у меня с глазами садистов или командиров субмарин. Бамбергер сидел бледный, потный и разъяренный. Он, конечно, хотел мне сказать пару теплых слов, но его удерживала жена. Из них троих она лучше всех владела собой. Весьма эффектная в своем роде – в полинялых джинсах, в широкой блузке «оклахома», где едва угадывался рельеф маленькой груди, – она смотрела на меня иронически и вызывающе, словно вся сцена ее только забавляла.
Когда меня сажают в калошу, я начинаю брыкаться. Это моя слабость.
– Позвоните в Денвер, – обратился я полицейскому. – Хотя бы для очистки совести.
Полицейский принялся соображать. По мере концентрации мысли его голова уменьшалась в объеме – так по крайней мере мне казалось, – и трудность этого процесса привела его в дурное расположение духа.
– Но вы иностранец, – взорвался он наконец, – зачем вам вмешиваться! Вы утомляете меня, черт возьми!
– Не горячитесь, сержант… Я рассказал вам историю, которая, безусловно, должна была вас заинтересовать. Вы даже решили побеспокоить начальство. Вы узнали, что мертвую, без сомнения убитую женщину нашли двенадцать часов назад близ Денвера. Это ведь ваша служба, в конце концов. От меня вы узнали, что я беседовал с ней этой ночью и сейчас меня волнует ее исчезновение. Так вот: или она мертва, а у меня была галлюцинация, или она в Денвере, и ваши друзья в полиции задумали вас разыграть, или она здесь, и мы все идиоты.
Он почесал затылок, посмотрел на меня, посмотрел на Янга и Бамбергеров. Его сослуживец достал сигарету и принялся курить с безразличным видом.
– Все это чушь и бессмыслица, – вмешался Янг. – Не торчать же здесь до Рождества. Мы уезжаем. У нас впереди еще долгий путь.
– Секунду! – встрепенулся я и схватил ручищу полицейского, который курил. – Мы сейчас вернемся.
Я вышел из кафетерия и направился к коттеджу. Ветер усиливался и принес тучи едкой желтой пыли. Флегматичный здоровяк покорно плелся за мной – видимо, моя уверенность застала его врасплох.
В комнате уже были сняты простыни с кроватей и неряшливая девица швыряла в угол грязные салфетки. Мои вещи она собрала в одну кучу. На стуле висел шелковый платок в желтую и черную полоску. Платок Молли.
Я с трудом перевел дыхание. Когда все время приходится убеждать, начинаешь сомневаться в очевидной истине.
– Возьмите! – сказал я полицейскому, который, понятно, совсем не разделял моего экстаза.
С нежностью, удивившей меня самого, я вдохнул легкий аромат и сунул платок ему в руки.
– В этом платке Молли Янг пришла вчера вечером.
Мой дородный спутник машинально взял кусок шелка, понюхал и накрутил на палец. Я уже испугался, не исчезнет ли платок в его манипуляциях, как у ловкого фокусника. Он вопросительно поднял на меня глаза.
– Представьте эту вещь им, – сказал я категорически, – а потом арестуйте. Вы получите повышение.
– О'кей!
Он понял, что от него ждут, но, естественно, больше ничего. Неуклюже зашагал в кафетерий. Я ждал событий на пороге комнаты. Служанка между тем спустила воду в унитазе и принялась чистить краны. Когда раздался выстрел, она бросилась ко мне и мертвой хваткой вцепилась в рукав. Стекло в окне кафетерия звонко зазвездилось. Дискуссия, нелепая на первый взгляд, кончилась драмой. От служанки несло мылом. Капелька пота на ее верхней губе вспыхнула от солнечного луча.
Все произошло очень быстро, и я так и не понял, кто стрелял. Хозяин мотеля выскочил, толкая перед собой жену и сына. Они спешили укрыться в сарае возле кухни. Потом я увидел Янга с поднятыми руками. Полицейский с татуировкой вел его, угнездив дуло кольта в спину. Другой тащил Дина Бамбергера, и через минуту оба друга были уже соединены наручниками.
Блондинка сохраняла обычный непринужденный вид. Казалось, все происходящее не имеет к ней ни малейшего отношения. Она даже приятельски мне подмигнула. И я – почему бы и нет? – сделал то же самое.
И вдруг безымянная глухая тоска отстранила меня от этой сцены. Я потерял всякий интерес к Янгу, Бамбергерам, полицейской суматохе. Словно смерть Молли означала много больше, чем я предполагал, словно ее смерть вообще отняла у меня возможность любить. Жизненная сценка, в которую меня случайно бросила судьба, превратилась в драму моего бытия. За пределами конкретного зрения… там… возникло утомленное лицо Молли, патетически вскинутые брови, забавно сморщенный носик и поза, исполненная птичьей грации, когда она, стоя на одной ноге, намыливала другую… У меня, как принято говорить, застрял ком в горле и подступили рыданья. Ни с того ни с сего я направился к Джонни Янгу. Зачем? Я даже плохо различал его сквозь туман, застилающий глаза. Увидев меня, он весь напрягся от ненависти и злобы. Мое настойчивое желание было абсурдно в высшей степени, но я хотел высказаться, прежде чем его уведут. И попросил тихо, смиренно, почти с мольбой:
– Не найдется ли у вас случайно фотографии Молли?
Все растерянно замолчали. Джонни в сердцах плюнул, полицейские фыркнули:
– Фотографии? А почему не пряди волос?
Да и кто мог понять? Я думал, что скоро в газетах появится масса фотографий. Даже моя, быть может. Я думал обо всех фотографиях Молли, желтеющих в ящике какого-нибудь стола… Я думал о массе вещей, связанных с фотографиями Молли… Черт его знает, о чем я думал…
Отец и дочь
Имеются вещи, о которых я не люблю слушать. Они касаются только меня.
Луи Дюбро
– Сука! – проворчал Федор Шервиц после долгого и тяжелого размышления.
Злобное негодование душило его. Дочь! Сомневаться более нечего. Он узнал, что его дочь…
Подробности, впрочем, не имели значения. Грустные, колючие подробности. Ах, какая гнусность, какая грязь! Родная дочь… менее двух лет замужем… за хорошим человеком… Ладно, она свое получит. Старик отец об этом позаботится.
Федор Шервиц стиснул зубы. Ужасающая ярость клокотала в нем. Кулаки судорожно сжимались и разжимались.
Он поедет вечером. Будет в пути всю ночь. Нагрянет утром – самое время стащить ее за волосы с кровати и…
* * *
Серое, пыльное, угрюмое купе. Кое-где на пружинных подушках разошлись швы, и разлохмаченная материя напоминала пучки высохшей травы.
В поезде топили невыносимо. Пахло ржавчиной и паром. В мирном гудении труб слышалось иногда нечто вроде хлюпанья, бурчанья, нервных толчков.
Чтобы взглянуть на свет Божий, Федору Шервицу приходилось соскребывать ногтем указательного пальца изморозь на стекле. Тогда на желто-белой шероховатости проступало черное пятно и можно было различить бегущую равнину, ослепительную и снежную; в светлой холодной ночи гулял ветер: свист не доносился, но виднелась взвихренная, закрученная, блестящая пыль. Иногда мелькала купа деревьев, иногда большая черная лужа, схваченная льдом только по краям, но зияющая в середине, словно медленно заживающая рана матери-земли. Иногда пролетала крытая соломой изба, где ветхий забор прикрывал убогий фруктовый сад, а рядом с ним торчал одинокий стог, белый, как полотняный тент.
Федор Шервиц откинул голову: теперь на оконном стекле чернели две дыры покрупнее: одна от прислоненного лба, другая от дыхания. Он долго тер надбровные дуги, онемевшие от холода.
В купе больше никого не было, и это ему нравилось – ведь можно положить ноги на противоположное кресло. Курил беспрерывно. На черном полу валялись окурки и обгорелые спички. О цели поездки думать не хотелось. Он с удовольствием разглядывал новые сапоги, которые чуточку жали большие пальцы, и время от времени осторожно смахивал с них шерстяной перчаткой пыль. Потом посмотрел на руки – грязные, потные, с черными ногтями – и представил, какова будет мыльная пена, стекающая с таких рук. Паровоз засвистел, поезд, не сбавляя скорости, пересек небольшую станцию. На морозном стекле заблестели красные и синие сигнальные огни. Потом снова ночь, равнина, ожидание, зима.
В соседнем купе долго кричал и плакал ребенок, прежде чем заснуть. Кто-то захрапел. Вряд ли ребенок. Вероятно, отец.
Федор Шервиц размечтался: совсем крошка, сосунок… Он бы мог его сейчас баюкать, если бы его дочь… если бы эта б…
Стало еще жарче. Он нагнулся и потрогал калорифер под сиденьем. Горячо, прямо-таки жжет. На пальце осталась черная жирная грязь. Надо вытереть о подушку. Усталость давала себя знать. Долго тер глаза, потом откинулся к засаленной спинке сиденья. Вагон мерно покачивался, поощряя безмятежную дремоту. Федор Шервиц на всякий случай вынул часы и склонился над ними. Видел он плоховато. Одиннадцать. Только через три часа приедет он в Тверское, где надо будет на рассвете пересесть в местный пригородный поезд. Опять эти нервные толчки в калорифере… эта жара…
Спал ли он? Снилось ли ему что-нибудь? Довольно давно чудилось, что в купе кто-то есть. Чувствовалось постороннее присутствие, но не хотелось открывать глаза. Вероятно, пассажир сменил место, устроился напротив и сидит тихо, чтобы его не тревожить. Или, скорее всего, контролер терпеливо ждет его пробуждения и сейчас потребует билет.
Трудно сказать. Странное дело, он ничего не желал знать и продолжал притворяться в надежде заснуть по-настоящему. Но что-то мешало. Прерывистое, быстрое дыхание, потом зевок – протяжный и жалобный. Словно хотели скромно привлечь его внимание. Мало-помалу любопытство пробудилось. Вскорости он был заинтригован. Младенец в соседнем купе снова начал постанывать. Даже через монотонный стук колес слышалось его сопение.
Федор Шервиц ждал. Вселенское молчание пронзал иногда свист паровозного гудка в морозной ночи.
И вдруг его слух напрягся. Напротив него кто-то почесывался. Сначала равномерно, затем исступленно, яростно и отвратительно. Это уж слишком. Он открыл глаза.
Он не увидел ничего в желтоватом свете, насыщенном табачным дымом. Кто-то ворочался на противоположном сидении, оголтело и бесстыдно чесался. Животное. Собака. Она вдруг успокоилась и повернула к нему голову. Средних размеров, темношерстная, с рыжим пятном вокруг глаз. Из открытой пасти свешивался влажный язык, дрожащий при каждом выдохе. На кончике языка висела слюна, которая не успевала упасть, так как время от времени язык исчезал в пасти и потом появлялся тонкий и трепещущий, как полоска гибкой розовой гуттаперчи.
Свернутая клубком собака вдруг резко оперлась на передние лапы, и Федор Шервиц отшатнулся. В затылок больно врезался шов пружинной подушки. Он машинально вытянул руку, сожалея, что нет никакой палки, никакого оружия.
Собака смотрела прямо ему в глаза, без всякой вражды, взглядом покорным и глупым, почти человеческим.
Он заметил, что это была сука. Живот впалый, мягкий и дряблый. Из шероховатой черной кожи торчали сосцы – крупные, противные, нечистые… Сука… Его неожиданно удивило непристойное значение слова, нарочитая гнусность, скрытая в этом оскорблении, адресованном женщине.
Он подумал о дочери, которая… Нет! Это вздымало кровь, это сверлило совесть. Столь часто называть ее в мыслях «сукой», ведь он знал…
Собака перестала обращать на него внимание. Перегнувшись, она резко ткнулась в паховую складку и беззлобно заворчала. Шерсть была жесткая, грязная, вонючая, без сомнения. Но никакой звериный запах не пробивался сквозь табачный дым, пар и удушливую жару. Вдруг собака спрыгнула со скамьи и принялась невинно тереться об его ноги. Федор Шервиц не любил животных и вообще не понимал, что такое ласка. Он брезгливо отодвинулся и сунул руки в карман. Собака наступила на сапоги и положила голову ему на колени – доверчивая и преданная.
– Лежать! – буркнул Федор Шервиц и резко вытянул ноги.
Собака задумала усесться на его сапог. Безуспешно. Снова повторила маневр. Федор Шервиц кивнул на дверь и крикнул:
– Вон!
Собака посмотрела на дверь, потом на рассерженного человека, сладко зевнула, прикрыв глаза. В разинутой розовой пасти обнажились белые крепкие клыки.
Шервиц встал, запустил пальцы в ее загривок (ошейника не было) и потащил вон из купе. Пальцы зажали жесткую шерсть, которая казалась инородной оболочкой мускулистой, необычайно подвижной плоти. Собака уперлась всеми лапами. Он дотянул ее до коридора и вытолкнул. Но прежде, чем успел захлопнуть дверь, собака юркнула между ногами и прыгнула на сиденье. Игра ее очень забавляла – хвост ходил ходуном.
Шервиц потерял терпение, схватил ее за ухо и сбросил на пол. Она зарычала, слегка куснула его за икру и выжидательно посмотрела. Он понял, что этот первый агрессивный жест был только предупреждением.
Минутная передышка для оценки ситуации. Злоба Шервица росла, но росла также уверенность собаки. «Надо справиться с ней одним ударом, – соображал он. – Раз ей удалось меня укусить, она решила, что я ее боюсь. Сейчас, черт бы ее подрал, она уверена в успехе. Вперед, если еще не поздно».
Он взмахнул ногой, мысок сапога угодил между передними лапами прямо в грудную кость, собака подпрыгнула и дико завизжала. «Слишком сильно, – поморщился Щервиц. – Сейчас она озвереет окончательно…» Дальнейшего развития эта мысль не получила. Собака пружинисто взлетела, выгнув голову, чтобы разом вцепиться в горло. Шервиц неуклюже защищался, ошарашенный неистовым безумием атаки.
Он зашатался, выставив локоть, стараясь уклониться от клыков, от тяжести нервного гибкого тела. По счастливой случайности удалось зажать ее шею правой рукой. По крайней мере ему не грозил немедленный укус. Силясь освободиться, собака отчаянно забила задними лапами. Шервицу, чтобы не выпустить ее, пришлось ткнуться коленями в пол – в ошметки грязи и сигаретные окурки.
Началась безобразная и молчаливая схватка. Собака стремилась вырвать голову, притиснутую к бедру человека, в горле у нее хрипело и свистело, круп непрерывно вибрировал.
Ей почти удалось выскользнуть, однако Шервиц вонзил ногти левой руки в дряблую черную морщинистую кожу, где торчали отвратительные сосцы. Собака взвыла на тягостной высокой ноте.
Он боялся ослабить захват, но в принципе это не давало ему решительного преимущества. Собака сохраняла силу и гибкость. Неизвестно, сколько мог продолжаться этот кошмар, ведь задушить ее в такой позиции было совсем не просто.
Внезапно он потерял равновесие и ударился затылком об оконную раму. Позади что-то сухо щелкнуло, и порыв холодного воздуха резанул шею. Задвижка, что удерживала выдвижное стекло, отошла – окно опустилось мгновенно, как нож гильотины.
Ветер прибавил ему бодрости и энергии. Больше ничто не отделяло его от ночи. Поезд шел мимо каменистой насыпи. Желтые дрожащие пятна света вырывали из тьмы голые, искривленные кусты.
Холод был нешуточный. Снежная пыль ослепляла, забивалась в уши и под воротник. Он втянул голову в плечи, чтобы хоть как-нибудь защититься. Но все это рассеивало внимание – правая рука чуть-чуть ослабла. Вполне достаточно для бешеных усилий собаки.
Федор Шервиц закричал. Укус пришелся немного повыше пояса, в бок. Челюсти не разжимались, совсем наоборот – клыки плотно вошли в мякоть. Человек взвыл неистовей, страшней собаки. Он шатался, оголтело махал кулаками, колотил куда придется, наконец изловчился еще раз вцепиться в горячий, потный, дряблый живот… Челюсти не разжимались. Боль была адская, а тут еще ледяной ветер словно железом сдавил виски. Он чувствовал, что скоро не выдержит и тогда… Он закрыл глаза, и в красной тьме заплясали под стук колес эти слова: «не-вы-дер-жу… не-вы-держу…»
Тут его пальцы нащупали и крепко сжали заднюю лапу. Потом удалось схватить вторую. Отчаянным усилием он оторвал собаку и удерживал секунду на вытянутых руках, словно свежевыкрашенные санки. Как ему посчастливилось втиснуть в открытое окно извивающееся тело – непонятно. Он зажмурил глаза: колючие снежинки впивались в лицо. Шервиц намертво вцепился в задние лапы и потащил было собаку обратно. Только услышав царапанье когтей по металлу, опомнился и разжал пальцы.
Никакого стука не донеслось. Он высунулся, но ничего не смог рассмотреть. Снежный ветер рассекал мокрые спутанные волосы, гудел в ушах. Над волнистой белизной равнины нависло небо цвета синих чернил.
Поезд замедлял ход, миновал товарный состав на запасном пути, благополучно прошел переводную стрелку. Приближался сигнальный фонарь перрона. Тверское. В черном здании вокзала были освещены только два окна. Паровоз затормозил. Несколько пассажиров спускались на перрон.
Федор Шервиц смотрел и не понимал. Лицо горело, наболевшие глаза видели с трудом. Он заметил циферблат на фасаде, но никак не мог определить час. Два человека катили тележку – колеса дребезжали и громыхали по асфальтовым выбоинам. Свет семафора вспыхивал и гаснул, вспыхивал и гаснул… Кричали: «Тверское! Тверское!»
И только тогда он вспомнил, что его ждет пересадка на пригородный поезд. Боже, какой идиот! Он бросил на плечо полушубок с заячьим воротником – одеваться не было времени, – схватил легкий фибровый чемодан, перевязанный зеленым жгутом, и спустился в последний момент.
Федор Шервиц долго сидел в вокзальной закусочной – пил и курил. Несмотря на поздний час, посетителей было много: люди входили поминутно, часто и крепко топали ногами, энергично стряхивали снег с меховых шапок. В помещении топилась большая керамическая печь – снег и ледяная короста быстро таяли и растекались черными лужицами. Раскрасневшаяся кельнерша в белом переднике и платке молча и неторопливо разносила водку. Ее наливали за стойкой прямо из бочонка в пузатые графинчики без пробок. Многочисленные любители опрокидывали стакан, даже не присаживаясь. Это были в основном ночные возчики, доставлявшие дерево на лесопильню. Здоровенные, плотные бородатые молодцы пили, не закусывая, и степенно отирали висячие усы. Завсегдатаи, должно быть: они не расплачивались, а только, выходя, взмахивали на прощанье кнутовищем. Забегали вокзальные служащие – бледные, усталые, с глазами, измученными от постоянной работы при плохом освещении. Редкие пешеходы из местных, окруженные баулами и корзинами, сидели опершись локтями на стол, с терпеливым равнодушием ожидая отправления на рассвете пригородного поезда в Лоск.
Только одна молодая пара не заботилась о выпивке и закуске. Прислонясь к стене, женщина спала с открытым ртом и придерживала лежащего на коленях ребенка. Бородатый блондин вовсю клевал носом. Разбудить жену – значит взять ребенка на руки. Наблюдать за ними, рискуя заснуть, – хлопотно, скучно. Он осторожно приподнялся, пересчитал вещи – корзину, два свернутых одеяла, стянутых ремнями, коричневый пакет – и взял стакан у кельнерши.
«Это, верно, попутчики из соседнего купе, – решил Федор Шервиц, – и младенец, который плакал ночью». Он приблизился к ним, словно к старым друзьям, поздоровался с блондином и заговорил тихо, чтобы не потревожить мать.
Молодой человек слушал его, улыбался и кивал, потом очень ласково взял ребенка с колен жены – она только чуть-чуть вздрогнула. Может быть, смутная тень скользнула через ее сон? Да видит ли она вообще какие-нибудь сны, эта простая женщина?
Федор Шервиц уселся за их стол вполне счастливый. Он жадно взял на руки спящего ребенка, которого ему доверил молодой папаша. Сколько радости старику баюкать спеленутого младенца, пахнущего мочой и кислым молоком! Шервиц прицокивал языком, смешно вытягивал губы, счастливый, восторженный. Боже, какое розовое личико, нежное, доверчивое, без единого намека на морщинку! Он сдерживал свое дыхание старого курильщика, чтобы не завял этот спеленутый цветок из плоти и крови. Ротик особенно ему нравился. Крохотные губки, так явственно и так мило очерченные! И этот прозрачный пузырек вздувается, пропадает, растекается слюнкой на круглом подбородке…
Ведь у него мог бы быть такой же внучек. И он бы мог искать в неопределенности младенческого личика обещание будущего сходства. Сын его дочери…
Тоска, сожаление, гнев снова вспыхнули и запульсировали злой лихорадкой в висках. Он вспомнил о цели своей поездки, о своем поруганном достоинстве, о справедливом наказании, которое необходимо совершить.
Он скорым и равнодушным движением передал ребенка удивленному отцу и стукнул по столу. Выпить!
Два часа спустя, совершенно пьяный, он с трудом взобрался в вагон.
Он еще не совсем протрезвел, когда спустился на платформу в Лоске. Сыпал снег, холод заставил его сунуть нос поглубже в меховой воротник. Он хорошо знал местность и без колебания нашел дорогу в село.
Он шагал, безраздельно отданный своему гневу, выбирая обидные и жестокие слова для недостойной дочери. Равнина, сколько хватало глаз, белым-бела. Грустный серый рассвет едва оттенил горизонт. Чемодан слегка бил по ноге, снег монотонно скрипел под каблуками и сверлил безразличное густое молчание. Порой он останавливался и пытливо вслушивался, но слух бессильно погружался в угрюмое небытие, от которого хотелось рыдать, как покинутому ребенку.
Наконец меж двух холмов он заметил церковную колокольню. Там и село рядом. Он прошел мимо черного ельника, мимо старого разваленного коровника, яблоневого сада с кривыми, страшными деревьями, цистерны с водой… Улица… И там, в конце, большой красивый дом, в который вошла дочь и опозорила отца.
Но, черт возьми, откуда столько народа в такой ранний час? Словно все село собралось у жилища его дочери. Почему такое оживление, молчаливое и необычное? Зачем столько фонарей в руках? Зачем вообще фонари, когда уже рассвело?
Встревоженный Шервиц ускорил шаг. Чего хотят от его дочери? Что за удивительное сборище? Может, хотят ему устроить теплый прием? Может, несчастный случай, пожар, не дай Бог?
Навстречу двигалась молчаливая группа, видимо удовлетворившая свое любопытство. Он не осмелился расспрашивать этих людей, добрался до плотного полукруга и протиснулся вперед.
В снегу, на животе, лежало тело, труп, вероятно.
Его дочь в ночной рубашке. Голые окровавленные ноги, почти голубые от холода.
Он рванулся к ней, но его удержали.
– До прихода полиции, – сказал кто-то, – нельзя до нее дотрагиваться.
Его не узнали и говорили без стеснения:
– Наверняка самоубийство.
– Нет. Я случайно проходил здесь ночью и все видел. Она висела за окном, вроде бы уцепившись за подоконник. Даже не кричала. Смотрю, голые ноги отчаянно болтаются, будто щупают какой-нибудь выступ на стене. Потом тело обмякло. Чудно, думаю, отчего она не падает? Словно кто-то невидимый держит ее и не хочет отпускать.
– Упокой, Господь, ее душу, бедная женщина, – прошептал Федор Шервиц.
– Чего шлюху-то жалеть! – фыркнула толстая самодовольная баба.
– Сука, и больше ничего…
И тогда Федор Шервиц вырвался, склонился над телом и закричал дурным голосом, сбиваясь на фальцет:
– Дочь! Это моя дочь!
Он обхватил тяжелое неподвижное тело, приподнял, снова положил, принялся зачем-то растирать снегом. Рубашка трещала под его пальцами, как сухая бумага. Он затравленно огляделся. Его глаза искали сочувствия, спокойствия хотя бы, но видели только замкнутые злобные лица, равнодушные в лучшем случае.
Потом враждебная толпа взорвалась издевательским смехом и гиканьем. Некоторые принялись лепить и бросать снежки. Комья, легкие поначалу, затем все более плотные и тяжелые, били куда попало – по спине, по голове и плечам. Хохот, свист, улюлюканье. Он закрыл лицо ладонями, втянул голову в плечи. Увесистый и прицельно пущенный ком ударил ей в висок и разметал волосы. И тогда он раскинул руки и упал на нее, чтобы защитить эту отныне безгрешную плоть.
Продается вилла
Я всегда жил с мудрецами. Откуда мне знать, что их мудрость – заведомая ложь?
Ганс Гейнц Эверс
Это было претенциозное белое здание – высокое, узкое, старомодное. Затейливые рондеры в стиле начала века, равно как и общий архитектурный замысел, рождали представление о чем-то мавританском. Оконца проглядывали в самых неожиданных местах, крутоскатную черепичную крышу венчала пузатая башенка, вызывающая в памяти то ли мечеть, то ли тюрбан.
В общем, нечто вычурное и унылое – постройки такого рода встречаются довольно часто в старинных приморских городах, потерявших бонтон, где владельцы всеми правдами и неправдами стараются сбыть подобную недвижимость богатым иностранцам.
На решетке сложного рисунка висела табличка со старательно выведенной надписью: «Вилла продается».
Сад, вопреки ожиданию, выглядел прилично. Бесполезная роскошь отсутствовала, но деревья и кусты аккуратно подстрижены, и дорожки чисты.
Я посмотрел, нет ли собаки, толкнул дверь и зашагал медленно, кое-где останавливаясь, чтобы привлечь внимание. Приближаясь к фасаду, я заметил, как шевельнулась занавеска на втором этаже, потом другая, чуть пониже; окна располагались так асимметрично, что нельзя было сообразить, комнаты за ними или лестничные площадки.
Передо мной стоял пожилой человек – худой и сутулый. Откуда он взялся – трудно сказать, скорей всего, вынырнул с какой-нибудь садовой дорожки.
– Добрый день, месье.
– Добрый день.
Он улыбнулся, поощряя меня к разговору. Я с минуту разглядывал его черный, обуженный, но вполне приличный костюм. Странное дело: он носил высокий накрахмаленный воротничок с потрепанными уголками, а на зеленом галстуке красовалась золотая булавка в форме узла, через этот узел змеилась цепочка, которая неизвестно где начиналась и потом пропадала в таинственных глубинах жилета. Я едва сдержал улыбку и сказал:
– Я пришел насчет дома. Можно его быстро осмотреть?
В глазах старого чудака блеснула радость, он даже, как мне показалось, слегка подпрыгнул, потом ответствовал:
– Совершенно, я бы сказал, естественное желание. Я буду вас сопровождать. Не соблаговолите ли проследовать за мной? Извините, я вынужден пройти вперед.
Курьезный персонаж. Ему могло быть где-то от шестидесяти пяти до семидесяти пяти. Выговаривая свои круглые фразы, он постоянно брызгал слюной – у него во рту, вероятно, имелся изрядный запас этой жидкости.
– Я намерен вас удивить: я, видите ли, родом из Иль-де-Франс. В данный момент являюсь высокопоставленным чиновником на пенсии.
Он говорил очень чисто, аффектированно и старомодно.
– Мой брат, французский генерал, достигнув соответствующего возраста, вышел в отставку. Его фотографию можно увидеть в салоне. Все, как правило, поражаются необычайному сходству между нами.
Он вдруг расхохотался и резко остановился перед парадной лестницей:
– Если позволите, мы войдем через эту дверь. Он поклонился, я сделал то же самое, и мы поднялись по нескольким весьма крутым ступенькам.
– Видите ли, месье, я уже немолод. Десять лет тому назад я вышел на пенсию и с тех пор живу здесь. Место замечательное, просто уникальное. Осенью мы обычно проводим досуг вон на том косогоре…
– А там, за оградой, не поезд ли проходит?
– Да. Вы замечательно угадали. Но это не имеет значения. Я был шефом бюро во французском управлении железных дорог. Представляете, сколько поездов я повидал в жизни? А на тот можно и внимания не обращать. Маленький провинциальный поезд, пустячок, имитация, символ.
Он улыбнулся, звучно проглотил очередной запас слюны и тронул указательным пальцем кончик носа.
– Моя несчастная супруга, – продолжал он, внезапно насупившись, – обожала эту долину. Ах, какая милая спутница жизни! Увы, я потерял ее вот уже пять лет. Она находила виллу прелестной. Справедливо. Справедливо, это я вам говорю, а ведь я изъездил Францию и соседние страны благодаря бесплатным билетам, предоставляемым управлением своим высокопоставленным функционариям. И вот уединился в этом месте.
Он вздохнул, погладил ладонью редкие волосы, обратил мое внимание на керамический пол коридора и прошел в столовую.
Комната старомодно меблированная, чистая и холодная, скупо освещенная через застекленную дверь, верхний перекрест коей украшал цветной витраж.
– При жизни моей бедной жены все, разумеется, выглядело иначе. Безделушки, цветы, радость женского присутствия, понимаете? Ах! Теперь комната слишком пуста, слишком велика для меня одного.
Он деловито нагнулся, потрогал пол и адресовался ко мне совершенно умиленный:
– Линолеум, обратите особое внимание. Большое удобство при уборке. Ах, смотрите, вот и мой брат.
Он в два прыжка оказался у камина белого мрамора, схватил фотографию в рамке, сунул мне в руки и затараторил:
– Обратите внимание, прекрасный офицер. Кавалерист. Он, бывало, говорил, что не променяет стек даже на империю.
Владелец виллы доверительно сжал мой локоть:
– А припоминаете, ведь Франция из-за стека исчезла как империя!
– Исчезла как что?
– Ну как империя.
В его резком хохоте зазвенела визгливая рулада. Он поставил фотографию точно на место, повернулся и поднял бровь:
–Я немного смешлив, не так ли? Много путешествовал, знаете ли. Много повидал, много пережил, а это рождает известный скептицизм, не так ли? Хочу вам сказать по секрету, что после кончины моей жены эта особенность характера начала превалировать.
Он столь же лихо допрыгнул до застекленной двери и увлек меня на террасу.
– Ну, что скажете? Вид потрясающий! И как подстрижен газон! Я чуть-чуть тщеславен, не так ли? Люблю содержать сад, как если бы жизнь бурлила, понимаете?
В этот момент загремели колеса. Поезд остановился. Вокзал был так близко, что пассажиры, стоя у окон, видели нас превосходно. Будь у нас длинная палка, мы бы до них дотянулись.
– Много поездов проходит? – поинтересовался я.
– Пустяки, два или три.
– В год?
– Нет, в день.
Он почти задохнулся от смеха, проглотил слюну с хлюпом, подобно раковине, втягивающей воду, вытащил мокрый платок и погрозил мне пальцем: