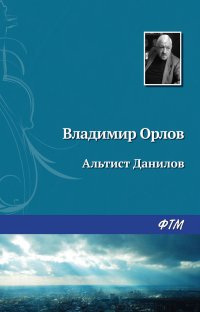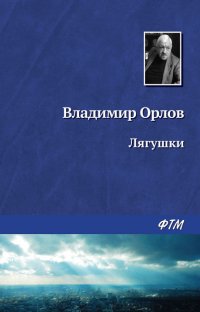Читать онлайн После дождика в четверг бесплатно
- Все книги автора: Владимир Орлов
О себе
Я – москвич в четвертом поколении (предки мои были подмосковными – можайскими и дмитровскими). И проза моя – московская. Правда, юношеские увлечения на несколько лет переносили мои интересы в Сибирь. Но и увлечение Сибирью свойственно москвичам.
Родился я 31 августа 1936 года. Тридцать два года прожил в коммунальной квартире посреди Мещанских улиц, южнее Останкина и Марьиной рощи. На 1-й Мещанской окончил школу, потом этой же улицей троллейбусом ездил на Моховую – там и теперь размещается факультет журналистики МГУ. Годы те – конец пятидесятых – были шалые, весело-мечтательные, с брожением умов и идеалов. На факультете больше митинговали и творили, нежели учились. Меня в ту пору привлекало кино. Я простодушно полагал, что именно кино заменит собой литературу, живопись и музыку. Но после третьего курса мне пришлось прекратить сценарные старания, как и занятия спортом. Заболели родители, и средства на прокорм семьи я был вынужден добывать репортером знаменитой тогда четвертой полосы «Советской России». В 1957 году я впервые попал в Сибирь, сначала на алтайскую целину, потом на Енисей. В дипломную работу вошли очерки о строителях дороги Абакан-Тайшет. После защиты диплома меня пригласили в «Комсомольскую правду». Там я и проработал десять лет. В разных отделах. Много ездил и писал. И скоро понял, что одними очерками, корреспонденциями и репортажами я не смогу передать свои впечатления и суть своей натуры. И отважился писать вещи протяженные. По ночам, утром перед работой (на работу, естественно, опаздывал). И вот в 1963 году в журнале «Юность» был опубликован мой роман «Соленый арбуз» (роман экранизировали, спектакли по нему шли в театрах Москвы, Минска, Красноярска), а в 1968 году – роман «После дождика в четверг». Сочетать ремесло и прыть газетчика с несуетным искусством прозаика было невозможно, и я в 1969 году из «Комсомолки» ушел. На вольные хлеба (с 1965 года был членом СП СССР). Хлеба эти оказались тощими и трудно обретаемыми. Да и в моих издательских делах пошли дожди. Лет семь меня почти не публиковали. Набирали мои тексты и разбирали. Возможно, у кого-то, недреманного, на верху, возникло соображение, что ничего хорошего от меня ждать не следует. К тому времени во мне угас романтизированный оптимист. Все очевиднее становился социальный мираж, в каком мы жили. Преуспевали же в нем циники и обманщики, они-то этот мираж для своих нужд и оберегали (и теперь они же преуспевают). Я живу под знаком Девы. Стало быть, человек благоразумный. Вернее, благонамеренный и фаталист, принимающий реальность как данность, в коей я изменить ничего не могу. Я не скандалист, драться не люблю, а может, и не умею. Для меня идеальный человек – Иоганн Себастьян Бах. Он был типичный бюргер, добывал блага для семьи, искал выгодные места службы, любил пиво, лупил палкой дурных учеников. А в своих творениях поднимался в небесные выси. Бывая в Германии, я объездил многие места, связанные с жизнью автора «Кофейной кантаты» и «Страстей по Матфею». Позже я понял, что прототипом моего Данилова был прежде всего именно Бах.
Но я отвлекся… Просто семидесятые годы еще раз подтвердили мне истину – в творческой судьбе русского литератора существенным должно быть терпение и способность сохранить самостоятельность своей личности. И необходимо делать то, что ты умеешь и любишь делать. В 1972 году я закончил роман «Происшествие в Никольском», его набрали в «Новом мире», два года я жил надеждами, но цензура мои надежды отменила. Подзарабатывал я тогда «внутренними» рецензиями и даже перевел для Детгиза повесть «с лезгинского». Лишь в 1976-м просветленно-изуродованное цензурой «Происшествие» выпустил «Советский писатель». А я уже наполовину написал «Альтиста Данилова», не думая, понесу ли я его куда-либо, и потому пошел на издательский компромисс. «Происшествие в Никольском» – бытовая драма. Когда я писал «Происшествие», некие свойства моей натуры (воображение, скажем), видимо, были угнетены и требовали освобождения и выхода. И я неожиданно для себя написал рассказ о любви останкинского домового (жил я уже в Останкине). Рассказ, к сожалению, был опубликован лишь через шестнадцать лет. Я люблю сказки, фантастику, в детстве был заворожен мхатовской «Синей птицей» и чистым, догригоровическим «Щелкунчиком». Среди самых уважаемых мною писателей – Апулей, Рабле, Свифт, Гофман, Булгаков, и потому естественным вышло мое обращение к жанру магического реализма. Три года происходило тихое, но и с чудесами продвижение романа «Альтист Данилов» в недрах «Нового мира», и в 1980-м он был наконец напечатан. Интерес к нему публики (и у нас, и во многих странах мира – роман издали в США, Германии, Франции, Японии и т.д.) оказался и для меня удивительным. Я испытал состояние человека, услышавшего медные трубы. Оно вышло для меня утомительным и наскучило (хотя и не сразу). А вот «Аптекарь» (тоже тихо продвигался к публикации в «Новом мире» два года) впечатления не произвел, страна была уже политизирована, и на меня досадовали – не отразил злобу дня. Но меня-то интересуют ценности вечные. Впрочем, тогда я посчитал невнимание к «Аптекарю» объяснимым: кому нужна моя проза, и литература вообще, когда появилось столько умнейших людей, чьи речи и благородно-честные лица и меня приманивали к экрану телевизора! Несколько лет сочинял лишь эссе. Но однажды ощутил, что писать мне необходимо (натура требует!). Хотя бы для самого себя. Для собственного душевного и житейского равновесия. И начал роман «Шеврикука, или Любовь к привидению». Журнал «Юность» печатал его кусками по мере завершения мною сюжетных блоков. Как и почти все другие мои сочинения, роман вышел импровизационным. В 1997 году я поставил в нем точку. Получилась третья часть триптиха «Останкинские истории» («Альтист Данилов», «Аптекарь», «Шеврикука»).
Среди прочих побудительных причин к написанию «Шеврикуки» была и следующая. В 1989 году я согласился стать руководителем семинара в Литинституте. Я вынуждал своих студентов выполнять обязательные (на мой взгляд) работы, требовал от них новых сочинений, а сам-то – что же, сам-то каков? Неловко выходило… Нехорошо… Сочинение «Шеврикуки» неловкость сняло. Уговаривали меня прийти в Литинститут долго. Я отказывался, полагая, что не способен к этому занятию и что вообще нельзя кого-либо научить стать писателем (ну, не писателем, литератором, я чрезвычайно уважительно, даже с трепетом отношусь к слову «писатель», себя же держу в разряде сочинителей). Но с ходом времени понял, что, как человек более литературно-переживший, могу помочь творческому развитию семинаристов. Занятия увлекли меня, а в дрязге нынешней смуты и свары принесли и столь необходимое человеку ощущение полезности собственных дел. Происходило и взаимовлияние. Призывая студентов второго (для меня) семинара писать вещи детективные (многие не умели строить сюжет), исторические (дабы ощутить не только горизонтали, но и вертикали бытия), я и сам отважился взяться за роман остросюжетный, с свидетельствами пусть и недавней истории Отечества (условное название – «Бубновый валет»).
Из смежных искусств более всего почитаю музыку (ставлю ее выше литературы), живопись и театр. Благодарю судьбу за то, что среди моих приятелей много художников, музыкантов и актеров. За «Шеврикуку» мне присуждена премия Москвы в области литературы и искусства. Получал я ее в хорошей компании – с Таривердиевым, Лундстремом, Джигарханяном и др. Партия любителей пива, имея в виду роман «Аптекарь», наградила меня литературной премией – «за мистическое освоение русской пивной мысли». Награда состояла из ящика ирландского пива «Гиннес», и я принял ее с благодарностью и удовольствием.
27 апреля 1999 года
Владимир Орлов
1
В окно смотрела лошадиная морда.
Терехов отодрал голову от подушки.
Он не удивился бы, если бы увидел, как по склону сопки, прямо перед их общежитием, под соснами, проехал, урча, трактор, или старенький воронежский экскаватор, или дребезжащий вагон трамвая. Даже если бы нырнул в распадок самодовольный сверкающий поезд метро, он и тогда глазом бы не моргнул, а продолжал спать, потому что благодушествовало воскресенье и можно было спать хоть до ужина. Но секунду назад он услышал конский топот, и звук этот в их поселке, привыкшем к машинам, так удивил его, что Терехов сбросил одеяло и соскочил с кровати.
Он натягивал выцветшие тренировочные брюки, спешил, никак не мог ногой попасть в левую штанину, злился, а по коридору уже бежал кто-то, хлопал дверьми, спрашивал Терехова, и кто-то кричал, указывал на третью дверь справа.
Дверь отворилась резко. Незнакомый приземистый парень, в меховом треухе, надвинутом на лоб назло дождливому июню, в кирзовых сапогах, подошел к Терехову, буркнул что-то и сунул ему в руки аккуратный пакет, склеенный из газеты.
– Вы Терехов? – спросил он запоздало.
– Я, – сказал Терехов.
Парню было лет тринадцать, он смотрел хмуро, молча переступал с ноги на ногу, словно движением этим и мрачным выражением лица хотел сказать, что ему надо спешить, что впереди у него дела более важные и срочные и что он, Терехов, мог бы побыстрее ковыряться с этим паршивым пакетом.
– Он ответ просил… – сказал парень.
Пакет был от Ермакова. Вчера днем кофейная пронырливая «уазка» с красными крестами на радиаторе и на спине увезла прораба Ермакова в больницу села Сосновки, на ту сторону Сейбы. Ермаков был бледный, кашлял, матерился непривычно тихо и улыбался виновато, когда вспоминал о своей температуре: «Надо же, тридцать девять с половиной… прихватила, сушеная палка!..»
В пакет были вложены два листка бумаги в линейку и пять канцелярских кнопок.
По первому листку торопились крупные ермаковские буквы: «Ищут воспаление легких. К великой радости, начались еще и приступы язвы. Придется тебе командовать. Не тужи. Выдержу. Тереби начальство. Отсыпайся по воскресеньям. Пять кнопок я посылаю для того, чтобы ты сегодня же мог пришпилить приказ к доске объявлений. Может быть, одна из кнопок сломается. Жму руку. Ермаков».
Приказ был отпечатан машинкой на втором листке и сообщал, что бригадир третьей бригады Терехов Павел Андреевич назначается исполняющим обязанности прораба участка Сейба.
«Ну вот, – подумал Терехов. – Большая радость. Не было печали!..» Он расстроился, потому что все было некстати: и болезнь Ермакова, и его сегодняшнее назначение, и вообще все было некстати. Он и сам не понял, что он имел в виду под этим «вообще все», он только вспомнил, что вчера произошло что-то скверное и досадное, и выбросить из жизни это скверное и досадное было нельзя.
– Он просил ответ, – сказал парень.
– Да… Я сейчас… – пробормотал Терехов. – А почему он тебе машину не дал?
– Меня послал доктор…
Терехов сунул руку в ящик стола, стал двигать цветными карандашами и кисточками, вытащил толстый красный карандаш, подумал: «Начальственный, очень нужен для авторитета» – и написал на обороте листка в линейку: «Выздоравливай, Александрыч. Глотай таблетки. За нас будь спокоен».
Записка нырнула в карман синей куртки, парень повернулся молча и пошел к двери, стараясь быть взрослым и деловитым.
– Погоди, – сказал Терехов. – Как он там?
Парень остановился на секунду, пожал плечами удивленно, словно сказал: «А я почем знаю?» или «А что с ним такое может случиться?», и вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Терехову уже не раз приходилось сталкиваться с жителями Сосновки, села старого, кержацкого, выросшего, может быть, еще во времена протопопа Аввакума, рядом со скитом, и он знал эту манеру всех сосновских, взрослых и пацанья, молчать и хмуриться при встрече с незнакомыми. Терехов быстро натянул сапоги и, сам не зная зачем, пошел за парнем сонным еще коридором, темным и узким.
Голую спину и грудь его тут же исколол холодный дождь, он моросил всю ночь не переставая, и терпения у него оставалось еще, наверное, на несколько дней. Сопки, дальние и ближние, казались мокрыми, и серые куски тумана, оторвавшиеся от серого неба, – куски грязной небесной ваты – лежали на них. Все: и длинные щитовые дома поселка, и штабеля досок и бревен, и деревья, поднимавшиеся от Сейбы к общежитиям, а потом выше, в серые куски ваты, казались потерявшими цвет и размытыми дождем. И даже вода в ручье, бежавшем к Сейбе, обычно прозрачная, игравшая в радугу солнечными лучами, была мутной и грязной и била, суетясь, в камни на берегах и корни деревьев.
Терехов ежился, мотал головой, сбрасывая с коротких волос капли, ему хотелось сбежать в сонное тепло общежития, но парень подвел лошадь к ручью, и Терехов уже не мог оторвать от нее глаз.
Лошадь пила воду. Приземистая, гривастая, она наклонила голову к мутной воде, шея ее напряглась, а ноги, короткие и сильные, вросли в жижистую землю. Парень трепал ее по загривку и шептал ей что-то ласково и таинственно, словно колдовал, словно только для нее и мог найти и слова и улыбку. Терехов смотрел на мокрые бока и спину лошади, коричневые, отмытые дождем, видел, как вздрагивали под тугой кожей начиненные энергией мускулы, и завидовал сосновскому парню. Так и в детстве он, выросший в фабричном городке, завидовал деревенским мальчишкам, гонявшим коней в ночное на Острецовские и Ольговские луга. И каждый раз, когда он видел ребят, разъезжавших верхом, ему казалось, что он лишен чего-то извечного и прекрасного и этого извечного и прекрасного не смогут заменить никакие радости, связанные с машинами, и что он утерял умение, переданное ему предками, и всегда в таких случаях он испытывал необъяснимую тоску и стыд.
Парень вывел лошадь на дорогу и тут же, словно кто-то невидимый подсадил его, оказался в седле. Терехов быстро пошел за ним и крикнул:
– Погоди!
– Ну? – обернулся парень.
– Нет, езжай, – махнул рукой Терехов, так и не придумав слов, которые могли бы задержать нарочного из Сосновки и остановить время.
Парень, наклонившись, сказал что-то лошади, похлопал рукой по ее спине, его треух вздрогнул, и вздрогнули его плечи, и лошадь пошла по грязной, бурой дороге, а потом побежала, понеслась, и замелькали ее упругие коричневые ноги, мокрые, блестящие, быстрые, замелькали под зелеными ветками, и капли и куски грязи летели от них в стороны, а парень в синей куртке сидел на мокрой спине лошади лихо, ловко, чертом, словно был привинчен к ней или отлит вместе с ней на Каслиновом заводе, и движение лошади и его было так красиво, что Терехов стоял и смотрел на них и не обращал внимания на холодные струи, бежавшие по его груди и спине.
Терехов решил наплевать на дождь и холод и облиться водой не из рукомойника в коридоре, как он делал обычно, а прямо из мутного ручья. Он плескал воду ладонями на грудь и на спину, она обжигала, и Терехов смеялся и фыркал от удовольствия.
Ему было радостно и от этой ледяной, обжигающей воды, и оттого, что он чувствовал себя здоровым и сильным, чувствовал каждый свой мускул, и оттого, что секунду назад он любовался движением по дороге лошади и парня, и даже оттого, что он и сейчас еще ощущал запах этой лошади, пившей в двух шагах от него воду.
Он разминался под соснами, сбрасывавшими тяжелые холодные капли, придумывал упражнения потруднее, нарочно, чтобы почувствовать еще резче, как сильны его мускулы, а поделав упражнения, стал прыгать и бегать рывками вдоль общежития, и даже намокшие сапоги, к которым прилипла грязь, не мешали ему. Он смахивал ладонью со лба и носа дождевые капли, подпрыгивая, шлепал руками по сосновым веткам и прыгал снова, пока не вспомнил, что день вчера был дрянной и ничего не изменилось.
Он опустил руки и понял вдруг, что ему противен этот колющий мерзлый дождь и противно серое, тоскливое небо. Руки и грудь его тут же покрылись гусиной кожей, а для того, чтобы разогреться, нужно было продолжить зарядку. Но желание прыгать и приседать в грязи под дождем пропало, и Терехов, наклонив голову, думая о вчерашнем, побрел в общежитие.
Событий вчера произошло много, и ничего, кроме огорчений, они ему не принесли. Но среди них одно особенно расстроило его и вот теперь не давало покоя. И он понимал, что его расстроило, и все же пытался обмануть себя, иначе объяснить свое дурное настроение.
Хорошего и впрямь случилось мало. Болезнь скрутила вчера Ермакова, и Терехову было жаль прораба, человека пожилого, искалеченного в войну, уставшего в последние сумасшедшие недели. Без особой радости Терехов подумал о том, что теперь на его плечи взвалены хлопоты поселка, отрезанного от начальства и цивилизации тридцатью километрами размытой дороги.
Невеселой получилась и встреча с начальником поезда Будковым, неизвестно как сумевшим пробраться на Сейбу из своей таежной столицы. Будков был встревожен то ли болезнью прораба, то ли еще чем, подбадривал Терехова, таскал его на мост и просил за мостом следить. Будков, несмотря на их прежние стычки, Терехову нравился, и вчера Терехову хотелось сказать начальнику поезда что-нибудь доброе, успокоить его, но на шутки Будкова он отвечал ворчанием, и теперь ему было стыдно.
Тяжелым был у него вчера разговор с тремя парнями-дезертирами, сбегавшими в трудную пору со стройки. Парни были отличными рабочими, очень нужными сейчас, и все же они бежали, и никакие душеспасительные разговоры не могли тут помочь.
Кроме всего прочего, Терехов повздорил с лохматым неудачником Тумаркиным, трубачом, которого он переносил с трудом из-за его каждодневных несчастий. И мало приятного было сознавать, что хорошие рабочие уезжают, а остается Тумаркин с длинными, костлявыми, ничего не умеющими руками и с трубой, надоевшей, как песня «Тишина».
Были вчера и другие события, вызвавшие у Терехова раздражение и досаду, а под вечер от Рудика Островского Терехов узнал, что Олег Плахтин и Надя решили сочетаться законным браком и подали заявление в Сосновский сельсовет. Олег и Надя были его лучшие друзья, самые близкие, все на Сейбе уже давно догадывались об их отношениях, и Терехов расплылся в улыбке, выслушав Рудика. Однако было странным, что новость эту ему пришлось узнать от Рудика. Сегодня Терехов уговаривал себя не думать об этом, и все же перед глазами стояло вчерашнее лицо Олега, как будто незнакомое, и Терехов видел снова, как дергалось левое веко Олега и его левая щека.
«Ну и что! Ну и что тут такого? – подумал Терехов. – Ну, волновался человек…»
– Терехов! Павел! Иди кидать железку!
Он был уже у крыльца общежития, и парни, окружившие штангу, окликнули его. Терехов, любивший возиться по утрам со штангой и двухпудовиком, помотал головой и пошел в свою комнату.
Он открыл дверь и увидел Олега. Плахтин стоял у этажерки и отбирал книги.
– Доброе утро, – улыбнулся Плахтин.
– Здравствуй, – сказал Терехов.
– Ты чего такой мрачный? – удивился Плахтин.
– Мрачный? – спросил Терехов. – Устал, наверное.
Он снял с гвоздика желтое вафельное полотенце и стал медленно растирать кожу. Кожа горела, и было приятно.
– Забираю вещи, видишь, – Плахтин показал на открытый чемодан, – книжки и еще кое-что. Знаешь, мы ведь решили с Надей пожениться… Заявление вчера подали…
– Слышал, слышал, – стараясь предупредить Олегово объяснение, заговорил Терехов.
– Ты чем-то расстроен, – сказал Олег, – я ведь вижу…
– Ничем я не расстроен, – буркнул Терехов.
– Ты обиделся? – спросил вдруг Олег.
– На кого?
– На меня и на Надю… Мы ничего не сказали…
– Какие тут могут быть обиды!
– Я ведь вижу…
– Слушай, перестань! – раздраженно сказал Терехов.
Он даже сам удивился, что может говорить таким неприязненным, даже враждебным тоном с Олегом, как с чужим, и, смутившись, протянул ему ермаковский приказ.
Олег рассмотрел листок и покачал головой:
– Да-а-а… Большой начальник…
Терехов подошел к стулу и стал надевать рыжую ковбойку. Ковбойка была сшита из грубой, шершавой ткани, способной пойти на мешки для гвоздей. Он надевал ее лениво, потому что спешить было некуда.
– Слышал радио? – сказал Олег. – Было новое покушение на де Голля.
– Страшно меня волнует де Голль, – сказал Терехов.
– На этот раз хотели из пулемета…
– А-а! – Терехов поморщился. – У французов все серьезное кончилось в девятнадцатом веке. Теперь осталась одна оперетта.
Он ворчал, словно злился на французов, словно всерьез верил, что им осталась одна оперетта. А злился он на себя, потому что соврал Олегу, да и себе самому, – вовсе не ермаковский приказ был причиной его расстройства.
– Вот и все, – Олег взял набитый чемодан и пошел к двери. – Слушай, приходи к нам. И Надя просила. А то будешь скучать. У нас веселее…
– Вам теперь хорошо, – сказал Терехов.
– Да, нам хорошо, – сказал Олег. И вдруг щека его снова задергалась.
Он быстро открыл дверь и сказал уже с порога:
– Я не прощаюсь. Ты заходи…
– Ладно…
Терехов застегнул длинную, как удар рыцарского меча – от шеи и до пояса, молнию лыжной куртки, причесался – перед зеркалом поводил янтарной полиэтиленовой щеткой по мокрым волосам, и надо было идти в столовую. Он сунул в карман листок с приказом Ермакова и пять серебристых канцелярских кнопок.
2
Дождь усилился, и Терехов по армейской привычке двигался к столовой короткими перебежками – от сосны к сосне. По дождь был нахальный, и капли его прыгали за шиворот.
У домика конторы Терехов остановился.
Метрах в пяти от него, прибитая к двум планкам, мокла доска объявлений. За стеклом, забрызганным дождем, желтели сводки и приказы, сочиненные прорабом Ермаковым.
Терехов, угрюмо сбычившись, нерешительно прошагал пять метров и отодвинул стекло вправо. Он достал из кармана белый листок и канцелярские кнопки.
И тут он вороват оглянулся, словно делал что-то запрещенное или постыдное, чего другим не следовало видеть. Словно бы прикреплял к фанере ругательную листовку с матерными словами. «Вот ведь ты какой стеснительный, – подумал Терехов, – застенчивый какой».
И все же он был рад, что никто не видел, как он прикрепляет приказ на самого себя, обошелся двумя кнопками, резко сдвинул стекло влево и прыжками побежал в столовую.
Столовая пыхтела, стучала ложками и ножами, выщелкивала куцые чеки, дымила, теплая, шумная, светлая, посмеивалась над непогодой и угрюмыми ватными облаками.
Терехов потоптался на пороге, стряхивая холодные капли, взял поднос и встал в очередь.
Он здоровался со всеми, потому что незнакомых не было в этом теплом, сытом зале. Он кивал, говорил мрачно: «Привет… Доброе утро…», тоном своим отбивал у всех охоту перекинуться с ним привычными шутливыми словами. И к подавальщице Варе он обратился мрачно, и черные Варины глаза удивились, и плечи ее дернулись, изобразили: «Вот тебе раз!»
Терехов отнес тарелки с хлебом, вареной теплой вермишелью, жареной печенкой, посыпанной луком, и два стакана кофе на свободный столик и плюхнулся на желтое фанерное сиденье. Он загреб вилкой вермишель и понял тут, что у него нет аппетита и что зря он взял два вторых – обычную свою утреннюю порцию, вполне мог бы обойтись стаканом кофе и куском хлеба.
Он жевал лениво, нехотя, мял пальцами черный липкий мякиш, а когда поднял голову, увидел на стене, напротив, зеленоватых лебедей.
Лебеди плыли парами, тянули свои лебединые шеи к белым кувшинкам, похожим на лотосы, отражались в черной болотной воде.
Лебеди были зеленоватые, как белок подтухшего яйца.
Мохнатые, склонялись над ними пальмы, на их ветвях танцевали мартышки, а за пальмами, облапив желтые стволы двух сосен, улыбался толстый и добродушный саянский медведь.
Выскочивший из-за голубых гор, спешил к лебедям красный паровозик с дымом, тащил по фиолетовой насыпи четыре игрушечных вагона – мышиный поезд из уголка Дурова, и машинист с чубом, похожим на паровозный дым, высунув голову из окна, курил важную коричневую трубку.
Розовое солнце, четырехугольное, похожее на флаг, выползало из-за голубых гор, предвещало теплую сонную одурь и всеобщее благолепие под пальмами и соснами.
Лебеди плыли, улыбался медведь, спешил паровозик, и так уже в сотый раз, и всегда Терехов, входя в столовую, старался не наткнуться глазами на пятиметровый саянский мираж и все же каждый раз видел зеленоватых подтухших лебедей и розовое солнце.
Мираж был написан масляными красками на изнанке заурядной столовой клеенки. В тот день, когда прораб Ермаков притащил с абаканского базара два произведения искусства, Терехов стоял возле них долго, а потом зачем-то потрогал розовый четырехугольник. Солнце было шершавое, все в пупырышках. «Ну как?» – спросил Ермаков. Он ждал одобрения и старался быть спокойным. «Ну…» – начал Терехов, а потом спросил: «Это ты, Александрыч, истратил деньги, которые положили на трансформатор?» – «И свои еще добавил! – Ермаков махнул рукой. – Такое посчастливится встретить раз в год. В три года. Ни на одном участке нет, а у нас будут свои картины…» – «Да, – сказал Терехов, – картины…» – «А что?!» – обиделся Ермаков.
Он слыл упрямым человеком, этот прораб Ермаков, и уж если что взбредало ему в голову, то, значит, дело было конченым и решенным. Терехов знал это прекрасно и потому робко посоветовал прорабу выкинуть клеенку подальше. «Ведь только подумай, – сказал Ермаков с сочувствием к неизвестному художнику второй половины двадцатого века, любителю мохнатых пальм и розовых солнц, – из чего он всю красоту добыл…» Он оправдывал его и восхищался им. «У Пиросмани красок было не больше и тоже клеенка перепадала, – сказал Терехов, – а получалось». – «Ну ладно, какие еще Пиросмани! – взвился Ермаков. – Интеллигенты. Формалисты! Правильно вас газеты ругают за всякие там абстракции… Вот повесим картину в столовой, вот посмотрим, что народ скажет…»
И хотя лубок на клеенке был ничем не лучше размалеванного гипсового кота, подставившего спину пятакам и гривенникам, статуэтки с бантиком, все сейбинские терпимо отнеслись к его появлению на стене столовой. Пусть ерунда, а все-таки как-то веселее стало. Пусть бумажный, но цветок. Ермаков ходил счастливый и не припоминал Терехову его заблуждений. Он и второй кусок клеенки, купленный для своей лично комнатушки, не смог удержать дома и решил им украсить сырую стену механической мастерской. Кусок этот был поменьше первого и изображал берег моря, солнышко, песочек, солнышком нагретый, дырявую покосившуюся хижину и пальму, похожую на сосну. Море с пальмой принесли хоть чуток тепла и света в их дыру с прославленным микроклиматом, из-за которого отопительный сезон в поселке растягивался на десять месяцев.
Терехову виделось, как сидел Ермаков у себя дома в серой тоскливой комнате, попивал чаек и смотрел на темно-синее море и рыжее солнце, причмокивал от удовольствия и приговаривал: «Что же я эту красоту у себя запер…»
Олег Плахтин горячился, нервничал, требовал, чтобы убрали из столовой и мастерской эту пошлость, грозился написать в «Комсомолку» или «Литературную газету». А Терехов молчал. В душе он даже уважал убежденность прораба, с которой тот доказывал, что картины он приобрел нужные народу и красивые. К тому же Ермаков искренне хотел хоть чуть-чуть расцветить серость сейбинского общественного быта, и многие парни и девчата хвалили покупки, и Терехов смирил свой протест.
– Привет, начальник!
– Привет, – кивнул Терехов.
Он поднял голову и увидел у своего столика Виктора Чеглинцева. Чеглинцев возвышался над ним столбом-колокольней, дымил сигаретой, смеялся озорными раскосыми глазами, словно подмигивал.
– А-а, землепроходимец, – равнодушно сказал Терехов. – Послезавтра, что ли, сбегаете?
– Нет, начальник, завтра. А через пяток дней будем точно в заданном районе. – Лицо у Чеглинцева была довольное, глаза все подмигивали, спрашивали: «Ну что, подразнить, что ли, тебя, начальник?»
Случалось, Чеглинцев называл его комиссаром, а теперь вот нашел иное слово.
– Ты чего, – спросил Терехов, – видел приказ?
– А то как же, – сказал Чеглинцев. – Увидел – снял с себя чепчик и начал бросать его в воздух. Вот ведь, думаю, новый премьер-министр. Губернатор острова! Начальник грязелечебницы!
– Ладно, – мрачно сказал Терехов и принялся за вермишель.
Чеглинцев уходил от него к буфетной стойке, расшаркивался на каждом шагу, направо и налево, скалил свои ровные, чересчур хорошие для нашего века зубы, и его физиономия вызывала у всех улыбки.
Он подошел к буфету и встал в очередь за Тумаркиным.
Этот Тумаркин, этот унылый губошлеп, притащился со своей знаменитой трубой и теперь держал ее неуклюже под мышкой.
Чеглинцев покровительственно похлопал Тумаркина по плечу, и тот дернулся и скривил губы: ну конечно, какое у него еще могло быть отношение к подлому дезертиру.
Они стояли вместе, Тумаркин и Чеглинцев, и, оказавшись рядом, смешили людей, как Пат и Паташон или еще кто-нибудь в этом роде.
Тумаркина, наверное, собирали из деталей детского «конструктора» в кружке Дома пионеров, создатель его был человеком рассеянным и недобросовестным, а потому в Тумаркине все разваливалось, все в его костлявой большой фигуре было нелепым и нескладным и, казалось, ждало только толчка, чтобы разойтись на составные части.
Грудь у Тумаркина была вогнутая, а у Чеглинцева выпуклая. Если бы Чеглинцеву дали потренироваться побольше, он бы вполне мог схватить приличный приз на конкурсе культуристов где-нибудь в Польше или во Франции.
Чеглинцев играл с двухпудовиком, как с котенком, выдумывал шуточки, забавлявшие публику. Терехов не раз гонял с ним мяч в одной команде, и всегда ему доставляло удовольствие смотреть на круглые коричневые Витькины бицепсы и крепкие быстрые ноги, пулявшие кожаный шарик с такой силой, что штанги, казалось, покачивались от испуга.
Чаще всего Терехову приходилось с Чеглинцевым ругаться. И все же Чеглинцев вызывал у него чувство симпатии и даже восхищения. Это было восхищение жизненной силой, подаренной Чеглинцеву природой, силой, которая бурлила в нем и ломала его. Севка как-то глядел, глядел на Чеглинцева и вспомнил строчки из новгородской былины. Он не ручался за точность слов, но, по его мнению, сказано о богатыре было так: «Сила по жилочкам переливается, тяжко от бремени этой силушки…» Вот и Чеглинцева, как Ваську Буслаева, тяготила силушка, переливалась по жилам, сосудам и удавьим мышцам.
Чеглинцева любили на Сейбе все, и особенно женщины, и особенно подавальщицы сейбинской столовой. Терехов тянул сейчас горячий кофе и смотрел, как они обслуживали Тумаркина и Чеглинцева. К Тумаркину было проявлено полное безразличие. Чеглинцеву девчата притащили самое лучшее и даже то, чего в столовой вообще не было.
Чеглинцев уже шел вдоль столиков со спортивной сумкой в руках, обаятельный и шумный, и все улыбались ему, а Терехов вдруг представил себе свою мрачную физиономию и подумал: «Вот кому быть прорабом, с такой улыбкой… А то я… Только портить людям настроение…»
– Слушай, начальник, – наклонившись, шепнул Чеглинцев, – часа через два в нашей комнате даем прощальный обед. Медвежатина в лучшем виде. Будем ждать, как генерала.
– Как же! – хмыкнул Терехов. – Сейчас прибегу. Всю жизнь мечтал с вами отобедать.
– Ты не ломайся. Тебе же лучшего желаем. А то скучаешь… Я вот и приправу тащу…
– Иди, иди. Как-нибудь сам развеселюсь!..
– Брезгуешь, начальник, рабочим классом?
– Иди, иди…
3
А дома, в общежитии, было вправду скучно, и Терехов, повалявшись на застеленной кровати, встал, убрал книжку в тумбочку, достал кривоватый маленький ящик, самодельный, сбитый из кусков фанеры, заменявший ему этюдник, и положил в ящик два листа бумаги и карандаши. Он надел плащ и прихватил прозрачную хлорвиниловую клеенку, очень способствовавшую в последние дни его творчеству. Под дождиком, но грязи добирался до деревьев, и в тайге шагать было легче. Минут за пять он добрел до поляны, до светло-зеленой плешины на склоне сопки, и увидел внизу летящую коричневую Сейбу, худые низкорослые березы и осины на ее берегах и дальние крыши Сосновки, вырывавшиеся из клочьев белесого тумана.
Сначала он посидел на пне, на толстом мокром еловом обрубке, посидел тихо, словно проверял, на месте ли распадок, Сейба с ее узенькой лесистой долиной, сопки, большие и малые, и прочие окрестности, не смылись ли они за ночь куда-нибудь в теплые края с развеселой ослепительной жизнью. Но все было на своем месте, все как полагается, поразительно благонравная досталась Терехову земля. И тогда Терехов стал глядеть на молоденькую осину, вылезшую из серых замшелых камней на самом краю поляны, густое, невысокое деревце, из-за которого он и приходил сюда в последние дни.
Осинка была маленькая, ровная и обыкновенная, и Терехов вначале никак не мог понять, почему его тянет рисовать эту осину. Тем более что прежними набросками своими он был недоволен, ворчал на себя, рвал бумагу и все же шел сюда, к серо-зеленой проплешине, словно осинка эта была заколдованная. Но потом Терехов понял, что дело тут именно в заурядности этой осины, уж такой он человек, такие уж у него дурацкие интересы, его и во Влахерме в студии фабричного Дома культуры крыли не раз за его привязанность к обыкновенному. Он тогда ругался и спорил, доказывал, что раз уж ты берешь в руки карандаш или кисть, раз уж ты мараешь холст и бумагу, ты должен ткнуть людей носом именно в обычное, обратить внимание других на всю красоту и жестокость их жизни, кажущейся заурядной, жизни со всеми будничными мелочами, чтобы люди умели ценить ее. Но все это были разговоры, и велись они давно, а вот теперь он не мог нарисовать осину.
А ему очень хотелось черными ударами карандаша и белыми пятнами передать на бумаге девичью стройность осины, блеск ее мокрых темно-зеленых листьев и капли, изумрудинами застывшие на них, и очищенную, отмытую, голубоватую кожу ствола, выделанную из лесной слюды, и косой безнадежный падающий дождь, и тоску всей этой притихшей, промокшей тайги, тоску последних ее дней по доброму и жаркому солнцу.
Дождь все шел, и надо было устраивать для бумаги укрытие. Терехов отыскал в траве две осиновые жердины, заостренные им, воткнул, вбил их в землю у елового пня и чистенькую прозрачную клеенку навесил на жердинах, отобрал у дождя пространство для свободной бескапельной республики. Положил на пень этюдник, прикнопил лист к чуть шершавой фанере и на корточках, согнувшись, с карандашом в руке, сидел, смотрел на осину и на распадок за ее спиной.
Рисовал неуверенно, расстраивался, топтался на месте, как топчется на желтом песке прыгун, чувствующий, что узенькую планку он собьет все равно. Терехов прекрасно знал, что творчество – это сосредоточенность, может, кому-то и везет с вдохновением, а у него – одна сосредоточенность, и никуда тут не денешься, просто нужно все, что есть в нем, поймать, сфокусировать, свести в одно; как ловит, как сводит толстое увеличительное стекло рассеянные солнечные лучи в колющее жаркое шило, способное воспламенить дерево, вот так и сосредоточенность, только она, все, что есть в нем и в мокрой тайге, черным графитом карандаша – черным шилом – может передать бумажному листу.
Но толку от его усилий было мало, и дерево не вспыхивало, а мысли Терехова все скакали, и он потерял надежду, что сегодня у него будет удача.
И, поняв это, он стал водить рукой рассеянно, безвольно, и уже не контуры осины оставались после движений его карандаша, а какие-то неровные круги, которые потом стали превращаться в женские лица. Одно из них показалось Терехову похожим на Надино, и тогда он нарисовал рядом лицо Илги. Дождь шуршал по клеенке, капли его скатывались по хлорвиниловым ложбинкам, и брызги вспрыгивали на белый лист, измученный карандашом. «А ведь он нервничал, нервничал… – подумал вдруг Терехов, и снова встало перед его глазами лицо Олега Плахтина. – А-а-а! Пошло все к черту!»
Ему не хотелось сейчас думать об Олеге и о причинах своего дурного настроения, он решил снова попробовать сосредоточиться и приручить карандаш, но через минуту он сказал себе: «Нет, ничего не получится. Что тут может получиться при таком дожде. При таком холоде…»
Терехов поежился, переменил положение ног, карандаш все ползал по бумаге и чертил что-то, а Терехов думал о том, как может опротиветь холод, и вспоминал солнечные дни своего детства во Влахерме.
Это были хорошие дни, и с ними Терехов связывал свое представление о тепле.
Плавилось все: и воздух, и рельсы железной дороги, и асфальт на шоссе, пропечатанный, измятый босыми ногами пацанья, и солнце плавилось, истекало маревом, а Терехов валялся на горячем бетонном боку лотка у самой зеленовато-черной воды канала и знал, что в любую секунду он может прыгнуть в теплую ленивую воду, тащившуюся от Волги к Москве, и наслаждался этим знанием.
А вокруг визжали мальчишки поменьше, шлепались в воду с трехметровой стены лотка, орали, били по воде руками, швыряли красный резиновый мяч и выкарабкивались по камням на берег с сияющими глазами и посиневшими губами, худые, жилистые, коричневые. И оба травянистых берега от моста и до шлюза с бронзовыми каравеллами были забиты коричневыми людьми, они валялись на зеленых откосах, гоняли мячи, хохотали, дремали, прикрывшись от солнца полотенцами, дулись в петуха, заигрывали с девчонками, счастливые, нагретые солнцем люди.
А потом появлялся кто-нибудь и кричал, захлебываясь от радости: «Плоты!», и все было ясно, и надо было вскакивать с горячего бетонного бока и бежать к шоссе, а потом цепляться за проезжающий в сторону Дмитрова грузовик и лезть в кузов, пахнущий бензином, лежать в нем, да так, чтобы шофер не заметил, а потом, перед самым Дмитровом, выпрыгивать с криком на горячую мякоть асфальта и нестись снова к каналу. Орущая толпа влахермских мальчишек и девчонок бежала к каналу, чтобы перехватить плот в пяти километрах от шлюза с бронзовыми каравеллами, и Терехов, конечно, был среди них, длинный, костлявый тогда, совсем черный от загара, и тоже кричал и показывал пальцем в сторону старенького буксира-брызгуна, пыхтящего вдали, стучавшего по воде деревянными лопатками колес.
Буксир шел бокастый, крепкий, коричневый, из породы «стахановцев», бутафорски чистенькие ведра выстраивались на бортах его собратьев в слова «Мирон Дюканов», или «Алексей Бусыгин», или «Никита Изотов», и другие имена образовывали они, имена предвоенных титанов, знакомых Терехову по учебнику истории и по желтым листам уцелевших газет. Легкие, юркие речные трамваи проскакивали мимо коричневых работяг, успевая прогудеть отрывисто, и разодетые туристы махали руками копошившимся на корме буксира матросам. Трамваи мальчишками были прозваны «летчиками» за их легкий ход и за их имена: «Водопьянов», «Молоков», «Громов». И уж совсем степенно проходили мимо буксиров белые красивые теплоходы, волжские лайнеры, один из которых в фильме «Волга-Волга» принял на борт делегацию Мелководска с затонувшей «Севрюги», и на белых ослепительных боках лайнеров величаво темнело: «Иосиф Сталин», «Клим Ворошилов», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин». На прекрасные теплоходы эти мальчишки любили смотреть, плавали же к ним без особой охоты, потому как волны от них были слабые. Вот буксиры, когда они шли без плотов и барж, волны нагонять умели, ревели, стучали плицами, и в волнах за ними покачивались счастливые мальчишки и девчонки, сбежавшиеся со всей Влахермы: они уже за полчаса знали, что в шлюзе стоит пустой буксир.
Но пустыми буксиры бывали редко. Работы у них хватало, и они тянули и толкали мимо булыжных берегов с кустиками акации, посаженной каналстроевцами, старые приземистые баржи, забитые шинами, автомобилями, пшеницей, желтым речным песком, и длинные, стянутые жадными стальными тросами плоты. Волга работала, тащила на своей горбине всякие тяжести, доверяла их буксирам и самоходкам.
Когда буксир подползал ближе и виден был отчетливо трос, шлепающий по воде, все с криком, не сговариваясь, бросались в канал, плыли, и Терехов плыл со всеми, фыркал, резал угол, стараясь попасть на первую связку мокрых бревен.
Он спешил, хотя и знал прекрасно, что плот по воде не убежит, никуда не денется, и все же старался плыть быстрее и на связку выбирался из воды как-то судорожно, обдирая голые бока о проволоку и острые обрубки бывших сучьев. Он выпрямлялся, стоял, сощурив глаза, и солнце с секунду смотрело ему в лицо, а потом надо было бежать в конец плота, прыгая с бревна на бревно, потому что так было принято у влахермских мальчишек.
Так было принято, и Терехов прыгал, балансируя, раскинув руки, бежал по сосновому бревну и снова прыгал через зеленоватое разводье. Иногда промежутки между связками были большие, и прыгать было опасно, но все прыгали, и даже маленькие шкеты, и Терехов знал, что никто из них ни разу не оступился и не свалился в воду. Иногда ему вдруг хотелось сорваться и упасть в воду или даже самому прыгнуть в зеленоватый промежуток, самый узкий, чувствовать, как сходятся деревянные айсберги, как они собираются раздавить, подмять его, потом, пошутив с ними, он все равно бы вынырнул где-нибудь сбоку от плота, живучим и смеющимся. Желание приходило, и все же Терехов прыгал четко и далеко, бежал со всеми мимо крохотного шалашика, мимо спокойных плотогонов, жевавших жареную рыбу.
Терехов первым прыгал на концевую связку, проходил ее уже медленно, ложился на бревна так, чтобы солнцу было легче жарить его тело, опускал руки в воду, отстававшую от плота, и закрывал глаза.
Он слышал, как рядом устраивалась шумная ребятня, как брякались на соседние бревна Севка, Олег и Надя. Они еще болтали с минуту, но Терехов молчал, и они замолкали.
Терехов так и лежал, уткнувшись носом в лохмотья сосновой коры, в лохмотья великана, еще несколько недель назад росшего за Керженцем, у града Китежа, в ветлужских лесах, слушал все звуки на берегу и на плоту – гудки, разговоры и всплески воды, – а солнце жарило ему шею, спину и ноги. Иногда Терехов открывал глаза, и зеленые аккуратные берега уплывали назад, утаскивали с собой коричневых купальщиков, брезентовые копенки сена и одиноких белых коз, перенаселивших в те годы Влахерму. Терехов поворачивал голову, видел сияющие глаза Севки, Олега и Нади и подмигивал им и показывал большой палец. Было здорово, они оставались наедине с солнцем, с плывущим пропеченным воздухом, с шелушистыми стволами великанов и теплой волжской водой, тут никакие слова ничего не могли передать. А за мостом на берегах кишели счастливые люди, словно справляли здесь какой-то языческий праздник, праздник теплой воды и лета, и Терехов снова подмигивал ребятам и показывал большой палец. А за мостом скоро уже был шлюз, а перед шлюзом их кусочек берега, укутанный бетоном, и они снова прыгали в воду, расставались с плотом, плыли, фыркая, к лотку. Время было беззаботное, без отметок в зачетных книжках и нарядов, и солнце было беззаботное, ласковое Ярило.
Потом прыгали на берегу, швыряли волейбольный мячик, бегали зачем-то, дурачились, и все время Севка, Олег и Надя были возле него. Севка сопел сосредоточенно, он все делал сосредоточенно и молчаливо, словно переваривал что-то, даже по мячу бил, задумавшись; у Олега светились глаза, а Надька бегала, успевая напевать только ей известные песни, и длинные ноги у нее были ссажены на лодыжках и на коленках. Все они были лет на пять моложе Терехова, ему вообще везло на недоростков – мелкота так и вилась вокруг Терехова, потому что он был знаменитым в городе спортсменом, подавал надежды, красиво гонял мяч и шайбу и нырял лучше всех. И каждый раз, когда он появлялся на берегу канала, пацаны заискивающе просили его нырнуть. Терехов никогда им не отказывал, он знал: его «подвигами» малолетки хвастают, даже играют в «Терехова», как он когда-то играл в «Хомича», и он нырял, проплывал под водой половину канала, метров сорок, плыл в черноте, иногда касался руками камней, из которых было выложено дно, а потом, когда канал, тяжелевший с каждой секундой, начинал придавливать его к этим камням, Терехов шутя летел вверх, пробивал головой теплую у поверхности воду и видел, как ребятишки махали ему с берега. Еще, по их просьбе, он, взяв в руки камень посолиднее, чтобы держал на дне, под водой по бетонной дорожке проходил до середины канала, а потом бросал камень, и канал выбрасывал его наверх. Иногда за Тереховым увязывались Надя и Севка, и Терехов слышал, как сзади стукали, скрипели, укладываясь, камни, брошенные ими, сначала Надин, потом Севкин. Севка качался на волнах метрах в двух сзади, и когда Терехов на глазах у публики подплывал к теплоходу, спешившему из Москвы в Астрахань, матросы орали ему что-то свирепое и махали кулаками, а Терехов все же успевал дотронуться рукой до ускользающего белого борта, и ребятишки на берегу приходили в восторг.
Но главные фокусы надо было показывать в августе, в пору лопающихся стручков акации, когда буксиры тащили в Москву из-под Камышина и Сталинграда баржи с арбузами. За баржами плелись черные пустые лодки, на боках барж висели пузатые шины, отбегавшие свое по сухопутью. Лодки и шины эти были предателями, они помогали Терехову тихо и быстро на ходу забираться на арбузные баржи. Терехов словно снимал вражеский пост или, как Айртон в «Таинственном острове», пробирался на корабль к пиратам, плыл беззвучно и в лодку влезал тихо, подтягивался на шину и оттуда на баржу, к юре полосатых арбузов. Потом на баржу выкарабкивался Севка, тащил во рту деревяшку, вроде бы кортик, глаза у него поблескивали озоровато и чуть-чуть испуганно. Можно было бы хватать арбузы и прыгать в воду сразу, но так выходило неинтересно, и Терехов с Севкой стояли и ждали до тех нор, пока кто-нибудь из экипажа не замечал их. Речники с криком выскакивали из каюты, завешанной мокрым бельем и рваными тельняшками, неслись к ним, матерились, а Терехов с Севкой все стояли, со спокойными лицами, как им казалось, и только в самый последний момент, когда их могли уже схватить, они с воплем прыгали вниз, плыли к берегу кролем, гнали перед собой арбузы по-ватерпольному.
Ребятишки на берегу съедали эти два арбуза вместе с корками и только нахваливали. Один Олег Плахтин отказывался от протянутого ему сахарного ломтя, он говорил, что не будет есть краденое. Олег был сердитый, стоял со сжатыми губами и казался Терехову похожим на Тимура или на кого-нибудь из молодогвардейцев. Терехову становилось стыдно, но только на секунду, а потом Терехов доказывал самому себе и всем, что дело тут не в арбузах, а в том, как они с Севкой, рискуя жизнью, пробрались на вражеский корабль, взяли «языка» и под непрерывным огнем фашистов доставили его на берег…
Все это было очень давно, в детстве, в жаркие дни, а сейчас сыпал дождь, и Севка где-то в тайге километрах в сорока от Сейбы ковырялся со своим трелевочным, а Олег Плахтин переезжал в семейное общежитие вместе с Надей. «Ну, хватит, хватит…» – сказал себе Терехов. Но он понимал, что уж тут ничего не поделаешь, что все равно он будет думать об одном и хорошо бы, скорее вернулся Севка.
Терехов прихлопнул этюдник, сунул его под мышку и пошагал в поселок.
4
В коридоре пахло жареным мясом.
Дверь была закрыта, и Терехов постучал. Сердитый Чеглинцев высунулся через секунду и расплылся в улыбке. «А-а, начальник! Как же, ждали, ждали!» Суровый Василий Испольнов привстал из-за стола и подался вперед, словно грудью желал закрыть бутылки на столе. Соломин, согнувшийся над плитой, повернул голову и улыбнулся заискивающе.
– Думал, думал и надумал, – сказал Терехов, – недокормили меня в столовой.
– Ну чо ж, – проговорил Испольнов, – если недокормили…
Глаза его смотрели прямо на Терехова, в упор и вроде бы посмеивались.
– Нет, – сказал Терехов, – уговаривать я не буду.
– И на том спасибо, – кивнул Испольнов.
– Садись, садись, – заспешил Чеглинцев и ловко и красиво, одной левой, за ободранную ножку подал Терехову стул.
Потом он оказался у плиты, деловито похлопал Соломина по плечу, подмигнул Терехову, показав на Соломина пальцем:
– Во дает! Коком бы его на подводную лодку.
– А тебя бы матросом, гальюны чистить, – подсказал Испольнов, – и швабру бы тебе дать…
– А тебя бы боцманом. Билли Бонсом! – обрадовался Чеглинцев. – И Терехова мы бы назначили кем-нибудь… Старпомом! Чтоб он нам мораль читал…
– Ладно, хватит, – сказал Терехов.
Он плюхнулся на фанерное сиденье и стал изучать стены, словно попал в эту комнату впервые. Стена над кроватью Соломина была голубая и пустая, здоровый красно-белый плакат, рассказывающий стихами о развитии химии («беритесь умело… всенародное дело»), гвоздями, накрепко был прибит над кроватью Испольнова, бывшего бригадира, и подчеркивал его сознательность, а чеглинцевский угол заняли легкомысленные фотографии красивых женщин, вырезанные Чеглинцевым из польского «Фильма» и журналов мод.
– Ничего у них жизнь, – сказал Терехов, – без ватников ходить могут.
– Они бы и в ватниках голые плечи показали! – Испольнов покосился на женщин с презрением.
– Вот та симпатичная, – сказал Терехов, – слева.
– Ну! – расплылся Чеглинцев. – Беата Тышкевич. У меня в машине она еще приятней. Дитя большого города… А эта?
Терехов вспомнил, как вчера толкали ребята влезшую в грязь машину Чеглинцева и как потом заглядывали в кабину и все посматривали на знойных женщин, приклеенных к зеленому металлу, и голубые глаза Беаты улыбались им из сладкой нездешней жизни. И тут Терехов вспомнил снова весь вчерашний день, и ему стало тоскливо, и он понял, что забрел в эту пропахшую мясом комнату Чеглинцева поневоле, что просто он оттягивает визит к Олегу с Надей, а явиться к ним надо хотя бы из вежливости.
– Ты все хотел мне рассказать, – мрачно проговорил Терехов, – как взял этого медведя.
– Значит, так, – сказал Чеглинцев, – иду я по лесу. Доверчивый и тихий, – знаешь меня, и тут навстречу он. С газетой в руке. «Привет», – говорит и протягивает мне лапу. Я удивился: откуда он меня знает? Но руку ему пожал. И тут он – раз! – и на землю. Слабый какой-то…
– Значит, с газетой…
– Трепач, – захохотал Испольнов и показал свой золотой зуб, – вот треплет!
– А чего? Он может, – сказал Терехов. – Ему ничего не стоит.
Терехов представил вдруг Чеглинцева в тайге, молодца из добрых старых сказок, с рогатиною в руках, нет, с руками-рогатинами, тренированными черными гирями, все же хорошо, что такие люди ходят по земле.
– Сейчас, сейчас, – пообещал Соломин.
– Она на четвертой стадии, – сказал Чеглинцев, – уже скоро…
Соломин кивнул и заулыбался Терехову, словно он очень любил Терехова и, теперь увидев его, не смог сдержать радости. Длинный нож Соломина ковырял, колол картошку и бурые куски мяса, переворачивал их и играл с ними. Медвежатина была «на четвертой стадии», а Терехов знал, чего стоит возиться с ней. Красное, порубленное на куски мясо бросают в кастрюлю с кипящей водой, варят терпеливо и долго, а потом вываливают на горячую сковородку с подрумянившимся уже картофелем и пожелтевшим луком. Потом мясо надо тушить и добавлять к нему черный перец и лавровый лист, а потом жарить снова и наращивать корочку, горелую, такую, чтобы хрустела на зубах. Бросать мясо со сковородки в кастрюлю и потом обратно, колдовать над ним, как сейчас колдовал Соломин, и все для того, чтобы выгнать, вытравить привкусы и запахи таежного зверя, мотавшегося в бурой мохнатой шкуре, потеплее поролоновой, пропревшего во время гонов и лазаний, выгнать и вытравить непривычный нынешним людям мускусный привкус природы, грубые, толстые волокна медвежьего тела смягчить, облагородить, сделать их похожими на мясо мирного теленка, хватавшего резиновыми губами зеленую травку. Ничего не скажешь, далеко ушла цивилизация за свои тысячелетия, не дремал человек, интересовался не одними атомами и интегралами, торчал у очага, изобрел сковородку, газовую плиту и кухонные комбайны с машинками для сбивания коктейлей, все утончал свой вкус, ел когда-то сырое мясо, а теперь брезгует, даже медвежатину старается превратить в говядину, да еще получше сортом, подправляет природу на сковородке; может, времени и усилий человек на кухне потратил побольше, чем в лабораториях…
– Выпить бы, что ли, – сказал Терехов.
– А ты пьющий? – спросил Испольнов.
Терехов нахмурился. После мирного, вызванного ожиданием еды разговора нагловатая усмешка Испольнова и выражение его глаз удивили Терехова.
Глаза Испольнова были глазами врага. Терехов и чувствовал сейчас Испольнова своим врагом. Они не любили друг друга, и оба знали это, знали давно, уже в те дни, когда их бригады работали бок о бок, работали славно, и имя Испольнова гремело, и он произносил с трибун, обтянутых кумачом, длинные и ладные речи. Терехов не мог объяснить причин своего нерасположения к Испольнову, просто он считал, что нелюбовь к человеку приходит с первого взгляда, как и любовь. Но никогда ни он, ни Испольнов не сталкивались друг с другом, и только глаза иногда выдавали их.
– Я пьющий и курящий, – сказал Терехов, – и матом ругаюсь.
– Не видал, не слыхал, – усмехнулся Испольнов.
Он сидел напротив Терехова у квадратного стола, покрытого клеенкой и куском газеты, за зелеными бутылками «особой московской» и кривил губы, развеселый здоровый парень, с золотым зубом, как с медалью, гармошку бы ему в белые руки, и картуз с цветком на кудрявый русый чуб, и хромовые сапоги, и девок, лузгающих семечки, и небо чистое со звездами, а не эту тоскливую серятину.
– Что-то скучно стало, – неуверенно проговорил Чеглинцев и покосился на Испольнова.
– Пить никак не начнем, – подмигнул Испольнов.
– Слушай, Соломин… – строго сказал Чеглинцев.
– Ага, ага, – заторопился Соломин.
Чеглинцев махнул рукой, подхватил со стола водочную бутылку, подкинул ее и поймал, а потом ладонью саданул по зеленому дну, раз и второй, и после второго удара пробка вылетела резко и со звуком, шлепнулась на соломинскую кровать, капли спрыгнули на клеенку, и Чеглинцев старательно облизнул горлышко, крякнул, со вкусом понюхал рукав и выбил еще две пробки. Сделал он это быстро и красиво. «Порядок», – сказал Чеглинцев и слизнул водку с последнего горлышка. Ссутулившийся Соломин двинулся от плиты со сковородкой в руках, и пахучее жарево зашипело на столе.
– Кушать подано! – манерно наклонил голову Соломин и четыре вилки положил на клеенку.
Он хотел людей повеселить, но улыбка его была искусственной и угодливой, и Терехову стало неловко. Соломин почувствовал это и смутился и застыл над Тереховым.
– Садись, садись, – буркнул Испольнов. Сказал, как приказал.
Чеглинцев кивнул и стал разливать водку в стаканы.
Выпили и начали жевать, и наступила деловитая тишина, которая приходит всегда после первой рюмки, только вилки и зубы работали. Выпили еще, и стало теплее и ленивее, и небо уже не казалось таким скучным, а Чеглинцев принялся расхваливать жареную медвежатину, похлопывал по-отечески Соломина по плечу, и Терехов с Испольновым ему поддакивали. А угощение на самом деле было вкусным, и мясо, и картошка с корочкой, и даже зеленые стрелки черемши. Терехов давно не ел с таким аппетитом и хвалил Соломина искренне. Соломин сидел красный от водки и довольный и все спрашивал: «Ну как? Ну как?» – и радовался каждому ответу.
– Кушайте, кушайте, – приговаривал Соломин, а лицо его при этом становилось таким добрым и ласковым, словно он был поваром, кормившим ревизоров из треста питания.
Терехов жевал, наклонив голову, и думал о том, что он так и не смог привыкнуть к Соломину. Столько его уже знает, а привыкнуть не может. И понять не может, то ли это парень себе на уме, играющий придуманную им роль маленького человечка, услужливою и безответного, или он на самом деле такой, раб, забитый и тихий, денщик делового Испольнова? А ему не так уж трудно было бы стать человеком независимым и самостоятельным, его руки умели делать, наверное, все, да еще как, вот и повар из него мог получиться хороший.
Но он ходил по земле согнувшись, а вечная улыбка его меняла окраску; как море меняет свой цвет, подчиняясь настроению неба, так и соломинская улыбка подчинялась словам и настроению собеседника. Улыбка эта и возмущалась, и радовалась, и грустила вместе с собеседником, но всегда она оставалась тихой и доброжелательной. Даже когда Соломина ругали, он стоял, улыбаясь, и словно бы говорил: «Вы не расстраивайтесь, вы только не расстраивайтесь. Все равно какой из меня может быть толк. Вы же видите, какой я жалкий и безнадежный человек…»
Однажды Терехов ездил в Братск, на бригадирские курсы. Он ходил по стройке и удивлялся всему. И белой стометровой плотине, и голубому морю, расползшемуся по тайге, и махровым малиновым цветам на проволочных ножках у самой воды, и древней башне Братского острога, крепкой и плечистой, отстоявшей триста лет на дне моря и теперь переехавшей к плотине. Вековые лиственничные бревна ее почернели, и морщины разошлись по ним, как по лицу старика. Но не море и не башня особенно поразили Терехова. В вишневом ресторане «Падун», поставленном к приезду Эйзенхауэра, деревянном сарае с линолеумным полом, Терехов увидел швейцара. Толстый розовый человек с короткой выщипанной бородкой в мундире с золотом стоял у дверей, кланялся и, улыбаясь, принимал мелочь. Это было глупо, но Терехов замер, уставившись на швейцара. Он бы замер вот так же, если бы в тайге среди елей и сосен увидел мохнатый кактус. Наверное, ничего странного и неестественного в том, что среди комбинезонов и спецовок появился мундир швейцара, не было, просто в Братск заглянула цивилизация, но Терехову, привыкшему на стройках к людям, уверенным в себе, энергичным, сильным, а порой озороватым и нахальным, согнувшийся человек с улыбкой лакея показался странным и неестественным. И когда Терехов видел Соломина, он вспоминал вишневый ресторан и швейцара с бородой и подвыпивших парней, которые совали, смущаясь, швейцару монеты, а то и бумажки.
– По третьей, – подмигнул Испольнов.
– Слушай, начальник, – сказал Чеглинцев, – ты бы нам какую-нибудь машину выделил до Кошурникова. Завалящую.
– Пешком пройдетесь, – сказал Терехов.
– Это же неблагородно. Так советские люди не поступают. Мы тебя поим, кормим.
– К попутной прицепитесь.
– Он Будкова боится, – вступил Испольнов. – Вдруг тот узнает, что Терехов дезертирам машину дает.
– И ведь Соломин старался, – Чеглинцев ткнул пальцем в грудь Соломина, – ночей недосыпал, все жарил…
– Жарил… – эхом произнес Соломин и заулыбался виновато, словно его уличили в чем-то нехорошем.
– Он Будкова боится, – повторил Испольнов, a потом пригрозил пальцем Терехову. – Будков тебе еще покажет!
– Ладно, пошли вы со своим Будковым к черту! – нахмурившись, сказал Терехов и залпом выпил третий стакан.
– Будков тебе покажет, – Испольнов уже смеялся. – Сойдетесь вы с ним, как два петуха. Только он петух размером со слона!
Испольнов смеялся уже громко, со злорадством, пальцами прищелкивал, до того раззадорили его собственные слова. То ли он хотел разозлить, завести Терехова напоминанием о начальнике поезда, которого Терехов уважал и с которым никак не мог наладить отношения, к своей досаде. То ли Испольнову доставляло удовольствие пророчить Терехову беды и неприятности в будущем, от которых он, Испольнов, был уже избавлен. «Я-то знаю Будкова, еще как знаю, – говорили глаза Испольнова, – и тебе теперь тоже придется узнать его поближе…» Испольнов все смеялся, и глаза его подмигивали, и пальцы прищелкивали, а Терехов сидел молча и только изредка отвечал.
Терехов молчал потому, что водка и медвежатина сделали его благодушным и спокойным, и потому еще, что чутьем, появившимся у него в последние голы, он понимал, что в самые ближайшие дни, а может быть и завтра, пойдет его жизнь беличьим колесом и будут в ней крики, обиды и нервотрепки и вообще начнется всякая дребедень. Такое было предчувствие, и Терехов верил в него. А потому он старался хотя бы сегодня не думать о вещах серьезных, отключиться от них, расслабить мышцы, как боксер перед боем. И он молчал, и его на самом деле не трогали уколы Испольнова, а Испольнов, чувствуя это, злился и в то же время понимал, что махает кулаками по воздуху, и у него пропадал интерес к разговору. Испольнов так и успокоился и пальцами щелкать перестал.
Выпили еще, и потом Чеглинцев нагнулся, крикнул: «Алле гоп!», и зеленоватая бутылка вылетела откуда-то из-под стола, перевернулась в воздухе акробатом под куполом цирка. «Алле гоп!» – и свечкою встала в шершавой ладони Чеглинцева. «Маэстро, музыку!» – закричал Чеглинцев и стал стучать кулаком по дну.
Терехов смеялся. Движения Чеглинцева были легки и красивы, и сам Чеглинцев был красив, богатырская грудь его ходила под синим лавсаном рубашки, и Терехов с удовольствием глядел на него. Терехов смеялся, и Чеглинцев смеялся, и Соломин радостно кивал головой, словно кланялся, и ослепительные женщины с голыми плечами подмигивали с голубой стены и смеялись беззвучно. Отставил стакан Чеглинцев и начал петь; что он там пел, Терехов не разбирал, да он и не вслушивался в слова песни, но что-то в них было жалостливое и грустное; слова эти вовсе не сделали четверых за столом грустными, наоборот, они еще больше развеселили их, и Испольнов с Соломиным стали подпевать Чеглинцеву, а Терехов, разомлевший, скинувший куртку, громче, чем надо, стучал по столу ладонями.
Песня становилась все быстрее и веселее или это только так казалось Терехову. «Давай, начальник, давай!» – крикнул ему Чеглинцев, и Терехов застучал ладонями резвее и громче. Потом они долго трепались, вспоминали всякие веселые случаи из сейбинской жизни, вспоминали только по одной фразе: «А помнишь, когда Будков приехал собрание проводить…», «А помнишь…», и этого хватало, и все хохотали, а потом начинали смаковать детали. Терехов вытирал пот со лба и ворчал добродушно: «Фу-ты, какая горячая печка!»
Терехов сидел сытый, довольный и теплый, и за окном, наверное, была жара, и ребятня прыгала в ленивую воду канала и визжала от радости, хотя откуда здесь мог появиться канал? «Хорошо, что я пришел сюда, – думал Терехов. – Хорошая медвежатина… И парни отличные… Я их уговорю… Я их люблю… Они останутся… Где еще найдешь таких парней… Таких мастеров… И Испольнова я люблю… Я всех…»
– Вы отличные ребята… – пробормотал Терехов.
«Точно! – улыбнулась Терехову красивая женщина с голубой стены. – Все вы отличные ребята!» Она все улыбалась, и ослепительная Беата Тышкевич стала ей кивать. И все красивые женщины заулыбались с голубой стены. Где только выращивают таких, чем их только кормят, чтобы они такие получались! Жизнь пошла веселая. Там на голубой стене в будние, хлопотливые дни особая страна с яркими и сладкими порядками. И у них тут на земле своя страна и сапоги танцуют по грязи. А теперь – пожалуйста! – волшебники добрые, чего им стоило, граница сметена, выкинуты полосатые будки, их можно пустить на дрова, и виз не надо, шагай себе в голубую страну улыбок, рукой помахивай. Хохочущая Беата Тышкевич встречает тебя, тысячи Беат Тышкевич, рыжих, медных, лиловых, пепельных, встречают тебя и поют скачущие слова: «Отлично… идет все отлично», и ноги их пританцовывают ликующе, и на юных плечах их блестит солнце, не юпитерное, жестокое, а всамделишное солнце…
– …а Терехову, значит, привет?
– Что? – спросил Терехов.
– Я говорю, – сказал Чеглинцев, – невеста-то твоя замуж выходит.
– Какая невеста? – удивился Терехов. Словно бы не понял ничего.
– Какая невеста? – тоже будто бы удивился Испольнов.
– Ну как же! – заулыбался Чеглинцев. – Все тогда говорили, что она его невеста. Помнишь?
– Надька-то? – спросил Испольнов и сощурил хитроватые глаза. – А я думал, что у него с врачихой, с Илгой, любовь.
– Назревает! – захохотал Чеглинцев.
Терехов встал.
– Ну спасибо, – сказал Терехов.
– Ты сиди. Ты чего?
– Ну привет. У меня дела.
– Машину-то завтра подкинешь?
– Ну привет! – сказал Терехов.
Он неуклюже потопал к двери. Все начиналось снова. Не было голубой страны и фиолетовых волос Беаты, и теплой печки не было. Был сегодняшний день и вчерашний день, а Олег Плахтин женился на Наде.
– Ну привет, – уже неуверенно, уже закрывая за собой дверь, пробормотал Терехов.
5
Надо было идти к Наде и Олегу, утром он обещал, да если бы и не обещал, надо было идти. Но Терехов все стоял под дождем, в распахнутом плаще, смотрел в небо и языком ловил капли. Капли казались вкусными и пахли сосной.
Терехов дошагал до семейного общежития, дошагал не спеша, все надеялся, что дождь и холодный нервный ветер потихоньку выдуют из него хмель. Но ноги его ступали нетвердо, и в сумрачном коридоре общежития он несколько раз дотрагивался рукой до стены, только так восстанавливая равновесие, а когда кто-то попадался ему навстречу, Терехов бормотал невнятное, и лицо его становилось добрым и виноватым.
Надя была одна, сидела у окна и вязала.
– Привет, – сказал Терехов бодро.
– Павел! Пришел! Какой ты молодец! – Надя вскочила стремительно, подлетела к Терехову с сияющими глазами, жала ему руку и радовалась. – Ты раздевайся! Раздевайся!..
– Сейчас…
Терехов снимал плащ долго и вешал его долго и капли стряхивал медленно.
– А Олег где? – спросил Терехов.
– Я его в Сосновку отправила. В магазин. Нам в среду расписываться назначили.
– В среду?
– Да. Ты садись, садись.
– Я сажусь.
Теперь, когда Терехов сел, он, как и в комнате Чеглинцева, стал осматриваться по сторонам и отыскивать подтверждение того, что в мире произошло событие для него, Терехова, очень важное. По в комнате ничего такого он не увидел, только чемодан Олега высовывался из-под кровати, и на тумбочке стояла фотография Олега, вот и все, что заметил Терехов.
– Да, – сказал Терехов, – я совсем забыл, я тебя поздравляю…
– Спасибо, Павлик. Спасибо.
– Ты счастливая?
– Ага…
– Ну конечно, – сказал Терехов.
Он еще что-то говорил, и она ему отвечала, и он снова говорил, старательно выжевывал слова, и все шло как нельзя лучше. Все эти несчастные мокрые метры дороги от Чеглинцева Терехов думал о том, как он будет неловко и фальшиво произносить вежливые слова, обозначающие его радость, то самое чувство, испытывать которое он сейчас не мог, и как Олег и Надя станут неуклюже и фальшиво отвечать на его слова. Но Надя оказалась молодчиной, она начала так, словно и не было никаких иных отношений между ними тремя, словно все годы, как Терехов, Олег и Надя знали друг друга, они жили только для того, чтобы сегодня Олег и Надя женились, а Терехов радовался этому. Так или иначе, но Терехов с охотой и даже с облегчением принял ее тон и говорил веселые слова, и получалось все естественно и хорошо. Слова эти касались только сегодняшнего, Терехов подумал, что они с Надей прохаживаются шутя по бревнышку, перекинутому через щель в горах, и щель эта называется прошлым, а впрочем, может быть, прогуливался по бревнышку только один он, Терехов.
– Ты не обиделся, что мы тебе не сразу объявили? – спросила вдруг Надя.
– Да нет, ну что ты! Все понятно было. Давно уже.
– А как тебе Олег докладывал?
– Ну! – Терехов развел руками.
– Нет, ты просто не представляешь…
Она так и не договорила, и Терехов не понял, чего он не представляет, он только почувствовал, что здесь, в этом березовом тепле, его может развезти и надо скорее выбираться на улицу.
– Душно здесь, – сказал Терехов, – пройдемся, что ли?
Надя кивнула, и, пока она накидывала на плечи пальто, Терехов потоптался у двери, не очень ясно соображая, зачем понадобилось ему вытаскивать Надю на улицу из этой благопристойной комнаты, не думает ли он, что на воздухе, под дождем смогут вклиниться в их разговор иные слова? Надя собиралась с готовностью, будто бы соглашалась выслушать от него важные признания. А Терехов все топтался, и ничего уже не хотелось ему говорить, только потом вспомнил, что тут его может развезти и лучше побыть на воздухе. Но он не двигался, а все смотрел на Надю.
Надя подходила к нему. Она была красивая, красивее всех на этой планете, а какие женщины на других планетах, никто пока не знал. И вот она бросила все и прикатила сюда, в эту хлябь, утыканную елочками, знаешь сам, почему все бросила и прикатила.
Надя подходила к нему, а с ним ничего не могло произойти, он не мог ни исчезнуть, ни пропасть, ни сбежать, ни протрезветь.
Надя подходила к нему, и она была все такая же, как год, как два, как три года назад, и тайга совсем не изменила Надю, и глаза у нее были все те же, синие, добрые, ждущие чего-то. Те же, да и не те.
– Ты чего? – спросила Надя.
Она протянула ему руку, сжала ею кончики его пальцев и потащила Терехова по коридору. Прикосновение ее руки обожгло Терехова, он шел сам не свой, взволнованный ее близостью, и Терехову казалось, что Надины глаза улыбаются ему. Он не мог идти так дальше. Он остановился.
– Что это ты вдруг со мной так? – сказал Терехов грубовато. – Мужа отправила в Сосновку…
Надины руки исчезли в карманах пальто. Она была теперь далеко-далеко. За синими морями.
– Я думала, тебя надо вести, – сказала Надя.
Коридор был пустой и гулкий, и черные углы его шептались, наверное, за их спинами. И улица была пустая, не находились чудаки, которым доставляло бы удовольствие месить грязь сапогами, только они вдвоем плыли по ней, сами не зная куда. А может быть, это плыли деревья и фанерные ящики домов и сопки тоже плыли. Терехову теперь было все равно, ему казалось, что он успокоился и забыл все, забыл, как обожгла его Надина рука, и можно было снова прохаживаться по бревнышку, перекинутому через прошлое.
– Ты чему улыбаешься? – спросила Надя.
– Я-то? Ну как же! – сказал Терехов. – Я уже хотел стреляться, а теперь вот легче стало.
– Стреляться?
– А ты не знала? Я еще с Банщиковым договорился, с лесорубом. У него хорошая бензопила. Положишь под нее голову – и привет… И еще, на крайний случай. Севка обещал меня переехать на своем трелевочном. На центральной площади… Тумаркин сыграет на трубе… Представляешь зрелище?
– Ты все дурачишься…
– Я человек серьезный. У меня трагедия… Ты выходишь замуж. А я тебя люблю.
Надя остановилась. Она стояла и смотрела на Терехова. Она смеялась, а в глазах ее было любопытство, и удивление, и испуг, и просьба: «Не надо! Только не надо об этом», все было, и Терехов скорчил рожу, чтобы успокоить ее и подтвердить, что он и вправду дурачится.