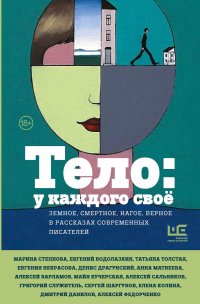Читать онлайн Эффект бабочки бесплатно
- Все книги автора: Александр Архангельский
© Александр Архангельский, 2015
© Ольга Александровна Томилова, фотографии, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
От автора
В эту маленькую книжку собраны разнородные тексты, объединенные только одним – сквозной темой. Где, в какой точке русской истории мы оказались, по каким причинам, что из этого следует, о каких прецедентах полезно напомнить и чего же нам ждать. Все остальное слишком разное, подчас полярно. Здесь есть «неправильное» интервью, превращенное в развернутый монолог, есть интервью «правильное», с вопросами и ответами, есть текущие колонки, есть академические статьи, есть расшифрованная и тщательно прописанная лекция. Но, может быть, в игре на полюсах тоже есть свой смысл. Академическая оптика дает возможность увидеть предмет с высоты птичьего полета, колонка, как якорь, удерживает в точке современности, интервью позволяет скользить по поверхности, в целом получается объемная картина.
Что же до объединяющей мысли, то она – такая. Если не меняться слишком долго, то приходит время революции. Но бывают революции культурные, когда меняется структура ценностей и отношений, и они дают в итоге результат – хотя ничего не сметают. А бывают политические, которые сметают все, но в глубинном смысле не меняют ничего, прошлое воспроизводится в новых формах. Игра с историей в прятки, попытки с помощью искусственной архаизации остановить неизбежные перемены – на первом шаге могут дать желанный результат. И на втором. А на третьем они ведут к тому, что сносит крышу. В самом прямом смысле. Опыт русского XX столетия доказывает это с катастрофической ясностью.
Да и не только XX. Известна красивая историческая параллель, которая, конечно, условна как все исторические параллели. С разрывом ровно в 200 лет основные этапы Великой французской революции и новейшей российской истории обнаруживают поразительное сходство. 1789 год – созываются Генеральные штаты, 1989 – XIX партконференция. Открывается клапан кадрового обновления власти, появляются новые люди, действия которые тотчас входят в противоречие с интересами старых кланов; в обществе начинаются разброд и шатания. 1791 год – неудачное бегство короля, 1991 год – Фарос. Революция вступает в фазу заговоров, за которой – кровавая фаза. 1793 год – казнь Марии-Антуанетты и Людовика, 1993 – попытка переворота и обстрел парламента (настаиваю, обстрел, а не расстрел). Пропускаем несколько этапов… Революция, которая переменила все структуры, но не переменила сознание, захлебывается сама в себе, ей нужен тот, кто остановит ее, усмирит. Это должен быть человек извне, не связанный ни с олигархией, ни с аристократией, ни с самой революцией. В 1799 году полковник Наполеон, только что ставший генералом, получает свой шанс, 18 брюмера. Через 200 лет, в 1999-м – Путин назначен премьером и преемником.
А дальше – неуклонный разворот к реставрации. 1804 год – пожизненное консульство Бонапарта с перспективой императорства. 2004 – второй срок Путина с перспективой пожизненного правления. 1808 год – Тильзит. 2008 – Грузинская война… Если бы Наполеон мог уйти в 1811-м, не было бы ни Березины, ни временной победы в Ватерлоо, ни краха в 1815-м.
На этом ставим многоточие. И на всякий случай делаем оговорку, хотя она и очевидна. Никакие параллели в истории не работают, все случайны. Закономерно только движение больших процессов, логика развития истории. Если революция имеет фазы, то сами эти фазы будут повторяться. А существо перемен и реставраций – нет.
В общем – революция через культуру, через смену отношений была нашим шансом. Как мы им распорядились, вопрос другой.
Автор
1917. Пролог
Как оно, собственно, было1
Выдающийся американо-израильский социолог Шмуэль Эйзенштадт в книге «Революция и преобразование обществ» выделял следующие системные признаки приближающихся революций: 1) им, как правило, предшествуют войны, соперничество между государствами и воздействие формирующихся международных систем; 2) распространяется «фрустрация» (чувство беспросветности) в средних классах; 3) начинаются борьба внутри элиты; 4) происходят массовые восстания; 5) возникают новые умственные течения; 6) активно распространяются технические новшества2.
Все это мы находим в революционной России начала XX века. Но многого мы в ней и не находим.
Так, отсутствовала главная причина классической революции: последовательное, системное ухудшение условий жизни. Официальные советские историки, от авторов «Краткого курса» до Исаака Минцаповторяли ленинские тезисы о нарастающей нищете николаевской Руси; на эту же версию работала канонизированная в СССР литература – любой выпускник советской школы помнил мрачное начало горьковского романа «Мать», где фабричная жизнь описана в красках дантовского ада. (Забавно, что Горький писал это в Капри, созерцая с вершины холма, на котором стоит его вилла, бесконечное сияющее море.)
В ответ эмигрантская публицистика утверждала обратное: жизнь перед революцией лишь улучшалась. Иван Ильин, философ, столь ценимый сегодняшней российской элитой, приводил цифры: с 1894 по 1914 год население России увеличилось на 40%; в одной только европейской части урожай хлебов возрос на 78%; количество рогатого скота возросло на 64%; количество добываемого угля увеличилось на 300%; нефти – на 65%, площадь под свекловицей – увеличилась на 150%, под хлопком – на 350%; железнодорожная сеть возросла на 103%; золота в Государственном Банке прибавилось на 146%. «Россия бурно строилась и расцветала; темп этого строительства значительно, иногда во много раз, опережал рост населения и мог соперничать с темпами Канады.»3 Эту версию с той, западной стороны, подкрепляла и литература; от Ивана Шмелева с его дистиллированными описаниями предреволюционной Руси как области счастья, покоя, изобилия, до Ивана Бунина, который в «Окаянных днях» с нежностью вспоминает роскошь предреволюционной жизни. Той самой жизни, которую он так жестко изображал в повести «Деревня» (1909—1910).
Разумеется, такая дискуссия была заведомо неплодотворной. С одной стороны – идеологизированная наука, боявшаяся, особенно после партийного разгрома 1973 года, говорить о реальном устройстве русского труда и капитала. С другой – политизированная публицистика, не ограниченная рамками строгого академического знания. С одной стороны – разоблачительная и ангажированная проза писателя-революционера, с другой – столь же ангажированная словесность эмиграции, которая всегда мифологизирует утраченное прошлое.
Но в последние годы появились серьезные, лишенные политической подоплеки, научные труды, которые скорее подтверждают версию Ильина и Бунина, чем Минца и Лифшица. Но без сентиментальности и без полемических пережимов. Борис Миронов4, Михаил Давыдов5 и другие исследователи стали привлекать данные, ранее находившиеся за пределами академического интереса, вплоть до железнодорожной статистики и физических показателей призывников в армию (вес, рост, наличие болезней). И убедились, что после реформ Александра II жизнь населения объективно улучшалась. Что подтверждается субъективными воспоминаниями людей того времени; мне недавно пришлось брать интервью у сына и дочери Хрущева, и они не сговариваясь повторяли: Никита Сергеевич перед революцией жил зажиточно, он купил велосипед, наручные часы, пиджак и галстук – и получал зарплату больше, чем во времена руководства московским обкомом, когда был партминимум.
Разумеется, был и 12-часовой рабочий день, и труд шахтеров, которым приходилось раздеваться догола, чтобы выдержать дикую жару в шахтах (что потом аукнулось особой жестокостью донбасской гражданской войны). Смертность от заразных болезней составляла в 1910 году 529 на 100 000 заболевших против 100 случаев в Европе. Продолжительность жизни – 32 (мужчины) / 34 года (женщины), против 50 и 53 в Англии6. Было и отставание в образовательной системе: только 10 университетов при 32 в Германии. Бедность бывала жестокой (хотя голодом, как показала диссертация Н. П. Соколова, при самодержавии считалась ситуация, когда крестьянин вынужден был продавать средства производства; ни о каких голодных смертях и людоедстве, в отличие от советских голодных годов, речи не шло7.) Но кривая благосостояния шла медленно вверх.
И это значит, что отсутствовала та самая мальтузианская ловушка, которую считают ключевым условием социальной революции – когда рост населения критически обгоняет рост производства продуктов питания. Ну или как минимум она была системно ослаблена реформами Александра II. Тот же Б. Миронов показывает, что в начале XX века доходы 10 процентов наиболее обеспеченных россиян превышали доходы 10 процентов самых бедных примерно в 6 раз; в тогдашней Америке, где никакой революции не произошло, примерно в 17 раз.
Итак, русская революция 1917 года готовилась в условиях роста, а не в условиях упадка. Другое дело, что Первая мировая война и особенно ситуация, сложившаяся после 1915 года, спровоцировали резкий экономический спад, а зима 1917 года вообще поставила население крупных город в тяжелейшее положение. Но на той важнейшей стадии, когда «запускались» все политические механизмы, порождающие революцию, она была в гораздо большей степени идеологической, чем классовой. И это вторая ее существенная особенность.
Здесь не место и не время говорить о характере революционного процесса во второй половине XIX века, который начинался с герценовских социалистических утопий, но быстро переродился в романтический террор поздних народников. Но интеллигентский характер революционного протеста в начале XX века очевиден; борьба за идеи, формулы и принципы были важнее, чем достижение конкретных прагматических целей и отстаивания интересов тех или иных конкретных групп. Об этом пишут самые разные историки; особенно жестко Ричард Пайпс, который вообще считает, что у русской революции было только две причины – массовая бедность и активная интеллигенция. Выдавленная самодержавием в подполье, не включенная в процесс открытой и легальной политической борьбы, она заразилась сознанием касты, причем радикально настроенной8.
Как писал религиозный социалист Георгий Федотов, который прошел через членство в РСДРП, а потом отверг революционную философию, интеллигенция «целый век шла с царем против народа прежде чем пойти против царя и народа (1825—1881) и, наконец, с народом против царя (1905—1917)». А другой религиозный мыслитель, уже конца XX начала XXI века, Григорий Померанц утверждал: «В жизни русской интеллигенции постоянно нарастают две тенденции: одна к действию во что бы то ни стало („К топору зовите Русь!“), другая, напротив, окрашена непреодолимым отвращением к грязи и крови истории (Лев Толстой и толстовцы)».9
Но чтобы не впадать в модный антиинтеллигентский пафос, подчеркнем: у этого интеллигентского перекоса русской революции были очень серьезные причины. Основная заключалась в том, не институты и не процессы, а личности и кланы оказались движущей силой политической системы поздней Российской Империи. Партии призваны служить институциональной основой легальной борьбы за реальную власть, но у нас они не имели никаких шансов образовать ответственное правительство, им была оставлена в основном риторическая площадка, их участью были словесные баталии, битвы теоретиков. Даже прохождение партии в Думу не давало рычагов управления. Начали они зарождаться, в полном соответствии с триадой Вебера, как аристократические группировки, но даже до стадии политических клубов не дошли; разгром декабристского движения в 1825 году, именно разгром, до основания, остановил это естественное движение раз и навсегда. Масонские ложи, несмотря на причастность к ним значительной части лидеров февральской революции, не сыграли роль клубов, которые в триаде Вебера предшествуют массовым партиям; наоборот, они воспроизводили клановый характер русской политики.
В итоге на территории Великороссии10 не аристократия, а радикальные разночинные круги стали создателями первых протопартийных структур, от народовольцев до эсдеков и эсэров. А элиты, что сословные, что экономические озаботились партийным строительством только после 1905 года. И мало преуспели. Тем более, что власть не только не способствовала, но и запрещала участвовать губернскому начальству в политических организациях.
В результате грандиозная энергия интеллектуальных, религиозных, культурных поисков начала XX века сама себя перенаправила в словесную стихию, она могла расшатывать, но не имела шансов созидать. Неудивительно, что даже партии центра не понимали логику компромисса; это закон политики, вытесненной в область риторики. Правда, имелась маргинальная по своему весу в легальных институтах, но грандиозная по устремлениям партия РДСРП и ее ядро – большевики; но она-то как раз не ставила перед собой задачу институциональных реформ, ее целью было разрушение существующего строя и взятия власти, причем навсегда. Что до поры до времени казалось неосуществимой утопией. Точно так, как трудно было себе представить, что революционный террор из эксцесса на десятилетия превратится в метод государственной политики.
При этом столь же интеллигентским, столь же риторическим и столь же (с точки зрения институтов) беспомощным был крайне правый лагерь; черная сотня, вышедшая из кружка Мещерского, пользовалась сравнительно большой поддержкой – на пике численность черносотенных организаций была более 400 000 человек, но совершенно не случайно партийный кризис фактически разрушил русскую правую, из рядов националистов история вербовала главных врагов самодержавия и деятелей революции.
Что же до часто повторяемой мысли о большевизме как самом последовательном выражении духа русской интеллигенции, то приведем еще одну цитату из Георгия Федотова: «Нет ничего более ошибочного. …большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции. Большевики – профессионалы революции, которые всегда смотрели на нее как на „дело“, как смотрят на свое дело капиталистический купец и дипломат, вне всякого морального отношения к нему, все подчиняя успеху. Их почвой была созданная Лениным железная партия»11.
Третьей особенностью, которая непосредственно связана с антиинституциональным, идеологическим характером русской революции, было то, что на вызовы модерна и власть, и оппозиция отвечали глубоко архаическим образом. С одной стороны, Николай Второй решился на Манифест 17 октября, то есть на подобие основного закона, с другой, отвечая на вопрос Всероссийской переписи 1897 года (Род занятий? «Хозяин Земли Русской»), он очень точно выразил свое мировосприятие. Его картина мира, которой во многом подчинялись практические действия, была ретроспективной и реакционной; в этой картине мира находилось место всемирному еврейскому заговору, но не находилось места рациональному устройству политической системы, скучному балансу интересов. Он не случайно с таким сочувствием отреагировал на Протоколы сионских мудрецов и был потрясен докладом Столыпина, когда тот представил доказательства подделки; даже отдавая распоряжение изъять Протоколы, царь оговаривал: «Нельзя чистое дело делать грязными способами.» То есть, дело само по себе – чистое.
Распутин не случайно появился на его горизонте; причина, конечно, заключалась прежде всего в болезни сына и мистическом настрое жены, но не только. Эта готовность передоверить судьбу (свою, а отчасти и страны) некоему всезнающему старцу и нежелание полностью отвечать за свою судьбу (и судьбу государства) индивидуально, тоже были частью архаической картины мира высшего представителя правящей элиты.
Однако и противники царя отвечали на эпоху модерна, столь блистательно проявившую себя в русской культуре, науке, философии – глубоко архаически. Причем не только Черная Сотня и Союз Михаила Архангела, которые противопоставляли изменчивой современности – ретроспективную национальную утопию. Столь же архаичными были политические практики прогрессистов, которые воспроизводили модели русского сопротивления второй половины XIX века, с его уклоном в террор, идеологическую нетерпимость, ненависть к институтам и пародию на средневековую аскезу. Это был архаический прогресс, с человеческими жертвоприношениями и самым настоящим культом кровавых героев.
При этом, и тут заключается четвертая особенность русской революции, в стране давно уже вызрела альтернатива как неумеренной архаике, так и безответственному прогрессу. Это философия консервативной модернизации. Одним из ее адептов был Столыпин, который ясно сознавал необходимость разрушения общины, учитывал западный, в частности, датский фермерский опыт, и при этом столь же ясно понимал: на смену ценностных приоритетов нужно время, требуются не только административные решения, но и работа с человеческим сознанием. Другим мощным полюсом консервативной модернизации было русское старообрядчество, которое соединило крайний религиозный консерватизм с невероятной отзывчивостью на все новое и жизнеспособное в области промышленности, техники, науки и искусства. Рябушинские, Щукины, Морозовы закладывали основы русской протестантской этики, причем не теоретически, в отличие от интеллигенции, а практически. И осознанно – ссылки на хорошо прочитанного Вебера мы находим в статьях одного из Рябушкинских, Владимира, профессионального банкира12. Невозможность реализовать эти планы консервативной модернизации резко повышала шансы назревавшей русской революции.
Между прочим, пусть гораздо менее выраженно, схожие процессы протекали в Российской православной церкви. Несмотря на весь политический консерватизм, особенно среди иерархов, несмотря на связь с черной сотней и союза Михаила Архангела даже лучших и талантливейших ее служителей13, она дозрела до отказа от синодального рабства. Она хотела демократического самоуправления, делала ставку на религиозное просвещение и участие в политической жизни, что позже подтвердит великий Собор 1918 года. Но парадокс (если угодно, то и еще одна особенность) заключался в том, что для реализации этой ее потенции тоже требовалась революция. В рамках существующего архаического строя эта консервативная институция не получила возможности саморазвития. Другое дело, что получив от революции эту возможность, Церковь тут же будет лишена самих оснований для независимого существования, но это уже отдельная история.
В последнее время много пишут и еще больше говорят в университетских аудиториях о такой особенности русской революции, как ее связь с сектантскими движениями, особенно с хлыстовством14. Не вдаваясь в обсуждение этой темы, заметим лишь, что такое невероятное влияние эротически-социальных сектантских движений на революционные процессы могло быть- и было – следствием все той антиинституциональности России начала XX века.
Наконец еще несколько особенностей, которыми, конечно же, полноценная характеристика не исчерпывается и даже не очерчивается. Одна из них – в том, что современники так и не смогли себе ответить на вопрос, что такое Октябрь: продолжение Февраля? Его оборотная сторона? Искажение идеалов? Обычный политический переворот и захват власти? Или расплата за изначальную ошибку?