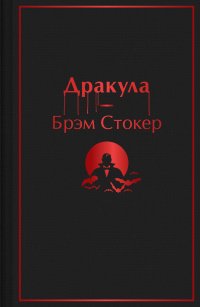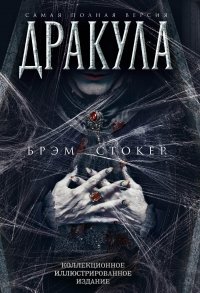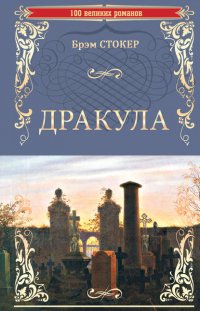Читать онлайн Дракула бесплатно
- Все книги автора: Брэм Стокер
Bram Stoker
DRACULA
© И. С. Веселова, составление, комментарии, 2014
© А. Парфенова, вступительная статья, 2014
© ЗАО Фирма «Бертельсманн Медиа Москау АО», издание на русском языке, художественное оформление, 2014
«Дракула» Брэма Стокера
Роман «Дракула» Брэма Стокера никогда, за более чем столетнюю историю, не переставал печататься. Невероятная популярность, которую он обрел после первой же публикации в 1897 году и которая продолжает жить и эволюционировать с каждой новой версией, является вполне закономерным явлением. В основе романа лежат образы и идеи, которые делают его привлекательным и интригующим для читателей любой эпохи, и даже для нас, живущих спустя столетие после смерти автора.
Своим статусом культового жанрообразующего романа западноевропейской литературы «Дракула» обязан не только острым поворотам сюжета. Роман является глубоким погружением в темы, которые всегда будут волновать людей. В нем есть всё: стереотипы массовой культуры, Фрейд, Юнг, табуированные в Викторианскую эпоху темы женской сексуальности и гомосексуализма. Стокер исследует природу иррационального страха, заглядывает в лицо самому корню зла и видит в нем объект сочувствия. Он играет с читателем, уводя его все дальше и дальше в лабиринт голосов и воспоминаний, стирая границу между реальностью и городской легендой.
Роман «Дракула», как и сам граф, таит в себе множество секретов и скрытых смыслов. Для того чтобы понять секрет его нестареющей популярности, нужно заглянуть в его истоки.
Стокер собирал материалы и писал «Дракулу» в течение семи лет, о чем свидетельствуют его дневники. Однако некоторые исследователи творчества знаменитого ирландца находят предпосылки к написанию «Дракулы» еще в раннем детстве писателя.
Рожденный в 1847 году в Дублине в семье государственного служащего и писательницы, Абрахам «Брэм» Стокер рос болезненным ребенком. Его мать много времени проводила у его постели, развлекая мальчика кельтскими легендами о кровожадных божествах и духах потустороннего мира. Эти рассказы впервые зародили в юном писателе мысль о том, что в современном мире есть место необъяснимому потустороннему злу. Хотя в ирландских мифах нет вампиров, ими изобиловало бульварное чтиво того времени. Так называемые «копеечные ужасы» – дешевые издания, полные крови, живых мертвецов и испуганных юных девиц, были весьма популярны в то время. Начавшаяся в 1870 году реформа образования способствовала повсеместному повышению уровня грамотности в Британии, однако никак не прививала массам вкус к высокой литературе. Даже если Стокер и не читал сами брошюры, он, безусловно, был знаком с их первоисточниками – готическими романами начала ХIX века.
Став взрослым, Стокер увлекся литературой и театром, чему сильно способствовала его близкая дружба с Оскаром Уайльдом и женитьба на молодой актрисе, легендарной дублинской красавице Флоренс Балкомб. Через пять дней после свадьбы, в 1878 году, Стокер переезжает в Лондон и становится управляющим театром «Лайсиум», звездой которого является еще один его близкий друг – актер Генри Ирвинг. Ирвинг – фигура таинственная и неоднозначная. Современники говорили о нем, что актер одним только взглядом мог зомбировать целый зал зрителей. Ирвинг прославился благодаря ролям Мефистофеля и Ричарда III. Он был высоким и субтильным, с пронзительным взглядом и седыми висками, чем сильно напоминал описание самого графа, которое Стокер дает в «лондонских» главах романа, после преображения Дракулы из безобразного старика в мрачного обитателя Лондона.
Тем временем тема жестокого и сверхъестественного набирает все большую популярность в массовой культуре. Один за другим в свет выходят «Странная история Доктора Джекила и Мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Пускай ни один из этих сюжетов не связан напрямую с вампиризмом, оба романа пронизаны идеей персонифицированного зла и урбанистической готикой. В 1888 году на улицах Лондона начинает орудовать Джек Потрошитель.
Несмотря на большую занятость на своей работе в театре и семейную жизнь, Стокер всегда находил время, чтобы писать. «Дракула» – его пятый роман. Ни один из предыдущих не имели ни успеха, ни признания у критиков, но писатель не сдавался. Он посвятил «Дракулу» своему другу и редактору, модному викторианскому писателю Холлу Кейну.
Стокер подошел к сбору материала очень серьезно. «Дракула» написан в очень модном в Викторианскую эпоху эпистолярном жанре. Эту повествовательную модель он выбрал неслучайно. Она позволила автору слой за слоем раскрывать свой замысел, она дала роману заговорить голосами всех главных персонажей, кроме самого Дракулы, тем самым сделав его еще более загадочным.
В 1890 году Стокер с семьей проводит отпуск в приморской деревушке Уитби в графстве Северный Йоркшир. Именно там, в местной библиотеке, он натыкается на пересказ биографии своего будущего героя. Стокер прославил эту деревню, сделав ее местом первой высадки Дракулы на берега Англии в виде огромного пса. В найденной им статье рассказывалось про Влада II по прозвищу Дракон и его сына Влада III, сына Дракона, получившего в народе прозвище Цепеш за свою невероятную жестокость. Слово «дракон» на древнерумынском языке звучало как «дракул».
Первоначально главного героя романа звали граф Вамир. Стокер переименовал его в последний момент. Кто знает, было ли это случайностью или внезапным озарением, но само слово «дракула», такое непривычное, незнакомое, экзотическое для англоязычного читателя, на много столетий вперед стало синонимом ужаса.
Стоит заметить, что в исторических источниках нет никаких записей о том, что граф действительно пил человеческую кровь. Да и рассказы о его невероятной жестокости, вполне возможно, были преувеличены летописцами в силу политической ситуации в Восточной Европе того времени. Однако источники неоднократно упоминают о пристрастии Влада III к пыткам и наказаниям. В частности, к «очищению» согрешивших до свадьбы девиц с помощью каленого железа и поеданию предателями собственных детей в наказание за государственную измену. Да и чего еще ожидать от политического лидера Средних веков, чей век почти всегда был кровавым и коротким, а главным оружием был страх.
Дракула Стокера – сборный портрет. От Влада-старшего он взял прошлое великого воина-полководца, а от младшего – непреступную крепость и кровавый след в истории. Однако Стокер сделал то, что до него не делал никто из авторов викторианских ужасов, – он сделал своего героя реальным. Именно то, что граф Дракула действительно жил, дышал и наверняка убивал, делает его таким страшным, волнующим и многогранным и отличает от любого мифа.
Вампиры до «Дракулы» – это разлагающиеся ходячие мертвецы, терроризирующие далекие аббатства и не имеющие ничего общего с тем привлекательным гламурным образом, ставшим стереотипом в наши дни. Именно Стокер избавил вампиров от когтей и лишних волос, научил их говорить и очаровывать, дал им власть над умами и длинный черный плащ с алой подкладкой. Он же научил мир, как справиться с вампиром. В одной из глав романа доктор Ван Хелсинг подробно описывает необходимые атрибуты охотника: святая вода, распятие, чеснок, серебро. Целиться обязательно в сердце, а потом отрубить голову.
Когда роман вышел в свет, вот что написали о нем в «Манчестер Гардиан»: «Человечество больше не страшится монстров и сверхъестественного. Хоть мистер Стокер и подошел к теме с большим энтузиазмом и мастерством, роман производит впечатление скорее пародии и гротеска, чем ужаса… Целый роман о средневековых страшилках – большая ошибка с точки зрения художественного замысла».
Роман был совершенно не понят и не принят литературным сообществом викторианской Британии. Да это и не могло быть иначе, ведь по своему сюжету он не многим отличался от страшных сказок в дешевом переплете, которыми зачитывались только освоившие грамоту заводские рабочие и крестьяне. Дело было не в том, что происходит в романе, а в том, как и почему. А этого общество того времени предпочло не замечать.
Викторианское общество жило по своим собственным канонам нравственности и морали, сложившимся по сложному стечению исторических обстоятельств. Викторианцы получили в наследство традиционные христианские понятия о добре и зле и устройстве традиционного общества. Однако эти нормы претерпели серьезные изменения, частично приведшие к парадоксам и даже гротескным искажениям в их видении мира.
Изданная в 1859 году «Теория происхождения видов» Дарвина серьезно подкосила религиозные устои британского общества. Именно с тех времен британцы начали трансформироваться в так называемую «нацию атеистов». С одной стороны, общество переживало расцвет науки и промышленности, индустриальную революцию, а с другой стороны – упадок нравов. Подкрепленное христианской доктриной понятие о добре и зле, правильном и неправильном уступило место светскому гуманизму. Грех был грехом, только если становился достоянием общественности. Внешнее соблюдение канонов устаревшей морали стало главнее самой морали. Это привело к формированию извращенного представления о «хорошей» викторианской женщине, так называемого парадокса «Мадонны-шлюхи». Викторианская женщина, жена и мать, существо пассивное, не интересное, зависимое и начисто лишенное сексуальности. В викторианском обществе даже слово «ноги» было под таким строжайшим запретом, что ножки рояля называли «конечностями» и прятали под кружевными или меховыми чулочками. Эдакие средневековые дамы, запертые в высоких башнях, викторианские женщины не имели даже права наследования собственности. Викторианские мужчины находили сексуальное удовлетворение только с продажными женщинами. Это было негласной нормой общества. В Лондоне свирепствовала эпидемия сифилиса, и ученым впервые удалось выявить связь между заражением и сексуальными контактами.
Прочитанный в таком контексте, роман Стокера становится почти скандальным.
В романе обширно затронута тема «противоестественной», запрещенной сексуальности. Справедливо заметить, что любое проявление сексуальности находилось под запретом, в массовой литературе и театре сексуальные сцены подменялись описаниями жестоких убийств.
То влечение и та энергия, которую излучают укушенная Дракулой Люси, Мина и сам граф, не могут быть истолкованы никак иначе как открытый сексуальный призыв. Стокер пишет об отказе от канонов традиционной морали, о животной, грубой чувственности. Это если и не призыв к сексуальной революции, то открытое нарушение табу и пощечина ханжеской викторианской морали.
Кровь и укус символизируют запрещенную в викторианском обществе тематику телесного. После обнаружения инфекций, передающихся половым путем, кровь – воплощение любой биологической жидкости, потенциально несущей смерть. Этот мотив обрел еще больший зловещий смысл в ХХ веке с обнаружением других опасных болезней, передающихся через кровь.
Другой подсознательный страх, ярко прослеживаемый в романе, это ужас Нового Мира перед Старым. В конце ХIX века рабочий класс начал расти и обретать политический вес и собственный голос. Мир стремительно менялся. В таком контексте по-настоящему «старый» дворянин граф Дракула олицетворял собой уходящий мир аристократии с его кажущимися странными обычному человеку привычками и обычаями. На смену изнеженным жителям старинных замков приходят грубые и простые люди, такие как убийца Дракулы, американец Куинси Моррис.
Старый мир повержен с помощью грубой физической силы, а также науки и знаний, которые символизирует собой доктор Ван Хелсинг. Однако Стокер предпочитает завершить роман традиционным хеппи-эндом – торжествует традиционное, викторианское добро и восстановлен прежний порядок вещей.
Образ Дракулы крайне неоднозначен. С одной стороны, его можно прочитать как символ мужского доминирования, которое было важнейшей частью викторианской жизни. С другой – он отверженный, жертва своих желаний, которые он не в силах победить, что приближает его к ненавидимым в XIX веке гомосексуалистам. В то же время Дракула воплощает собой недоверие и ужас перед эмигрантами – ведь он прибывает в Англию нелегально и привозит с собой нарушение порядка, болезнь и смерть. Наверное, именно поэтому образ Дракулы получил такое развитие в американской массовой культуре.
Роман Брэма Стокера «Дракула» изменил ход развития мировой литературы. Его можно прочесть как манифест меньшинств, трактат о викторианской морали или просто пугающий приключенческий роман. В любом случае, читателя ждет увлекательная прогулка по окутанным туманом закоулкам Лондона, куда нередко наведывается то самое безымянное древнее Зло.
Акулина Парфенова
Глава I
Дневник Джонатана Харкера (стенографическая запись)
3 мая. Бистрица[1]
Выехал из Мюнхена 1 мая в 8.35 вечера и прибыл в Вену рано утром на следующий день; должен был приехать в 6.46, но поезд опоздал на час. По тому, что я мельком видел из окна поезда, а также прогуливаясь по улицам, я решил, что Будапешт на редкость красивый город. Я боялся забираться слишком далеко от вокзала, так как наш поезд опаздывал и должен был вскоре отправиться дальше. У меня было такое чувство, точно мы покинули Запад и оказались на Востоке, а самый западный из великолепных мостов, перекинутых через Дунай, достигающий здесь громадной ширины и глубины, напомнил мне о временах турецкого ига[2].
Выехали мы своевременно и к сумеркам прибыли в Клаузенбург[3]. Здесь я остановился на ночь в гостинице «Отель Ройял». Мне подали к обеду или, вернее, к ужину цыпленка, приготовленного каким-то оригинальным способом с красным перцем – прекрасное блюдо, но возбуждающее сильную жажду. (Прим.: взять рецепт для Мины.) На мой вопрос официант ответил, что оно называется паприка гендл[4] и что в Прикарпатье его можно получить, пожалуй, везде, поскольку это национальное блюдо. Я пришел к заключению, что, как ни скудны мои познания в немецком языке, все же они оказали мне большую услугу. Я, право, не знаю, как бы обходился без них.
Имея немного свободного времени, я, будучи в Лондоне, я посетил Британский музей[5], где рылся в атласах и книгах о Трансильвании[6]; мне казалось, что всякая мелочь, любые знания об этой стране окажутся полезными в общении с тамошним аристократом.
Я выяснил, что местность, о которой он писал, лежит на крайнем востоке страны, как раз на границах трех областей – Трансильвании, Молдавии[7] и Буковины[8], посреди Карпатских гор; это один из самых диких и малоизвестных уголков Европы. Мне не попалось под руку ни книги, ни атласа, указывавших точное расположение замка Дракулы, поскольку карт этих мест, сравнимых хотя бы с нашими военно-топографическими, не существует; но я обнаружил, что Бистрица – имеющий собственное почтовое отделение город, упомянутый графом Дракулой, – весьма известна. Здесь я добавлю кое-какие подробности, дабы впоследствии, когда буду рассказывать Мине о своем путешествии и пребывании в этих местах, восстановить в памяти все виденное.
В Трансильвании живут четыре различные народности: на юге – саксонцы[9] вперемешку с валахами[10], народом, происходящим от даков[11]; на западе венгры, и секли[12] на востоке и севере. Последние, к ним и лежит мой путь, утверждают, что ведут свой род от Аттилы[13] и гуннов[14]. Возможно, так оно и есть, ибо в XI веке, когда венгры завоевали страну, она была сплошь заселена гуннами. Я где-то вычитал, что Карпаты, словно подкова магнита, притягивают к себе все мыслимые в мире суеверия, они как будто в центре странного водоворота фантазии; если так, то мое пребывание здесь обещает быть чрезвычайно интересным. (Прим.: надо расспросить обо всем графа.)
Я плохо спал, хотя постель была довольно удобной; мне снились какие-то странные сны. Ночь напролет под окном завывала собака, что, может быть, и повлияло на эти сны, а может быть, виновата паприка, так как, хотя я выпил всю воду в графине, я не смог утолить жажду. Под утро я, кажется, крепко заснул, ведь, чтобы меня добудиться, пришлось полчаса неистово колотить в дверь. К завтраку подали опять паприку, затем особую кашу из кукурузной муки, ее называют здесь мамалыга, и баклажаны, начиненные мясным фаршем, – превосходное блюдо; называется оно имплетата[15]. (Прим.: надо раздобыть и этот рецепт.) Мне пришлось поторопиться с завтраком, поезд отходил без нескольких минут восемь; вернее, должен был отойти, потому что, примчавшись на станцию в 7.30, я больше часа просидел в вагоне, прежде чем мы тронулись с места. Мне кажется, чем дальше на восток, тем менее точны поезда. Что же творится тогда в Китае?
Весь день мы как бы нехотя тащились по местности, изобилующей разнообразными красотами. Нашему взору представали то маленькие городки или замки на вершинах крутых холмов, подобные тем, что встречаются в старинных молитвенниках; то речные потоки, грозящие наводнением, если судить по широким каменистым закраинам по обеим их сторонам. Половодье должно быть бурным, чтобы начисто сметать все с берегов. На каждой станции толпилось множество людей в разнообразных нарядах. Некоторые напомнили мне крестьян моей собственной страны или тех, что я видел, проезжая через Францию и Германию, в коротких куртках, круглых шляпах и домотканых штанах; другие были очень живописны. Женщины представлялись красивыми только издали, вблизи у всех оказывались нескладные фигуры. На них одежда с белыми пышными рукавами разных фасонов, и многие подпоясаны широкими поясами со свисающими кусками ткани, которые колышутся вокруг тела, подобно балетным платьям, но под этим, конечно, были нижние юбки. Наиболее странное зрелище из-за своего самого варварского вида представляли словаки в их огромных пастушеских шляпах, широких бесформенных штанах грязно-белого цвета, белых холщовых рубахах и непомерно тяжелых кожаных поясах почти в фут шириной, густо усаженных медными гвоздями. Обуты они в высокие сапоги, куда заправляются и штаны; у них длинные черные волосы и густые черные усы. Они очень живописны, но нельзя сказать, чтобы очень располагали к себе. Выпусти их на сцену, их бы тут же приняли за матерых восточных разбойников. Однако мне говорили – они совершенно безобидны и скорее от природы лишены уверенности в себе.
Уже ближе к ночи мы добрались наконец до Бистрицы, оказавшейся очень интересным старинным уголком. Находясь практически на границе – через ущелье Борго отсюда попадаешь прямо в Буковину, – он пережил немало бурных событий, оставивших о себе заметную память. Около пятидесяти лет назад разразившиеся один за другим грандиозные пожары пятикратно производили ужасное опустошение. В самом начале семнадцатого века город выдержал трехнедельную осаду, потеряв 13000 человек, унесенных вместе с павшими на поле брани, голодом и болезнями.
Граф Дракула в своих письмах рекомендовал мне гостиницу «Золотая корона», которая, к моему восторгу, оказалась выдержанной в старинном стиле, ибо я конечно же хотел как можно лучше постигнуть эту страну. По-видимому, моего приезда здесь ожидали: в дверях меня встретила бодрая на вид пожилая женщина в обычном крестьянском костюме – белой рубахе и длинном цветном фартуке из двух полотен, впереди и сзади, едва ли не чересчур облегающем, если говорить о приличиях. Когда я подошел, она, поклонившись, спросила: «Господин – англичанин?» «Да, – ответил я. – Джонатан Харкер». Она улыбнулась и что-то сказала человеку в белой рубахе, вслед за ней вышедшему к дверям. Удалившись, он тотчас вернулся с письмом:
«Мой друг, добро пожаловать в Карпаты! С нетерпением жду вас. Эту ночь спите спокойно. Завтра в три часа дилижанс отправится в Буковину; одно место предназначается вам. В ущелье Борго будет ожидать коляска, которая и доставит вас в замок. Надеюсь, вы благополучно добрались из Лондона и вам доставит удовольствие пребывание в моей прекрасной стране.
Ваш друг Дракула».
4 мая.
Я узнал, что хозяин гостиницы получил от графа письмо с распоряжением оставить для меня лучшее место в экипаже, но в ответ на более подробные расспросы он как будто отмалчивался, притворяясь, что не понимает моего немецкого языка. Это выглядело неправдоподобным, потому что до сих пор он прекрасно его понимал – во всяком случае, отвечал именно так, как нужно. Переглядываясь как-то испуганно со своей женой, пожилой особой, встречавшей меня, он наконец промямлил, что деньги были посланы в письме и что больше ему ничего не известно. Когда я спросил, знает ли он графа Дракулу и не может ли что-нибудь рассказать о замке, они с женой перекрестились и, сказав, что они ровным счетом ничего не знают, просто-напросто отказались от дальнейших разговоров. До отъезда оставалось так мало времени, что расспросить никого другого я не успел; все это было так таинственно и ни в малой степени не успокаивало.
Перед самым отъездом ко мне поднялась старая хозяйка и заговорила почти в истерике: «Вам нужно ехать? Ах! Молодой господин, вам обязательно надо ехать?» Она была так взволнована, что, по-видимому, растеряла и тот малый запас немецких слов, которым владела, и потому примешивала к немецкому языку какой-то другой, мне совершенно незнакомый. Я едва был способен улавливать смысл и постоянно переспрашивал. Когда я сказал, что должен ехать сейчас же, что меня призывает туда важное дело, она снова спросила: «Известно ли вам, какой сегодня день?» Я ответил, что сегодня 4 мая; она покачала головой, говоря: «Я-то знаю, знаю! А вы-то знаете, что за день сегодня?» Видя, что я понятия не имею, о чем идет речь, она продолжала: «Сегодня канун Святого Георгия[16]. Нынче ночью, едва лишь пробьет двенадцать, вся нечисть, какая только есть на земле, войдет в полную силу. Да знаете ли вы, куда едете и что вас там ожидает?» Отчаяние ее было настолько явным, что я попытался ее утешить, но безуспешно. Под конец она упала передо мной на колени и умоляла меня не ездить; по крайней мере, обождать день или два. Все это было весьма забавно, однако мне сделалось не по себе. Тем не менее меня призывали дела, и я не потерпел бы никакого вмешательства. Поэтому я стал поднимать ее с колен и как можно строже сказал, что благодарю за предупреждение, но обязанности призывают меня и я должен ехать. Тогда она встала, утерла глаза и, сняв со своей шеи крест, протянула мне. Я не знал, как поступить, принадлежа к англиканской церкви[17], я с детства привык смотреть на такие вещи как на своего рода идолопоклонство, но отказать старой даме, которая столь явно желала мне добра да еще пребывающей в таком душевном состоянии, было бы слишком неблагодарно. Думаю, она по выражению моего лица распознала мою нерешительность, так как просто надела мне крест на шею, прибавив: «Во имя вашей матери», и вышла из комнаты. Вношу это в дневник, дожидаясь кареты, которая, конечно, запаздывает; а крест так и остался на мне. Из-за страхов ли старой дамы или из-за многочисленных здешних преданий о призраках, а может, из-за самого креста – не знаю, только на душе у меня далеко не так спокойно, как прежде. Если этим запискам суждено увидеть Мину раньше меня, пусть они передадут ей мой привет. Вот и карета едет.
5 мая. В замке.
Предрассветная мгла рассеялась, солнце стоит в вышине над далеким горизонтом, линия которого кажется изломанной; не знаю, деревья или холмы придают ей такой вид – все так далеко, что большое неотличимо от малого. Мне не хочется спать, и поскольку меня не должны будить, пока я сам не проснусь, то стану писать, покуда не сморит сон. Предстоит рассказать о многих странных вещах, но, дабы не вообразили читающие, что я слишком плотно пообедал перед отъездом из Бистрицы, я подробно опишу свой обед. Мне подали блюдо, которое здесь называется «разбойничье жаркое»: это куски бекона, говядины и лук, приправленные красным перцем, – все нанизывается на палочки и жарится прямо на углях, так же как в Лондоне мясные обрезки. Вино подали «Золотой Медиаш»[18], странно щиплющее язык, но в общем приятное на вкус; я выпил всего пару бокалов этого напитка и больше ничего.
Когда я садился в карету, кучер еще не занял своего места, и я видел, как он беседовал с хозяйкой. Они, наверное, говорили обо мне, так как то и дело поглядывали в мою сторону; некоторые из тех, что сидели снаружи у двери на скамейке – они называют ее словом, означающим что-то вроде «площадки для разговора», – подходили, прислушивались и тоже поглядывали на меня, все больше с сожалением. Я расслышал немало слов, часто повторявшихся, слов странных, так как в толпе были люди различных национальностей; я незаметно вытащил из сумки свой многоязычный словарь и начал листать. Нельзя сказать, чтобы найденные слова звучали особенно ободряюще; вот значение большинства из них: «Ordog» – дьявол, «рокоl» – ад, «stregoica» – ведьма, «vrolok» и «vlkoslak» – значение обоих слов одно и то же, но одно по-словацки, а другое по-сербски обозначают нечто среднее между оборотнем и вампиром. (Прим.: я должен подробно узнать у графа об этих суевериях.)
Когда мы наконец поехали, в толпе у дверей гостиницы, разросшейся к этому времени до значительных размеров, все перекрестились и наставили на меня два растопыренных пальца. Не без труда я добился от одного из моих спутников объяснения, что все это значит; сначала он не хотел отвечать, но, узнав, что я англичанин, сказал, что жест служит как бы амулетом и защитой от дурного глаза. Мне это было не особенно приятно, ведь я отправлялся к неизвестному человеку в незнакомое место; но все были так добросердечны, так сокрушались и выказывали столько расположения, что это не могло не растрогать. Никогда не забуду гостиничный двор, каким он предстал мне в тот последний миг: толпа живописных персонажей, стоя под аркой широких ворот на фоне пышных крон олеандровых и апельсиновых деревьев, выставленных в зеленых кадках посредине двора, крестится. Потом наш кучер, закрыв все козлы своими широченными холщовыми штанами – их называют готца, – щелкнул длинным бичом над четверкой своих лошадей, и мы тронулись в путь.
Вскоре я забыл о страхе перед привидениями, залюбовавшись открывающейся картиной, однако понимай я язык или, вернее, языки, на каких говорили мои спутники, я, пожалуй, не смог бы отбросить его с такой легкостью. Перед нами расстилалась зеленая, покрытая лесами и дубравами местность; то здесь, то там высились большие холмы, увенчанные или рощами, или крестьянскими дворами, белые остроконечные края крыш которых были видны с дороги. Везде по пути в изобилии встречались всевозможные фруктовые деревья в цвету – груши, яблони, сливы, вишни, и, проезжая мимо, я прекрасно видел траву под ними, сплошь усеянную опавшими лепестками.
Между зелеными холмами этой «срединной земли», как тут ее называют, шла дорога, вдруг пропадая из виду, когда огибала поросший травой склон или когда ее закрывали отдельные группы сосен, языками пламени сбегавших вниз по склонам. Дорога была неровная, но мы неслись по ней с какой-то лихорадочной быстротой. Мне была непонятна причина такой поспешности, но кучер явно не собирался по пути к ущелью Борго терять ни минуты. Мне говорили, что летом состояние этой дороги превосходное, но сейчас ее не привели еще в порядок после зимних снегопадов. В этом отношении она отличается от прочих карпатских дорог, ибо их не поддерживают в слишком хорошем состоянии, такова старая традиция. В давние времена господари[19] не стали бы их подправлять, чтобы турки не подумали, будто они готовятся ввести чужеземные войска, и не поспешили бы начать войну, до которой, в сущности, всегда был только шаг.
За зелеными волнистыми холмами виднелись цепи Карпатских гор, покрытых могучими лесами. Они возвышались по обе стороны ущелья Борго, ярко озаренные заходящим солнцем, отливая всеми цветами радуги: густо-синими и лиловыми были тени, падавшие от вершин, зеленое и коричневое виднелось там, где на скалах пробивалась трава, и бесконечная череда зубчатых скал и острых утесов терялась вдали, где величественно вздымались снежные вершины. Здесь и там в скалах зияли мощные расселины, и сквозь них, по мере того как солнце садилось все ниже, мы то и дело видели серебряный блеск водопадов. Когда мы обогнули подножие холма и нам предстала вознесенная в небеса, покрытая снежной шапкой вершина, которая, казалось, стояла прямо на нашем пути, змеей извивавшемся вверх, один из спутников коснулся моей руки:
– Смотрите! Isten szek! Престол Божий! – и благоговейно перекрестился.
Мы продолжали наше бесконечное путешествие, а солнце за спиной спускалось все ниже и ниже, и вечерние тени начали стлаться вокруг. Это состояние усиливалось тем, что снежные вершины еще удерживали предзакатный свет и, казалось, испускали слабое розовое сияние. По дороге нам встречались чехи и словаки, всегда в живописной одежде, но я заметил, что у многих из них болезненно большой зоб. По обочинам стояло множество крестов, минуя которые мои спутники неизменно крестились. Здесь и там деревенский житель или жительница преклоняли колени у святого образа, нисколько не обращая внимания на наше приближение, забывшись в молитве, слепые и глухие ко всему внешнему миру. Многое мне было в новинку – например, скирды сена на деревьях и дивные рощи плакучих берез, их белоснежные стволы, серебристо просвечивающие сквозь нежную зелень листвы. Время от времени нам попадался leiterwagon – обычная деревенская повозка – с ее длинной, состоящей как бы из отдельных звеньев оглоблей, приспособленной к неровностям дороги. В них располагались живописные группы возвращающихся домой крестьян – чехи в своих белых, а словаки в крашеных овчинах; последние вооружены посохами с топориком на конце, которые они носят на манер копья. По мере того как вечерело, становилось все холоднее, и в сгущающихся сумерках мрачные купы деревьев – буки, дубы и сосны сливались в единую темную мглу, хотя в долинах, глубоко утопавших между отрогами гор, на фоне все еще не стаявшего снега, то тут, то там выделялись сумрачные ели. Временами дорога шла через сосновые леса, в темноте готовые, казалось, поглотить нас, какие-то плотные сгустки мглы между деревьями нагоняли некую особую темную, потустороннюю жуть, которая возбуждала зловещие фантазии и мысли, порожденные еще раньше причудливой формой подсвеченных гаснущим закатом облаков, подобно призракам, неустанно несущимся над карпатскими горными долинами.
Местами холмы были до того круты, что лошади, сколько ни погонял их кучер, могли двигаться только шагом. Я хотел, как это принято у нас дома, сойти и помочь лошадям, но кучер и слышать не желал об этом. «Нет-нет, – говорил он. – Вы не должны здесь ходить, тут бродят слишком свирепые собаки», – и затем добавил, явно намереваясь зловеще пошутить: «Вы еще тут и не такого насмотритесь, прежде чем отойдете ко сну». Он только раз остановился, и то лишь для того, чтобы зажечь фонари.
Когда стало темнеть, пассажиры как будто заволновались и один за другим стали просить кучера ехать быстрее. Безжалостными ударами своего длинного кнута и дикими выкриками кучер заставил лошадей буквально лететь. Потом я увидел в темноте впереди нас какое-то мутное пятно света, будто холмы расступились. Волнение среди пассажиров все увеличивалось; шаткая наша повозка подскакивала на своих больших кожаных рессорах и раскачивалась во все стороны, как лодка в бурном море. Мне пришлось крепко держаться. Затем дорога выровнялась, и мы словно летели по ней. Теперь горы, казалось, наступали на нас с обеих сторон, хмуро нависая над нами, – мы въезжали в ущелье Борго. Некоторые мои спутники по очереди стали одаривать меня, вручая подарки с такой глубокой серьезностью, которая просто не допускала отказа; подарки, надо сказать, были причудливые и разнообразные, но каждый давался в простоте душевной, сопровождался добрым словом, благословением и той странной смесью выдающих страх жестов, которые я видел в Бистрице, – люди крестились и выставляли два пальца от дурного глаза. Потом, несясь в повозке все дальше, кучер подался всем телом вперед, а пассажиры перегнулись через борта и нетерпеливо всматривались в окружающую мглу. Ясно было, что впереди происходило или ожидалось что-то необыкновенное, хотя, сколько я ни расспрашивал пассажиров, никто мне не дал ни малейшего объяснения. Это всеобщее волнение продолжалось еще некоторое время, пока наконец мы не увидели перед собой выезд из ущелья. Над головой клубились черные тучи, тяжелый, душный воздух предвещал грозу. Казалось, горная цепь разделила атмосферу надвое и теперь мы попали в грозовую. Я внимательно смотрел на дорогу в ожидании экипажа, который повезет меня к графу. Каждую минуту я ожидал увидеть во мраке свет фонарей; но всюду было темно. Единственным светом были дрожащие лучи наших собственных фонарей, в которых белым облаком над взмыленными лошадями поднимался пар. Теперь стала явственно видна белевшая перед нами песчаная дорога, но на всем ее протяжении даже и намека не было на какой-либо экипаж. Пассажиры, точно в насмешку над моим разочарованием, облегченно вздохнув, откинулись на сиденьях. Я задумался над тем, что предпринять, когда кучер, взглянув на часы, сказал другим что-то таким тихим приглушенным голосом, что я едва расслышал; кажется, это было: «На час раньше времени». Затем он повернулся ко мне и сказал на отвратительном немецком языке, еще хуже моего: «Нет никакой кареты. По-видимому, господина не ждут. Лучше пусть он сейчас поедет с нами в Буковину, а завтра вернется обратно или на следующий день – даже лучше на следующий день». Пока он говорил, лошади начали ржать, фыркать и дико рыть землю, так что кучеру пришлось сдерживать их.
Пассажиры дружно вопили и крестились, а тем временем позади показалась запряженная четверкой лошадей коляска, которая, догнав нас, остановилась возле дилижанса. Когда лучи от наших фонарей упали на коляску, я увидел великолепных породистых лошадей, черных как уголь. На козлах сидел человек с длинной каштановой бородой, в широкой черной шляпе, которая как бы скрывала его лицо. Я мог разглядеть лишь блеск пылающих глаз, показавшихся красными в свете фонарей, когда он повернулся. Он обратился к кучеру:
– Ты что-то рано сегодня приехал, друг мой.
Возница, заикаясь, ответил:
– Господин англичанин очень торопил.
На что незнакомец возразил:
– Верно, поэтому ты и посоветовал ему ехать в Буковину! Ты меня не обманешь, друг мой; я слишком многое знаю, да и лошади у меня быстрые.
При этом он улыбнулся, и луч фонаря осветил его резко очерченный жестокий рот, ярко-красные губы и острые зубы, белые, как слоновая кость. Один из моих спутников прошептал своему соседу строку из «Леноры» Бюргера[20]:
– «Denn die Todten reiten schnell»[21].
Незнакомец, очевидно, расслышал эти слова и, сверкнув улыбкой, посмотрел на говорившего. Пассажир отвернулся, перекрестившись и выставив два пальца. «Подай мне багаж господина», – сказал незнакомец, и необычайной быстротой мои вещи были вынуты из дилижанса и положены в коляску. Потом я перешагнул через борт дилижанса, поскольку коляска стояла бок о бок с нами, кучер, помогая мне, подхватил меня под руку, хватка была у него стальная, должно быть, он обладал чудовищной силой. Он молча дернул вожжами, лошади повернули, и мы понеслись во мрак ущелья. Оглянувшись, я увидел при свете фонарей поднимавшийся над лошадьми пар и чернеющие на этом фоне силуэты моих недавних спутников, которые крестились. Потом наш кучер щелкнул бичом, гикнул, и вот уже лошади мчат своей дорогой в Буковину. Как только они канули во мрак, меня охватило чувство одиночества и странный озноб; но мне на плечи сейчас же был накинут плащ, колени укрыты пледом, и кучер обратился ко мне на прекрасном немецком языке:
– Ночь холодна, mein Herr[22], а господин мой, граф, приказывал окружить вас особым вниманием. Под сиденьем приготовлена для вас, если захотите, фляжка сливовицы.
Я не прикоснулся к ней, но приятно было сознавать, что она под рукой. Я чувствовал себя немного странно и был немало напуган.
Думаю, будь у меня хоть какая-нибудь возможность выбора, я бы ею воспользовался, вместо того чтобы пускаться в это неведомое ночное путешествие. Коляска с бешеной скоростью неслась прямо вперед, потом мы сделали полный разворот и снова понеслись, никуда не сворачивая. Мне сдавалось, что мы снова и снова колесим по одним и тем же местам; тогда я выбрал себе ориентир и обнаружил, что так оно и есть. Мне очень хотелось спросить возницу, что это значит, но я определенно боялся так поступить, полагая, что, если задержка была предумышленной, в моих обстоятельствах никакие протесты ни к чему бы не привели. Вскоре, однако, желая узнать, который час, я чиркнул спичкой и при свете ее взглянул на часы; до полуночи оставалось несколько минут. Это было для меня своего рода ударом, – полагаю, недавние мои впечатления усугубили всеобщий суеверный страх перед полуночью. Я ждал с болезненным чувством жуткой неопределенности.
Вдруг где-то вдалеке, на крестьянском дворе, завыла собака – долгий тягучий жалобный вой, словно в агонии ужаса. Ее поддержала другая собака, потом еще одна и еще, пока, подхваченный ветром, проснувшимся в ущелье, их вой не слился в дикую какофонию, разносимую, казалось, по всей окрестности, насколько хватало воображения представить ее в ночной мгле. При первых этих звуках лошади стали беситься и вставать на дыбы, но возница заговорил с ними, успокаивая, и они притихли, однако дрожали и роняли капли пота, как будто избежав неожиданной угрозы. Потом в отдалении, с гор, по обе стороны от нас раздался вой еще громче и пронзительней – на этот раз уже вой волков, который повлиял одинаково как на меня, так и на лошадей, ибо я был склонен выпрыгнуть из коляски и удрать, между тем как лошади опять взвились на дыбы и бешено бросались вперед, и кучеру пришлось употребить всю свою громадную силу, чтобы сдержать их и не дать понести. Через несколько минут, однако, мое ухо привыкло к вою, а лошади настолько успокоились, что возница имел возможность сойти и встать перед ними. Он гладил их, успокаивал и шептал что-то им на ухо, как делают, я слышал, объездчики лошадей, причем успех был необычайный, и лошади под его ласками опять стали смирными, хотя и продолжали дрожать. Возница снова уселся на козлы и, взяв вожжи, тронулся в путь крупной рысью. Наконец, миновав ущелье, он внезапно свернул на узкую темную дорогу, которая резко поворачивала направо.
Вскоре нас окружили деревья, которые местами образовывали свод, так что мы ехали как бы сквозь туннель; а потом опять с двух сторон открылись перед нами мрачные утесы. Хотя мы были под их защитой, но все же слышали завывание ветра, который со стоном и свистом проносился по утесам, ломая ветви деревьев. Становилось все холоднее и холоднее, и наконец пошел редкий, крупный снег, который вскоре укрыл и нас, и все окружающее белой пеленой. Резкий ветер доносил до нас лай собак, который, однако, становился все слабее по мере того, как мы удалялись. Зато вой волков раздавался ближе и ближе, и казалось, что мы были окружены ими со всех сторон. Мне стало необычайно страшно, и лошади разделяли мой испуг. Возница не выказывал ни малейшей тревоги; он постоянно поглядывал то направо, то налево, я же не мог ничего различить во мраке.
Вдруг слева показался слабый мерцающий голубой огонек. Возница в тот же миг заметил его; он сейчас же придержал лошадей и, спрыгнув на землю, исчез во мраке. Я не знал, что делать, тем более что волчий вой приближался, но, пока я недоумевал, возница неожиданно возник снова и, ни слова не говоря, уселся на место, и наше путешествие продолжалось. Я, должно быть, заснул и во сне вновь и вновь обращался к этому эпизоду, потому что, казалось, повторялся он бесконечно и, если теперь оглянуться назад, он больше походил на жуткий ночной кошмар. Как-то раз огонек показался так близко от дороги, что, несмотря на полный мрак, окружавший нас, я мог совершенно ясно различить все движения кучера. Он быстро направился к месту, где появился голубой огонек, и, набрав немного камней, выложил из них какую-то фигуру (огонек, должно быть, был очень слаб, он, казалось, нисколько не освещал пространство вокруг себя). Раз возник странный оптический феномен: оказавшись между мной и огоньком, возница не загородил его собой, я все так же различал призрачное мерцание. Это явление поразило меня, но так как это продолжалось лишь одно мгновение, то я решил, что это обман утомленного зрения, уставшего от напряжения в абсолютной тьме. Потом на время мерцание синего пламени прекратилось, и мы поспешно двинулись вперед сквозь мрак, под удручающий аккомпанемент воя волков, которые, как бы держась полукругом, преследовали нас.
Наконец наступил момент, когда возница отошел дальше, чем прежде, и в его отсутствие лошади начали дрожать, как никогда, храпеть и пронзительно ржать от ужаса. Я никак не мог понять причины этого – вой волков совершенно прекратился; но в этот самый миг луна, выплыв из темных туч, появилась над изорванным гребнем нависающей, поросшей соснами скалы, и в ее свете я увидел вокруг нас кольцо волков с белыми зубами, высунутыми красными языками и длинными мускулистыми ногами, поросшими грубой шерстью. Они были во сто раз страшнее теперь, в охватившем их ужасном молчании, даже страшнее, чем тогда, когда выли. Что касается меня, то я от страха не мог пошевелить ни рукой ни ногой и потерял голос. Лишь очутившись лицом к лицу с подобным ужасом, может человек постичь его подлинную сущность.
Вдруг волки разом снова пронзительно завыли, как будто лунный свет производил на них какое-то особое действие. Лошади вскидывались на дыбы, брыкались и беспомощно поводили глазами, так что больно было смотреть, но живое кольцо ужаса окружало их со всех сторон и поневоле заставляло оставаться в центре его. Я начал звать возницу; мне казалось, что единственным спасением было прорваться сквозь кольцо и помочь ему добраться до нас. Я кричал и стучал, надеясь этим шумом отпугнуть волков с этой стороны и дать ему таким образом возможность подойти к дверце.
Откуда он вдруг появился – не знаю, но я услышал его голос, который прозвучал повелительным приказом, и, повернувшись на звук, я увидел его на дороге. Он протянул свои длинные руки, как бы отстраняя неосязаемое препятствие, и волки начали медленно отступать, но тут большое облако заволокло лик луны, и мы опять очутились во мраке.
Когда луна выглянула снова, я увидел возницу, взбиравшегося на сиденье, а волков и след простыл. Все это было так странно и жутко, что я почувствовал безумный страх и боялся пошевелиться или заговорить. Время тянулось бесконечно. Мы продолжали путешествие уже почти в совершенной тьме, так как проносившиеся облака совсем закрывали луну. Мы поднимались в гору, только изредка, время от времени, спускаясь, а потом поднимались опять. Я не помню, сколько времени это продолжалось… Неожиданно я осознал, что возница останавливает лошадей во дворе необъятного полуразрушенного замка, из чьих высоких слепых окон не пробивалось ни единого лучика света, а разбитые крепостные стены рваной линией рисовались на залитом лунным светом небе.
Глава II
Дневник Джонатана Харкера (продолжение)
5 мая.
Я, должно быть, задремал, иначе, наверное, заметил бы приближение к столь замечательному месту. Во мраке представлялось, что двор внушительных размеров, но поскольку несколько темных проходов уходили из него под высокие своды арок, он, возможно, казался больше, чем был на самом деле. Я и до сих пор еще не видел его при дневном свете. Когда коляска остановилась, возница соскочил с козел и протянул мне руку, чтобы помочь сойти. Тут я опять невольно обратил внимание на его чудовищную силу. Его рука положительно казалась стальными клещами, которыми при желании он мог раздавить мою руку. Затем он извлек мои пожитки и положил их возле меня; я же стоял у величественной двери, древней и усаженной крупными железными гвоздями, с выступающим массивным каменным порталом. Даже при тусклом свете мне было видно, что камень портала густо покрыт резьбой, наполовину стершейся, однако, от времени и непогоды. Пока я стоял, кучер опять взобрался на козлы, тронул вожжи, лошади дернули и скрылись вместе с экипажем под одним из темных сводов.
Я остался на месте, не зная, что предпринять. У дверей не видно было даже намека на звонок или молоток; не было также и надежды на то, что мой голос может проникнуть сквозь мрачные стены и темные отверстия окон. Мне стало казаться, что я жду здесь бесконечно долго, и меня начали одолевать сомнения и страх. Куда я попал? К каким людям? В какую ужасную историю я впутался? Было ли это обыкновенным рядовым эпизодом из жизни подручного стряпчего, посланного к иностранцу для разъяснений по поводу приобретаемого им в Лондоне недвижимого имущества? Подручный! Мине бы это не понравилось. Стряпчий! Ведь перед самым отъездом из Лондона я узнал, что мои экзамены прошли успешно; так что, в сущности, я теперь стряпчий[23], а не подручный стряпчего… Я начал тереть глаза и щипать себя, чтобы убедиться, что не сплю. Все это продолжало казаться мне каким-то ужасным ночным кошмаром, и я надеялся, что вдруг проснусь у себя дома, а в окно будут литься солнечные лучи – временами я так себя чувствовал наутро после целого дня интеллектуального перенапряжения. Но, к сожалению, мое тело отчетливо чувствовало щипки, а глаза не обманывали меня. Я действительно не спал, а находился в Карпатах. Мне оставалось только запастись терпением и ждать наступления утра.
Как раз когда я пришел к этому заключению, я услышал приближающиеся тяжелые шаги за большой дверью и увидел сквозь щель мерцание света. Потом раздалось громыханье цепей, шум отодвигаемых массивных засовов. С громким скрежетом после долгого бездействия повернулся ключ, и большая дверь медленно распахнулась.
В дверях стоял высокий старик с начисто выбритым подбородком и длинными седыми усами; одет он был с головы до ног в черное, без единого цветного пятнышка. В руке он держал старинную серебряную лампу, в которой пламя свободно горело без какого бы то ни было стекла или абажура и бросало длинные, трепещущие тени, колеблемые сквозняком. Изысканным жестом правой руки старик пригласил меня войти и сказал на прекрасном английском языке, но с непривычной интонацией:
– Добро пожаловать в мой дом. Войдите в него свободно и по доброй воле[24].
Он не сделал ни единого движения, чтобы шагнуть мне навстречу, а стоял неподвижно, как статуя, будто жест приветствия превратил его в камень; но не успел я переступить порог, как он сделал движение вперед и, протянув мне руку, сжал мою с такой силой, что заставил меня поморщиться, и конечно же то, что она была холодна как лед и напоминала скорее руку мертвеца, чем живого человека, только усугубляло впечатление. Он снова сказал:
– Добро пожаловать в мой дом! Входите смело, идите без страха и оставьте нам здесь немного из принесенного вами счастья.
Крепость его рукопожатия была настолько сродни той, что и у возницы, лица которого я так и не видел, что меня одолело сомнение, не один ли и тот же человек и кучер, и господин, с которым я в данный момент разговариваю; чтобы рассеять сомнения, я спросил:
– Граф Дракула?
Он ответил с вежливым поклоном:
– Я – Дракула. Приветствую вас, м-р Харкер, в моем доме. Войдите; ночь холодна, а вам необходимо отдохнуть и поесть.
Говоря это, он повесил лампу на крюк в стене и, шагнув вперед, взял мой багаж; он проделал это так быстро, что я не успел его предупредить. Я тщетно пытался протестовать.
– Нет, сударь, вы мой гость. Теперь поздно, и поэтому на моих людей рассчитывать нечего. Позвольте мне самому позаботиться о вас.
Он настоял на том, чтобы отнести мои пожитки по коридору, потом вверх по большой винтовой лестнице, с которой мы попали в другой большой коридор, где наши шаги гулко раздавались благодаря каменному полу. В конце коридора он толкнул тяжелую дверь, и я с радостью увидел ярко освещенную комнату, где стоял стол, накрытый к ужину, а в большом камине пылали и потрескивали только что подброшенные поленья.
Граф остановился, поставил мои вещи, закрыл за нами дверь и, пройдя через комнату, распахнул другую дверь, которая вела в маленькую восьмиугольную комнату, освещенную одной лампой и, по-видимому, вовсе лишенную окон. Миновав ее, он снова открыл дверь в следующую комнату, куда и пригласил меня войти. Это было приятное зрелище: комната оказалась большой спальней, прекрасно освещенной, также обогревавшейся горящим камином – дрова в него подкладывали совсем недавно, верхние поленья еще не разгорелись, но в широком дымоходе гулко ревело. Положив собственноручно принесенные им мои вещи, граф удалился, сказав перед тем, как закрыть дверь:
– Вы после дороги захотите, конечно, освежиться и переодеться. Надеюсь, вы найдете здесь все необходимое. Когда будете готовы, пройдите в ту комнату, где вас ждет накрытый для вас ужин.
Свет и тепло, а также изысканное обращение графа совершенно рассеяли мои сомнения и страхи. Придя благодаря всему этому в свое обычное состояние, я почувствовал, что положительно умираю с голоду, поэтому, наскоро переодевшись, поспешил в первую комнату.
Ужин был уже подан. Мой хозяин, который стоял у камина, грациозным жестом пригласил меня к столу.
– Прошу вас, садитесь и ешьте, как вам угодно. Надеюсь, вы меня извините, если я вам не составлю компании; но я уже отобедал и никогда не ужинаю.
Я вручил ему запечатанное письмо, переданное мне м-ром Хокинсом. Граф распечатал его, сосредоточенно прочел, затем с очаровательной улыбкой передал его мне. Одно место в нем мне в особенности польстило:
«Я очень сожалею, что приступ подагры[25], которой я давно подвержен, лишает меня возможности предпринимать какие бы то ни было путешествия; и я счастлив, что могу послать своего заместителя, которому я вполне доверяю. Это энергичный и талантливый молодой человек, абсолютно достойный доверия. Он благоразумен, умеет молчать и вошел в зрелый возраст, пребывая у меня на службе. Во все время своего пребывания у вас он будет к вашим услугам и в полном вашем распоряжении».
Граф подошел к столу, сам снял крышку с блюда – и я накинулся на прекрасно зажаренного цыпленка. Это плюс сыр и салат да еще бутылка старого токайского вина[26], которого я выпил бокала два-три, и составило мой ужин. Пока я ел, граф расспрашивал меня о моем путешествии, и я рассказал ему по порядку все пережитое мной.
К тому времени я кончил ужинать, по настоянию хозяина придвинул свой стул к огню и закурил сигару, предложенную мне графом, который тут же извинился, что не курит. Теперь мне представился удобный случай рассмотреть его, и я нашел, что его наружность достойна внимания.
У него был резкий орлиный профиль, тонко очерченный нос с горбинкой и особенным вырезом ноздрей; высокий выпуклый лоб и грива волос, лишь слегка редеющих на висках. Его тяжелые кустистые брови почти сходились на переносице. Рот, насколько я мог разглядеть под густыми усами, был решительный, даже на вид жестокий, а необыкновенно острые белые зубы выдавались вперед между губами, чья примечательная краснота свидетельствовала об удивительной для человека его возраста жизненной силе. Что до остального, у него были бледные, крайне острые уши, широкий сильный подбородок и тугие, хотя и худые, щеки.
Но сильнее всего поражала необыкновенная бледность лица.
До сих пор мне удалось издали заметить только тыльную сторону его рук, когда он держал их на коленях; при свете горящего камина они производили впечатление белых и тонких; но, увидев их теперь вблизи, ладонями кверху, я заметил, что они были скорее грубы – широкие, с короткими пальцами. Особенно странно было то, что в центре ладони росли волосы. Ногти были длинные, но изящные, с заостренными концами. Когда граф наклонился ко мне и его рука дотронулась до меня, я не смог удержаться от содрогания. Возможно, его дыхание было тлетворным, потому что мной овладело какое-то ужасное чувство тошноты, которое, как я ни старался, не мог скрыть. Граф, очевидно, заметил это и сейчас же отодвинулся; с какой-то угрюмой улыбкой, обнажившей больше прежнего его выпирающие зубы, он опять сел на свое место у камина. Мы оба молчали некоторое время, и когда я посмотрел в окно, то увидел первый проблеск наступающего рассвета.
Какая-то странная тишина царила всюду; но, прислушавшись, я уловил где-то вдалеке, как будто внизу в долине, вой волков. Глаза графа засверкали, и он сказал:
– Прислушайтесь к ним, к детям ночи! Что за музыку они заводят!
Заметив странное, должно быть, для него выражение моего лица, он прибавил:
– Ах, сударь, вы, городские жители, не можете понять чувств охотника! – Тут он поднялся со словами: – Но вы, наверное, устали? Ваша постель совершенно готова, и завтра вы можете спать сколько хотите. Я буду отсутствовать до полудня; спите же спокойно – и приятных сновидений!
С изысканным поклоном он сам открыл дверь в восьмиугольную комнату, и я вошел в мою спальню…
Меня окружают чудеса. Я полон сомнений, страхов; на ум мне приходят странные вещи, в которых я не посмею признаться и себе самому. Храни меня, Боже, хотя бы ради тех, кто дорог мне!
7 мая.
Опять раннее утро, но я отдохнул и хорошо провел последние сутки. Я спал до вечера и сам проснулся. Одевшись, я прошел в комнату, где накануне ужинал, и нашел там холодный завтрак и кофе, который подогревался, стоя на огне в камине. На столе лежала карточка с надписью:
«Я должен ненадолго отлучиться. Не ждите меня. Д.».
Я уселся за стол и с удовольствием плотно поел. Покончив с едой, я стал искать звонок, чтобы дать знать прислуге, что я окончил трапезу; но звонка нигде не оказалось. В замке, как видно, странные недостатки, особенно если принять во внимание чрезмерное богатство, окружающее меня. Столовая сервировка вся из золота, да такой великолепной работы, что стоит, наверное, громадных денег. Занавеси, обивка стульев и кушетки – все это поразительной выделки и стоило, без сомнения, баснословных денег даже тогда, когда все это было изготовлено, так как этим вещам много сотен лет, хотя все в великолепном порядке. Я видел нечто подобное в Хэмптон-корте[27], но там все было порвано, вытерто и побито молью. Но странно, что ни в одной комнате нет зеркала. Нет даже туалетного зеркала на моем столике, и мне пришлось вынуть мое маленькое зеркало для бритья из несессера, чтобы побриться и причесаться. Кроме того, я не видал ни одного слуги и не слышал ни единого звука около замка, за исключением волчьего воя. Покончив с едой – не знаю, назвать ли ее завтраком или обедом, по времени это было между 5 и 6 часами, – я начал искать что-нибудь для чтения, так как без разрешения графа не хотел отправляться осматривать замок. В столовой я ровным счетом ничего не нашел – полное отсутствие книг, газет, даже каких-либо письменных принадлежностей; тогда я открыл другую дверь в этой комнате и вошел в библиотеку. Попробовав открыть дверь напротив моей, я обнаружил, что она заперта.
В библиотеке я обнаружил, к моей великой радости, большое количество английских книг – целые полки были заставлены ими и переплетенными комплектами журналов и газет за многие годы. Стол посредине комнаты был завален английскими журналами, газетами, но все это были старые номера. Книги были самые разнообразные: по истории, географии, политике, политической экономии, ботанике, геологии, законоведению – все относящееся к Англии и английской жизни, обычаям и нравам. Были здесь даже справочники – Лондонская адресная книга, «Красная»[28] и «Синяя» книги[29], «Уитакер»[30], реестры – Армейский и Флотский, но более всего порадовалось мое сердце «Своду законов».
Пока я рассматривал книги, дверь открылась и вошел граф. Он радушно меня приветствовал, выразив надежду, что я хорошо спал этой ночью. Затем продолжал:
– Я очень рад, что вы сюда попали, так как убежден, что здесь вы найдете много интересного для вас материала. Эти спутники, – и он коснулся некоторых книг, – были мне преданными друзьями и за долгие годы, с тех самых пор как я задумал отправиться в Лондон, доставили мне много приятных часов. Благодаря им я познакомился с вашей великой Англией; а знать ее – значит ее любить. Я жажду попасть на переполненные народом улицы вашего громадного Лондона, проникнуть в самый круговорот, гущу и суету человечества, участвовать в этой жизни, ее переменах, ее смерти – словом, во всем том, что делает эту страну тем, что она есть. Но увы! Покуда я знаком с вашим языком только по книгам. Надеюсь, мой друг, что с вашей помощью я научусь изъясняться по-английски как следует.
– Помилуйте, граф, ведь вы же великолепно владеете английским языком!
Он с достоинством поклонился:
– Благодарю вас, друг мой, за ваше слишком лестное мнение обо мне, но все же боюсь, что в знании языка нахожусь еще только на полпути. Правда, я знаю грамматику и слова, но еще не знаю, как их произносить и когда какое слово употреблять.
– Уверяю вас, вы прекрасно говорите.
– Все это не то… Я знаю, что, появись я в вашем Лондоне и заговори, всякий тотчас же узнает во мне иностранца. Этого мне мало. Здесь я знатен; я – магнат; простолюдины знают, кто я, и я здесь хозяин. Но чужестранец на чужбине – ничто; люди его не знают, а не знать человека – значит не принимать его в расчет. В таком случае я предпочитаю ничем не выделяться из толпы, чтобы люди, завидев меня или услышав мою английскую речь, не останавливались и не указывали на меня пальцами.
Я привык быть господином и хочу им остаться навсегда или, по крайней мере, устроиться так, чтобы никто уже не мог быть господином надо мной. Вы приехали сюда не только для того, чтобы разъяснить мне все относительно моего нового владения в Лондоне; я надеюсь, вы пробудете со мною еще некоторое время независимо от этого, для того чтобы, беседуя с вами, я освоил интонацию английской речи. Поэтому я прошу вас и даже настаиваю, чтобы вы исправляли мои ошибки в произношении самым строгим образом. Сожалею, что мне пришлось столь долго сегодня отсутствовать, но вы, я уверен, простите того, кого обременяет такое множество неотложных дел.
Я, конечно, сказал, что прошу его не стесняться из-за меня, а затем спросил, не разрешит ли он мне пользоваться библиотекой по своему усмотрению.
– Да, конечно, – ответил он и добавил: – В замке вы можете войти в любую дверь, в какую пожелаете, кроме тех, которые заперты, а туда вам и не захочется входить. Есть причины для того, чтобы все было так, как оно есть, и если бы вы видели то, что вижу я, и знали то, что ведомо мне, возможно, вам бы все стало понятней.
Я заверил его в том, что понимаю его, после чего он продолжил:
– Мы в Трансильвании, а Трансильвания – это не Англия. Наши обычаи не те, что у вас, и многое здесь вам покажется странным. По тому, что вы мне уже рассказали о своих приключениях, вы кое-что знаете о странностях, которые здесь происходят.
Это послужило началом долгого разговора, и, поскольку ему определенно хотелось побеседовать, пусть просто ради самой беседы, я засыпал его вопросами относительно того, что со мной происходило или чему я был свидетелем. Иногда он уклонялся от темы разговора или переводил речь на другое, притворно не понимая, но в целом отвечал мне вполне откровенно. Потом, по прошествии некоторого времени, чуть осмелев, я стал его расспрашивать о странных событиях минувшей ночи: почему, к примеру, возница шел туда, где замечал голубые огоньки. Он объяснил мне, что существует поверье, по которому в определенную ночь, раз в году, кстати как раз в прошлую ночь, когда якобы силы зла царят безраздельно, на тех местах, где скрыты клады, видны голубые огоньки. «Не стоит и сомневаться, что там, где вы вчера проезжали, скрыты клады, – продолжал он. – На этой земле столетия воевали саксонцы, валахи и турки – здесь едва ли найдется клочок земли, не политый человеческой кровью, и защитников, и захватчиков. В прошлом бывали бурные времена, когда австрийцы и венгры налетали как саранча и патриоты вставали, чтобы отразить их, – мужчины и женщины, дряхлые старики и дети поджидали их в горах над ущельями, чтобы смести специально вызванными лавинами. Не многое мог обрести и торжествующий завоеватель – все было схоронено в своей родной земле.
– Но как же это оставалось там, когда место точно указано и нужно только дать себе труд посмотреть? – спросил я.
Граф улыбнулся, растягивая губы, и его длинные, острые волчьи зубы странно обнажились; он ответил:
– Это потому, что наш крестьянин глуп и труслив в душе! Огоньки появляются только раз в году, но в эту ночь ни один человек в здешнем краю шага не сделает за порог, если это в его воле, к тому же, сударь мой, он бы все равно не знал, как действовать. Да что там, даже тот крестьянин, о котором вы мне рассказывали, будто он делал отметки возле огоньков, даже он при свете дня не будет знать, где искать свои собственные заметы. Смею поклясться, и вы не сумели бы отыскать эти места.
– Вы правы, – сказал я, – я не больше других знаю, где их искать. – И разговор перешел на другое.
– Ну же, – наконец попросил граф, – расскажите мне о Лондоне и о том доме, который вы нашли для меня.
Извинившись за свою нерадивость, я пошел в комнату за своими бумагами. Пока я их разбирал, до меня донесся звон фарфоровой и серебряной посуды в соседней комнате, и, проходя через нее, я обнаружил убранный стол и зажженную лампу, поскольку к этому времени совершенно стемнело. Лампы зажжены были и в кабинете, или библиотеке, а граф лежал на софе – из всех книг, которые можно представить, со справочником «Брадшо»[31] в руках. Когда я вошел, он освободил стол от книг и бумаг, и вместе с ним мы погрузились во всевозможнейшие планы и вычисления. Его интересовало все, он задавал мне бездну вопросов о самом поместье и о его окрестностях. Он явно заблаговременно проштудировал все, что мог, относительно прилегающей округи, ибо под конец оказалось, что он знает неизмеримо больше, чем я. На мое замечание относительно этого он ответил:
– Но, друг мой, разве в том нет нужды? Перебравшись туда, я буду совершенно один, и мой друг Харкер Джонатан – простите, не так, я ставлю фамилию вперед по обычаю моей страны, – и мой друг Джонатан Харкер не сможет помочь мне советом. Он будет в Эксетере[32], за много миль оттуда, возможно склонившись над бумагами вместе с другим моим другом, Питером Хокинсом. Что ж!
Входя во все мелочи, мы обсудили покупку поместья в Парфлите. Когда я рассказал, как обстоят дела, и он скрепил своей подписью все нужные документы, подготовленные мною для отправки м-ру Хокинсу, граф принялся расспрашивать, как я натолкнулся на столь подходящую усадьбу. Я прочитал ему записи, которые вел в то время и которые привожу здесь.
«В Парфлите, по проселочной дороге, я набрел, кажется, на то, что нужно. Было там и ветхое объявление, что усадьба продается. Она окружена высокой стеной старинной кладки, сложенной из массивных камней, и не ремонтировалась в течение многих лет. Тяжелые ворота из старого дуба и железа, изъеденного ржавчиной, закрыты.
…Поместье называется Карфакс, без сомнения, искаженное старинное Quatre Faces[33], поскольку дом ориентирован на четыре стороны в соответствии с четырьмя сторонами света. Поместье представляет собой участок около двадцати акров, со всех сторон обнесенный упомянутой выше глухой стеной. Там много деревьев, порой придающих этому поместью мрачный вид, затем имеется еще глубокий темный пруд или, вернее, маленькое озеро, питающееся, вероятно, подземными ключами, так как вода в нем необыкновенно прозрачна, а кроме того, оно служит истоком довольно порядочной речки. Дом очень просторный и, судя по типу постройки, восходит, я бы сказал, к средним векам, поскольку часть его имеет неимоверно толстые каменные стены с немногими забранными тяжелыми решетками окнами на самом верху и напоминает башню замка. Она примыкает к какой-то старой часовне или церкви. Я не мог осмотреть ее, так как ключа от двери, ведущей из дома в часовню, не оказалось. Но я снял своим “кодаком”[34] несколько видов с разных сторон. Впоследствии дом по частям перестраивался, но самым беспорядочным образом, так что вычислить точно, какую площадь дом занимает, немыслимо; она, должно быть, чрезвычайно велика. Других домов поблизости весьма немного, один из них, очень большой, недавно надстроен и превращен в частную клинику для душевнобольных. Из усадьбы он, однако, не виден».
Когда я закончил, граф сказал:
– Я рад, что дом старинный и просторный; я сам из старинной семьи, и необходимость жить в новом доме убила бы меня. Дом не может сделаться сразу жилым; и, в сущности, как мало дней составляют столетие… Меня радует также и то, что я найду там старинную часовню. Мы, магнаты Трансильвании, с неприязнью думаем о том, что наши кости могут покоиться среди простых смертных. Я не ищу ни веселья, ни радости, ни изобилия солнечных лучей и сверкающих вод, столь любимых молодыми и веселыми людьми. Я уже немолод, а мое сердце, измученное годами печали, не способно больше к радости; к тому же стены моего замка разрушены, он полон теней, ветер свободно доносит свои холодные дуновения сквозь разрушенные стены и пустые окна. Я люблю тень и тьму и хотел бы оставаться наедине со своими мыслями, насколько это возможно.
Его взгляд некоторым образом противоречил его словам, но, вероятно, сам тип лица делал злобной и угрюмой его улыбку.
Некоторое время спустя он извинился и покинул меня, попросив собрать все мои бумаги.
В его отсутствие я стал подробно знакомиться с библиотекой. Я наткнулся на атлас, конечно открытый на карте Англии; видно было, что им много пользовались. Разглядывая внимательно карту, я заметил, что определенные пункты на ней были обведены кружками, и, присмотревшись, увидел, что один из них находился около Лондона с восточной его стороны, как раз там, где находилось вновь приобретенное им поместье; два других были Эксетер и Уитби[35] на Йоркширском побережье.
Через полчаса граф вернулся.
– Ах! – сказал он. – Вы все еще за книгами! Вам не следует так много работать. Пойдемте, ваш ужин готов и подан.
Он взял меня под руку, и мы вышли в столовую, где меня действительно ожидал великолепный ужин. Граф опять извинился, что уже пообедал вне дома. Но так же, как и накануне, он уселся у камина и болтал, покуда я ел. После ужина я закурил сигару, как и в прошлую ночь, и граф просидел со мной, болтая и задавая вопросы на различные темы; так проходил час за часом. Хотя я и чувствовал, что уже очень поздно, но ничего не сказал, так как решил, что должен быть к услугам хозяина и выполнять его малейшие желания. Спать же мне не хотелось, так как вчерашний продолжительный сон подкрепил меня; но это тем не менее не помешало мне вдруг почувствовать то ощущение озноба, которое всегда овладевает людьми на рассвете или во время прилива. Говорят, что люди, стоящие на пороге смерти, умирают обычно на рассвете или во время прилива; любой, кто, будучи усталым, ощущал перемену в воздухе, без труда в это поверит. Вдруг мы услышали крик петуха, прорезавший со сверхъестественной пронзительностью чистый утренний воздух. Граф Дракула моментально вскочил и сказал:
– Как, уже снова утро! Сколь непростительно с моей стороны, что я заставляю вас так долго бодрствовать!.. Не говорите со мной о вашей стране – меня так интересует все, что касается моей новой родины – дорогой Англии, что я забываю о времени, а в занимательной беседе с вами оно проходит слишком быстро!
И, изысканно поклонившись, он оставил меня.
Я пришел к себе в комнату и раздвинул шторы, но глаз было не на чем остановить: мое окно выходило во двор, все, что я увидел, это небо, занимающееся зарей. Тогда я снова закрыл шторы и записал все, что произошло за этот день.
8 мая.
Когда я начал заносить в эту тетрадь свои заметки, то боялся, что пишу чересчур подробно, но теперь я счастлив, что записал все мельчайшие подробности с самого начала, так как здесь происходит много необычного, – это тревожит меня; я думаю только о том, как бы выйти отсюда целым и невредимым, и начинаю жалеть, что приехал сюда; возможно, что это ночные бодрствования так отзываются на мне, но если бы это было все! Если бы здесь было с кем поговорить, мне было бы легче, но, к сожалению, не с кем. Только с графом, а он… Я начинаю думать, что я здесь единственная живая душа. Буду прозаичным, поскольку этого требуют факты; это поможет мне разобраться во всем, сохранить свой здравый смысл и уйти из-под власти все более и более овладевающих мной фантазий… Иначе я погиб!.. Дайте мне рассказать все, как оно есть…
Я проспал всего несколько часов и, чувствуя, что больше не засну, поднялся. Поставив свое зеркало для бритья на окно, я начал бриться. Вдруг я почувствовал руку на своем плече и услышал голос графа. «С добрым утром», – сказал он мне. Я вздрогнул, так как меня изумило, что я не увидел его в зеркале, хотя мне была видна вся комната. Вздрогнув, я слегка порезался, но сразу не обратил на это внимания. Ответив на приветствие графа, я опять повернулся к зеркалу, чтобы посмотреть, как это я мог так ошибиться. На сей раз не могло быть никаких сомнений, так как граф стоял почти вплотную за мной и я мог видеть его через плечо. Но все-таки его отражения в зеркале не было!.. Там отражалась вся комната за моей спиной, но в ней и признака не было никого другого, кроме меня. Это пугало и, довершая множество странностей, усилило то неопределенное чувство тревоги, которое охватывает меня каждый раз, когда граф находится рядом. Только теперь я заметил свой порез. Я отложил в сторону бритву и повернулся при этом вполоборота к графу в поисках пластыря. Когда граф увидел мое лицо, его глаза сверкнули демоническим бешенством, и он внезапно схватил меня за горло. Я подался назад, а его рука коснулась шнурка, на котором висел крест. Это сразу вызвало в нем перемену, причем его бешенство прошло так быстро, что я с трудом поверил, будто оно когда-либо было.
– Смотрите, будьте осторожны, – сказал он, – будьте осторожны, когда бреетесь. В нашей стране это гораздо опаснее, чем вы думаете.
Затем, схватив зеркало, он продолжал:
– Вот эта злополучная вещь все и натворила! Это не что иное, как глупая игрушка человеческого тщеславия. Долой ее!
Одним взмахом своей страшной руки он распахнул тяжелое окно и вышвырнул зеркало; упав на камни, которыми был выложен двор, оно разлетелось на тысячи осколков. Затем, не говоря ни слова, граф удалился. Это ужасно неприятно, так как я определенно не знаю, как я теперь буду бриться, разве что перед металлическим корпусом часов или перед крышкой моего бритвенного прибора, которая, к счастью, сделана из полированного металла.
Когда я вошел в столовую, то завтрак был уже на столе, но графа я нигде не мог найти. Так я и позавтракал в одиночестве. Как странно, что я до сих пор не видел графа ни за едой, ни за питьем. Он, вероятно, совершенно необыкновенный человек. После завтрака я совершил короткую прогулку по замку; поднявшись по лестнице, я обнаружил комнату, смотрящую на юг. Из нее открывается великолепный вид, и там, где я стоял, имелась полная возможность его созерцать. Замок высится на самом краю жуткой бездны. Камень, брошенный из окна, пролетит не меньше тысячи футов, прежде чем коснется земли! Всюду, куда хватает глаз, расстилается зеленое море деревьев, с редкими просветами там, где открываются пропасти. Кое-где вьются серебряные нити рек.
Но у меня не лежит сердце описывать красоты, ибо, полюбовавшись видом, я продолжил исследование: двери, двери, всюду двери, и все заперто и загорожено… Нигде нет никакой возможности покинуть замок, разве только через окно!
Замок этот – настоящая тюрьма, а я – пленник!
Глава III
Дневник Джонатана Харкера (продолжение)
Когда я убедился, что нахожусь в плену, меня охватило бешенство. Я стал стремительно спускаться и подниматься по лестницам, пробуя каждую дверь, высовываясь в каждое окно, какое только мне попадалось по пути; но вскоре сознание полной беспомощности заглушило все остальные чувства. Когда позднее я припоминал свое тогдашнее состояние, то оно показалось мне близким к сумасшествию, так как я вел себя словно крыса в мышеловке. Когда же я пришел к выводу, что положение мое безнадежно, то стал хладнокровно – столь хладнокровно я не делал еще ничего в своей жизни – обдумывать, как лучше всего выйти из создавшегося положения. Я и теперь еще думаю об этом и до сих пор не пришел еще ни к какому решению. Мне ясно только то, что нет никакого смысла сообщать графу о моих мыслях. Он ведь отлично знает, что я пленник, а так как он сам это устроил и, без сомнения, имеет на то свои причины, то лишь солжет мне, если я откровенно поведаю ему свои мысли. Насколько я понимаю, единственный выход – хранить свои догадки и страхи при себе и наблюдать. Знаю: или я, как ребенок, дал себя обмануть собственным страхам, или я в отчаянно сложном положении; если со мною приключилось последнее, то я нуждаюсь и буду нуждаться в том, чтобы сохранить всю ясность мышления.
Едва я успел прийти к такому заключению, как услышал, что хлопнула большая входная дверь внизу; я понял, что граф вернулся. Так как он не прошел в библиотеку, то я на цыпочках направился в свою комнату и застал там графа, приготовлявшего мне постель. Это было странно, но только подтвердило мое предположение, что в этом доме совсем нет прислуги. Когда же позже я заметил сквозь щели в дверях столовой графа, накрывающего на стол, то окончательно убедился в правильности своих предположений: раз он сам выполняет обязанности челяди, это уже явное доказательство того, что больше выполнять их некому. Этот вывод меня испугал, так как если тут в замке нет больше никого, то, значит, граф сам был кучером кареты, которая привезла меня сюда. Это ужасная мысль: ведь если это так, что же означает его способность усмирять волков одним движением руки, как делал он в ночь моего приезда в замок? Почему все люди и в Бистрице, и в дилижансе так за меня боялись? Что означали подаренные мне распятия, чеснок, шиповник и рябина[36]? Да благословит Господь ту добрую, милую старушку, которая повесила мне крест на шею: каждый раз, когда я до него дотрагиваюсь, я чувствую отраду и новую силу. Как странно, что именно то, к чему я привык относиться враждебно и на что я привык смотреть как на идолопоклонство, в дни одиночества и тревоги является моей единственной помощью и утешением. Заключено ли нечто в нем самом или он лишь посредник, вещественный помощник для передачи приязни и утешения? Когда-нибудь, если удастся, я должен изучить этот вопрос и постараться для себя что-то решить. Сейчас же я должен узнать все относительно графа Дракулы, так как только это может помочь мне отыскать разгадку. Сегодня же вечером я постараюсь заставить его рассказать о себе, если только мне удастся перевести разговор на эту тему. Но мне придется быть при том очень осторожным, дабы не возбудить его подозрений.
Полночь. У меня был долгий разговор с графом. Я задал ему несколько вопросов, касающихся истории Трансильвании, и он живо и горячо заговорил на эту тему. Он с таким оживлением говорил о событиях, о народах и в особенности о битвах, будто сам присутствовал всюду. Он это объясняет тем, что для боярина честь его родины, дома и рода – его личная честь, что их победы – его слава, их судьба – его участь.
Говоря о своем роде, он неизменно говорил «мы», практически всегда употреблял множественное число, подобно королям. Хотел бы я записать дословно все, что он рассказывал: меня это глубоко захватило. Казалось, разворачивается история целой страны. Рассказ привел его в возбуждение, он расхаживал по комнате, дергая свой пышный седой ус и хватаясь за все, что подворачивалось под руку, как будто желая сокрушить этой самой рукой. Одно из поведанного им я постараюсь передать с точностью, елико возможно, ибо это была рассказанная по-своему история его народа.
– Мы, секлеры[37], имеем право гордиться, так как в наших жилах течет кровь многих храбрых племен, которые дрались как львы за превосходство в мире. Здесь, в смешении европейских народностей, выделилось племя угров[38], наследовавшее от исландцев воинственный дух, которым их наделили Тор и Один[39], и берсерки[40] их прославились на морских берегах Европы, Азии и даже Африки такой свирепостью, что народы думали, будто явились оборотни. Да к тому же когда они добрались сюда, то нашли здесь гуннов, бешеная страсть которых к войнам опустошала страну подобно жаркому пламени, и те, на кого они нападали, думали, что в их жилах течет кровь старых ведьм, которые, изгнанные из Скифии[41], сочетались браком с дьяволами пустыни. Глупцы! Глупцы! Какая ведьма или дьявол могли сравниться с великим Аттилой, чья кровь течет в этих жилах? – Он воздел руки. – Разве удивительно, что мы – племя победителей? Что мы надменны? Что когда мадьяры[42], ломбардцы[43], авары[44], болгары или турки посылали на наши границы тысячные армии, мы теснили их? Разве странно, что Арпад[45], передвигаясь со своими легионами по родине мадьяров, застал нас на границе и что Гонфоглалас[46] закончился здесь? И когда поток мадьяров двинулся на восток, то притязания секлеров как родственного племени были признаны победителями-мадьярами; и уже целые столетия как нам поручено охранять границы с Турцией, ибо как турки говорят: «Спит и вода, но враг никогда не смыкает глаз». Кто из Четырех Наций[47] радостнее, чем мы, бросался в кровавый бой с превосходящими силами врага или на военный клич собирался быстрее под знамена короля? Впоследствии, когда пришлось искупать великий позор моего народа – позор Косова[48], – когда знамена валахов и мадьяров склонились перед полумесяцем, кто же, как не один из моих предков, переправился через Дунай и разбил турок на их же земле? То был настоящий Дракула[49] …настоящий Дракула! – В 1456 г., когда Янош Хуньяди нанес поражение османским войскам в Белградской битве, в числе его военачальников был Влад III Цепеш (1429/1431 – 1476), господарь Валахии. Правитель получил прозвище Цепеш («колосажатель», от румынского слова «teapa» – «кол») за то, что сажал своих противников на кол. Настоящая фамилия Дракул (от рум. Dracul – «дракон») произошла от прозвища отца.! Какое горе, что его недостойный родной брат продал туркам свой народ, навлекши на него позор рабства! Не он ли, этот Дракула, был тем, кем вдохновлен был другой его одноплеменник, который в более поздние времена, снова и снова переправлялся со своим войском за реку на турецкую землю; который, будучи разбит, выступал снова и снова, хотя и возвращался один с кровавого поля битвы, где полегло его воинство, – ибо он знал, что лишь он восторжествует в конце концов! Говорят, он не думал ни о ком, кроме себя. Ба! Чего стоят крестьяне без вожака? Куда поведет война, не направленная умом и доблестной рукой? А когда после битвы при Мохаче мы свергли австро-венгерское иго, то вождями оказались опять-таки мы, Дракулы, так как наш свободный дух не переносит никаких притеснений! Ах, юноша! Дракулы – сердце, бьющееся в груди секлеров, их мозг и меч – могут похвастаться такой древностью рода, на которую заплесневелые Габсбурги и Романовы никогда не смогут и претендовать. Военные дни прошли… Кровь теперь, в эти дни бесчестного мира, является слишком драгоценной; и слава великих племен теперь уже не более чем древняя сказка!
При этих словах как раз рассвело, и мы разошлись спать. (Прим.: этот дневник страшно напоминает начало «Тысячи и одной ночи», поскольку каждый должен уйти, когда раздастся крик петуха; можно вспомнить и призрак отца Гамлета.)
12 мая.
Начну я с фактов, сухих и голых фактов, подтверждаемых книгами и цифрами, в которых нет и не может быть сомнения. Не следует смешивать их с событиями, в которых я могу опираться лишь на свидетельство собственных чувств и памяти. Вчера вечером, когда граф пришел из своей комнаты, он задал мне ряд вопросов относительно юридической стороны своих дел. День я провел над книгами и, просто чтобы занять чем-нибудь мысли, вспоминал кое-что из того, что мне довелось узнать во время обучения в «Линкольнз инн»[50]. Наводя справки, он задавал мне вопросы, как бы руководствуясь определенной системой, и я тоже попробую передать их по порядку; эти сведения, быть может, когда-нибудь и пригодятся мне.
Прежде всего он спросил, можно ли в Англии иметь двух стряпчих. Я ему на это ответил, что можно иметь их хоть дюжину, но неумно иметь больше одного для каждого дела, так как все равно двумя делами сразу не приходится заниматься, а смена юристов всегда невыгодна для клиента. Он, по-видимому, меня понял и спросил, будет ли практически трудно осуществить, чтобы один поверенный сопровождал его, ну, скажем, в качестве банкира, а другой следил бы в это время за погрузкой кораблей в совершенно другом месте. Я попросил его объясниться более определенно, чтобы уяснить, в чем дело, дабы не ввести его в заблуждение, и он продолжил:
– Представьте себе, например, такой случай: ваш и мой друг, м-р Питер Хокинс, живущий рядом с вашим великолепным собором в Эксетере, вдали от Лондона, купил при вашем посредничестве, милый друг, для меня местечко в Лондоне. Прекрасно! Теперь позвольте говорить с вами откровенно, дабы вам не показалось странным, что вместо того, чтобы поручить покупку имущества человеку, живущему в самом Лондоне, я обратился к человеку, живущему далеко от города. Я стремился к тому, чтобы ничьи местные интересы не помешали моим личным. А так как живущий в Лондоне всегда может учитывать как свои интересы, так и интересы своих друзей, то я и постарался отыскать агента, который посвятил бы все труды исключительно мне. Теперь допустим, что мне, человеку деловому, необходимо отправить товар, скажем, в Ньюкасл, или Дарем, или Харидж, или Дувр[51], так разве не легче мне будет обратиться по этому поводу к кому-нибудь на месте?
Я согласился с ним, но объяснил, что мы, стряпчие, имеем повсюду своих агентов и всякое поручение будет исполнено местными агентами по инструкции любого стряпчего.
– Но, – возразил он, – я ведь свободно мог бы сам управлять всеми делами? Не так ли?
– Конечно. Это принято у деловых людей, которые никого не хотят посвящать в свои дела целиком.
– Прекрасно! – сказал он и перешел затем к форме и изложению поручительства и ко всем возможным при том затруднениям, желая таким образом заранее охранить себя от всяких случайностей.
Я объяснил, как можно точнее, все, что знал, и он в конце концов оставил меня под впечатлением, что сам мог бы быть великолепным юристом, ибо не было ни единого пункта, которого бы он не предвидел. Для человека, никогда не бывавшего в стране и, по всей видимости, мало занятого ведением дел, его познания и проницательность были удивительны. Когда он вполне удовлетворился всеми сведениями и выслушал объяснения по интересующим его вопросам, он встал и сказал:
– Писали ли вы после вашего первого письма м-ру Питеру Хокинсу или кому-нибудь другому?
С горьким чувством я ответил, что до сих пор еще не имел возможности отослать письма кому бы то ни было.
– Ну так напишите сейчас же, мой дорогой друг, – сказал он, положив свою тяжелую руку мне на плечо, – и сообщите, что вы пробудете со мной еще около месяца, считая с сегодняшнего дня, если это доставит вам удовольствие.
– Разве вы собираетесь меня задержать еще на столь продолжительный срок? – спросил я, ибо холодел от одной этой мысли.
– Я бы очень этого хотел. Нет, я не приму отказа! Когда ваш патрон или, если угодно, хозяин сообщил мне, что отправит ко мне своего заместителя, то мы условились при этом, что приниматься во внимание будут только мои интересы. Я не оговаривал срока. Не так ли?
Что же мне оставалось делать, как не поклониться в знак согласия? Ведь все это было не в моих интересах, а в интересах м-ра Хокинса, и я должен был думать прежде всего о патроне, а не о себе, да, кроме того, в глазах графа Дракулы и во всем его поведении было нечто такое, что сразу напомнило мне о моем положении пленника. Граф разглядел свою победу в моем утвердительном поклоне и свою власть надо мной в тревоге, отразившейся на моем лице, и сейчас же воспользовался этим, конечно, присущим ему хотя и вежливым, но не допускающим возражений образом.
– Прошу вас, мой добрый, дорогой друг, в ваших письмах не касаться ничего иного, кроме дела. Без сомнения, вашим друзьям доставит удовольствие узнать, что вы здоровы и что вы надеетесь скоро вернуться домой. Не так ли?
При этом он протянул мне три листка тончайшей бумаги непривычного формата и три конверта, и, посмотрев на него, заметив его спокойную улыбку, которая обнажила острые клыки, упершиеся в красную нижнюю губу, я сразу понял так же отчетливо, как если бы он мне об этом сказал, что должен быть очень осторожным в своих письмах, ибо, по всему, он способен их прочесть. Поэтому я решил написать при нем только официальные письма, а после – уже тайком – написать все подробно м-ру Хокинсу, а также Мине, которой, к слову сказать, я могу писать, используя стенографию, что поставит в затруднение графа, если он только это увидит. Написав два письма, я спокойно уселся и начал читать книгу, пока граф делал еще несколько заметок, справляясь в книгах, лежащих на столе. Затем он забрал оба письма, положил их вместе со своими возле письменного прибора и вышел из комнаты. Я немедленно воспользовался его отсутствием, чтобы рассмотреть письма, которые лежали на столе адресами вниз. Я не испытывал при этом никаких угрызений совести, так как находил, что в данных условиях, ради своего же спасения, я должен воспользоваться всеми средствами.
Одно из писем было адресовано Сэмюэлу Ф. Биллингтону К°, № 7, Кресент, Уитби; другое Herr[52] Лейтнеру, Варна; третье – в Кауттс и К°, Лондон; четвертое Herren[53] Клопштоку и Бильрейту, банкирам, в Будапеште. Второе и четвертое были не запечатаны. Только я собрался прочесть их, как заметил движение дверной ручки. Я еле успел разложить письма на столе в прежнем порядке, усесться в кресло и вновь приняться за книгу, как граф показался, держа в руке еще одно письмо. Он забрал со стола письма и, запечатав их, повернулся ко мне:
– Надеюсь, вы мне простите, что я отлучусь на весь вечер, ибо у меня много личных дел. Надеюсь, вы найдете все по своему вкусу.
В дверях он еще раз повернулся и сказал после минутной паузы:
– Позвольте посоветовать вам, мой милый друг, вернее, предупредить вас наисерьезнейшим образом, что если вы покинете эти комнаты, то ни при каких обстоятельствах вам не следует отдаваться сну ни в одном другом месте замка. Замок старинный, хранит в своих стенах много воспоминаний, и плохо приходится тому, кто отдается сну безрассудно. Итак, вы предупреждены! Как только вы почувствуете, что вас одолевает сон, спешите к себе в спальню или в одну из этих комнат, и тогда ваш покой будет гарантирован. Но если при малейшей неосторожности… – Он завершил свою речь зловещим движением, показывая, что умывает руки.
Я отлично понял его, но усомнился в возможности существования более ужасного сна, чем та неестественная, полная ужаса, мрака и таинственности действительность, которая окружала меня.
Позднее.
Я подтверждаю правильность последних мной написанных слов, но о сомнениях уже не может быть и речи. Я не побоюсь спать во всем замке, лишь бы его не было. Я повесил крест в изголовье моей кровати и думаю, что таким образом мой покой обойдется без снов. Здесь крест навсегда и останется…
Когда граф ушел, я удалился в свою комнату. Немного погодя, не слыша ни звука, я вышел и пошел по каменной лестнице туда, откуда можно наблюдать за местностью с южной стороны. Обширные, хотя и недоступные мне пространства давали все же некоторое ощущение свободы по сравнению с мрачным колодцем двора. Озираясь вокруг, я лишний раз убедился, что действительно нахожусь в тюрьме; казалось, мне не хватает воздуха. Ночной образ жизни, я чувствую, начинает сказываться на мне. Нервы мои приходят в расстройство. Я пугаюсь собственной тени, и меня одолевают ужаснейшие фантазии. Видит бог, в этом проклятом месте есть причины для ужаса! Я взирал на просторы, залитые мягким лунным светом, пока не стало светло как днем. Нежный свет смягчал очертания далеких холмов, а тени в долинах и узких проходах покрылись бархатным мраком. Казалось, сама красота природы ободрила меня; с каждым дыханием я как бы вбирал мир и покой. Когда я высунулся в окно, то заметил, как что-то зашевелилось этажом ниже, налево от меня, именно там, где, по моим предположениям, находилось окно комнаты графа. Высокое и большое окно, у которого я стоял, было заключено в каменную амбразуру, которая, несмотря на то что была источена временем, уцелела. Я спрятался за амбразуру и осторожно выглянул.
И вот я заметил, как из окна высунулась голова графа. Лица его я не разглядел, но сразу узнал его по затылку и движениям плеч и рук. Я никак не мог ошибиться, так как много раз внимательно присматривался к его рукам. Вначале я очень заинтересовался этим явлением, да и вообще, много ли нужно, чтобы заинтересовать человека, чувствующего себя пленником! Но мое любопытство перешло в ужас и омерзение, когда я увидел, что он начал ползти по стене над жуткой пропастью, головой вниз, причем его плащ развевался, как большие крылья. Я не верил своим глазам! Вначале мне показалось, что это отражение лунного света или игра капризно брошенной тени; но, продолжая смотреть, я отказался от своих сомнений, так как ясно увидел, что пальцы цеплялись за выступы камней, штукатурка у которых выветрилась от непогоды; пользуясь каждым выступом и малейшей неровностью, граф, как ящерица, полз с невероятной быстротой вниз по стене.
Что это за человек или что это за существо в обличье человека? Я чувствую, что царящий здесь ужас завладевает мной; я боюсь, ужасно боюсь, и нет мне спасения! Я охвачен таким страхом, что не смею даже думать о…
15 мая.
Я опять видел графа ползущим, как ящерица. Он опустился на несколько сотен футов наискось влево. Затем он исчез в какой-то дыре или окне. Когда голова его пропала из виду, я высунулся в окно, стараясь проследить за ним дальше, но безуспешно, так как расстояние было слишком велико. Я знал теперь, что он удалился из замка, и поэтому решил воспользоваться удобным случаем, чтобы осмотреть все то, чего не успел осмотреть раньше. Я вернулся к себе в комнату и, взяв лампу, пошел пробовать все двери. Все они оказались запертыми, как я и ожидал, причем замки были совершенно новыми; тогда я спустился по каменной лестнице в зал, откуда я впервые попал внутрь. Я убедился, что засовы довольно легко отодвинуть и что нетрудно снять с крюка и большие цепи; но дверь оказалась запертой, а ключ был унесен. Ключ, должно быть, в комнате графа; придется дождаться случая, когда дверь его комнаты будет открыта, чтобы иметь возможность забраться туда и уйти незаметно. Я продолжал осматривать различные лестницы и проходы и пробовать все двери. Одна или две маленькие комнатки поблизости от зала оказались незапертыми, только там ничего не нашлось интересного, кроме старинной мебели, покрытой слоем пыли и побитой молью. В конце концов на самой верхушке одной лестницы я все-таки нашел какую-то дверь, которая хотя и была закрыта, но при первом же легком толчке поддалась. При более сильном толчке я почувствовал, что на самом деле она не заперта, а сопротивление возникает оттого, что тяжелая дверь просела на петлях. Тут мне представился случай, который вряд ли вторично подвернется; поэтому я напряг все свои силы, и мне удалось настолько приоткрыть дверь, что я смог войти в комнату. Я находился в правом крыле замка и этажом ниже, чем расположены мои комнаты. По расположению окон я понял, что анфилада комнат находится на южной стороне замка, а окна замыкающей комнаты выходят на запад и юг. С той и с другой стороны была большая пропасть.
Замок был построен на краю большого утеса, так что с трех сторон он был совершенно недоступен, и поэтому здесь, куда было не достать ни из лука, ни из пращи, ни из кулеврины[54], имелись большие окна и, соответственно, было светлей и удобней. На западе виднелась большая долина, а за ней, вдали, возвышались большие зубчатые утесы, расположенные один за другим; крутые утесы были покрыты горными цветами и терновником, корни которого цеплялись за трещины и расселины в камне. В этой части замка, по-видимому, когда-то были женские покои, так как обстановка была уютнее, чем в остальных частях. Занавеси на окнах отсутствовали, и желтый свет луны, проникавший сквозь ромбики оконных стекол, позволял видеть даже цвета и одновременно повсюду смягчал и скрывал изъяны, вызванные временем. Моя лампа мало помогала мне при блеске лунного света, но я был счастлив, что она была со мной, потому что ужасное одиночество заставляло холодеть мое сердце и расстраивало нервы. Во всяком случае, мне здесь было лучше, чем в тех комнатах, которые я возненавидел благодаря присутствию в них графа; я постарался успокоить свои нервы, и постепенно тихое спокойствие охватило меня. Вот я сижу за дубовым столиком, – возможно, в прежние времена прекрасная дама присаживалась к нему, чтобы в раздумьях с краской смущения писать страдающее дурной орфографией послание любви, – и стенографирую в своем дневнике все, что произошло со мной за то время, когда я последний раз его открывал. Чертовски современно – и все же, если только мои чувства не обманывают меня, у прежних веков была и есть сила, которую простая «современность» не может одолеть.
Позднее, утром 16 мая.
Боже, сохрани мой рассудок! Безопасность и уверенность в безопасности – дело прошлого! Пока я здесь живу, у меня только одно стремление: как бы не сойти с ума, если только это уже не произошло. Но коли рассудок еще при мне, то действительно безумие думать, будто из всех мерзостей, какими я окружен в этом ненавистном мне месте, менее всего мне страшен граф и будто только с его стороны я еще могу надеяться на помощь до тех пор, пока он во мне нуждается! Великий Боже! Боже милосердный! Не лишай меня моего хладнокровия, так как иначе сумасшествие и впрямь неизбежно!.. Пролился свет на некоторые вещи, которые прежде вызывали недоумение. До сих пор я как-то не понимал, чего хотел Шекспир, когда Гамлет у него говорит:
- «Мои таблички, – надо записать,
- Что можно жить с улыбкой[55]» и т. д., —
но теперь, чувствуя, что мой рассудок на грани помешательства или что он не выдержит пережитого потрясения, я обращаюсь к своему дневнику за отдохновением. Привычка старательно вести его поможет мне успокоиться.
Таинственное предостережение графа испугало меня; когда я думаю об этом теперь, то еще сильнее боюсь, так как чувствую, что в будущем стану жить под страхом его власти надо мной. Я буду бояться даже усомниться в каждом его слове…
Кончив писать и убрав благополучно дневник и ручку, я стал погружаться в дрему. Мне вспомнилось предостережение графа, но возможность ослушаться его доставляла мне удовольствие. Сон реял надо мной, мягкий лунный свет успокаивал, а широкий простор за окном рождал освежающее чувство свободы. Я решил не возвращаться этой ночью в мрачные комнаты, а спать здесь, где в былые времена сиживали дамы и напевали, и жизнь их была сладка, а нежную грудь теснило от грусти по мужьям, находящимся вдалеке, в самой гуще жестоких боев. Я вытащил из угла какую-то кушетку и поставил ее так, что мог лежа свободно наслаждаться видом, открывающимся на запад и на юг, и, не обращая внимания на густую, все покрывающую здесь пыль, я собрался спать.
Мне кажется, вероятнее всего, что я и заснул; надеюсь, что так и было, но все-таки страшно боюсь, как бы все, что затем последовало, не происходило наяву, – ведь то, что произошло, было столь реально, столь явственно, что теперь, сидя здесь при ярком солнечном свете, я никак не могу представить себе, что это был сон.
Я был не один. Комната была та же, она нисколько не изменилась с тех пор, как я в нее вошел. Я мог различить благодаря лунному свету собственные следы там, где я потревожил многолетние скопления пыли. В лунном свете против меня стояли три молодые женщины, судя по их одеждам и манерам – настоящие леди. Тогда я подумал, что вижу их сквозь сон, так как, несмотря на то что свет луны находился у них за спиной, от них не было никакой тени на полу. Они приблизились ко мне вплотную и, взглянув на меня, стали шептаться между собой. Две из них были брюнетками, с тонкими орлиными носами, как у графа, с большими темными пронзительными глазами, казавшимися совершенно красными при желтовато-бледном свете луны. Третья леди была белокура – самая светлая блондинка, какая только может существовать, с вьющимися густыми золотистыми волосами и с глазами цвета бледного сапфира. Мне показалось знакомым это лицо, узнаваемость его связывалась с какими-то страхами на грани яви и сна, но я никак не мог вспомнить, как и когда именно. У всех трех были великолепные белые зубы, сверкавшие жемчугом между рубиново-красных сладострастных губ. В них было нечто такое, что сразу заставило меня почувствовать какую-то тревогу, некое томление и одновременно смертельный ужас. В душе моей пробудилось омерзительное желание, чтобы они меня поцеловали своими красными чувственными губами. Нехорошо об этом писать, ведь когда-нибудь это может попасться на глаза Мине и причинить ей боль; но сие есть правда.
Они пошептались между собой и потом все три рассмеялись – серебристым мелодичным смехом, но жалкая плоть человеческих уст не смогла бы, казалось, исторгнуть столь режущий звук, подобный невыносимому тончайшему звону, который извлекает изощренная рука, водя по краю стеклянного бокала. Блондинка кокетливо покачивала головкой, а две другие подзадоривали ее. Одна из них сказала:
– Начинай! Ты первая, а мы последуем твоему примеру. Твое право начать.
Другая прибавила:
– Он молод и здоров; тут хватит поцелуев на всех нас.
Я замер и лежал, чуть прикрыв глаза, глядя на них, изнемогая от предвкушаемого наслаждения. Светлая дева подошла и склонилась надо мною так низко, что я почувствовал ее дыхание. Оно было сладостным, сладковатым, но в то же время действовало на нервы так же своеобразно, как и ее голос, но в этой сладости чувствовалась какая-то горечь, какая-то отвратительная горечь, присущая запаху крови.
Я боялся окончательно открыть глаза, но прекрасно все видел сквозь ресницы. Блондинка встала на колени и склонилась надо мной в вожделении. Осмысленное сладострастие, и возбуждающее, и отталкивающее, было в том, как, изгибая шею, она склонялась все ниже и ниже, облизывая при этом рот, словно зверь; при свете луны я заметил ее влажные алые губы и кончик языка, которым она облизывала белые острые зубы. Ее голова опускалась все ниже, и губы ее, как мне показалось, прошли мимо моего рта и подбородка и остановились над самым горлом. Она замерла – я слышал влажный звук, рождаемый ее быстро снующим язычком, и ощущал жгучее дыхание на своей шее. Потом кожу стало покалывать и пощипывать. Тогда я почувствовал мягкое прикосновение трепещущих губ к обостренно чувствительной коже у горла и два острых укола. Я закрыл глаза в томном восторге и ждал, и ждал с замирающим сердцем.
Но в то же мгновение меня с быстротою молнии пронзило другое ощущение. Я почувствовал присутствие графа; он был в бешенстве. Я невольно открыл глаза и увидел, как граф своей мощной рукой схватил женщину за ее тонкую шею и изо всей силы отшвырнул в сторону, причем синие глаза ее сверкали бешенством, белые зубы скрежетали от злости, а бледные щеки вспыхнули гневом. Но что было с графом! Не думаю, что даже демоны могут быть охвачены такой свирепостью, бешенством и яростью! Его глаза определенно метали молнии. Красный оттенок их сделался еще ярче, как будто в них пылало пламя адского огня. Лицо его было мертвенно-бледным, а все черты лица застыли, будто окаменев; густые брови, и без того сходившиеся у переносицы, теперь напоминали тяжелую прямую полосу добела раскаленного металла. Свирепо отбросив женщину от себя, он сделал движение по направлению к двум другим, как бы желая и их отбросить назад. Движение это было похоже на то, которым он укрощал волков. Голосом, низведенным почти до шепота, но который при этом словно раскалывал воздух и гулко отдавался по комнате, он сказал:
– Как вы смели его трогать? Как вы смели поднять глаза на него, если я вам это запретил? Назад, говорю вам! Ступайте прочь! Этот человек принадлежит мне! Посмейте только коснуться его, вы будете иметь дело со мной!
Белокурая дева, смеясь с грубой игривостью, обратилась к нему:
– Вы никогда никого не любили и никогда никого не полюбите.
Две другие подхватили, и раздался столь безрадостный, резкий и бездушный смех, что я чуть не лишился чувств, услышав его; в нем было злобное торжество. Граф повернулся ко мне и, пристально глядя мне в лицо, нежно прошептал:
– Нет, я тоже способен любить; в прошлом вы сами могли убедиться в этом. Я обещаю вам, что, как только с ним покончу, я позволю вам целовать его, сколько пожелаете. А теперь уходите. Я должен его разбудить, так как предстоит еще одно дело.
– А разве сегодня ночью мы ничего не получим? – сдерживая смех, спросила одна из дев, указав на мешок, который он бросил на пол и который шевелился, как будто в нем находилось что-то живое.
Он утвердительно кивнул головой. Одна из женщин моментально кинулась и раскрыла мешок. Если только слух меня не обманывал, то оттуда раздались придушенные вздохи и плач ребенка. Женщины обступили то место, тогда как я был весь охвачен ужасом; но когда я вгляделся пристально, то оказалось, что они уже исчезли, а вместе с ними исчез и ужасный мешок. Другой двери в комнате не было, а мимо меня они не проходили. Казалось, они просто исчезли, растворившись в лунных лучах, ибо я видел, как их слабые очертания постепенно истаивают в окне.
Ужас охватил меня с такой силой, что я упал в обморок.
Глава IV
Дневник Джонатана Харкера (продолжение)
Проснулся я в своей постели. Если только ночное приключение не приснилось мне, то, значит, сюда меня перенес граф. Целый ряд мелких признаков говорил за это. Мое платье было сложено не так, как я это обыкновенно делаю. Мои часы стояли, а я их всегда завожу на ночь, и много еще таких же мелочей. Но все это, конечно, не может служить доказательством, а лишь подтверждает то, что я не был в обычном состоянии рассудка; я же и впрямь, по той или иной причине, пережил сильнейшее смятение. Я должен найти другие доказательства. Чему, однако, я несказанно рад, так это тому, что мои карманы остались нетронутыми, граф, очевидно, очень спешил (если только он перенес меня сюда и раздел). Я уверен, что мой дневник был бы для него загадкой, которую он не смог бы разгадать. Он, наверное, взял бы его себе и, может быть, уничтожил. Теперь моя комната, которая всегда казалась мне отвратительной, является как бы моим святилищем, так как нет ничего страшнее тех ужасных женщин, которые ждали и будут ждать случая высосать мою кровь.
18 мая.
При свете дня я опять пошел в ту комнату, так как должен же я, наконец, узнать всю правду. Когда я добрался до двери на верхней площадке лестницы, то нашел ее запертой. Ее закрыли с такою силой, что часть ее оказалась разбитой. Я увидел, что засов не был задвинут, а дверь закрыта изнутри. Я боюсь, что все это не сон. И я должен соответственно действовать.
19 мая.
Я, без сомнения, в западне. Прошлою ночью граф сладким голосом попросил меня написать три письма: в первом сообщить, что мое дело здесь уже близится к концу и что через несколько дней я отправляюсь домой; во втором – что я выезжаю на следующий день после того, как написано письмо, а в третьем – что я уже покинул замок и приехал в Бистрицу. Мне страшно хотелось протестовать, но я понял, что в моем положении открыто ссориться с графом – безумие, так как я нахожусь в его власти, а отказаться писать эти письма значило бы возбудить его подозрение и навлечь на себя его гнев. Он понял бы, что я слишком многое знаю и что я не должен оставаться в живых, так как я опасен ему; единственным моим выходом было искать и ждать случая. Может быть, и подвернется случай бежать. В его глазах я снова заметил нечто похожее на тот гнев, с которым он отшвырнул от себя белокурую женщину. Он объяснил мне, что почта ходит здесь редко и ненадежно, поэтому сейчас написанные мной письма обеспечат спокойствие моим друзьям, и он столь внушительно заверил меня, что сможет отменить распоряжение об отправке двух последних и задержать их в Бистрице, на случай если возникнет необходимость продлить мое пребывание, что противоречить ему значило бы вызвать у него новое подозрение, поэтому я сделал вид, что совершенно с ним согласен, и только спросил, какие числа поставить в письмах. Он на минуту задумался, потом сказал:
– Первое пометьте 12 июня, второе – 19 июня и третье – 29 июня.
Теперь я знаю, сколько мне отпущено дней. Да поможет мне Бог!
28 мая.
Есть возможность сбежать или, по крайней мере, послать домой весточку: к замку пришел цыганский табор и расположился во дворе. В этом краю они отличаются некоторыми особенностями, хотя и сродни всем вообще цыганам. В Венгрии и Трансильвании их тысячи, практически поставленных вне закона. Они, как правило, отдаются под покровительство какого-нибудь крупного аристократа или магната и зовутся его именем. Они бесстрашны и лишены иной веры, кроме суеверия, а говорят на собственной разновидности романских языков.
Я напишу домой несколько писем и постараюсь добиться, чтобы цыгане отнесли их на почту. Я уже завязал с ними знакомство через окошко. Они сняли при этом шляпы и делали мне какие-то знаки, столь же малопонятные, как и их язык…
Я написал письма. Мине написал, используя стенографию, а м-ра Хокинса просто попросил списаться с нею. Ей я сообщил о своем положении, умалчивая, однако, об ужасах, в которых я сам еще не вполне разобрался. Если бы я открыл ей всю душу, она испугалась бы до смерти. Если письма каким-нибудь образом все-таки дойдут до графа, он все же не будет знать моей тайны или, вернее, насколько я проник в его тайны…
Я отдал письма, бросив их сквозь решетку моего окна вместе с золотой монетой, и как мог знаками показал, что нужно опустить их в почтовый ящик. Взявший письма прижал их к сердцу и затем вложил в свою шляпу. Больше я ничего не мог сделать. Я пробрался в библиотеку и начал читать.
Наконец граф пришел. Он сел против меня и сказал своим вкрадчивым голосом, вскрывая два письма:
– Цыгане передали мне эти письма, и хотя я не знаю, откуда они взялись, мне придется о них позаботиться. Посмотрим! Одно из них от вас к моему другу Питеру Хокинсу; другое… – Тут, вскрыв письмо, он увидел странные знаки, причем его лицо омрачилось, и в глазах сверкнуло бешенство. – Другое – гадкий поступок, злоупотребление дружбой и гостеприимством. Оно не подписано. Прекрасно! Значит, оно не имеет к нам отношения.
И он хладнокровно взял письмо и конверт и держал их над лампой до тех пор, пока они не превратились в пепел. Затем он продолжал:
– Письмо, адресованное Хокинсу, я, конечно, отправлю, раз оно от вас. Ваши письма для меня святы. Вы, друг мой, простите меня, конечно, что, не зная этого, я его распечатал. Не запечатаете ли вы снова?
Он протянул мне письмо и с изысканным поклоном передал чистый конверт. Мне оставалось только надписать адрес и молча вручить ему письмо. Затем он вышел из комнаты, и я услышал, как ключ мягко повернулся в замке. Подождав минуту, я подошел к двери – она оказалась запертой.
Час или два спустя граф спокойно вошел в комнату; он разбудил меня своим приходом, так как я заснул тут же на диване. Он был очень любезен и изыскан в обращении и, видя, что я спал, сказал:
– Вы устали, друг мой? Ложитесь в постель. Там удобнее всего отдыхать. Я лишен удовольствия беседовать с вами нынешней ночью, так как я очень занят; но вы будете спать, я в этом уверен!
Я прошел к себе в комнату и – странно признаться – спал без сновидений. И отчаянию свойственны минуты покоя.
31 мая.
Когда я сегодня утром проснулся, то решил запастись бумагой и конвертами из своего чемодана и хранить их в кармане, дабы иметь возможность записывать то, что нужно в случае необходимости. Но меня ожидал новый сюрприз, новый удар: из чемодана исчезла вся бумага и конверты вместе со всеми заметками, расписанием железных дорог, подробными описаниями моих путешествий; исчезло и письмо с аккредитивом – словом, все, что могло бы мне пригодиться, будь я на воле. Мой дорожный костюм исчез; мой сюртук и плед также. Я нигде не мог найти и следа их. Должно быть, новая злодейская затея…
17 июня.
Сегодня утром, сидя на краю постели и ломая голову над происходящим, я вдруг услышал на дворе щелканье хлыста и стук лошадиных копыт по мощеной дороге. Я бросился к окну и увидел два больших фургона, каждый запряженный восьмеркою лошадей; у каждой пары стоял словак в белой шляпе, поясе, усеянном громадными гвоздями, грязных овчинах и высоких сапогах. В руках у них были длинные посохи. Я бросился к двери, чтобы скорее спуститься вниз и пробраться к ним через входную дверь, которая, по моему мнению, была не заперта. Опять поражение: моя дверь оказалась запертой снаружи. Тогда я бросился к окну и окликнул их. Они тупо взглянули наверх и показали на меня; тут как раз к ним подошел цыганский гетман; увидев, что они указывают на меня, он сказал им что-то, над чем они рассмеялись. После этого никакие мои усилия, жалобные крики и отчаянные мольбы не могли заставить их взглянуть на мое окно. Они окончательно отвернулись от меня. В фургоны были погружены большие ящики с толстыми веревочными ручками; они, без сомнения, были пустыми, судя по легкости, с которой их несли словаки. Ящики выгрузили и сложили в кучу в углу на дворе, затем цыгане дали словакам денег, плюнув на них на счастье, и словаки вслед за тем лениво вернулись к своим лошадям и уехали.
24 июня, на рассвете.
Прошлой ночью граф рано покинул меня и заперся на ключ у себя в комнате. Со всех ног я опять помчался по винтовой лестнице наверх взглянуть в окно, выходящее на юг. Я думал, что подстерегу здесь графа, – кажется, что-то готовится. Цыгане находятся где-то в замке и заняты какой-то работой. Я это знаю, так как порой слышу далекий и глухой звук не то мотыги, не то заступа; что бы они ни делали, это, во всяком случае, должно быть, конец какого-нибудь жестокого злодеяния.
Я стоял у окна почти полчаса, когда заметил, как что-то появилось из окна комнаты графа. Я подался назад и осторожно наблюдал. Наконец я разглядел всего человека. Совершенно новым ударом для меня было то, что я увидел на нем мой дорожный костюм; через плечо у него висел тот самый ужасный мешок, который, как я помнил, женщины забрали с собой. Тут уже больше не оставалось сомнений, за чем он отправился и для чего ему моя одежда. Вот, значит, его новая злая затея. Он хочет, чтобы другие приняли его за меня; чтобы, таким образом, в городе и деревне знали, что я сам относил свои письма на почту, и чтобы всякое злодеяние, которое он совершит в моей одежде, местные жители приписали мне. Я думал, что дождусь возвращения графа, и поэтому долго и упорно сидел у окна. Затем я стал замечать в лучах лунного света мелькание каких-то маленьких точек; крошечные, словно микроскопические пылинки, они кружились очень своеобразно. Я наблюдал за ними с чувством отдохновения, и они навеяли на меня какое-то спокойствие. Я расположился поудобнее в амбразуре окна, с тем чтобы полнее насладиться эфирным кружением.
Что-то заставило меня вздрогнуть – тихий, жалобный вой собак далеко внизу, в долине, скрытой от моих взоров. Громче и громче звучал он, казалось, у меня в ушах, и все новые формы принимали в ответ витающие атомы пылинок, танцуя в лунном свете. Я словно боролся с самим собой, чтобы восстать на зов природных инстинктов, – нет, боролась моя душа, а полузабытые чувства рвались ответить на зов. Я подпадал под гипноз. Быстрей и быстрей кружились пылинки, струи лунного света, казалось, колыхались, падая в плотный мрак за моей спиной. Сгущаясь все более и более, они сложились наконец в неясные призрачные формы. Лишь тогда, стряхнув морок, вновь овладев своими чувствами, я вскочил и с воплем бросился прочь. В призрачных фигурах, постепенно обретающих плоть в лунных лучах, я узнал очертания тех трех женщин, в жертву которым я был обречен. Я убежал в свою комнату, где не было лунного света и где ярко горела лампа; мне казалось, что здесь я в безопасности.
Спустя несколько часов из комнаты графа до меня донесся шум – пронзительный плач, тотчас задушенный; затем наступило молчание, столь глубокое и ужасное, что я невольно содрогнулся. С колотящимся сердцем я старался открыть дверь, но снова был заперт в своей тюрьме и ничего не мог поделать. Я просто сидел и плакал.
Тут вдруг на дворе раздался душераздирающий женский крик. Я подскочил к окну и взглянул сквозь решетку на двор. Там, опираясь на створку ворот, действительно стояла женщина. Волосы ее спутались, руками она держалась за грудь, словно задохнувшись от бега. Увидев мое лицо в окне, она бросилась вперед и угрожающим голосом крикнула:
– Изверг, отдай моего ребенка!
Она упала на колени и, простирая руки, продолжала выкрикивать те самые слова, надрывавшие мне сердце. Она рвала на себе волосы, била себя в грудь и приходила все в большее и большее отчаяние. Наконец, продолжая неистовствовать, она кинулась вперед. Я уже не мог ее видеть, но слышал, как она стучала кулаками по входной двери.
Где-то высоко надо мной, возможно на башне, раздался металлически резкий приглушенный голос графа, звучавший призывом. В ответ ему из ближних и дальних мест послышался волчий вой. Не прошло и нескольких минут, как целая их стая, точно прорвавшая плотину вода, затопила двор.
Женский крик прекратился, а вой волков как-то внезапно затих. Вслед за тем волки, облизываясь, удалились поодиночке.
Я не мог о ней сожалеть, ибо знал теперь участь ее ребенка. Умереть для нее было лучше.
Но что делать мне? Что я могу сделать? Как ускользнуть от этого жуткого порождения ночи, мрака и ужаса?
25 июня, утром.
Не пережившему мук ночи неведомо, как сладостно и дорого сердцу и очам бывает утро. Когда в это утро солнце взошло столь высоко, что осветило верхнюю часть гигантских ворот напротив моего окна, мне показалось, словно голубь ковчега сел туда, куда упал луч. Мой страх свалился с меня, как некий туманный покров, растаявший в горячих лучах. Я должен что-то предпринять, пока день внушает мне мужество. Вчера вечером ушло мое письмо, первое в той роковой череде, которая должна стереть даже след моего пребывания на этой земле.
Не думать об этом. К делу!
Грозящие мне опасности и страхи всегда преследуют меня по ночам. Я до сих пор ни разу не видел графа при свете дня. Неужели он спит, когда другие бодрствуют, и бодрствует, когда другие спят? Если б я только мог попасть в его комнату! Но нет никакой возможности. Дверь всегда заперта, я никак не смогу пробраться туда.
Нет, попасть туда возможно! Лишь бы хватило храбрости! Раз попадает он, почему и другому не попытаться? Я собственными глазами видел, как он полз по стене, почему бы и мне не последовать его примеру и не пробраться туда через окно? Шансов у меня мало, но и положение мое отчаянное! Рискну! В худшем случае может быть только смерть; смерть человека не смерть теленка, и загробная жизнь, может быть, еще для меня не потеряна. Да поможет мне Бог в моем предприятии! Прощай, Мина, если я потерплю неудачу! Прощайте, верный мой друг, мой второй отец! Прощайте все, и еще раз последний привет Мине!
В тот же день, позднее.
Я рискнул и, благодаря Создателю, вернулся опять в свою комнату. Нужно все записать по порядку. Пока мужество не изменило мне, я прямиком отправился к окну, выходящему на юг, и выбрался на узкий каменный карниз, опоясывающий здание с этой стороны. Стена выстроена из больших, грубо отесанных камней, и известка между ними выветрилась от времени. Я снял сапоги и отправился на свою отчаянную вылазку. Единожды я взглянул вниз, чтобы удостовериться, что случайный взгляд в жуткую бездну не парализует меня страхом, но впредь отводил от нее свой взор. Я знал довольно хорошо направление, а также расстояние до окна графа и решил воспользоваться любой благоприятной случайностью. Я не чувствовал головокружения, – должно быть, я был чересчур взволнован. До смешного быстро я обнаружил, что уже стою на подоконнике и стараюсь поднять окно в комнату графа. Однако когда я наклонился и спускал ноги в окно, мной овладело смятение. Я огляделся, нет ли графа, и с удивлением и радостью обнаружил – комната пуста! Она была кое-как обставлена разрозненными предметами, которыми, казалось, никогда не пользовались; мебель, по стилю напоминавшую мебель в южных комнатах, покрывал слой пыли. Я стал искать ключ; в замке его не было, и я его нигде не нашел. Единственное, что я обнаружил, – это целая куча золота в углу: золото самое разное – романские, британские, австрийские, греческие и турецкие монеты, покрытые тонким налетом, как будто долго лежали в земле. Я не заметил среди них ни одной, которой было бы меньше трехсот лет. Там были еще цепочки, украшения, некоторые с драгоценными камнями, но все старое и покрытое пятнами.
В одном углу комнаты находилась массивная дверь. Я попробовал ее открыть, так как не нашел ключа от комнаты или входной двери. Это было основной целью моих поисков. Пришлось продолжить свои исследования для того, чтобы все мои труды не пропали даром. Дверь оказалась незапертой и вела под каменным сводом к винтовой лестнице, круто уходящей вниз. Я спустился, внимательно следя за тем, куда ступаю, так как лестница была освещена лишь редкими отверстиями в толстой каменной стене. На дне я наткнулся на темный проход туннеля, откуда несся тошнотворный, убийственный запах – запах свежей, только что разрытой земли; по мере моего приближения запах становился удушливее и тяжелее. Наконец я толчком распахнул какую-то маленькую полуоткрытую дверь и очутился в старой развалившейся часовне, служившей, как видно, усыпальницей. Крыша ее была проломлена, и какие-то ступени вели в три склепа. Земля была здесь недавно разрыта и насыпана в большие деревянные ящики, очевидно, те самые, что привезли словаки. Я попытался найти еще какой-нибудь выход, но нигде ничего не оказалось. Тогда я обыскал каждый вершок пола, чтобы не пропустить какой-нибудь мелочи. Я даже спустился в склепы, куда с трудом проникал тусклый свет; спускался я туда с чувством страха. В двух склепах ничего не оказалось, кроме обломков старых гробов и кучи пыли. В третьем я все-таки сделал открытие.
Там в одном из больших ящиков, которых было всего пятьдесят штук, на груде свежей земли лежал граф! Он или был мертв, или спал, я не мог понять – открытые застывшие глаза, но без стеклянного мертвенного блеска, в щеках угадывалось живое тепло, несмотря на всю их бледность, а губы рдели, как всегда. Но лежал он неподвижно, ни пульса, ни дыхания, ни биения сердца. Я наклонился к нему, стараясь найти какой-нибудь признак жизни, но тщетно. Он, должно быть, недавно лежал здесь, так как земля была еще свежа. Около ящика находилась крышка от него с просверленными в ней дырами. Я подумал, что ключи, вероятно, находятся у графа, но, когда стал их искать, глаза мои случайно встретились с мертвыми глазами графа, и в них я прочел такую ненависть, хотя и безотчетную, что в ужасе попятился и поспешно двинулся обратно, выбрался через окно из комнаты графа и, взобравшись по стене замка, вернулся к себе. Я бросился, задыхаясь, в постель и постарался собраться с мыслями…
29 июня.
Сегодня день, которым датировано мое последнее письмо, и граф предпринял шаги, чтобы доказать его подлинность, ибо я опять видел, как он покидает замок через то самое окно и в моей одежде. Когда он, подобно ящерице, сползал по стене, я пожалел, что у меня нет ружья или иного смертоносного оружия, которым я мог бы его уничтожить; но боюсь, что любое оружие, сделанное рукой человека, будет бессильно против него. Я не рискнул дожидаться его возвращения из страха увидеть зловещих сестер. Вернувшись в библиотеку, я читал, пока не уснул.
Разбудил меня граф и с бесконечно мрачным видом обратился ко мне:
– Завтра, мой друг, нам предстоит расстаться. Вы вернетесь в вашу прекрасную Англию, я же – к занятиям, следствием которых может быть то, что мы больше не встретимся. Ваше письмо уже отослано; завтра меня здесь не будет, но все уже приготовлено к вашему отъезду. Утром сюда придут цыгане и несколько словаков. Когда они уйдут, за вами приедет моя коляска, которая отвезет вас в ущелье Борго, где вы пересядете в дилижанс, идущий из Буковины в Бистрицу. Но я надеюсь, что увижу вас еще раз в замке Дракулы.
Не доверяя ему, я решил испытать его искренность (искренность! – не странно ли применять само это слово к подобному исчадию?) и спросил напрямик:
– Почему я не могу выехать сегодня вечером?
– Потому, дорогой мой, что мой кучер и лошади отосланы по делу.
– Но я с удовольствием пойду пешком, я сейчас же готов уйти.
Он улыбнулся так мягко, вкрадчиво и в то же время такой демонической улыбкой, что я понял: за его уступчивостью таится подвох. Он спросил:
– А ваш багаж?
– Я могу прислать за ним. Он мне сейчас не нужен.
Граф поднялся и сказал с такой поразительной изысканностью, что я глазам и ушам не поверил, до того это прозвучало искренне:
– У вас, англичан, есть одна пословица, которая близка моему сердцу, так как ею руководствуемся и мы, бояре: «Добро пожаловать, приходящий гость, и поспеши – уходящий». Пойдемте со мной, дорогой мой друг, я и часу не хочу оставлять вас против вашей воли, как бы ни печалил меня ваш отъезд и ваше столь внезапное желание уехать. Идемте же!
С величавым достоинством, держа в руке лампу, граф спустился со мной по лестнице, освещая мне дорогу. Но вдруг он остановился:
– Слышите?
Точно по мановению его руки, раздался близкий вой волков, подобно тому как симфонический оркестр взрывается музыкой, послушный дирижерской палочке. Помедлив минуту, своей величественной поступью он прошествовал к двери, отодвинул внушительные засовы, снял тяжелые цепи и начал открывать дверь.
К моему несказанному удивлению, дверь не была заперта на ключ. Я недоверчиво огляделся, но не заметил и подобия ключа.
По мере того как открывалась дверь, вой волков становился громче и яростней, их красные пасти с щелкающими зубами и лапы с тупыми когтями начали просовываться в щель. Тогда я понял, что противоборствовать графу в эту минуту бесполезно. Против таких его пособников я был бессилен. Но дверь продолжала медленно распахиваться; граф стоял в дверях один. У меня на мгновение мелькнула мысль, что вот, вероятно, моя участь: он бросит меня волкам – и я же сам помог ему сделать это.
Затея своей дьявольской злобностью была как раз по нему; хватаясь за последнюю надежду, я крикнул:
– Закройте дверь; я лучше дождусь утра! – и закрыл лицо руками, чтобы скрыть горькие слезы разочарования.
Одним мощным движением граф захлопнул дверь, засовы лязгнули, погружаясь опять в свои гнезда, и эхо отдалось через весь зал.
Молча мы вернулись в библиотеку, а через минуту-другую я ушел в свою комнату. Последнее, что я видел, – граф Дракула, посылающий мне воздушный поцелуй; в глазах красный огонь торжества и на губах улыбка, которой мог бы гордиться сам Иуда в аду.
Когда я уже был у себя в комнате и собирался лечь, мне послышался шепот у моей двери. Я тихо подошел к ней, прислушался. Я услышал голос графа:
– Назад, назад, на свои места! Ваше время еще не настало. Подождите! Имейте терпение! Эта ночь моя! А завтрашняя ночь ваша!
Вслед за этим раздался тихий мелодичный взрыв смеха; я в бешенстве распахнул дверь и увидел трех этих ужасных женщин, облизывающих губы. Как только я показался, они разразились диким смехом и убежали.
Я вернулся в свою комнату и бросился на колени. Неужели же мой конец так близок? Завтра! Завтра! Создатель, помоги мне и тем, кому я дорог!
30 июня, утром.
Быть может, это последние строки в моем дневнике. Я спал до рассвета; проснувшись, я опять бросился на колени, так как решил, что если придет смерть, она не застанет меня врасплох.
Наконец я ощутил эту едва уловимую перемену в воздухе и понял, что настало утро. Раздался долгожданный крик петуха, и я почувствовал себя в безопасности. С легким сердцем распахнув дверь, я сбежал в нижний холл. Я видел, что дверь не заперта, и теперь меня ждало избавление. Дрожащими от нетерпения руками я снял цепи и отодвинул массивные засовы.
Но дверь не поддалась. Отчаяние охватило меня. Я налегал и налегал на дверь, сотрясая ее до тех пор, пока, несмотря на свою массивность, она не заходила в дверном проеме. Стало ясно, что дверь на замке, она была заперта после того, как я расстался с графом.
Дикое желание раздобыть ключи овладело мной, и я решил снова вскарабкаться по стене и пробраться в комнату графа. Пусть он убьет меня, смерть теперь казалась мне лучшим выходом из всех бед. Не задумываясь, я ринулся вверх по лестнице к восточному окну и пополз вниз по стене, как и раньше, в комнату графа. Она пустовала, как я и ожидал. Ключа я нигде не заметил, но груда золота находилась на прежнем месте. Я отправился через дверь в углу вниз по винтовой лестнице и по темному проходу в старую часовню. Я знал теперь, где найду чудовище.
Большой ящик стоял все на том же месте, у самой темной стены, но на сей раз крышка лежала на нем, не приделанная еще, но с приготовленными гвоздями, так что оставалось лишь вколотить их. Мне нужно было его проклятое тело из-за ключа, так что я снял крышку и приставил ее к стене. И тут я увидел нечто, что пронзило меня ужасом до глубины души. Предо мной лежал граф, но наполовину помолодевший, седые волосы его и усы потемнели. Щеки казались полнее, а на белой коже светился румянец; губы его были ярче обыкновенного, так как на них еще виднелись свежие капли крови, капавшие из углов рта и стекавшие по подбородку на шею. Даже его пылающие, глубоко посаженные глаза будто заплыли, так раздулись веки и мешки под глазами. Казалось, чудовище просто налито кровью; он лежал как омерзительная пиявка, лопающаяся от пресыщения. Дрожь пробежала по моему телу, когда я наклонился к нему, все во мне зашлось от отвращения; но я должен был найти ключ, иначе я погиб. Быть может, следующей ночью мое тело пойдет на угощение для той пагубной троицы.
Я обыскал все тело, но не нашел никаких ключей. Тогда я остановился и посмотрел на графа. По его окровавленному лицу блуждала ироническая улыбка, которая, казалось, сведет меня с ума. И этому отродью я помог перебраться в Лондон, где в течение будущих столетий он станет упиваться кровью, а число безнаказанно жиреющих, подобных ему, будет все множиться! Сама эта мысль сводила меня с ума. Мной овладело дикое желание избавить мир от этого чудовища.
У меня не было под рукой никакого смертоносного оружия, тогда я схватил лопату, которой рабочие наполняли ящики землей, и, высоко взмахнув, ударил ее острием прямо в презренное лицо. Но тут голова повернулась в мою сторону, и глаза взглянули на меня, напомнив мне взгляд василиска[56]. Взгляд этот, казалось, парализовал меня, лопата вывернулась у меня в руке и скользнула по лицу, оставив лишь глубокий шрам на лбу. Лопата вывалилась у меня из рук и, когда я со злостью отшвырнул ее, задела краем крышку, которая упала, скрыв от моих взоров ужасное существо. Последнее, что я видел, было вздутое, запятнанное кровью, исполненное злорадства лицо, которое появилось, казалось бы, из самой преисподней.
Я ломал голову, что же мне делать дальше, но мой мозг, казалось, пылал, и я ждал с чувством все возрастающего отчаяния.
Стоя в ожидании, я услышал приближающуюся веселую цыганскую песню и одновременно с этим шум колес и щелканье кнута. То приближались цыгане и словаки, о которых говорил граф. Взглянув в последний раз на ящик, содержавший мерзкое тело, я убежал оттуда и поднялся в комнаты графа, решив броситься прочь, едва откроется дверь. С напряженным вниманием я прислушивался, но услышал только, как внизу заскрипел ключ в замке и там же открылась тяжелая дверь; это был какой-то новый вход, или, может быть, у кого-то был свой ключ от какой-нибудь закрытой двери. Затем послышались шаги в проходе. Я повернулся и хотел снова сбежать вниз, к склепам, предполагая, что новый вход находится именно там; но в это мгновение сильный ветер, неизвестно откуда ворвавшийся, захлопнул дверь, ведущую к винтовой лестнице, с такой силой, что поднял всю пыль в комнате. Когда я подбежал к двери, чтобы открыть ее, то все мои усилия ни к чему не привели. Я снова был пленником, и петля судьбы затягивалась на моей шее все туже и туже.
В то время как я записываю эти строки, в проходе слышен шум топочущих ног и грохот бросаемых на пол тяжелых предметов, должно быть ящиков, нагруженных землей. Вот раздался стук молотка – это ящики забивают гвоздями. Вот я слышу в передней тяжелые шаги.
Вот закрылась дверь, зазвенели цепи, заскрипел ключ в замке; я слышу, как вынули ключ, затем открылась и закрылась еще какая-то дверь; послышался скрип болтов замка.
Что это? Во дворе и на каменистой дороге раздается шум тяжелых колес, щелканье кнутов и пение удаляющихся цыган.
Я теперь один в замке, наедине с этими чудовищными женщинами. Да это и не женщины. Вот Мина – женщина, а между ней и теми нет ничего общего – это дьяволы из преисподней!
Я не останусь с ними один на один; я постараюсь сползти по стене замка дальше, чем до сих пор. Я возьму с собой немного золота – может быть, оно мне потом понадобится; ведь может случиться, что мне все-таки удастся найти способ, как выбраться из этого ужасного места.
А там – домой! Скорей выбраться отсюда и попасть на ближайший поезд! Прочь из этого проклятого места, из этой проклятой земли, где дьявол со своим отродьем еще ходит в телесной оболочке!
По крайне мере лучше отдаться на милость Божью, чем на милость этих чудовищ. Бездна глубока! На дне ее человек обретет покой – человек! Прощайте все! Мина!
Глава V
Письмо мисс Мины Мюррей мисс Люси Вестенра
«9 мая.
Моя дорогая Люси!
Прости мне мое продолжительное молчание, но я не писала потому, что была завалена работой. Жизнь учительницы очень утомительна. Я соскучилась по тебе и по морю, на берегу которого мы так свободно можем болтать и строить наши воздушные замки. Я изо всех сил занимаюсь, потому что не хочу отставать от Джонатана.
Я усердно осваиваю стенографию. Когда мы поженимся, я смогу помогать Джонатану и, если сумею прилично стенографировать, смогу записывать все, что он будет излагать, и потом перепечатывать для него на пишущей машинке, которую я тоже усердно осваиваю. Мы с ним иногда переписываемся, используя стенографию, и весь дневник о своей поездке за границу он тоже ведет, используя стенографию. Когда я буду у тебя, я тоже начну вести такой дневник. Не этот, знаешь, одна или две страницы в неделю плюс уголок для воскресенья, а нечто вроде тетради, куда я буду писать, когда придет настроение. Не думаю, чтобы он представлял интерес для других, да он и не предназначен для этого. Может быть, я когда-нибудь покажу его Джонатану, если там будет чем поделиться, но, в сущности, это тетрадь для упражнений. Я попытаюсь сделать то, что, я видела, делают дамы-журналисты: брать интервью, давать описания, стараться запоминать разговоры. Мне говорили, что, немного потренировавшись, можно запомнить все, что делалось и говорилось за день. Ну, там посмотрим. Расскажу тебе о своих затеях, когда увидимся. Только что получила несколько торопливых строчек от Джонатана из Трансильвании. Он, слава богу, здоров и вернется приблизительно через неделю. Я жажду узнать от него все новости. Это, должно быть, очень интересно – видеть чужие страны. Любопытно, нам, я хочу сказать – Джонатану и мне, удастся ли когда-нибудь увидеть их. Вот часы бьют десять. До свидания!
Любящая тебя
Мина.
P. S. Пиши мне обо всех новостях. Ты мне уже давно ничего не сообщала. Ходят слухи – особенно о каком-то высоком красавце с кудрявыми волосами???»
Письмо Люси Вестенра Мине Мюррей
«17 Чатем-стрит, среда.
Моя дорогая Мина!
Ты несправедлива, обвиняя меня и называя неаккуратной корреспонденткой: я дважды писала тебе с тех пор, как мы расстались, а твое последнее письмо было только вторым по счету. Кроме того, мне нечего тебе сообщить. Право, ничего нет такого, что могло бы тебя заинтересовать. В городе как раз сейчас довольно приятно. Мы ходим то в картинные галереи, то гулять в парк или кататься верхом. Что до высокого господина с вьющимися волосами, думаю, речь о том, с кем меня видели последний раз! Кто-то явно рассказывает небылицы. Это был м-р Холмвуд. Он у нас частый гость, они чудесно поладили с мамой; между ними много общего, и поэтому они находят множество тем для разговоров… Кстати, недавно мы встретились с одним господином, который был бы для тебя подходящей партией, если бы, конечно, ты не была уже невестой Джонатана. Он мог бы составить блестящую parti[57] – красив, богат и знатен. Он на редкость умен, по профессии врач. Как странно, что ему всего 29 лет, а между тем под его личным надзором находится уже громадная лечебница для сумасшедших. Нам его представил м-р Холмвуд; он теперь часто бывает у нас. Мне кажется, что это чрезвычайно решительный человек с необыкновенным самообладанием. Он производит впечатление человека абсолютно невозмутимого. Представляю, какую власть он должен иметь над своими пациентами. Он обладает странной привычкой смотреть на другого в упор, словно стараясь прочесть чужие мысли. Он без конца проделывает это со мной, но тешу себя мыслью – ему попался крепкий орешек. Я это узнала, глядя на себя в зеркало. Пробовала ли ты хоть раз прочесть что-нибудь по собственному лицу? Я пробовала, и, уверяю тебя, это неплохое упражнение и совсем не такое простенькое, как можно подумать, если никогда этим не занималась. Доктор нашел, что я представляю любопытный для него психологический тип; смиренно полагаю, что он прав. Я, как ты знаешь, не слишком увлечена нарядами и не в состоянии описывать последние моды. Наряжаться – помрешь с тоски. Опять жаргон, ну и пусть, Артур всегда так говорит. Ну вот я и проговорилась. Мина! Мы с детства поверяли друг другу все наши секреты; мы вместе спали, вместе ели, вместе плакали и смеялись; и теперь раз уж я заговорила, то хочу открыть тебе свою тайну. Мина! Неужели ты не догадываешься? Я люблю его! Я краснею, когда пишу это, хотя думаю, что и он меня любит; но он мне этого еще не говорил. Но, Мина, я-то люблю его! Я люблю его! Ну вот, теперь мне стало легче. Как бы хотелось быть сейчас с тобой, дорогая моя! Раздеваясь, сидеть у камина, как мы, бывало, сидели; вот когда бы я подробно рассказала тебе о своих переживаниях. Не понимаю, как я об этом пишу, даже тебе. Боюсь остановиться, а то как бы мне не пришлось порвать письмо, да и не хочу останавливаться, потому что ведь собираюсь рассказать тебе все. Ответь мне сейчас же и скажи, что ты об этом думаешь! Спокойной ночи, Мина! Помяни меня в твоих молитвах. Помолись, Мина, за мое счастье.
Люси.
P. S. Надо ли говорить, что это тайна. Еще раз доброй ночи.
Л.»
Письмо Люси Вестенра Мине Мюррей
«24 мая.
Моя дорогая Мина!
Благодарю, благодарю, бесконечно благодарю за твое милое письмо! Так было приятно, что я посвятила тебя в свои переживания и что ты так сердечно отнеслась ко мне. Дорогая моя, а ведь правду говорит старая пословица: “Утром облачка – вечером ливень!” В сентябре мне исполнится двадцать лет, и до сегодняшнего дня никто не делал мне предложения, и вдруг сразу три. Подумай только! Три предложения в один день. Не ужас ли? И двоих бедняжек мне так жаль, правда, по-настоящему жаль. О Мина, я так счастлива, что не знаю, что с собой делать. Да еще три предложения! Но, ради всего святого, не говори никому из девочек, чтобы они не выдумывали всяких экстравагантных фантазий и не воображали себя задетыми и униженными, если в первый же день своего пребывания дома не получат по меньшей мере шести предложений руки и сердца. Некоторые девицы так тщеславны! Мы с тобой, Мина, дорогая, уже помолвлены и скоро превратимся в степенных пожилых матрон, мы можем пренебречь тщеславием. Итак, я расскажу тебе обо всех троих, но ты должна держать это в секрете, дорогая моя, от всех, кроме Джонатана. Ему ты, конечно, скажешь, так как если бы я была на твоем месте, то, наверное, все говорила бы Артуру. Женщине полагается все рассказывать своему мужу – не так ли, дорогая? Я должна быть честной. Мужчинам нравится, когда женщины, и особенно жены, столь же честны, как они сами, а женщины, боюсь, не всегда столь честны, как им следовало бы. Итак, дорогая моя, слушай: первый пришел как раз перед обедом. Я говорила тебе о нем, д-р Джон Сьюард, тот, у которого лечебница для душевнобольных. С мужественным подбородком и прекрасным лбом. Внешне само спокойствие. Тем не менее он очень нервничал. Он явно вымуштрован даже в мелочах и не забывал о них, но умудрился едва не сесть на свой цилиндр, чего в спокойном состоянии люди обычно не делают. Потом, желая казаться непринужденным, он принялся поигрывать своим скальпелем с таким видом, что еще немножко – и я бы закричала. Он заговорил со мной, Мина, напрямик. Сказал, как я ему дорога, хотя он так недолго меня знает. Какой была бы его жизнь, будь я рядом, чтобы помогать и поддерживать его. Видимо, он собрался сказать, как будет несчастлив, если он мне безразличен, но заметил, что я плачу. Назвав себя грубым животным, сказал, что не станет усугублять моего состояния. Прервав свои излияния, он спросил меня, не смогу ли я его полюбить в будущем. В ответ на это я отрицательно покачала головой. Руки его задрожали. После некоторого колебания он спросил меня, не люблю ли я кого-нибудь другого. Он высказал это с большим тактом, добавив, что хочет не вырвать у меня признание, а просто знать, ибо если сердце мое свободно, то он может надеяться. Я решила, что мой долг сказать ему правду. Услышав мой ответ, он встал и, взяв обе мои руки в свои, сказал очень торжественным и серьезным тоном, что он надеется, что я буду счастлива. Кроме того, просил меня запомнить, что если бы мне понадобился друг, то он при любых обстоятельствах будет к моим услугам. О, дорогая Мина, я не могу удержаться от слез, и ты должна простить мне, что это письмо испорчено пятнами. Конечно, очень приятно выслушивать предложения, все это чрезвычайно мило, но ужасно горько видеть несчастного человека, который искренне тебя любит и уходит от тебя с разбитым сердцем, и знать: что бы он в эту минуту ни говорил, он уходит навсегда из твоей жизни. Дорогая моя, я должна прервать письмо, так как чувствую себя отвратительно, даже несмотря на то, что бесконечно счастлива.
Вечером.
Только что ушел Артур, и теперь я чувствую себя спокойнее, чем тогда, когда утром прервала это письмо; так что могу продолжать рассказывать тебе о дальнейшем. Итак, дорогая моя, номер два пришел после завтрака. Это американец из Техаса, очень славный малый, причем он до того молодо и свежо выглядит, что просто не верится его рассказам о путешествиях по стольким странам и о пережитых им приключениях.
Я вполне сочувствую бедняжке Дездемоне[58], когда в ее слух проникли столь опасные речи, пусть даже и мавра. Думаю, мы, женщины, столь робки, что в надежде, что мужчина избавит нас от страхов, и выходим замуж. Теперь я знаю, будь я на месте мужчины, как заставить девушку полюбить. Нет, я заблуждаюсь, вот м-р Моррис все рассказывал нам свои истории, а Артур не рассказал ни одной, и все же… Однако я несколько забегаю вперед. М-р Квинси П. Моррис застал меня одну. Сдается, мужчина всегда застает девицу одну. Нет, не всегда; Артур дважды пытался, будто случайно, и я помогала как только могла; теперь я не стыжусь признаться. Прежде всего я должна предупредить тебя, что м-р Моррис не всегда говорит на жаргоне – то есть никогда не говорит так с чужими или при посторонних, он прекрасно образован и умеет безупречно держаться, но он обнаружил, что меня забавляет слушать его болтовню на американском жаргоне, и, как только поблизости никого нет, кто мог быть шокирован, он говорит ужасно смешные вещи. Однако боюсь, дорогая, он их сам и выдумывает, потому что это всегда абсолютно подходит к тому, о чем идет речь. Но жаргон и обладает подобным свойством. Не знаю, буду ли я сама когда-нибудь говорить на жаргоне; не знаю, нравится ли это Артуру, я ни разу не слышала, чтобы он воспользовался каким-нибудь словечком. Итак, м-р Моррис уселся возле меня и держался весельчаком насколько мог, но заметно было, что он нервничает. Он взял мою руку и заговорил необыкновенно ласково:
– Мисс Люси, я прекрасно знаю, что недостоин завязывать шнурки на ваших башмачках, но я убежден: если вы будете ждать, пока найдете достойного вас мужа, вам придется присоединиться к семерым евангельским невестам со светильниками[59]. А не впрячься ли вам в упряжку вместе со мной и не пуститься ли нам в путь-дорогу парой?
Знаешь, он говорил с таким юмором, казался таким развеселым, что отказать ему было как будто вдвое проще, чем бедному д-ру Сьюарду; вот я и ответила как можно легкомысленней, что и в упряжках совсем не разбираюсь, да и в паре ходить еще не обучена. Тогда он сказал, что просто высказался в шутливом тоне и надеется получить прощение, если допустил ошибку, заговорив в такой манере при столь серьезных, столь значительных для него обстоятельствах. И он действительно не шутил, когда говорил это, и мне уже сделалось не до шуток. Знаю, Мина, ты сочтешь меня ужасной кокеткой – но я все-таки была вне себя от счастья, что он уже второй за день. И потом, не успела я и слова сказать, он разразился целым потоком любовных излияний, слагая душу и сердце к моим ногам. И в этом было такое глубокое чувство, что я больше не думаю, будто человек только и может дурачиться, ничего не принимая всерьез, если порой ему случается быть веселым. Мне кажется, он прочитал на моем лице что-то такое, что его задело за живое, так как он с минуту молчал, а потом заговорил с еще большим жаром, с таким рыцарственным жаром, что за это одно я могла бы его полюбить, если бы мое сердце было свободно:
– Люси, вы девушка с чистым сердцем, я это знаю. Я не был бы здесь и не говорил бы с вами о том, о чем говорю сейчас, если бы не знал, что вы прямая, смелая и правдивая до глубины души. Поэтому прошу вас сказать мне прямо, как честный человек сказал бы своему другу, – есть ли у вас кто-нибудь на сердце, кого вы любите? Если таковой есть, то даю вам слово никогда больше не касаться этого вопроса и остаться, если вы позволите, только вашим искренним другом.
Дорогая Мина, почему так благородны мужчины, а мы, женщины, так мало их стоим? А я-то, я едва на смех не подняла этого великодушного, истинно благородного человека. Я ударилась в слезы – боюсь, дорогая, что это письмо покажется тебе подмоченным во многих смыслах, но мне и впрямь было страшно тяжело. Почему непозволительно девице соединиться браком с троими или со всеми, кто хочет ее, чтобы избежать всех этих мучений? Но это еретические мысли, я не должна такого говорить. С радостью могу сказать, что, хотя и в слезах, я сумела, глядя в ясные глаза м-ра Морриса, прямо ему ответить:
– Да, я люблю другого, хотя он до сих пор еще не признался мне в любви…
Я была права, что сказала ему все откровенно, так как после моего признания он как бы преобразился и взял мои руки в свои – кажется, я сама протянула ему их – и очень сердечно произнес:
– Вот это молодчина. Лучше опоздать сделать предложение вам, чем вовремя выиграть сердце всякой другой девушки. Не плачьте, дорогая! Не стоит из-за меня волноваться, меня просто так не сломаешь, я встречу судьбу лицом к лицу. Но если тот малый, и не подозревающий о своем счастье, не скоро о нем догадается, он будет иметь дело со мной. Деточка, ваша искренность и честность сделали меня вашим другом; имейте в виду, что это встречается реже, чем возлюбленный; во всяком случае, друг менее эгоистичен. Дорогая! Мне предстоит прогулка не из радостных, пока я не отправлюсь к праотцам, поэтому очень прошу вас подарить мне один поцелуй – это озарит мою мрачную жизнь; вы имеете право осчастливить меня им, конечно, если только захотите. Ведь тот прекрасный малый – он должен быть прекрасным, иначе вы бы его не любили, – еще не сделал вам предложения.
Этим он меня окончательно победил, Мина; ведь это было мужественно и нежно, и благородно для соперника – не правда ли? И притом он был так опечален; я нагнулась и поцеловала его. Он поднялся, держа мои руки в своих, и, когда он посмотрел мне прямо в лицо, я ужасно покраснела; затем он сказал:
– Деточка, вот я держу вашу руку, вы меня поцеловали; если после всего этого мы с вами не стали закадычными друзьями, то больше случая для этого не будет. Благодарю вас за вашу нежность и честность по отношению ко мне, и… до свидания.
Он выпустил мои руки, взял свою шляпу и, ни разу не оглянувшись, ушел, без слез, без колебаний, а я вот плачу как ребенок. О, почему такой человек должен страдать, когда столько девушек благословили бы землю, по которой он ступал? Я сама благословила бы – будь я свободна, только я не хочу свободы. Дорогая, это так расстроило меня, что чувствую – не могу сразу же писать о своем счастье после того, что тебе сообщила. Не хочу говорить о номере третьем, пока не будет полного счастья.
Вечно любящая тебя
Люси.
P. S. О номере третьем мне, верно, не нужно тебе и сообщать? Все произошло так беспорядочно; мне показалось, что все произошло в одно мгновение; по-моему, не успел он войти в комнату, как я оказалась в его объятиях и он осыпал меня поцелуями. Я очень, очень счастлива и положительно не знаю, чем заслужила это счастье.
Просто я в будущем должна показать, как благодарна Господу, пославшему мне такого возлюбленного, такого мужа, такого друга, за Его милость ко мне.
До свидания».
Дневник д-ра Сьюарда (Надиктовано на фонограф)
25 апреля.
Полное отсутствие аппетита. Не могу есть, не могу отдыхать, так что вместо всего – дневник. После вчерашнего отказа чувствую какую-то пустоту; кажется, нет на свете ничего столь важного, чем бы стоило заняться; в моем нынешнем состоянии единственное облегчение – работа, поэтому я и отправился к своим больным. Особенно долго провозился я с одним пациентом, который представляет глубокий интерес для изучения. Он так не вписывается в общие рамки, что я намерен разобраться в его случае, насколько это возможно. Сегодня мне удалось подойти ближе, чем когда-либо, к сути его тайны.
Я положительно забросал его вопросами, расспрашивал самым подробным образом обо всем, желая разузнать обо всех причинах его галлюцинаций; конечно, это было жестоко с моей стороны. Теперь я это вижу. Я как будто старался постоянно возвращать его к факту его безумия – то, чего с другими пациентами я избегаю, как адского пламени. (Прим.: при каких обстоятельствах я бы не убоялся преисподней?) Omnia Romae venalia sunt[60]. И ад имеет свою цену! Verb, sap[61]. Если за этим что-то стоит, может оказаться полезным впоследствии это тщательно проследить, так что я, пожалуй, начну.
Р. М. Ренфилд, 59 лет. Сангвинический[62] темперамент: огромная физическая сила; болезненно возбуждающийся; периоды черной меланхолии[63], порождаемые какой-то навязчивой идеей, которую я не могу определить. Допускаю, что сангвинический темперамент сам по себе, а также всякие раздражители приведут к окончательному душевному расстройству; человек, возможно, представляющий опасность; и, по всей вероятности, опасный, если он не эгоцентричен. В эгоцентричных людях осторожность является надежной защитой и для них самих, и для их врагов. Вот что я думаю на этот счет: когда точкой, где все фокусируется, является эгоизм, центростремительная сила уравновешивается центробежной; если же точкой фокуса становятся долг, избранная миссия и т. п., то центробежная сила возобладает и только случайность или ряд случайностей может ее уравновесить.
Письмо Квинси П. Морриса достопочтенному Артуру Холмвуду
«25 мая.
Мой дорогой Арт!
Мы рассказывали друг другу истории на бивуаке в прериях, расположившись у костра, перевязывали друг другу раны после попытки высадиться на Маркизских островах[64] и пили за наше общее здоровье на берегах Титикаки[65]. Теперь у нас найдется еще больше материала для рассказов да и другие раны, которые нужно залечивать, но есть за чье здоровье выпить. Не собраться ли нам на моем бивуаке завтра вечером? Приглашаю вас, потому что знаю наверняка, что завтра вы свободны, ибо мне известно, что некая леди приглашена назавтра к обеду. К нам присоединится только одно лицо – наш старый товарищ еще по Корее, Джек Сьюард. Он тоже придет, мы хотим смешать свои слезы над чарой вина и оба станем пить за здоровье счастливейшего из смертных, который любим благороднейшим и достойнейшим сердцем. Мы обещаем вам сердечный прием и любовь и будем пить только за ваше здоровье, ручаюсь вам. Кроме того, мы готовы поклясться, что доставим вас домой, если окажется, что вы слишком много выпили за некую известную вам пару глаз. Итак, ждем!
Вечно и неизменно ваш
Квинси П. Моррис».
Телеграмма Артура Холмвуда Квинси П. Моррису
«26 мая.
Рассчитывайте на меня в любом случае. У меня есть такая новость, что берегите уши.
Арт».
Глава VI
Дневник Мины Мюррей
24 июля. Уитби.
Люси, еще милей и прелестней, чем раньше, встретила меня на вокзале, оттуда мы поехали прямо к ним домой, в Кресент. Прелестная живописная местность. Маленькая речушка Эск протекает здесь по глубокой долине, расширяющейся вблизи гавани. Долина утопает в зелени, а склоны ее так круты, что, стоя на одной ее стороне, видишь противоположную, если, конечно, не встать на самом краю, чтобы взглянуть вниз. Дома в старом городе крыты красными крышами и нагромождены один на другом, как на видах Нюрнберга. Прямо над городом виднеются руины аббатства Уитби, которое разорили датчане и где разворачивается действие той части «Мармионы»[66], где замуровывают в стену девушку. Руины необычайно величественны и полны прелестных романтических местечек; существует легенда о Белой Даме[67], появляющейся в одном из окон. Между руинами и городом виднеется приходская церковь, окруженная большим кладбищем со множеством надгробных памятников. Я нахожу, что это самое красивое место во всем Уитби, оно расположено как раз над городом, и отсюда прекрасный вид на гавань до самой бухты, где мыс под названием Кетленесс далеко выдается в море. Обрыв здесь такой крутой, что часть берега обрушилась и некоторые могилы уничтожены. В одном месте надгробная плита нависает над песчаной тропинкой далеко внизу. В кладбищенской ограде расположены скамьи; здесь гуляет множество людей и просиживает целыми днями, любуясь живописным видом и наслаждаясь прекрасным воздухом. Я сама буду очень часто приходить сюда и работать. Вот и сейчас я сижу здесь, держа свою тетрадь на коленях и прислушиваясь к разговору трех стариков, сидящих поблизости. Они, кажется, целыми днями ничего не делают, сидят здесь и болтают.
Гавань расположена прямо подо мною, причем дальняя ее сторона – это длинная гранитная стена, выступающая далеко в море и загибающаяся на конце. В центре этой стены находится маяк. Массивный волнолом тянется с ее внешней стороны. С ближней стороны гавани волнолом загибается в другую сторону, и на конце его тоже стоит маяк. Между двумя пирсами узкий проход в гавань, который потом неожиданно расширяется.
Во время прилива все прекрасно; но, когда вода уходит, остается лишь речушка Эск, бегущая между песчаными берегами, и кое-где торчащие скалы.
С наружной стороны гавани тянется, почти на всем ее протяжении, большой утес длиной около половины мили, острый край которого далеко выступает из-за южного маяка. Под самым утесом находится бакен с колоколом, заунывные звуки которого разносит в дурную погоду ветер. Здесь существует легенда, что, когда в открытом море гибнет корабль, с моря доносится колокольный звон. Надо спросить об этом у старичка; он направляется сюда…
Это чудной старик. Он, вероятно, страшно стар, все его лицо избороздили морщины, словно кору дерева. Он сказал мне, что ему почти сто лет и что он плавал на рыболовных судах в Гренландии во время битвы при Ватерлоо. Подозреваю, что он большой скептик, – когда я спросила его о звучащих в море колоколах и о Белой Даме, он отрезал:
– Меня это не волнует, мисс. Все эти штуки давно отошли в прошлое. Но учтите, я не скажу, будто этого не было. Я скажу так – не было в мое время. Распускать подобные слухи к лицу тем, кто шатается без толку, и не к лицу замечательной молодой леди вроде вас. Эти бездельники из Йорка, которым только и дела, что есть копченую селедку да пить чай, да высматривать, где бы купить подешевле черный янтарь[68], вот они бы поверили. Не знаю, кто сболтнул им такую глупость, этого не встретишь даже в газетах, в которых полным-полно ерунды.
Я решила, что от него можно будет узнать много интересного, поэтому спросила его, не расскажет ли он мне что-нибудь о ловле китов в старые годы. Только он уселся, чтобы начать рассказ, как часы пробили шесть и он немедленно поднялся, чтобы уйти, сказав:
– Мне теперь нужно идти домой, мисс. Моя внучка не любит ждать, когда у нее чай уже готов, а ведь мне много надо времени, чтобы вскарабкаться по ступеням – их ведь вон сколько; и я люблю, мисс, поесть вовремя.
Он заковылял прочь, и я видела, что он поспешно, насколько позволяли силы, начал спускаться по ступенькам.
Лестница эта – здешняя достопримечательность, в ней несколько сотен ступеней. Она поднимается плавной дугой, настолько полого, что лошадь может легко пройти по ней вверх и вниз. Думаю, изначально лестница имела отношение к аббатству.
Я тоже пойду сейчас домой. Люси с матерью наносят визиты, а так как это все визиты чистой вежливости, то я с ними не пошла. Теперь-то они, я думаю, дома.
1 августа.
Сегодня мы с Люси опять сидели на нашей любимой скамейке на кладбище. Вскоре к нам присоединился и старик. Он оказался большим скептиком и рассказал нам, что под могильными плитами кладбища вряд ли похоронены те, чьи имена высечены на плитах, так как моряки гибнут по большей части на море. Люси очень расстроилась при мысли об этом пустом кладбище. Мы скоро ушли домой.
В тот же день.
Я вернулась сюда одна, так как мне очень грустно. Нет никаких писем. Надеюсь, что с Джонатаном ничего не случилось. Только что пробило девять. Я вижу, как весь город сверкает огнями. Иногда эти огоньки выстраиваются вдоль улиц, а иногда горят поодиночке. Огоньки бегут прямо, вдоль реки Эск и по изгибу долины. По левую руку от меня вид как бы скрыт черной линией – крышей соседнего с аббатством дома. Позади меня, в полях, слышно блеяние овец и ягнят, а внизу, на мощеной дороге, раздается топот ослиных копыт. Оркестр на пирсе играет какой-то быстрый оглушительный вальс, а дальше по набережной на одной из окраинных улочек собрались члены Армии спасения[69]. Я вижу и слышу оба оркестра, а они не слышат друг друга. Не имею понятия, где может быть Джонатан и думает ли он обо мне. Как бы я хотела, чтобы он был здесь!
Дневник д-ра Сьюарда
5 июня.
Случай Ренфилда представляется все более интересным, по мере того как я приближаюсь к пониманию пациента. Он имеет некоторые чрезвычайно развитые черты: эгоистичность, скрытность и целеустремленность. Хотел бы я докопаться, на каком объекте сконцентрирована последняя. У него как будто есть свой собственный, определенный план, но какой – еще не знаю. Его подкупающие качества – это любовь к животным, хотя, в сущности, она у него так странно выражается, что иногда мне кажется, будто он просто ненормально жесток. Любимцы его весьма странного свойства. Теперь, например, его конек – ловля мух. У него их сейчас такая масса, что мне пришлось сделать ему выговор. К моему изумлению, он не разразился гневом, как я того ожидал, а посмотрел на дело просто и серьезно. Немного подумав, он сказал:
– Дайте мне сроку три дня – и я их уберу.
Я согласился. Надо за ним наблюдать.
18 июня.
Теперь его страсть перешла на пауков; у него в коробке несколько очень крупных пауков. Он кормит их мухами, и число последних заметно уменьшилось, несмотря на то что половину своей пищи он перевел на приманку мух со двора.
1 июля.
Пауки его становятся такой же напастью, какой были мухи, и сегодня я ему сказал, что он должен расстаться и с пауками. Так как это его очень огорчило, то я предложил ему уничтожить хотя бы часть их. Он радостно согласился с этим, и я дал ему на это опять такой же срок. Пока я был с ним, он вызвал у меня сильнейшее отвращение одним своим поступком. К нему с жужжанием влетела отвратительная синяя муха, раздувшаяся от какой-нибудь падали, и он, поймав ее и мгновение еще восторженно подержав, сунул в рот и съел, прежде чем я успел сообразить, что он собирается сделать. Я начал его бранить за это, но он преспокойно возразил, что это очень вкусно и полезно, что в ней было много жизни, сильной жизни, и теперь эта жизнь в нем. У меня возникла некая догадка, пока, правда, еще не оформившаяся. Я должен проследить, каким образом он избавляется от своих пауков. Он, очевидно, занят какой-то сложной задачей, так как всегда держит при себе маленькую записную книжечку, куда то и дело вносит разные заметки. Целые страницы заполнены множеством чисел, по большей части однозначных, которые затем складываются, а суммы их складываются снова, будто он подводит какой-то итог.
8 июля.
В его безумии есть последовательность; зародыш моей мысли продолжает развиваться. Скоро мысль целиком оформится, и тогда, о мыслящее подсознание, тебе придется дать дорогу своему брату – сознанию! На пару дней я отвлекся от своего подопечного, чтобы тем вернее отметить все перемены, которые за это время произошли. Все осталось как было, кроме разве того, что он отделался от некоторых своих питомцев, но зато пристрастился к новым. Он как-то умудрился поймать воробья и отчасти уже приручил его. Его способы приручения просты – пауков уже стало меньше. Оставшиеся, однако, хорошо откормлены, так как он все еще добывает мух, заманивая их к себе.
19 июля.
Мы прогрессируем. У моего «приятеля» теперь целая колония воробьев, а от пауков и мух почти и следов не осталось. Когда я вошел в комнату, он подбежал ко мне и сказал, что у него ко мне большая просьба – «очень, очень большая просьба», при этом он ласкался ко мне, как собака. Я спросил его, в чем дело. Тогда он с каким-то упоением промолвил:
– Котенка, маленького, прелестного, гладкого, живого, с которым можно играть, и учить его, и кормить.
Не могу сказать, что я не был готов к такой просьбе, ибо, как я уже заметил, его любимцы быстро вырастали в размерах, но меня не воодушевила перспектива, что стайку милых ручных воробьев изведут так же, как пауков и мух; я обещал ему поискать котенка и спросил, может, он хочет не котенка, а кошку. Пылкое нетерпение выдало его:
– Да, конечно, я хотел бы кошку, а попросил котенка, боясь, что, если попрошу кошку, мне откажут. Ведь котенка мне правда дадут?
Я покачал головой и сказал, что сейчас, пожалуй, невозможно достать кошку, но я поищу. Тут его лицо омрачилось, а в глазах появилось опасное выражение – это был внезапно вспыхнувший гнев, косой взгляд горел жаждой убийства. Этот человек – потенциальный убийца-маньяк. Я буду изучать его теперешнее влечение и посмотрю, как оно будет развиваться; тогда мне станет известно больше.
10 вечера.
Снова заходил к нему и нашел его погруженным в мрачные раздумья. При виде меня он бросился на колени, умоляя позволить ему держать кошку; от этого зависело якобы его спасение. Я, однако, проявил непреклонность и заявил, что кошку ему нельзя; не сказав ни слова на это, он отошел в прежний угол и снова сел, кусая пальцы. Зайду к нему пораньше утром.
20 июля.
Посетил Ренфилда очень рано, еще до того как служитель совершил обход. Застал его уже на ногах, мурлыкающим какую-то песенку. Он сыпал сбереженные им сахарные крошки на окошко, явно заново принимаясь за ловлю мух, причем принимаясь весело и охотно. Я огляделся, ища его птиц, и, нигде не найдя их, спросил, где они. Он ответил, не оборачиваясь, что они улетели. В комнате валялось несколько птичьих перьев, а на подушке его виднелось пятно крови. Я ничего не сказал, но, уходя, поручил служителю известить меня, если с Ренфилдом произойдет что-нибудь странное.
11 утра.
Только что пришел служитель и сообщил, что Ренфилд очень плох и его рвало перьями.
– По-моему, доктор, – сказал он, – он съел своих птиц – просто брал их и глотал живьем.
11 вечера.
Я дал Ренфилду большую дозу снотворного и забрал у него его записную книжку, чтобы изучить ее. Мысль, которая в последнее время сверлила мой мозг, оформилась, теория нашла подтверждение. Мой убийца-маньяк – маньяк особого рода. Мне придется придумать новую классификацию и назвать его зоофагом (пожирателем живого), он жаждет поглотить как можно больше жизни и решил выполнить это в восходящем порядке. Он дал нескольких мух на съедение одному пауку, нескольких пауков одной птице и потом захотел кошку, чтобы та съела птиц. Какие бы шаги он еще предпринял? Может быть, продолжить опыт?! Вивисекцию[70] порицали, а взгляните сегодня на ее результаты! Почему бы не продвинуть науку в одной из самых жизненно важных ее областей – в познании мозга? Познай я тайну даже одного такого рассудка, подбери я ключ к фантазиям лишь одного душевнобольного, я бы смог возвести науку в своей области на такую высоту, что физиология Бердон-Сандерсона и учение о мозге Феррье[71] показались бы детскими игрушками, если б были на то основания! Но не следует часто предаваться подобным мечтам, иначе искушение будет слишком сильно; благие побуждения могут победить во мне здравый смысл, так как, вполне возможно, я человек с особым типом сознания.
Как четко следует логике этот человек; как все душевнобольные внутри своих собственных рамок. Интересно, во сколько жизней он оценивает человека? Лишь в одну? Итог он подвел в высшей степени аккуратно и с сегодняшнего дня открыл новый счет. Многие ли из нас открывают новый счет в своей жизни ежедневно?
Только вчера мне показалось, что, если надежда умерла, все кончено и пора начинать с нуля. Так оно и будет, пока Великий Регистратор не подсчитает мои прибыли и убытки и не подведет баланс моей жизни. О Люси, Люси, я не могу на тебя сердиться, как не могу сердиться и на своего друга, чье счастье составляет твое; я же должен пребывать без надежды и работать. Работать, работать!
Имей я дело, которому мог бы служить, столь же определенное, как у моего несчастного безумца, высокое, бескорыстное дело – это было бы истинным счастьем.
Дневник Мины Мюррей
26 июля.
Я очень обеспокоена, и единственное, что на меня благотворно действует, – это возможность высказаться в своем дневнике. В нем я как будто изливаю самой себе душу и одновременно слушаю саму себя. Даже в стенографических значках есть что-то, что делает их не похожими на письмо. Я подавлена из-за Люси и Джонатана. Не имея никаких вестей от Джонатана, я очень тревожилась; но вчера милый м-р Хокинс – он всегда так добр ко мне – переслал мне письмо. Оно помечено – замок Дракулы – и состоит из одной-единственной строки: Джонатан только что выехал домой. Это не похоже на Джонатана. Я не понимаю подобной краткости, и она меня беспокоит. Да тут еще Люси, несмотря на совершенно здоровый вид, снова вернулась к своей прежней привычке ходить во сне. Мы с ее матерью обсудили этот вопрос и решили, что отныне я на ночь буду закрывать дверь нашей спальни на ключ. Миссис Вестенра вообразила, что лунатики всегда ходят по крыше дома или по краю утеса, а затем внезапно просыпаются и с раздирающим душу криком, который эхом разносится по всей окрестности, падают вниз. Бедняжка, она, конечно, тревожится из-за Люси, она говорила мне, что ее супруг, отец Люси, имел ту же привычку; ночью он вставал, одевался и, если его не удерживали, выходил из дому. Осенью свадьба Люси, и она уже теперь прикидывает, какие у нее будут наряды и как она все устроит у себя в доме. Я понимаю ее, поскольку я думаю о том же, но только нам с Джонатаном придется вести очень скромную жизнь и стараться сводить концы с концами. М-р Холмвуд, вернее, высокочтимый сэр Артур Холмвуд – единственный сын лорда Годалминга – приедет сюда, как только сможет оставить город. Задерживает его лишь болезнь отца. Милая Люси, наверное, считает дни до его приезда. Ей хочется отвести его к морю, к нашей скамейке на кладбищенской скале, чтобы показать ему, до чего живописен Уитби. Я убеждена, что из-за этого ожидания она так и волнуется. Она, наверное, совершенно поправится, как только он приедет.
27 июля.
Никаких известий о Джонатане. Очень беспокоюсь о нем, хотя, собственно, не знаю почему; хорошо было бы, если б он написал хоть строчку. Люси страдает лунатизмом сильнее, чем когда-либо, и я каждую ночь просыпаюсь от того, что она ходит по комнате. К счастью, так жарко, что она не может простудиться, и все же мое беспокойство и вынужденная бессонница дают себя знать. Я стала нервной и плохо сплю. Слава богу, что здоровье Люси в прежнем состоянии. М-ра Холмвуда неожиданно вызвали в Ринг навестить отца, тот тяжко захворал. Люси мучается из-за отсрочки свидания с ним, но на внешности ее это нисколько не отражается; она чуть-чуть окрепла, на щеках играет чудесный румянец. Она утратила свою анемичность. Дай бог, чтобы так и продолжалось.
3 августа.
Прошла еще неделя, но от Джонатана никаких известий, и даже м-р Хокинс ничего не знает. Но я надеюсь, что он не болен, иначе он, наверное, написал бы. Я перечитываю его последнее письмо, но оно меня не удовлетворяет. Как-то это не похоже на Джонатана, хотя почерк его. В этом не может быть никакого сомнения. Люси не слишком много разгуливала по ночам последнюю неделю, но она будто сосредоточена непонятно на чем; она словно следит за мной даже во сне; пробует двери и, когда находит их запертыми, ищет по всей комнате ключи.
6 августа.
Прошло еще три дня, но никаких новостей. Неопределенность становится ужасающей. Если бы я только знала, куда написать или куда поехать, я бы чувствовала себя гораздо лучше; но никто ничего не слышал о Джонатане со времени его последнего письма. Я должна только молить Бога о терпении. Люси еще более возбуждена, чем раньше, но, в общем, здорова. Прошлая ночь была очень неспокойной, и рыбаки говорят, ожидается шторм. Я стараюсь быть наблюдательной и запоминать приметы, связанные с погодой. Сегодня пасмурно, и небо заволокло большими тучами, высоко стоящими над Кетленессом. Все серое – кроме зеленой травы, кажущейся изумрудной на этом фоне; серые скалы, нависающие над серым морем; серые тучи, из-за верхней кромки которых пробивается солнце; и песчаные косы, что тянутся в море, как серые пальцы. Море, окутанное надвигающимся туманом, перекидывается с ревом через отмели и прибрежные камни. Горизонт теряется в серой мгле. Впечатление чего-то громадного; тучи висят, словно исполинские скалы, и в природе слышится голос надвигающегося рока. На морском берегу тут и там виднеются наполовину скрытые в тумане черные фигуры. Рыбачьи лодки спешат домой – в гавань, они то появляются, то вновь исчезают в волнах бешеного прибоя. Вот идет старый м-р Сволс. Он направляется прямо ко мне, и по тому, как он мне кланяется, я вижу, что он хочет со мною поговорить…
Меня тронула перемена, произошедшая в старике. Сев возле меня, он очень ласково заговорил:
– Мне хочется вам кое-что сказать, мисс.
Я видела, что ему как-то не по себе, поэтому я взяла его руку, старческую и морщинистую, и ласково попросила высказаться. Не отнимая руки, он сказал:
– Боюсь, дорогая моя, что оскорбил вас всеми теми ужасами, которые наговорил, рассказывая о покойниках и тому подобном на прошлой неделе. Но у меня такого и не было на уме, вот что я пришел вам сказать, пока не умер. Старикам вроде нас, которые уже одной ногой в могиле, как-то не по нутру думать об этом и неохота страх на себя нагонять. Вот я и решил: дай-ка, думаю, устрою потеху – сердце себе порадую. Нет, я не боюсь смерти, видит Бог, не боюсь, да только не стал бы помирать, будь на то моя воля. Срок мой, должно быть, уже подходит, старый я, сто лет – другой бы и не мечтал. Я уж близко, костлявая старуха точит свою косу. Глядите-ка, никак не отвыкну молоть языком, язык мелет и мелет, как раньше. Скоро уж Ангел Смерти протрубит надо мной в свою трубу. Не нужно грустить и плакать, моя дорогая, – перебил он сам себя, заметив, что я плачу. – Если она явится ко мне нынче ночью, то я не побоюсь откликнуться на ее зов, ведь жизнь – она не что иное, как ожидание чего-то большего, чем здешняя суета, а смерть – единственное, на что мы и впрямь надеемся. Я все-таки доволен, дорогая моя, что она ко мне приближается, да еще так быстро. Она может настигнуть меня вот сейчас, пока мы здесь сидим и любуемся. Глядите, глядите, – закричал он внезапно, – должно быть, этот ветер с моря уже несет судьбу, и гибель, и страшное горе, и сердечную тоску. Смертью пахнет! Чую ее приближение! Дай-то мне бог откликнуться на ее зов с легким сердцем!
Он в благоговении простер руки и снял шапку. Губы его двигались – будто шептали молитву. После нескольких минут молчания он встал, пожал мне руку и благословил меня. Затем попрощался и, прихрамывая, пошел домой. Это меня тронуло и потрясло.
Я обрадовалась, когда увидела подходившего ко мне охранника береговой службы с подзорной трубой под мышкой. Он, как всегда, остановился поговорить со мною и при этом все время не сводил глаз с какого-то странного корабля.
– Не могу разобрать, какой это корабль; должно быть – русский. Глядите, как его страшно бросает во все стороны! Он совершенно не ведает, что ему делать; он, кажется, видит приближение шторма, а не может решить – пойти на север и держаться открытого моря или войти сюда. Глядите, вот опять! Он будто и вовсе не слушается руля, меняет курс с каждым порывом ветра. И дня не пройдет, как придут вести о нем.
Глава VII
Вырезка из «Дейли Телеграф» от 8 августа (Вклеено в дневник Мины Мюррей). От собственного корреспондента. Уитби
На днях здесь неожиданно разразился ужасный шторм со странными и единственными в своем роде последствиями. Было довольно жарко, что вполне естественно для августа. В субботу вечером была чудеснейшая погода; все окрестные леса и островки были переполнены гуляющими. Пароходы «Эмма» и «Скарборо» делали многочисленные рейсы вдоль побережья. Пассажиров было непривычно много. Весь день до самого вечера продержалась хорошая погода; вечером поднялся легкий ветерок, обозначаемый на языке барометра «№ 2: легкий бриз». Охранник береговой службы, находившийся на своем посту, немедленно послал сводку, и старый рыбак, наблюдавший более полувека с Восточного утеса за переменами погоды, важным тоном заявил, что это предзнаменование внезапного шторма. Приближающийся закат солнца был столь чудесен и столь величествен в этой массе великолепно окрашенных туч, что целая толпа собралась на дороге к утесу, на кладбище, чтобы любоваться красотой природы. Пока солнце еще не совсем зашло за черной массой Кетленесса, гордо вздымающегося над морскими волнами, путь его к закату был отмечен мириадами облаков, окрашенных лучами заходящего солнца в самые разнообразные цвета – алый, багровый, розовый, зеленый, фиолетовый и во все оттенки золота. Местами обозначились сгустки черноты, небольшие, но абсолютно непроницаемые, всевозможнейших очертаний, с резко обозначенными границами. Подобные световые эффекты не могли кануть втуне для живописцев, и конечно же этюды «Перед грозой» украсят собою стены галерей в будущем мае. Многие капитаны решили тогда оставить в гавани, пока шторм не утихнет, свои пароходы. Вечером ветер окончательно стих, а к полуночи всюду воцарились мертвый штиль, знойная жара и та непреодолимая напряженность, которая, в приближении грозы, так странно действует на всякого впечатлительного человека. На море виднелось очень мало судов: местный пароход, обычно придерживающийся берега, несколько рыбачьих лодок да еще иностранная шхуна, шедшая на запад под всеми парусами.
Безумная отвага или полное невежество ее моряков послужили благодатной темой для пересудов. Были предприняты попытки подать ей сигнал спустить паруса ввиду приближающейся опасности. Но до самого наступления ночи ее видели с праздно развевающимися парусами мягко покачивающейся на вольной поверхности моря.
Около десяти часов штиль стал положительно угнетающим, и такая тишина, что слышны были блеяние овец в поле и лай собак в городе. Оркестр на пирсе с его живыми французскими мелодиями, казалось, вносил диссонанс в великую гармонию природной тишины. Чуть позже полуночи раздался какой-то странный звук со стороны моря, и высоко в небе стал разноситься странный, неясный, гулкий рокот.
Затем без всяких предупреждений разразилась буря. С быстротой, казавшейся сначала невероятной, а затем уже невозможной, весь лик природы как-то вдруг исказился. Волны вздымались с нарастающей яростью, причем каждая следующая превосходила свою предшественницу, пока наконец в какие-нибудь несколько минут море, бывшее только что гладким как зеркало, не уподобилось ревущему и все поглощающему чудовищу. Волны, украшенные белыми гребнями, бешено бились о прибрежный песок и взбегали по крутым скалам; иные, перевалив через мол, своей пеной омывали фонари маяков, которые поднимались на конце каждого мола гавани Уитби. Грохотавший громово ветер дул с такой силой, что даже крепкому человеку с трудом удавалось держаться на ногах, и то лишь уцепившись за железные перила. Пришлось очистить всю пристань от толпы зрителей, иначе ужасы ночи были бы еще значительнее.
Вдобавок ко всем затруднениям и опасностям этой минуты с моря на берег двинулся туман – белые мокрые клубы, плывшие как привидения, такие промозглые, влажные и холодные, что достаточно было даже скудной фантазии, чтобы вообразить, будто это духи погибших на море обнимают своих живых братьев липкими руками мертвеца. Многие содрогались, когда пелена морского тумана настигала их. Временами туман рассеивался, и в некотором отдалении виднелось море при ослепительном блеске молний; их вспышки следовали одна за другой и сопровождались такими внезапными ударами грома, что все небо, казалось, дрожало, сотрясаемое поступью бури.
Картины, таким образом явленные, были бесконечно величественными и захватывающими: море, вздымавшееся, будто горы, швыряло в небо огромные клочья пены, а буря разметывала их повсюду. Вот бешено несется, с лохмотьями вместо паруса, рыбачья лодка в поисках приюта. Вот мелькают крылья птицы, гонимой бурей.
На вершине Восточного утеса давно уже был установлен новый прожектор, но все не выдавалось случая его использовать. Теперь офицеры, которым он был поручен, привели его в действие и в просветах вторгающегося тумана освещали его лучами поверхность моря. Труды их были не напрасны. Какую-то полузатопленную рыбачью лодку несло к гавани, и лишь благодаря спасительному свету прожектора ей удалось избегнуть несчастья и не разбиться о мол. Всякий раз, как какая-нибудь лодка оказывалась в укрытии гавани, толпа на пирсе разражалась ликующим криком, который на мгновение перекрывал завывание бури и затем уносился вместе с новым ее порывом.
Вскоре прожектор обнаружил вдали корабль с распущенными парусами, очевидно ту самую шхуну, которая была замечена чуть раньше, вечером. За это время ветер повернул к востоку, и дрожь охватила зрителей на утесе, когда они осознали ужасную опасность, в которой теперь оказалась шхуна. Между шхуной и портом находился тот большой, плоский риф, из-за которого пострадало так много кораблей; и при ветре, дувшем в том же направлении, что и сейчас, шхуне не было никакой возможности войти в гавань. Был уже час, когда прилив достиг высшей точки, волны были так высоки, что в провалах между ними почти открывалось дно, а шхуна неслась на всех парусах с такой быстротой, что, по словам одного старого морского волка, «где-то она да окажется, уж по крайности хоть в аду». Потом снова пополз туман гуще прежнего: промозглая муть, окутывая все серым покровом, из пяти чувств оставила людям только слух, ибо рев урагана, раскаты грома и мощный рокот морских валов даже громче звучали в сырой пелене. Лучи прожектора были теперь направлены через Восточный мол на вход в гавань, на то место, где ожидалось крушение. Толпа ждала затаив дыхание.
Ветер внезапно повернул к северо-востоку, и остатки морского тумана рассеялись порывом ветра. И тогда между молами появилась странная шхуна и, перескакивая с волны на волну, с головокружительной быстротой, на всех парусах, вошла в безопасную гавань. Прожектор ярко осветил ее, и ужас охватил всех ее увидевших, ибо оказалось, что к рулевому колесу привязан труп, голова которого страшно болталась из стороны в сторону при каждом движении корабля. На палубе больше никого не было видно. Благоговейный трепет овладел всеми, когда сделалось ясно, что корабль вошел в гавань чудом, ведомый лишь рукой мертвеца. Все произошло гораздо скорее, чем пишутся эти строки. Шхуна, не останавливаясь, пронеслась по гавани и врезалась в гору песка и гальки, намытую многими приливами и штормами в юго-восточном углу плотины, находящейся под Восточным утесом и известной здесь как Тет Гилль Пир.
Когда шхуна врезалась в песок, произошло, естественно, сильное сотрясение. Весь рангоут[72] и прочие снасти с треском полетели вниз. Но самое странное было то, что, едва шхуна коснулась берега, на палубу выскочила громадная собака, словно сотрясение вытолкнуло ее из недр корабля, и, пробежав по палубе, она соскочила на берег. Бросившись прямо к крутому утесу, на котором возвышалось кладбище, собака исчезла в густом тумане.
Как-то случилось, что в это время на Тет Гилль Пир никого не было: все, чьи дома располагались по соседству, или спали, или находились на утесах. Таким образом, охранник береговой службы на восточной стороне гавани, тотчас же спустившийся и прибежавший к малому пирсу, оказался первым, кто взошел на борт. Человек, управлявший прожектором, осветил вход в гавань и, ничего не обнаружив, направил луч на шхуну. Охранник побежал на корму, подошел к рулевому колесу и наклонился, чтобы присмотреться, но сразу попятился назад, словно внезапно чем-то потрясенный. Это обстоятельство вызвало всеобщее любопытство, и целая толпа народу устремилась туда. От Западного утеса до Тет Гилль Пир порядочный путь, но ваш корреспондент неплохой бегун и потому добрался намного раньше своих спутников. Тем не менее, когда я появился, там стояла уже целая толпа, собравшаяся на пирсе, потому что охранник и полиция не разрешали взойти на борт. Благодаря любезности властей мне, вашему корреспонденту, позволили подняться на палубу, и я стал одним из тех немногих, кто видел мертвого моряка еще привязанным к рулевому колесу.
Нет ничего удивительного в том, что охранника охватило удивление, если не ужас, ибо подобную картину увидишь нечасто. Моряк был привязан к рулевому колесу за руки, сложенные крест-накрест. Между рукой и деревом находился крест, а четки, к которым крест приделан, были обмотаны вокруг кисти и колеса, и все вместе связано веревкой. Возможно, бедняга раньше находился в сидячем положении, но хлопавшие и бившиеся паруса, очевидно, повредили рулевое колесо, и тогда его стало кидать из стороны в сторону, так что веревка, которой он был привязан, врезалась в мясо до самых костей. Все подробности были тщательно зафиксированы, и доктор, хирург Дж. М. Кеффин, прибывший тотчас же вслед за мной, после краткого осмотра заявил, что этот человек мертв по крайней мере двое суток. В кармане его была плотно закупоренная бутылка, внутри которой содержалась скатанная в трубочку бумага – как оказалось, дополнение к судовому журналу. Охранник сказал, что он, должно быть, связал себе руки сам, а узлы затянул зубами.
Тот факт, что охранник береговой службы был первым, кто поднялся на палубу, способен избавить в дальнейшем от некоторых осложнений в суде Адмиралтейства[73], ибо береговая охрана не может претендовать на спасенное корабельное имущество; это является правом первого гражданского лица, вступившего на борт потерпевшего крушение судна. Законники тем не менее уже пустили в ход языки, а некий молодой юрист во всеуслышание заявляет, что права владельца полностью отчуждены, ибо его право собственности входит в противоречие с правом «мертвой руки»[74], поскольку румпель[75], как символ, если и не как доказательство факта передачи имущества, держит рука мертвеца. Надо ли говорить, что покойный рулевой был почтительно снят оттуда, где он до самой смерти стоял на своей благородной вахте – рыцарская твердость духа, под стать юному Касабьянке[76], – и помещен в морг до начала расследования.
Внезапно налетевший шторм уже проходил, его свирепость стихала; толпа разбрелась по домам, а небо заалело над йоркширскими полями. В следующий номер я вышлю новые подробности о потерпевшей крушение шхуне, чудом нашедшей спасение от бури.
Уитби.
9 августа.
Обстоятельства, открывшиеся после вчерашнего странного прибытия шхуны в порт, еще ужасней, нежели сам факт прибытия. Это оказалась русская шхуна из Варны, называющаяся «Деметра»[77], практически без какого бы то ни было полезного груза; единственный ее груз – некоторое количество больших деревянных ящиков, наполненных землей. Груз этот предназначался стряпчему м-ру С. Ф. Биллинггону в Уитби, приехавшему сегодня утром на борт и официально принявшему в свое распоряжение предназначавшееся ему имущество. Русский консул принял по обязанности в свое владение шхуну и заплатил все портовые расходы.
Большой интерес вызывает собака, выскочившая на берег, когда шхуна уткнулась в песок, и множество членов общества друзей животных, весьма крепкой организации, пытались позаботиться о собаке. Ко всеобщему разочарованию, ее нигде не смогли найти – похоже, она исчезла из города. Возможно, ее напугали, и она сбежала в болото, где теперь еще прячется от страха.
Есть и такие, кто с ужасом думает о подобной возможности, дабы впоследствии она сама не превратилась в угрозу, поскольку ясно, что это свирепая зверюга. Сегодня утром нашли мертвым огромного пса, полукровку-мастифа, принадлежавшего торговцу углем, как раз на дороге против двора его хозяина. Он с кем-то подрался, и, по-видимому, противник попался яростный, так как горло его было разорвано, а брюхо распорото как будто громадными когтями.
Позднее.
Благодаря любезности инспектора министерства торговли мне было разрешено просмотреть судовой журнал «Деметры», который аккуратно заполняли, за исключением трех последних дней, но там не оказалось ничего особо интересного, кроме факта пропажи людей. Гораздо больший интерес представляет клочок бумаги, найденный в бутылке и предъявленный сегодня следствию. Более загадочного повествования мне не доводилось прежде слышать. Так как нет причин скрывать случившееся, мне разрешили воспользоваться бумагами. Посылаю вам копии. По всему кажется, будто капитаном перед выходом в море владела какая-то навязчивая идея и что эта мысль последовательно развивалась в нем в течение всего путешествия. Утверждение мое, конечно, надо принимать cum grano[78], поскольку я пишу под диктовку секретаря русского консула, который был так любезен, что перевел для меня записи из журнала.
Судовой журнал «Деметры» Варна – Уитби
Записано 18 июля.
Происходят такие странные вещи, что я отныне буду писать все как можно точнее до тех пор, пока не прибудем на место.
6 июля. Мы кончили принимать груз – серебряный песок и ящики с землей. В полдень подняли паруса. Ветер восточный, свежий. Экипаж – пять матросов… два помощника, кок и я (капитан).
11 июля. На рассвете вошли в Босфор. Приняли на борт турецких таможенных офицеров. Бакшиш[79]. Все в порядке. Вышли в 4 час. д.
12 июля. Прошли Дарданеллы. Еще больше таможенных офицеров и шлюпок охраны. Опять бакшиш. Офицеры осматривают тщательно, но быстро. Хотят, чтобы мы поскорее убрались. В темноте прошли архипелаг.
13 июля. Прошли мыс Матапан. Экипаж чем-то недоволен. Будто напуганы, но не говорят, в чем дело.
14 июля. Что-то неладное творилось с экипажем. Люди все крепкие парни, плававшие со мной прежде. Помощник никак не мог добиться, что случилось; говорили только: что-то нечисто – и крестились. Потеряв терпение, помощник ударил одного из них. Ждал дикой свалки, но все обошлось тихо.
16 июля. Утром помощник доложил, что пропал один из матросов, Петровский. Ничем не могу это объяснить. Прошлой ночью нес вахту на левом борту до восьми склянок[80]; его сменил Абрамов, но в кубрик тот не пошел. Люди подавлены сильнее, чем когда-нибудь. Говорят, этого и ждали, но кроме того, что на корабле что-то нечисто, больше ни слова. Помощник все чаще выходит из себя; боюсь какой-нибудь беды впереди.
17 июля. Вчера один матрос, Олгарен, вошел ко мне в каюту и с испуганным видом сказал, что, по его мнению, на корабле находится чужак. Он сказал, что, когда стоял на вахте, была страшная непогода, лил сильный дождь и он спрятался за рубкой. Вдруг он увидел, как высокий, худой человек, не похожий ни на кого из экипажа, вышел на палубу, прошел по ней и затем исчез. Он осторожно пошел за ним следом, но когда дошел до самого борта, то никого не нашел, а все люки были задраены. Панический суеверный страх овладел им, и я боюсь, что паника распространится. Чтобы ее предотвратить, велю завтра хорошенько обыскать шхуну от носа до кормы.
Позже, днем, я собрал экипаж и сказал, что, так как они думают, будто на шхуне кто-то есть, мы обыщем ее от носа до кормы. Помощник рассердился, сказал, что это глупость и что потакать таким глупостям – значит деморализовать людей; заявил, что берется рассеять все их тревоги при помощи гандшпуга[81]. Но я приказал ему взяться за руль, а остальные устроили основательный обыск. Все шли рядом, с фонарями в руках; мы не пропустили ни одного уголка. Так как в трюме стояли только деревянные ящики, то и не оказалось никаких подозрительных углов, где бы человек мог спрятаться. Люди после обыска сразу успокоились и снова мирно принялись за работу. Первый помощник хмурился, но ничего не сказал.
22 июля.
Последние три дня штормит, все заняты снастями – бояться некогда. Команда, кажется, забыла про свои страхи. Помощник повеселел, все ладят. Хвалил команду за хорошую работу во время шторма. Прошли Гибралтар. Все в порядке.
24 июля.
Какой-то злой рок будто преследует шхуну. И без того уже одним человеком меньше, впереди Бискайский залив, предвидится ужасная погода, а тут вчера еще один человек исчез. Как и первый, пропал во время вахты, и больше его не видели. Люди охвачены паническим страхом; опросил всех, надо ли удвоить вахту, потому что они боятся оставаться поодиночке. Помощник рассвирепел. Быть беде: или он взбунтуется, или команда.
28 июля.
Четыре дня в аду; кружимся все время в каком-то водовороте, а буря не стихает. Ни у кого нет времени поспать. Люди выбились из сил. Не знаю, кого поставить на вахту, никто не способен выдержать. Второй помощник вызвался нести вахту у руля и дал людям возможность насладиться получасовым сном. Ветер стихает, волны еще люты, но меньше, чем прежде, так как чувствую, что шхуна держится устойчивей.
29 июля.
Новая трагедия. Ночью на вахте был всего один матрос, так как экипаж слишком утомлен, чтобы ее удваивать. Когда утренняя вахта пришла на смену, то никого не нашла, кроме рулевого. Снова тщательный обыск, но никого не нашли. Теперь я уже и без второго помощника, и в экипаже снова паника. Помощник и я решили постоянно держать при себе заряженные револьверы в ожидании объяснения этой тайны.
30 июля.
Последняя ночь. Рады, что Англия близко. Погода чудесная, все паруса подняты. От усталости совершенно измочален; крепко спал; разбудил помощник, сообщивший, что оба вахтенных матроса и рулевой исчезли. На шхуне только я, помощник и два матроса.
1 августа.
Второй день туман, и ни одного паруса в пределах видимости. Надеялся, что в Ла-Манше смогу подать сигнал о помощи или зайти куда-нибудь. Из-за нехватки рук не можем управлять парусами, плывем по ветру. Спустить паруса не решаемся. Не сможем поднять их снова. Мы, кажется, находимся во власти какого-то ужасного рока. Помощник теперь сильнее деморализован, чем остальные. Его более сильная натура, кажется, подспудно работала против него. Люди по ту сторону страха работают механически, терпеливо, готовые к самому худшему. Они русские, он румын.
2 августа, полночь.
Проснулся после пятиминутного сна от крика, раздавшегося как будто за моим иллюминатором. В тумане ничего не видно. Бросился на палубу, налетел на помощника. Говорит, что прибежал, услышав крик, но на вахте ни души. Еще один. Господи, помоги! Помощник говорит, что мы, должно быть, миновали Па-де-Кале: когда на минуту туман разошелся, он видел Северный мыс. Если так, мы теперь в Северном море, и лишь Господь сможет вывести нас из тумана, который будто движется вместе с нами; Господь же отвернулся от нас.
3 августа.
В полночь я пошел сменить рулевого, но никого не оказалось у руля. Ветер был сильный, и так как мы шли по ветру, то зевать было нечего. Я не посмел оставить руль и лишь потому окликнул помощника. Через несколько секунд он выбежал на палубу в нижнем белье. Он осунулся, в глазах сверкало безумие, я боюсь за его рассудок. Он подошел ко мне и глухо шепнул в самое ухо, будто боясь, как бы ветер его не услышал: «Это здесь; теперь я знаю. Я видел это вчера ночью на вахте, это – в образе высокого, худого и призрачно-бледного человека. Это было на корме и выглядывало снизу. Я подкрался и ударил это ножом, только нож прошел сквозь это как сквозь воздух». Говоря, он вытащил нож и яростно вонзил его в пустоту. Потом продолжил: «Но это здесь, и я найду. Это может быть в одном из тех ящиков. Я открою их один за другим и посмотрю. А вы управляйте шхуной». Весь его вид выражал предостережение, а палец прижат к губам. Он направился вниз. Поднялся резкий ветер, так что я не мог отойти от руля. Я видел, как он снова поднялся на палубу с ящиком для инструментов и фонарем и как спускался в передний люк. Он окончательно сошел с ума, и незачем пытаться его остановить. Он не испортит эти ящики; они значатся в накладной как «земля», и передвигать их – самая безопасная вещь, какую только можно себе представить. Так что я остаюсь здесь, слежу за курсом и делаю эти записи. Мне приходится только уповать на Бога и ждать, пока рассеется туман. Тогда, если, двигаясь по ветру, я не смогу зайти ни в одну гавань, я обрежу снасти, лягу в дрейф и подам сигнал о помощи…
Конец теперь уже близок. Я только начал надеяться, что помощник вернется более спокойным, так как я слышал, как он стучит в трюме, – а работа ему полезна, – как вдруг из люка раздался страшный крик, от которого вся кровь ударила мне в голову, и на палубу вылетел разъяренный безумец с выкатившимися глазами и лицом, перекошенным от страха. «Спасите меня, спасите меня!» – кричал он, потом уставился на пелену тумана. Его ужас сменился отчаянием, и он твердо сказал: «Давайте со мной, капитан, пока не поздно. Он там! Теперь я знаю, в чем секрет. Море спасет меня! Да поможет мне Бог!» И прежде чем я успел сказать ему хоть слово или сделать движение, чтобы его схватить, он бросился в море. Мне кажется, теперь я знаю, в чем секрет: это он, этот сумасшедший, уничтожал людей одного за другим, а теперь и сам последовал за ними. Да поможет мне Бог! Как я отвечу за весь этот ужас, когда приду в порт? А когда я приду в порт?.. И будет ли это когда-нибудь?..
4 августа.
Повсюду туман, сквозь который не может проникнуть восходящее солнце. Я узнаю восход солнца только инстинктом, как всякий моряк. Я не осмелился сойти вниз – не рискнул оставить руль; так и провел здесь всю ночь – и во мраке ночи увидал это… его!.. Да простит меня Бог! Помощник был прав, бросившись за борт. Лучше умереть, как подобает мужчине, умереть, как подобает моряку, в пучине. Но я капитан, и мне нельзя покинуть свой корабль. Я воспрепятствую этому черту: когда силы станут меня покидать, я привяжу руки к рулевому колесу и еще привяжу то, чего он – это! – не посмеет коснуться; и тогда, солнце или ненастье, я спасу свою душу и свое доброе имя. Я делаюсь все слабее, а ночь приближается. Если он снова посмотрит мне в глаза, у меня может не хватить сил действовать… Если мы погибнем, то, может быть, кто-нибудь найдет эту бутылку и поймет… Если же нет… прекрасно, пусть тогда весь мир знает, что я остался верен долгу. Да помогут Бог, и Святая Дева, и все святые бедной, невинной душе, старавшейся исполнить свой долг…
Конечно, суд не смог вынести свой вердикт. Ничего определенного не выяснено, и кто убийца – сам ли капитан или нет, сказать теперь некому. Здесь почти все считают капитана прямо героем, и ему устроят торжественные похороны. Все уже устроено, и решено, что тело его повезут в целом караване лодок сначала вверх по Эску, затем назад к Тет Гилль Пир, и по лестнице аббатства его поднимут на утес, где на кладбище он и будет похоронен. Уже более ста владельцев лодок записались в качестве желающих проводить его до могилы.
Никаких следов огромной собаки; это сильно огорчает, ибо общественное мнение сейчас находится в таком состоянии, что, полагаю, город взял бы собаку на содержание. Завтра похороны, чем и завершится еще одна «тайна моря».
Дневник Мины Мюррей
8 августа.
Всю ночь Люси была очень неспокойна, и я тоже не могла уснуть. Шторм был ужасный, и при каждом завывании ветра в трубе я содрогалась. Иногда были такие резкие удары, что казалось, будто где-то вдалеке стреляют из пушек. Довольно странно: Люси не просыпалась, но она дважды вставала и начинала одеваться. К счастью, я всякий раз вовремя просыпалась и укладывала ее обратно в постель.
Мы встали рано утром и отправились в гавань. Там было очень мало народу, и, несмотря на то что солнце было ясно, а воздух чист и свеж, большие суровые волны, казавшиеся черными в сравнении с белой как снег пеной на их гребнях, протискивались сквозь узкий проход в гавань, напоминая человека, протискивающегося сквозь толпу. Я была счастлива при мысли, что Джонатан вчера был не на море, а на суше. Но на суше ли он? Может быть, он на море? Где он и каково ему? Я продолжаю страшно беспокоиться за него. Если бы я только знала, что предпринять, я бы сделала все!
10 августа.
Похороны бедного капитана были очень трогательны. Кажется, присутствовали все портовые лодки, а капитаны несли гроб всю дорогу от Тет Гилль Пир до самого кладбища. Мы вместе с Люси рано отправились к нашему старому месту, в то время как процессия лодок поднималась вверх по реке. Отсюда было великолепно видно, так что мы видели почти всю процессию. Бедного капитана опустили в могилу совсем близко от нас. Бедная Люси казалась очень взволнованной. Она все время была беспокойна, и мне кажется, что это на ней так отзывается сон прошлой ночи. Но она ни за что не хочет сознаться, что является причиной ее беспокойства… В том, что м-р Сволс был найден сегодня утром на нашей скамье мертвым со сломанной шеей, кроется что-то странное. Он, должно быть, в испуге упал со скамьи навзничь, как сказал врач; на лице его замерло выражение страха и ужаса, так что люди говорили, что при виде его дрожь пробегает по телу. Бедный, славный старик! Может быть, он увидел смерть перед собой! Люси так чувствительна, что всякая вещь отражается на ней гораздо сильнее, чем на других. Она только что страшно взволновалась из-за сущего пустяка, на который я совершенно не обратила внимания, хотя и сама очень люблю собак: пришел какой-то господин, который и раньше часто приходил сюда за лодкой, в сопровождении своей собаки. Они оба очень спокойные существа: мне никогда не приходилось видеть этого человека сердитым, а собаку лающей. Во время панихиды собака ни за что не хотела подойти к своему хозяину, сидевшему вместе с нами на скамье, а стояла в нескольких ярдах от нас и выла. Хозяин ее говорил с ней сначала ласково, затем резко и наконец сердито; но она все не подходила и не переставала рычать. Она была в каком-то бешенстве; глаза ее дико сверкали, шерсть стояла дыбом. В конце концов хозяин разозлился, вскочил и ударил собаку ногой, затем, схватив ее за шиворот, потащил и швырнул на надгробную плиту, на которой стояла наша скамейка. Но едва бедное животное коснулось камня, как тотчас притихло и задрожало. Оно и не пыталось сойти, а как-то присело, дрожа и ежась, и пребывало в таком ужасном состоянии, что я всячески старалась успокоить его, но безуспешно. Все эти сцены так взволновали Люси, что я решила заставить ее проделать перед сном длинную прогулку, чтобы она крепче спала.
Глава VIII
Дневник Мины Мюррей
В тот же день, 11 вечера.
Ну и устала же я! Если бы я твердо не решила вести ежедневно дневник, сегодня ночью я и не раскрыла бы его. Мы совершили чудесную продолжительную прогулку. Люси вскоре развеселилась, благодаря, я думаю, симпатичным коровам, которые обступили нас в поле неподалеку от маяка и напугали нас до полусмерти. По-моему, мы позабыли обо всем на свете, кроме своего страха, конечно, и это помогло нам как будто все начать с чистой страницы. В бухте Робин Гуд[82]