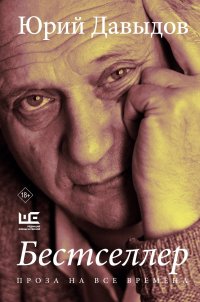Читать онлайн Глухая пора листопада бесплатно
- Все книги автора: Юрий Давыдов
Предметы культа
В оформлении переплета использованы фотографии Андрея Соловьева, предоставленные агентством ТАСС.
© Давыдов Ю. В., наследники
© Юзефович Л. А., предисловие
© Рыбаков А. И., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”
Поздний человек
В предсмертной тюремной записке прочел: “Fuimus…” (“Мы были…”)
И еще прочел: “Fatum…” (“Таинственные силы действительности…”)
Из этой записки, как из зернышка, пророс этот роман.
Ю. Давыдов
Впервые я увидел Юрия Владимировича Давыдова в 1978 году, в моей родной Перми. Его пригласило областное общество книголюбов, чем он был очень удивлен – в то время подобные организации не баловали Ю. В. своим вниманием. Вечером собрались у меня дома, и, помню, меня, провинциала, поразил его рассказ о том, как комендант Кремля Мальков сжег тело расстрелянной Фанни Каплан в бочке из-под бензина. Рассказано было в ответ на изложенную мною благостную легенду о милосердии вождя, который будто бы пощадил несчастную Фанни и сослал ее в Сибирь, где она прожила под чужим именем чуть ли не до наших дней, работая учительницей в сельской школе. Теперь тот давний короткий рассказ Ю. В. кажется мне типичным для его поэтики. Здесь не было ни хорошей Каплан, ни плохого Малькова, здесь были две трагические фигуры на скупо декорированной сцене, и они выступали из мрака при свете этой страшной бочки с бензином. Сам Ленин вообще отсутствовал, поскольку не представлял для Ю. В. большого интереса. Его интересовали тип тираноборца и тип хранителя устоев, странные психопатические отношения внутри таких пар, в которых оба члена время от времени меняются местами, а то, ради чего эти два типа вступали в вечный и неразрешимый конфликт, уходящий в глубину души каждого из них, оставалось за скобками как некая скучная данность. Природа власти как таковой Ю. В. мало волновала. Не следует думать, что он, как многие из близких ему людей, всю жизнь посвятил пристрастному исследованию феномена российской государственности. Его занимала не сама по себе власть, а ее эхо, ее отражения, тени, призраки – тот мир, который только и может быть предметом искусства. Все прочее – публицистика. Ее Ю. В. не любил.
Его восхитительный юмор никогда не был злым и строился на сочувствии к непонятому благородству, к трогательной неуклюжести мужественных людей, попавших в чуждую и низкую стихию. Любимые герои Ю. В. – моряк на суше, старый дворянин в советском Ленинграде, любитель кошек на гауптвахте, боевой адмирал в лагере и т. п. С этим его юмором перекликаются живущие у меня в памяти две черты его внешнего облика: походка, при воспоминании о которой у меня до сих пор щемит сердце, такая она была характерная, стремительная и одновременно щегольски-мягкая, и то, что вне зависимости от погоды плащи, пиджаки и пальто на нем всегда были расстегнуты. Он ходил легко, обвеваемый собственной одеждой, и в этом было что-то такое, что соотносилось с его прозой, со скрытым в ней ритмом, чувством полета, поэтичностью. Тяжеловесное слово прозаик ничего в нем не объясняло.
Однажды он рассказал мне, как на его пятидесятилетнем юбилее Виктор Лихоносов сказал ему: “Что, Юра, быстро жизнь прошла?” Для Ю. В. это было ужасно слышать, потому что в то время он лишь подбирался к тому главному, для чего явился на свет. На протяжении двадцати с лишним лет, в течение которых я его знал и любил, в нем постоянно раскручивалась какая-то тяжелая пружина. Она была сдавлена условностями литературного общежития, временем, окружением и только в последние годы распрямилась окончательно. Он был поздним человеком. В этом было его горе, которое к концу жизни обернулось счастьем.
Он знал цену иллюзиям и умел платить ее сполна. В отличие от большинства литераторов, он не был протеистичен, в нем было мало женственного. Может быть, поэтому женские образы в его романах выходили не слишком яркими. Он был певец сильных страстей, мужского братства и той идеи, что нужно раствориться в чем-то большем, чем ты сам, если хочешь остаться самим собой. У него была не придуманная, а почти физиологическая потребность говорить голосами тех, кто уже ничего не может сказать в свое оправдание. На суде истории он всегда выступал в роли адвоката. Устами Усольцева из повести “Судьба Усольцева” он высказал свой главный жизненный принцип: “По совести, по мере возможностей отправляй свое ремесло. И счастлив будь тем, что оно позволяет тебе быть человеком, который протягивает руку другому человеку”.
Леонид Юзефович
Книга I
Глава первая
1
Спальня не прибрана, в столовой киснут объедки, на полу клозета клочок дамской записки: “Милый Гошенька…” Черт знает что! У тебя каждый нервик пляшет, ты страшное пережил, а тут Георгий Порфирьевич, “милый Гошенька”, кутежи закатывает.
Яблонский только что вернулся в Петербург. Ехал в первом классе, хорошо и покойно ехал, однако нет, не отдохнул. Какая-то странная потяготливость. Будто после болезни. Будто давно не мылся, не переменял белья.
Он встал у окна, вяло скрестил руки. Ну что ж, в Харькове оплачен крупный вексель. Очень крупный вексель, милостивые государи. И никакого удовлетворения. Напротив, теперь, когда все начато, уже мерещится проигрыш. Тут не капитал просадишь, а жизнью разочтешься.
В окне было нищенское небо, невнятный снег. Внизу, на дворе, дымились помои. Шум улиц доносился глухо. Яблонский прежде любил Петербург, сейчас подумал: “Проклятый город”.
Он подошел к столу, брезгливо оглядел остатки пиршества. Отыскал чистую чашку, плеснул в нее водки. Выпил, морщась и вздрагивая. Он еще не завтракал. Но и водка не пробудила аппетита.
Нынче свидание с главным инспектором секретной полиции. Важность встречи Яблонский сознавал. Следовало о многом поразмыслить. А мысли были сбивчивые, пустячные, и он все ходил, слонялся из угла в угол.
2
Кабинет не домашний, не служебный – так, проходная комната. Повсюду вороха бумаг, даже на подоконниках. И высокие шкафы без всякого выражения, анонимные. Несколько дверей, за которыми тишина – ни шагов, ни голосов. И посредине, за письменным столом, крупный атлетический мужчина в сюртучном костюме, брюки новомодные, с лампасами, узкие. Крупный плечистый мужчина, из тех, у кого похмельно не трещит голова и поясницу не ломит после бессонной ночи.
В ребячестве, кадетом Георгий Порфирьевич страдал: с этой вот смешной фамилией далеко ль пойдешь?! Су-дей-кин. Учитель истории трунил: “Судеек, брат, в черных волостях выбирали. Приказчиков, воевод не было, судеек-то и набирали из мужиков”. Кадет не верил. Он знал: Судейкины – дворянской крови, смоленские дворяне Судейкины. Но фамилия что тавро: лапотные, стало быть, дворяне. И мучился: с такой-то фамилией далеко ль пойдешь?
Однако пошел. Оттого, мол, язвили некоторые, что женился на дочери жандармского полковника. Это верно: женился на Верочке Гусевой, полковничьей дочке. Но ведь, ей-ей, совсем не тесть главная пружина. Нет, он сам, Судейкин, сумел глянуть на розыскное дело широко, не боясь риска. В Киеве ка-акие сюрпризы начальству! И взлет: в Санкт-Петербург пригласили, сперва во главе столичного сыска поставили, а после – бери выше – на место особое, штатным расписанием не указанное, особое и единственное: инспектором секретной государственной полиции.
Правду сказать, поздновато хватились, господа. Средь бела дня убили императора Александра Николаевича, в столице, на виду. Да-с, а лошади-то целы. Судейкин улыбнулся.
(При мысли о роковом покушении на Александра Второго ему частенько вспоминался знакомый полковник Сокол. Теперь он в Архангельской губернии, а тогда сидел в Екатеринбурге. В воскресенье, первого марта, держал Сокол, как водится, банчок в Дворянском собрании. Вдруг телеграмма: одна бомба разворотила экипаж, другая – царя. Натурально, все цепенеют, гробовое молчание. А тут-то и разносится глас жандармского начальника: “Слава богу, лошади целы!”)
Время шло к одиннадцати. Судейкин не прикасался к бумагам. На круглом лице его, в светлых, с искорками глазах, прячущихся под широким нависшим лбом, во всей фигуре выражалось напряженное ожидание.
В одиннадцать ее покажут высшему начальству. Но вот вопрос: тебя пригласят ли, Георгий Порфирьевич? Толстой будет, Плеве будет, Оржевский. А тебя пригласят ли, Георгий Порфирьевич? Ведь прямая твоя заслуга. Разумеется, Яблонского тоже. Однако рассудить, так и Яблонский – твоя заслуга. Нет, это уж тут сразу высветится: пренебрегают иль не пренебрегают, ценят иль не ценят?
Отворилась одна из дверей, вошел Судовский. Рослый и тоже, как инспектор, крупный, племянник Судейкина, правая его рука – Николай Судовский.
Смущенно, как нехотя, взглянул на дядюшку.
– Ну, Коко? – спросил Судейкин.
Коко потупился.
– Та-а-ак, – протянул Судейкин, багровея. – Ну, хорошо, хорошо же…
3
Никаких ковров, никаких украшений. Ковры – гнездилище пыли; украшения отвлекают мысль. Служебное помещение должно быть чистым, как щека из-под бритвы.
Сухопарый сановник, бледнолицый, с поджатыми губами, вышагивал мерно. Его штиблеты тонко поскрипывали на паркетных половицах, где ни единой пылинки.
Никогда не мерцал он канительным серебром жандармских эполет. Никогда победительно не брякал серебром жандармских шпор. Никто не помогал ему как “родному человечку”. Уроженец Калужской губернии, “из обер-офицерских детей”, он всего достиг сам. Он слушал курс юриспруденции в Московском университете. Его плечи согнулись в прокурорских камерах Тулы и Вологды, Варшавы и Санкт-Петербурга. Ныне он действительный статский советник. Он кавалер орденов Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава. Почти два года назад именным высочайшим указом ему всемилостивейше повелели быть директором департамента государственной полиции. Видит бог, его трудолюбие неиссякаемо, его служение безупречно, его принципы неколебимы. И вот благодарность: “Да, отличные убеждения, пока вы тут, а когда вас не будет, то и убеждения будут другими”.
Плеве, сухопарый, бледнолицый, с поджатыми губами, мерно вышагивал. Его штиблеты тонко поскрипывали.
С четверть часа назад в кабинет скользнул секретарь министра и доверительно нашептал о вчерашнем разговоре его сиятельства с государем императором.
Толстой ездил в Гатчину – очередной доклад. Доложив, заговорил о близости лета, о настоятельно необходимом отдохновении в рязанском монрепо, просил разрешить докладывать по Министерству внутренних дел директору департамента фон Плеве. Тогда-то, соглашаясь, государь и произнес: “Да, у него отличные убеждения, пока вы тут, а когда вас не будет, то и убеждения у него будут другими”.
И это сказано именно теперь! Теперь, после ареста той, кого император назвал “ужаснейшей женщиной”. Это сказано теперь, когда партия террористов, можно утверждать, разгромлена. Вот награда. Однако директор Плеве готов побиться об заклад, что подобные мысли внушены государю. Исподволь, неприметно внушены. И внушены… Он на мгновенье останавливается. Его указательный палец как бы плывет в воздухе. Засим решительно отсекает нечто незримое. Исключено! Он, Плеве, слава богу, пользуется благорасположением обер-прокурора Святейшего синода. Нет, не Константин Петрович Победоносцев сему причиною.
Пальцы барабанными палочками постукивают по сукну. Плеве покачивается на носках. Ему это приятно, в этом как бы предвестие ровности мыслей. А ровность мыслей очень нужна ему.
Вячеслав Константинович по гроб не простит генералу Оржевскому “тухлую рыбу”! Генерал в обществе позволил грубый, гадкий намек: дескать, директор полиции послушен любому веянию свыше – “тухлая рыба по течению плывет”. Но командир корпуса жандармов – недруг открытый. А государь не лишен житейской сметки и хулу из уст Оржевского вряд ли примет в расчет.
Длинные пальцы замирают на зеленом сукне. Они словно бы не принадлежат действительному статскому советнику. Его анемичные губы сжимаются еще плотнее, бледное лицо обретает цементный оттенок.
Итак?
Он резюмирует определенно и коротко. Он убежден, он твердо знает, чья это повадка. Вячеслав Константинович чувствует что-то вроде удовлетворения. Его удовлетворяет собственная логичность.
Часы показывают без пяти одиннадцать. Пора. Слабым движением правой руки он касается висков и выходит из голой комнаты – невозмутимый, прямой, безукоризненный.
4
В угрюмых, со старческой желтизною глазах графа Толстого Дмитрия Андреевича дрогнули изумление и восторг: боже мой, как она похожа! И давным-давно позабытое: он целует руку прелестной женщине, и прелестная женщина улыбается ему тихо и радостно; женихом и невестой выходят они из экипажа, летний ветер колышет страусовое перо на ее шляпке; и другое лицо ее – отрешенное, замкнутое – видел он в последний раз, перед ее отъездом за границу; она уезжала, обвенчавшись с голландским дипломатом.
– Возьмите стул! – сухо, как отщелкнув, приказал Плеве, и Толстой вздрогнул, будто приказание относилось к нему. Он поймал в себе какое-то мгновенное удовольствие оттого, что Фигнер не успела протянуть руки, как стул ей подал хозяин роскошного кабинета бонтонный генерал Оржевский.
Старик, сжимая подлокотники кресла, не спускал глаз с Фигнер; тронув грязно-серые бакенбарды, произнес мягко, влажно:
– Вот уж не предполагал… У вас, право, такой скромный вид.
– О да, ваше сиятельство, – желчно поежился Плеве. – А между тем среди молодежи только и слышно: Фигнер, Фигнер, Фигнер. – Он с ледяной пристальностью взглянул на арестованную: – И вам это льстило?
Он ожидал любой дерзости, но не молчаливого презрения: “Господи, какое ничтожество!” Она повела плечом и вопросительно посмотрела на генерала Оржевского, на графа Толстого.
Плеве смешался. Так никто еще не унижал его. Такого не замечал он ни в мерцающем казнящем взгляде Желябова, ни в бесконечно спокойном взоре Кибальчича, ни в задумчивых глазах Перовской. “Господи, какое ничтожество!” И этот призыв к Оржевскому, к Толстому, несомненно, понятый обоими.
Плеве прислонился к проему меж окнами, точно бы отстраняясь от всех. Он проглотил слюну, опять, но уже несколько искоса, глянул на Фигнер и тотчас подобрался, словно бы безошибочно что-то угадал в ней, что-то очень затаенное.
И Фигнер почувствовала в ту минуту, что Плеве каким-то подлым чутьем вызнал то, что она скрывала и от товарищей, и от самой себя.
– Но теперь, – медленно проговорил Плеве, – но теперь вы здесь. И представьте… – Он сделал нарочитую, для Фигнер мучительную, паузу. – И представьте – рады. Да, да, очень вы рады! Ведь это конец. А вы устали. И вы рады. В сущности, вы рады. Не так ли?
Она не ответила. Она молчала, сознавая, что своим молчанием длит торжество господина Плеве. Но тут генерал Оржевский пришел ей на помощь.
Генерал рокочет приятным свежим баритоном. Фигнер еще не совсем понимает, что он такое говорит, о чем, но она, право, признательна, и оба они в это мгновение испытывают мимолетное ощущение сообщества.
А говорил генерал Оржевский, командир корпуса жандармов, вот о чем. Он, ежели изволите знать, никак не может понять нынешних радикалов. Ведь признать следует полное поражение так называемой “Народной воли”. Он был бы благодарен получить разъяснения на сей счет.
– Понимаю, генерал, ваше любопытство, – улыбнулась Фигнер. – Но это долгий разговор. У меня, надеюсь, еще будет время. Надеюсь, мне дадут перо и бумагу, я изложу наши взгляды письменно, а потом и устно на суде. Не так ли?
– О да, да, – отозвался Оржевский, изгибая красивые темные брови. – Я прочту, непременно прочту. Эт-то очень интересно.
– Ой ли, Петр Васильевич? – ворчливо отнесся к Оржевскому министр Толстой. – Ариозо Бакунина, старая песня. – Он пожевал губу и продолжал слабым, с хрипотцой, но внятным голосом: – У вас, сударыня, что же? У вас политические убийства во главе угла. И… и из-за угла. Пора бы, сдается, уразуметь: монарха сменяет монарх. Вот так-то! А теперь я вам конфиденциально… Цари, конечно, создали Россию, но они создали ее нашими руками, дворянскими. А вы-то полагаете, что убиение царствующей особы сокрушит государственный порядок, а того не примете в расчет, что великая Россия создана нашими руками, а эти вот руки… – Он поднял ладони кверху, и Вера Николаевна чуть усмехнулась, глядя на дряблую кожу в чернильных вздутых жилах.
Граф Дмитрий Андреевич откинулся в кресле. Плеве сделал какое-то движение, должно быть намереваясь встрять в разговор, но Толстой опять заговорил.
Голос у него переменился. Не добродушная воркотня слышалась – звучало что-то вкрадчивое и настороженное, а вместе с тем и язвительное, и так же вкрадчиво и настороженно смотрели теперь его угрюмые, с желтизною глаза.
– А вот докладывают, и меня будто решили устранить, то есть убить, стало быть. Наслышаны? А?
Фигнер отрицательно покачала головой, Толстой точно бы обрадовался:
– Хе-хе, не слышали? Ну-с, чего уж там, если и слышали, так разве скажете! А нам-то, здесь-то, все, сударыня, известно. Из Киева едет нигилист! Из Киева! – повторил он, словно в том, откуда едет нигилист, крылось что-то важное. Толстой оглянулся на Оржевского, генерал был непроницаем. – Да-с, – продолжал министр, – едет некий злодей, а при нем отравленные папиросы.
– Какие папиросы? Зачем? – изумилась Фигнер.
Граф Дмитрий Андреевич хитро прищурился.
– Зачем? А в том и штука – “зачем”. Все известно, все известно, сударыня! А дадут вот эти самые папиросы моему кучеру. Тот, пентюх, выкурит и одуреет, а я, худого не подозревая, в экипаж, а тут-то и есть фатальный момент: нападут с бомбой. Вот-с зачем. – И Толстой укоризненно, строго, сожалеючи покивал головой.
“Да он из ума выжил”, – подумала Вера Николаевна, и не смешно ей сделалось, но жутко, нехорошо. А министр вздохнул, пожевал губу и добавил без связи с предыдущим:
– Жаль, нет времени, а то я убедил бы вас. Право, убедил, и вы отказались бы от ваших пагубных воззрений.
И вот тут-то она улыбнулась, молодо улыбнулась и дерзко:
– И я жалею, граф, очень жалею, а то я обратила бы вас в народовольца.
Оржевский прыснул, Плеве просыпал сухой смешок. Толстой сокрушенно осклабился.
5
Фигнер вели коридорами, длинными, как делопроизводство. Канцеляристы тараканьей побежкой выюркивали из дверей. Фигнер не задерживала взгляда на чиновниках. Шла мимо, шла быстро. Но вот что примечательно: “ужасная женщина” с бледным, отрешенным лицом оставляла на всех этих мятых, как нечистый платок, душах удивительный, ни с чем не сравнимый мягкий и вместе сильный отсвет. И хотя канцелярский люд не догадывался, понять не умел, что же это такое, но он догадывался и сознавал, что этот отсвет и эта вот минута будут ему долго памятными.
Фигнер не замечала чиновников, не слышала почтительного шепота, приглушенных возгласов. Ее поглотило то неотчетливое ощущение, какое испытывают многие политические заключенные после беседы с высшим начальством. Конечно, приятно, что она так ловко дала плюху министру. Но проницательность Плеве, проницательность сухопарого сановника раздражала ее и тревожила, и ей казалось, что она допустила оплошность, в чем-то промахнулась, позволила заглянуть в душу. И ей все еще звучал медленный, лишенный модуляций, черствый дискант: “А вы рады! Это конец, вы и рады…”
Давно уж меркло все. После казней на Семеновском плацу – разгром за разгромом. С неумолимой последовательностью. От этого можно было рехнуться. Из старых членов исполнительного комитета остались двое: Тихомиров и Фигнер.
Тихомиров? Она любила его и теперь любит. Она не сочла его изменником, трусом. Им овладела болезнь – шпиономания. А Катя умоляла спастись за границей. Они уехали. Тихомиров не хотел оставаться в России; Фигнер не могла оставить Россию. Искала новых людей, соединяла тонкие, спутанные, оборванные нити прежних связей. И при этом сознавала близость “последнего дня Помпеи”. Сознавая, твердила: “Иди и гибни…” Но вина, нравственная вина за участь других мучила непрестанно. А на людях она казалась неунывающей, бодрой, энергической “нашей Верой”.
В Харькове встретила Сергея Дегаева. Это был старый товарищ. Его знали Желябов, Перовская. Бывший артиллерийский офицер, народоволец, участник подкопа на Малой Садовой, где заложили мину, чтоб взорвать царя. Фигнер ничего не скрывала от Сергея. Он принял ее планы, поехал в Одессу, в Николаев, привлек офицеров, поставил типографию. А месяц спустя провалился. Вместе с типографами. Мрак натекал, густел. “Скоро ль твой конец? Покоя…” Бог не выдал, свинья не съела: нежданно-негаданно Дегаев опять появился в Харькове. Он был измучен, у него тряслись руки. Ах, милый ты мой, дорогой ты мой товарищ! Сергей Дегаев рассказывал: “Я назвался киевским. Везите, говорю, в Киев, там откроюсь. Они не соглашались, я упорствовал. Наконец повезли. Едем пустырем… Знаете, перед вокзалом? Едем, уже темнело, никого. Я выхватил из кармана горсть табаку и – в глаза им, в глаза. Пролетка летит, я прыгаю. Стреляли, ничего – ушел. Ушел, и вот, видите…” “Табаком? – спросила она. – Да ведь вы не курите?” “Не курю, – сказал Дегаев, – но загодя в тюрьме припас”. И они рассмеялись.
Сергей Дегаев утверждал: “В Одессе кто-то выдает, предатель и очень осведомленный, из нелегальных”. Нет ли, спросил, слежки за нею здесь, в Харькове. “Нет, – сказала Фигнер, – тут безопасно, никто не знает”. Он повторил: “Нет? Вы уверены?” “Уверена. – И усмехнулась: – Вот разве на Меркулова нарвусь”.
Дегаев прихмурился. Иуда, будь ты проклят, Васька Меркулов! Тоже участник подкопа на Малой Садовой, надежным казался, из рабочих. А в тюрьме передался Судейкину, кого знал, тех и продал. Теперь шныряет в Одессе, вынюхивает прежних друзяков-рабочих, а судейкинские гончие – по пятам. Меркулов… Да где ж и Судейкину догадаться послать Ваську в Харьков, чтобы Веру-то Николаевну опознать? Полноте!
Однако именно в Харькове, именно Меркулов. И вот он, конец. Одним утешься – не было в тот день Дегаева, уцелел Сергей…
Ее вели длинными коридорами. Чиновники выюркивали глазеть на нее. Впереди качался жандарм. Широченная спина, по плечу елозит оголенная шашка.
Коридоры министерств длинны чрезмерно. В департаменте государственной полиции они всегда бесконечны. Лишь очутившись в камере, вдруг жалеешь странной жалостью, что коридоры пройдены. И пройдены, чудится, мгновенно.
Но покамест – коридоры. Не двери распахиваются, не двери затворяются, не переход сменяется переходом. Нет, будто отламываются пласты изжитого. Счет годам невелик, ей тридцать первый. Да суть-то, должно быть, в топографии местности, по которой пролегла твоя дорога.
Минуты есть, неуследимые отрезки времени кристаллизации души. Были у нее такие минуты. Одна отлилась нравственным постулатом: нерасторжимость слова и дела. Другая обозначилась мыслью, что великие поворотные решения человек должен принимать для себя сам.
Дворянский дом полной чашей, подблюдные песни, милая няня, Казанский институт благородных девиц и первый бал, неудачное замужество, завершившееся разводом. Увлечение наукой, годы в Швейцарии. И новый взгляд, брошенный на Россию. “Внезапно” обнаруживается невозможность жить без сопротивления тому, что черно. Невозможность жить, не меньше. Ничего не остается, кроме общности личной судьбы с судьбою русской революции. В этом “ничего не остается” – ничего жертвенного. Есть дело, слитое со словом. И значит, радость и полнота, полнота и честность существования, покуда оно длится. Пусть краткого, но твоего существования. Тут ни на грош показного. Все неостановимо, как дыхание. Но и оттенок аскетизма, схима: печать поколения.
Ей тридцать первый. Захлопываются двери. Не здешние, не департаментские – двери прожитого: динамитная ворожба то в Одессе, то в Петербурге; знакомства с моряками и артиллеристами, когда вслед за Желябовым создавала она военную организацию “Народной воли”; ночь на первое марта восемьдесят первого года, когда у нее на квартире у Вознесенского моста, в ярком беспощадном круге от лампы, в круге белых лиц и белых рук было ее лицо, были ее руки, собиравшие части метательных снарядов… И уже после казни царя, но еще до казни пятерых, Перовская пришла к ней. “Верочка, можно у тебя ночевать?” – “Как ты это спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?!” – “Я спрашиваю потому, что, если придут и найдут меня, тебя повесят”. – “С тобой или без тебя, если придут, я буду стрелять…”
Захлопывались двери в бесконечных коридорах департамента государственной полиции. На плече жандарма елозила оголенная шашка.
6
А внизу, глубоко, на узком мощеном дворе, зацокали лошади, внизу, на дворе, покатился к воротам экипаж.
Недалеко дом: Большая Морская, одиннадцать. Софья Дмитриевна ждет ко второму завтраку. Господи, сколько уж лет супружества с этой женщиной, невзрачной, неумной, но благодушной и преданной. Во времена оны дядюшка, царствие небесное, отговорил племянника Митеньку от брака с бесприданницей Языковой. Рожденная Бибикова стала графиней Толстой, принесла графу Дмитрию немалые земли. А бесприданницу взял голландский дипломат, и никогда уж больше не видел ее Дмитрий Андреевич. Не видел и не вспоминал, признаться. До нынешнего дня не вспоминал. И вот эта Фигнер. Та же грация, та же летящая походка, тот же поворот головы. Господи, как они похожи…
Теперь, в экипаже, он был немножко раздосадован. Эка его, однако, разобрало. А он слывет угрюмым, необщительным. Хе-хе, необщительным… У него есть всегдашние собеседники: латинские классики. Он был бы счастлив запереться дома и никого не принимать. У него есть латинские классики, обожаемый сын Глебушка, единственная любовь и привязанность. А многие – он слышал, слышал – в злобе своей почитают Глебушку форменным кретином.
Ах, запереться бы в кабинете, в тишине и никого не принимать, не видеть, не слышать. Двадцать лет тому… Нет, еще раньше: то-то было наслаждение в архивных разысканиях, в изучении, пристальном и пристрастном, отношений Рима и России, католицизма и православия, как иезуиты гнездились на Руси. А потом писать настоящий ученый труд. Два тома, изданных поначалу в Париже.
Ничего так не ненавидел граф Дмитрий Андреевич, как папство. Ватикан виделся ему первейшим врагом истинной России. Теперь еще один враг. Новый враг страшнее прежнего: социализм, учение бедоносное и злокозненное.
О революции он не писал и не напишет. Время, оставляя желания, отбирает силы. Силы на исходе, мало, слишком мало земных дней. Да и те могут пресечь нигилисты. Проклиная иезуитизм, поневоле вздохнешь: вот у кого была превосходная осведомительная служба. Не чета нашей… Да, иезуиты действовали в этом смысле превосходно, не нашим чета…
Граф почувствовал легкое головокружение, прикрыв глаза, перекрестился. Он был мнителен. Легкое головокружение, и тотчас мысль о близости смерти. “Увы, о Постум, Постум, мчатся быстрые годы…”
Генералу Оржевскому не терпелось первым огласить гостиные bon mot “ужасной женщины”. Какова! Она обратила бы в социалиста и этот замшелый пень. У старика отвисла челюсть… Черт догадал графа болтать об этих отравленных пахитосках. Плеве, конечно, тотчас сообразил, кто выкинул эту штуку.
Выдумка не из блестящих. Впрочем, старикан струхнул. Отказался от ежедневных прогулок по Морской, просил на лето лучших филеров для охраны рязанского имения. Нет, что ни говори, струхнул изрядно, а в этом суть. “Пусть, – говорит, – Оржевский всем заправляет, пусть они лучше в Оржевского стреляют, чем в меня!” Ах, циник, циник!.. Ну ничего, глядишь, обойдется. Десять лет ты, Петр Васильевич, Варшаву гнул – ничего, жив-здоров. Варшава! Вот уж где умеют задавать балы. Но Петербург тоже нынче весел, везде танцуют… Генералу вообразилось, как, похохатывая, прищелкивая пальцами, он будет рассказывать про нынешнее рандеву с Фигнер. И Оржевский заулыбался, полетел, как в мазурке, к дверям, весело мигнул дежурному унтеру: “Шинель, братец!”
Тем временем директор Плеве переговорил в телефон с Зизи, просил не ждать к обеду и, повесив трубку, послал за инспектором Судейкиным.
Плеве очень хорошо понимал, как страдает самолюбие инспектора. Не пригласить на “смотрины” того, кто устроил блестящее арестование наиважнейшей революционистки! Да-с, непременно надо Судейкину знать: не он, не директор Плеве, тому виною, а его сиятельство. Для графа инспектор просто-напросто выскочка, плебей. А между прочим, ваше сиятельство, дворянские руки, о коих вы изволили сказать, как раз и есть руки Судейкиных. Так-то! Судейкиных и Плеве, происходящих из “обер-офицерских детей”. Вот так-то!
Он сидел за просторным столом, ждал инспектора. Он не утаит, пусть знает, кто виновник явного небрежения. И ведь не впервой. Давно бы след представить инспектора царю. А граф Дмитрий Андреевич увиливает: нет, рано. Не было б поздно, ваше сиятельство, а? Самолюбие инспектора, оно того-с… Оно посерьезнее пахитосок вашего шаркуна Оржевского.
Грубая раздражительность при встрече с Фигнер уже оставила Вячеслава Константиновича. Он уязвил, смутил ее. И он был доволен ее ответом министру. То-то посмеется публика. Но дело прежде всего: не сегодня-завтра Фигнер переведут из департамента в крепость.
В дверь постучали.
– Прошу, Георгий Порфирьевич, – громко позвал Плеве.
7
Жена швейцара прибрала квартиру. Яблонский вымылся. Потом он допил водочку и закусил. Потом хорошо поспал.
На дворе смерклось. Яблонский, проснувшись, не стал зажигать свет. Скоро уж, подумал, припожалует… Яблонский известил его телеграммой, вот он и припожалует, инспектор Судейкин.
Последнее свидание было в Одессе. Обсуживался проект уловления Фигнер. Оба сознавали важность её ареста. Судейкин не скупился на посулы. Фигнер для обоих была крупным козырем. Следовало условиться о правилах игры. Яблонский своего не упустил. Они столковались: не начальник и сотрудник, не инспектор секретной полиции и агент секретной полиции – ровня, соумышленники.
Из Одессы Судейкин – в Питер, Яблонский – в Харьков. Он нервничал, не находил себе места. А все произошло удивительно просто. Яблонский держался в тени. Он навел на след Фигнер Ваську Меркулова, а сам издали, хоронясь за деревьями, наблюдал, как ее брали у Екатерининского сквера.
И в тот день, и на другой Яблонский много пил. Женщина с летящей походкой, женщина в шубке, с муфтой не выходила из головы. То были сантименты, результат нервного напряжения, вдруг разрядившегося. Он знал, что это не конец, лишь почин. Однако почин потрясающе удачный! Фигнер устранена, провал южных офицерских кружков обеспечен. Тут уж чистая техника, и баста. Казалось бы, “веселися, храбрый росс…”. Но нет, на душе у Яблонского было скверно, ему будто б нездоровилось. Он не тотчас поскакал в Петербург, как было условлено, а пожил в Малороссии, не переставая пить и пытаясь встряхнуться.
И внезапно от пронзительных подозрений у него в груди защемило. Он понял, что промазал в самом начале игры. Еще в Одессе инспектор взял с него слово никогда не показываться в департаменте на Пантелеймоновской. Резон был основательный: страх пред новыми Клеточниковыми. Яблонский мог бы поклясться, что новых Клеточниковых нет, у революционеров нет никакого агента в департаменте. Однако нынче нет, а завтра, глядишь, есть. И вот эта возможность… О черт! Но, не зная никого в департаменте, не показываясь на Пантелеймоновской, каким, спрашивается, волшебством мог удостовериться Яблонский в честности инспектора? Яблонский метил далеко и высоко. Не банальное шпионство свело его с Георгием Порфирьевичем… Сомнениями мучился Яблонский. Теперь, при свидании с подполковником, он выставит новые требования. Решительно, не колеблясь!
В прихожей дерзко забренчал звонок. На цыпочках, сразу вспотев, Яблонский устремился в ретирадное место. Как во многих питерских домах, в клозете было маленькое оконце на лестничную клетку. Яблонский прильнул к мутному стеклу, разглядел внушительную фигуру инспектора.
Минуту спустя Георгий Порфирьевич басил в передней. Яблонский, как уже бывало, ощущал рядом с инспектором обидную телесную малость. И, пропуская Судейкина в комнаты, кольнул:
– А вы тут, “милый Гошенька”, времени не теряли.
– А, вона что, – заулыбался Судейкин, – вы уж не браните.
Судейкин был весел, от него мартелем припахивало, на Яблонского смотрел он ласково, открыто, товарищески. Очень, надо сказать, ободрила Георгия Порфирьевича недавняя беседа с директором департамента. Прекрасно они друг дружку поняли. И скоро уж коронация, а в канун коронации обещана высочайшая аудиенция. С Вячеславом Константиновичем Плеве держи ухо востро, но на сей раз, кажется…
Ну ладно, это потом. А сейчас вот с Яблонским надо. Можно и арестование Фигнер вспрыснуть, и почин здешней, питерской, деятельности. Однако что такое? Что с ним?
Оживление, бодрость и этот запашок дорогого коньяка, исходивший от Судейкина, омрачили Яблонского. “Победу празднуешь, – думал он враждебно, – обо мне, конечно, в сферах ни гугу, а я вот тебя, брат, сейчас огорошу”.
– Послушайте, вы ведь знаете, я не ради выгоды, – начал он прерывающимся голосом.
– Ну, ну, батенька, – недоуменно и мирно вопросил Георгий Порфирьевич, властно подминая диван своим тяжелым телом.
– Я вам верю, – продолжал Яблонский, расхаживая по комнате и не глядя на Судейкина, – очень вам верю, право. Но… То есть и не “но”, вовсе без этого “но”. Я хочу напомнить: я не давал согласия на простое агентство.
– Так, так, – молвил Судейкин, шевеля бровями и точно бы сызнова всматриваясь в Яблонского, в его большую, несоразмерную торсу голову, в бледное, неглупое, но какое-то уж слишком обыкновенное лицо с пегой бородкой и усами. – Так, так, слушаю.
Его пристальный взгляд, его “так, так” взорвали Яблонского. Он остановился, исполненный решимости, глядя в упор на инспектора. И выставил требование: доложить о нем министру, а потом и государю императору.
Вышла пауза.
– Однако в Одессе, – сказал инспектор, – мы, кажется…
– В Одессе, в Одессе, – перебил Яблонский и опять пустился из угла в угол. – Вы знаете: не выгода, не карьера. Тут другое, совсем другое! Согласны? А коли согласны, почему б и не объявить?
Судейкин не разваливался на диване. Судейкин был прям, как в седле. Он потер круглый, коротко остриженный затылок, ладонью снизу надавил подбородок, потом скулу, словно усомнившись в их твердости. И неожиданно улыбнулся. Серьезная, уважительная была у него улыбка.
– А молодцом, черт возьми, – сказал он. – Молодцом!
– Нет, ей-богу, Георгий Порфирьевич, – проговорил Яблонский, будто сконфуживаясь, – поймите правильно.
– Н-да-с, оплел-таки нас бог одной веревочкой. Прошу, впрочем, сообразить: министр, государь… Эка ведь! Скоро сказка сказывается, прошу сообразить. Дайте срок.
– Понимаю, хорошо понимаю! Как не понять!
– Ну и отлично, – обрадовался Судейкин. – Мы-то с вами да не столкуемся! А? Ну теперь слушайте… Тут на нас с вами свалилось, батенька. Давайте-ка шторы, свет давайте-ка, так-то оно веселее. Ну-с, вот и хорошо. Прошу, садитесь, разговор не минутный, у меня, сознаюсь, никаких концов, все вам достанется. “Крестницу”-то нашу решено до суда держать в крепости. Я, правду сказать, спокоен за сохранность, но все ж таки не следует упускать из виду: Фигнерша – особа прыткая. Согласитесь, в наших интересах прятать сударыню в бастионе. Не так ли?
Глава вторая
1
Скоро месяц, как Дегаев приехал в Петербург, а все еще не навестил Лизоньку. Лиза была одна, маменька тревожилась, Дегаев обещался повидать Лизоньку тотчас по приезде, но теперь откладывал со дня на день. Он был к сестре привязан искренне, хотя нередко злил ироническим отношением к ее музыкальной одаренности. Он должен был навестить Лизу и потому еще, что та знала об его аресте в Одессе, а вот о побеге, о том, что он на воле, не знала. Непременно и давно уж следовало повидать сестру. А он не шел на Пески, все откладывал со дня на день.
Правда, забот, дел всяческих было невпроворот. С арестом Веры Николаевны Дегаев, можно смело сказать, оставался чуть не единственным из старой гвардии. Все, с кем он нелегально встречался, молчаливо признавали его крупной силой. От него ждали руководительства, и он с осторожной неуклонностью оживлял подпольную деятельность в затаившемся Петербурге. И все ж не они, не повседневные и утомительные заботы, удерживали Дегаева от свидания с Лизонькой.
Тут таилось нечто сугубо личное, совсем интимное, путаное и неотчетливое. Он себе самому затруднился бы объяснить внятно. Может, попросту невмоготу возвращаться в прошлое?
Он помнил московское детство. И папеньку помнил, старшего доктора в кадетском корпусе, и как хоронили папеньку, и как они остались в казенной квартире и мама горько плакала, когда им предложили съехать… Они перебрались в Питер, на Пески, зажили там, на Песках, несладко, однако дружным семейством.
Московское детство было лишь воспоминанием. Главное, коренное, определяющее происходило в Петербурге. Кронштадт, где Дегаев служил одно время по артиллерии штабс-капитаном, был неотделим от столицы.
Желябов и Перовская, многие, кто принял смерть на эшафоте, кто изживал жизнь в казематах, посещали запросто дом на Песках: пили чай, отдыхая в уюте, в радушии этого дома, слушали, как музицирует консерваторка Лизонька, расспрашивали хозяйку, добрейшую Наталью Николаевну, про ее батюшку, известного в свое время литератора Полевого.
Дегаеву доверяли важные партийные тайны. Он радостно, гордясь доверием, своей решимостью, исполнял поручения Желябова в Кронштадте, в офицерской среде, а потом, когда подвергся удалению со службы “за неблагонадежность”, – в Питере, в Институте инженеров путей сообщения.
Вслед за бомбами первого марта как-то все нехорошо переменилось. Какие-то сумерки, хандра, предчувствия, ожидание несчастий. О, этот март… Убит был царь, но восстания не произошло. Воскресную ростепель сменили тяжелые влажные вьюги. Погребально рычали пушки Петропавловской крепости. Под железными шинами тюремных карет взрывался талый снег.
Талый снег разбрызгала карета подле дома на Песках: Сергея Петрова Дегаева, отставного штабс-капитана, взяли “по подозрению”. Он впервые очутился за решеткой. Не было страха, была тоска. И опасения за хворую маменьку, за Лизу и Володьку, младшего брата, которого недавно вышибли из Морского училища тоже “за неблагонадежность”.
Однако не раздобылись жандармы уликами, не вызнали про участие в устройстве подкопа на Малой Садовой, где должны были взорвать мину под царевым экипажем, когда б не укокошили Александра бомбы на Екатерининском канале. Да, счастливо отделался Дегаев.
Но тут вскоре опять роковой раскат кареты. И ночью входят в комнаты очень любезные люди: “Надо одеться! Пожалуйте!” Володю увезли. Тогда Дегаев понял, как это страшно: вдруг опустевший дом.
Они с Лизой носили передачи на Шпалерную, в предварилку. Было мучительно сознавать, что Володя, совсем еще юноша, Володька, у которого голос дрожит восторгом при слове “революция”, при слове “социализм”, вон он там, за этими решетками.
А после?.. После – от мостовых до прозелени зенита – белая ночь. Володя пришел домой в такую ночь.
Никого не будили они: Володя просил не будить, ему надо было немедля рассказать старшему брату о своих разговорах с Судейкиным.
“Знаю, вы ничего не откроете, Владимир Петрович. И не для того я говорю с вами. Другая у меня цель. Я хочу кое-что предложить вам на условиях, право, весьма выгодных”.
“Как! И вы посмели? Мне! Да кто вам дал право предлагать подобные вещи? Разве я похож на шпиона, господин жандарм?”
“Помилуйте, Владимир Петрович! Какое шпионство! Поверьте, я слишком вас уважаю! Нет, нет, никакого шпионства. Есть более важное, серьезное. Я могу сообщить вам: правительство готовит широкие реформы, оно само видит дальнейшую невозможность… Но для реформ, для успешной правительственной деятельности необходим мир с революционерами, с той крайней партией, которая… Ну да вы лучше меня понимаете. Прошу вас, Владимир Петрович, вникнуть…”
Так говорил с Дегаевым-младшим сам инспектор Судейкин. Они встречались не однажды. И Володю как осенило: вот он, случай заменить Клеточникова! Знаменитого Клеточникова, агента “Народной воли” и канцеляриста департамента полиции. Володя обещал… Нет, нет, он не согласился, он заявил: “Надо собраться с мыслями”. И Судейкин коротко улыбнулся. “Полагаю, удобнее в иной обстановке”.
Володя все это рассказал брату. Дегаев не ужаснулся.
Напротив, тихо и скрытно обрадовался. Ему блеснули, он это и теперь, два года спустя, помнил, блеснули какие-то приманчивые дали.
Дегаев настоял перед товарищами: нельзя упускать случай; отчего не попробовать? Володину “службу” одобрили. Не без колебаний: “Этакого юнца да в пасть Судейкину?” Не без опасений: “Раскусят быстро, пропадет парень!” И всё ж одобрили… Задача при всей ее сложности формулировалась просто: Судейкину ничего, от Судейкина хоть что-нибудь.
Тут вскоре получилась командировка в Архангельск. Железнодорожная контора, где Сергей Петрович подвизался инженером, заключила с ним контракт. Семья на руках, как откажешься?
В Архангельске Дегаеву понравилось чрезвычайно. Он с удовольствием принюхивался к запахам кудели, рыбы, окоренных бревен. Без всегдашней утомительно-привычной питерской опаски шел он травянистыми улочками, слушая протяжный скрип калиток, колокольца холмогорок. Все, чем жил он в Петербурге, отодвинулось: нервическое напряжение и суета, мамины воздыхания и Лизины музыкальные пассажи, даже тревога за Володьку.
С делом Дегаев управился скоро, успешно, мог хоть завтра восвояси. Но уж очень ему хорошо и гулялось и мечталось в Архангельске, и все-то он ждал чего-то внезапного, светлого, наперед чему-то радуясь и улыбаясь.
Словом, в Архангельске он был готов к “встрече с нею”. И встретил: невысокую, круглую, со свежими припухлыми губками, а под светлыми глазками тоже припухлости, те, что придают милую заспанность. Люба. Любовь. А дома, в семье – чиновничьей, бедной, без претензий, – звали ее Белышом, такая она была белокуренькая, такая беложавая.
Сергей Петрович как-то сразу утвердился в мысли, что Белыш будет ему спасением. От чего и от кого спасет его эта кругленькая блондиночка, он не знал, да и знать, кажется, не хотел, а знал только, что она его суженая. Он повторял мысленно “суженая”, его трогало старинное, наивное, провинциальное слово.
Сергей Петрович посватался и получил согласие. В Петербург ему теперь решительно не хотелось. Добро бы только домашние заботы, но ведь и подпольные кружки, и прокламации, а главное – ожиданье тюремной кареты. Вот эти-то обстоятельства он скрыл от Белыша, утайка омрачала его радость, он чувствовал себя “несколько непорядочным”. И, отправляясь домой, в Петербург, глубиною души настраивался: отойду в сторону, довольно, хватит, “все, что мог, ты уже совершил”, есть простые радости, и каждый вправе отведать их.
Володя поразил Дегаева: так сильно переменился, такой у него был жалкий, беспомощный взгляд. Володя сказал, что сам себе напоминает муху, попавшую всеми лапками на клейкую бумагу. Он чуть не плакал. Его “служба” была обидной, унизительной. У Судейкина, конечно, ничего не удавалось выудить. Володя отплачивал той же монетой. Инспектор и контршпион дулись друг на друга. Их отношения близились к концу. Каково-то придется Володе?
Дегаев не без стыда и удивления поймал себя на том, что почти не сострадает Володьке. Напротив, лишь раздражается, досадует, как помехе медовому месяцу. А тут еще вечная нехватка денег у маменьки, Лизины сетования: “Я не могу прилично одеться!” Изволите знать, чуть не последняя замарашка носит ныне поверх перчаток браслеты. Черт подери, браслеты! Вот у Любови-то Николаевны, у Белыша, никаких браслетов, однако счастлива.
В доме на Песках молодую приняли ласково. Не потому, верно, что она всех очаровала, но потому, что она была Сереженькиной женой, а Сергея в семье лелеяли и почему-то чуточку побаивались.
Впрочем, Белышу было бы хорошо и без родственного радушия. Ах, как она любила мужа! Она была ненасытна, она желала его, мурлыча, выстанывая голубицей, и это ему льстило, он открыл в себе бездну чувственности.
Он тосковал по Архангельску, жалел, что не обосновался у Двины, в одном из рубленых, вольно стоящих домов с травянистыми двориками и сараями. Он тосковал по Архангельску, ибо подпольный Петербург, как и следовало ожидать, не давал ему отъединиться. Он все-таки не мог бросить Володьку на произвол судьбы. А судьба эта приняла облик атлетического инспектора тайной полиции с нагловатыми, веселыми, умными глазами.
Вот так это все связалось, спуталось. Немного в общем-то протекло времени, а что ж теперь? Нет на Песках ни Володьки, ни маменьки, нет Белыша. Одна Лизонька. Он обещался навестить ее тотчас. И не может, не хочет “посетить тот уголок”. Откладывает со дня на день. Странная штука… Сантименты? Усталость от пережитого в Одессе?
Однако никто из нелегальных, никто из тех, с кем он уже виделся в Петербурге, не замечал в нем апатии. Он действовал исподволь, осторожно, неуклонно. Он теперь крупная сила, представитель центра. Центра, которого, в сущности, нет и который ему предстоит воссоздать.
2
Лиза училась в консерватории, в том большом казенном здании, что высилось строго, но не угрюмо, в празднично-гулкой Театральной улице.
Класс фортепьянного отдела она посещала скорее по привычке, нежели по страстной привязанности. Как и многих ее товарок, Лизу прельщали зал Дворянского собрания и Венская кофейня поблизости от Дворянского собрания, на Михайловской.
Господи, что за удовольствие торопиться в концерт! Михайловская полна серьезно-нарядной публикой. Летучий снег, летучие огни, говор, электрическая атмосфера предвкушения. И наконец, трепет, шепот и теснота, когда из подъезда “Европейской” гостиницы появляется человек в огромной шубе, с огромной тростью. Он движется как броненосец. Ни на кого не глядя, роняет: “Нельзя, никак не могу!” Толпа за ним смыкается, за ним, вокруг него шелест: “Антон Григорич, бога ради, одно место…”
И Лиза в этой толпе, у нее есть билет, но она протискивается к Рубинштейну, чтоб еще и еще взглянуть на это крупное, отличной лепки лицо, на эти опущенные глаза, прикрытые нависшими наискось веками. И, взглянув, с зашедшимся сердцем – скорее в залу, где малина кресел, и золото люстр, и этот шорох, и уже стихающий рокот. И, “забыв все”, слушать игру Рубинштейна. “Исключительная фразировка!” Правда, случается “некоторая нечистота”, но зато ураганная сила, гениальная проникновенность.
Потом отзвучит Рубинштейн, потом гурьбою, с пылающими щеками – за столики Венской кофейни. Немец кофейню держит, его старое чувствительное сердце неравнодушно к этой пылкой молодежи. О, как они спорят о “новом искусстве”, как бросаются к фортепьяно, что-то доказывая друг дружке! Разор, право, но не откажешь молодым людям в даровом кофе. И немец не отказывает, качая головой, приговаривает: “So! So!”
Ну а если не Дворянское собрание, не Венская кофейня, не зала городской думы, где Римский-Корсаков, темно блестя стеклами круглых синих очков, прямой и почтенный, дирижирует оркестром учеников консерватории, – если не это, тогда на Васильевский остров, в Воронежское подворье, ко всенощной.
Боже, какой хор! Вот уж воистину слушаешь, и “горними тихо летит душа небесами”. В ней мало религиозного, в Лизе Дегаевой, она – страшно сказать – “матерьялистка”, но всенощная, молящиеся прихожане, согласное пение, да еще вдруг пахнет из дверей колким зимним холодом, а следом особенно нежным, колеблющимся теплом свечей, да ведь это что ж такое! Сладко замрет душа, прижать бы к груди весь мир, всех людей на свете.
С Васильевского острова на Пески неблизко. Идешь набережной, Невским идешь. Где-то запоздалые сани, вдруг проблеск неясный в чьем-то окне, ударят часы на башне. Тебе легко, немножечко грустно, а впереди-то, в будущем, прямо-таки невозможное счастье.
Поутру – в классы, а потом, дома – часами за фортепьяно. Лиза была усердной ученицей, пользовалась пособием “Общества вспомоществования недостаточным ученикам”, и груды нот от “Бесселя и К°” не пылились в ее комнате. Но, говоря откровенно, была она из тех натур, нередких среди женщин, которые свою чуткость к искусству искренне принимают за способность творить искусство.
Когда-то Сережины друзья похваливали Лизу. То были знаки внимания, вежливость, и только. Желябов однажды заметил Дегаеву, что в Лизиной игре слышится неприятная экзальтация, но Дегаев про то не сказал сестре, щадя ее самолюбие.
Да, Лиза усердно занималась. Притомившись, расхаживала по комнате, рассеянная, то хмурясь, то улыбаясь, или, случалось, встанет пред зеркалом и вообразит себя Анной Есиповой.
Музыкантша, прославленная в обеих столицах и за рубежом, была высокой, статной красавицей, а в зеркале отображалась среднего роста бледненькая барышня, не дурнушка, а, как говорится, ничего себе. Лиза не спорила с зеркалом, но и не отказывалась от ребяческого удовольствия наедине вообразить себя Есиповой, когда та, в черном декольтированном платье с бриллиантовой брошью, накинув на плечо длинную, снежной белизны шаль, исполняет: “Усни, печальный друг…”
С некоторых пор она жила без мамы и братьев, предоставленная самой себе, немного прирабатывая уроками, довольная своей самостоятельностью. Большая семья, несмотря на согласие и дружество, в последнее время утомляла и раздражала Лизу, хотя каждого в отдельности она не переставала любить.
Вынужденный отъезд Володи пережила она бурно, с рыданьями, но длилось это недолго, Лиза как-то разом утихла. И не то чтобы запрятала горе, нет, словно отрезала: “Ну, будет тебе!”
Володя писал изредка, Сергей не писал вовсе. Она знала лишь, что он где-то на юге. А недавно, уже зимою, маменька, тосковавшая у старшей замужней дочери в Белгороде, сообщила Лизе об аресте Сергея, и Лиза жалела Сергея фамильным чувством – такие уж они, Дегаевы, обездоленные.
О том, что ее братья “в революции”, догадывались многие Лизины знакомые. Репутация братьев придавала Лизе некий ореол, подогревала симпатии к ней. Лизе был приятен этот ореол, отблеск мученичества, но она порою думала, что было б не худо сочетать радикализм с умением существовать безбедно.
Жалея Сергея, тревожась о нем, Лиза, как ни странно, была почему-то убеждена, что он опять отделается кратким арестом. Бог весть отчего, но верила в это, и все тут. Однако почта не приносила успокоительных известий, и Лизу, наверное, покинуло бы убеждение в скором избавлении Сергея… Наверное, она бы помрачнела, но тут… Ах, тут-то как раз и началось!
Блинова увидела Лиза на масленой, в широкий четверг, на вечеринке у курсисток и студентов Горного института. Внешность его не была примечательной. Был он белокур, с молодой бородкой, держался сдержанно, почти замкнуто.
На вечеринке пили дрянное вино, веселились, шумели. Лиза много играла, и, право, с вдохновением, она даже отважилась спеть “Усни, печальный друг”, и получилось недурно.
Блинов вдруг подошел к ней, объявил себя тенором, и предложил петь на два голоса, и действительно стал петь тенором, но при этом страшно фальшивя. Пирующие студенты помирали со смеху, кричали: “Браво, Коля! Браво!” Он ничуть не смущался, пел, и баста, оставив свою сдержанность и напустив комическую важность. Лиза смеялась, с притворным ужасом зажимая уши.
Он провожал Лизу. Они шли об руку, чуть нагнувшись, навстречу полуночной метели, вино гудело в крови, они болтали всякий вздор. А в парадной их будто столкнуло, они целовались долго, влажно, жарко, задыхаясь.
В те дни, когда Дегаев, уже будучи в Петербурге, откладывал свидание с сестрой, Лиза часто встречалась с Блиновым. Он бывал у нее, им было хорошо, но вдруг оба умолкали, растерянно прислушиваясь к подстрекательской тишине пустой квартиры. Блинов начинал торопиться, ссылаясь на какие-то неотложные дела, о которых он, дескать, мог бы сказать ее, Лизиным, братьям, а ей доверить не имеет права. У него и впрямь были “такие дела”, но торопился он и убегал совсем по иной причине. Лиза об этом догадывалась, боялась удерживать и досадовала на него.
3
Дегаев явился не вовремя. Лиза, правда, обрадовалась, но Дегаев приметил на лице ее тень, усмехнулся, пожимая руку студента Горного института.
Блинов тотчас откланялся. Оставшись вдвоем с сестрою, Дегаев не преминул поддразнить Лизу. Он это умел, с мальчишества умел как бы походя ущипнуть, задеть больнехонько. Сестры, брат Володька были ему дороги, он их любил, хоть и обижал зачастую. От других, посторонних, обид не стерпел бы, а себе позволял обижать. Чаще всего доставалось Лизе, и она негодовала на “противного Сержа”… Вот и сейчас, кивнув вслед Блинову, он ехидно вопросил:
– Не второй ли Борис Иванович?
Лиза покраснела и фыркнула…
То была давняя история. Началась она в апрельский день, когда Лиза решилась пойти на Семеновский плац. Лиза была на плацу, в толпе, неподалеку от помоста, вместе с толпою окостенела, услышав грубый скрип колесниц, увидев мерное черное колыхание смертников: привезли… На другом помосте, рядом с виселицей, где молчали, как на парадном обеде, произошло движение: господину Плеве доложили о готовности к исполнению приговора. Пятеро взошли на эшафот, с толпы смыло шапки, грянули военные барабаны. Приговоренные прощались. “Целуйте мя последним целованием”. Кибальчич, Желябов, Перовская, Тимофей Михайлов, Рысаков. Лишь Перовская отстранилась от Рысакова, от несчастного мальчишки, предавшего всех.
Палач повесил Кибальчича, подвел к петле Михайлова, Тимошу Михайлова, молодого губастого парня, рабочего с Невской заставы. Палач надел петлю, вышиб скамейку из-под ног Михайлова. И вдруг барабаны умолкли, как лопнули. А толпу словно ударило палкой под коленами, толпа ахнула: Михайлов упал на помост – петля оборвалась. “Божий знак! – закричали люди. – Божий знак! Миловать!” Он сам поднялся, в саване, в башлыке, со связанными руками, он сам поднялся и шагнул к новой петле. Стоял. Ждал. Сквозь редкую холстину башлыка видел свое последнее солнце. Но уже не такое, не ясное и жестокое, как минуту назад, а будто в багровеющих пульсирующих волдырях. Спохватились барабанщики, били отчаянно громко. Но секунда, другая: “А-а-а!” И Лиза, теряя сознание, тоже закричала: Тимофей Михайлов опять тяжело и грузно упал на помост…
Плохо различала Лиза, как солдаты взвалили на ломовые телеги пять черных гробов, как некий господин поднес ей нашатырю, взял об руку. Потом этот господин, бережно поддерживая барышню, ехал с нею на конке, говорил, что нельзя так нервничать, и еще что-то бессмысленное, пустяковое.
Он проводил ее до дому, она представила его своим спасителем. С того дня он зачастил к Дегаевым. Его звали Борисом Ивановичем Зверевым. Он был приятен, неглуп, Сергею Петровичу посулил достать чертежную работу в какой-то конторе.
Лиза не то чтобы строила на него виды, но Борис Иванович был ее первым серьезным ухажером, и это ей льстило. Она не принимала настороженности Сергея (недавно, мол, из тюрьмы, болезненная подозрительность). Дегаеву действительно не импонировал смазливый блондинчик. Сергей Петрович навел справки у товарищей, хранивших еще “черные списки” Клеточникова, и удостоверился, что Зверев – обыкновеннейший мерзавец из охранного отделения. Объявив об этом сестре, Дегаев отказал Борису Ивановичу от дома: неприлично-де барышне водить знакомство с молодым человеком, который никем ей не представлен. Отказ был шит белыми нитками, но Зверев все понял, исчез с горизонта… И вот спустя столько времени “противный Серж” укусил:
– Не второй ли Борис Иванович?
– О, это уж слишком! – крикнула Лиза.
Она разобиделась до слез. Надо знать меру! В ее обиде крылось еще и раздражение на брата за столь несвоевременное вторжение.
– Ну прости, прости, – ласково сказал Дегаев, обнимая сестру за плечи, – столько не виделись, а ты…
– Не я, а ты… ты, – возбужденно отозвалась Лиза. – Прекрасный он, честный. Нет, это невозможно! Какая нравственная грубость, Сергей! Приходишь и ни за что ни про что…
– Хорошо, Лизок, согласен: прекрасный, честный… Однако в моем положении… – Он развел руками.
Лиза опешила.
– То есть?
– А то, милая… – И он жестом изобразил бегущего человека.
Лиза ахнула.
– Когда ж? Как? Господи, Сережа! Что ж это будет? А мама знает? Господи, господи, ведь они тебя могут…
Дегаев снова обнял сестру, она прижалась к нему, оба испытывали родственную, кровную близость.
Она заспешила в кухоньку, загремела посудой. Дегаев тихо улыбнулся: до чего ж Лизонька похожа на маму. Дегаев подумал, что напрасно тянул со свиданием. Вот пришел, сидит, вот эта гостиная с замоскворецкой мебелью, а справа комната, где они с Белышом жили. Да-а, Белыш, Любинька. Ведь как обернулось: ей он обязан своим спасением. Жаль, пришлось расстаться. Как-то она там, в Белгороде, без него?
Нехотя, без тех подробностей, которые открыл в Харькове Вере Николаевне Фигнер, описал он свой побег. Лиза и не настаивала – тяжело брату вспоминать Одессу.
Они пили чай, говорили о семейных делах. Володе, конечно, грустно отбывать службу в Саратове. Но что поделаешь? Еще, слава богу, Судейкин ограничился угрозой: “Постарайтесь, чтоб правительство забыло про вас!” А Наталья, кажется, оставила свои сценические грезы, думает заняться беллетристикой, переводить “Фауста”. Он, Сергей, доволен, что познакомил ее с Маклецовым, своим приятелем по Кронштадту. Маклецов – натура практическая, умеет приспособиться; Наталья счастлива в замужестве. Правда, эти вечные переезды с места на место. Такая уж у Маклецова служба: в разных обществах по строительству железных дорог. Пусть Лизонька не беспокоится, маме хорошо у них, и если Лиза летом поедет в Малороссию, Наташа и Коля будут только рады. Какое неудобство? Его-то, Сергея, они привечают, лучше желать нечего. Ах и пожил он у них прошлой осенью на хуторе Максимовка! Что за жизнь, честное слово. Пусть Лиза непременно летом отдохнет. Конечно, Харьков или Белгород – это все городское, но, возможно, Маклецов заберется в деревню, близ Лозовой, он, кажется, получит какую-то работу в обществе Лозово-Севастопольской железной дороги.
Потом соскользнули к Лизиному петербургскому житью. Не смей трунить, противный Сережка! У тебя на уме только шахматы да глупые математические формулы. А вот если б ты услышал “Заклинание огня” в концертной транскрипции профессора Брассена… И про студента Николая Александровича Блинова тоже заговорили, о каких-то нелегальных его заботах.
– Ах вот как… – Дегаев ухмыльнулся. – Ну, семейка-то наша, а?
– Да, – ответила Лиза, – он тоже серьезный революционер.
4
В ледовых трещинах ходила жадная вода. На задворках помирали матерые сугробы. В полдень чувствительно грело. Вечерами, однако, было свежо.
Дегаев шел по набережной. Уже темнело, приходилось напрягать зрение, чтобы следить не только за студентом, но еще и за его спутником, долговязым унтер-офицером. Решать надо – брать на себя “голубя” или не брать.
А унтер Ефимушка уже смекнул: “Пока-азывают!” Стало быть, другой, вон тот, позади который, головастый, и почту теперь примет, и деньгу теперь кинет. Пускай! Тот ли, иной ли, хрен с ними. А к “показыванию” ему, Провотворову, не привыкать стать: чуть не месяц, как на смотру, шлендал в Архиерейском переулке. Все-то они, эти революционисты, проверяли его. Осторожные, черти, на своем молоке обжигаются, на нашу воду дуют.
Десять лет, одиннадцатый служил Провотворов в Отдельном корпусе жандармов. Долго тянул лямку в казармах на Надеждинской, храбрость в перестрелке выказал, когда типографов в Саперном переулке брали. А в марте восемьдесят первого, как царя порешили, отослали его в Петропавловскую крепость – самых, значит, отчаянных злодеев стеречь. Ничего, справно стерег. Вон они, шевроны, один золотой, другой серебряный: начальством отмечен беспорочный унтер Ефим Провотворов. И такого навидался, такого наслышался, хоть век сказывай, не перескажешь. Но – молчок, язык проглоти по долгу присяги.
Крепость-то лишь прикидывалась: вот, дескать, одели меня камнем, затворили засовами, решетками, ни слуху ни духу. А послужишь, поймешь: так-то оно так, да не совсем. Трава скрозь камень проклюнется, человек и железо источит.
Это ведь случай случайный, что его, Ефима, в Алексеевский равелин не определили. Он все время в Трубецком бастионе. А в равелине-то окажись, состоять бы ему теперича вместе с равелинской командой под военным судом. Там этот арестант, из секретных, который под нумером пятым значился, ведь он что же? Годы изжил, в оковах, на цепи, говорят, гнил, ан слово за слово обкатал-таки команду. Слушались его, ровно господина смотрителя. Отчего ж? Оттого, говорят, великая в нем сила правды заключалась. Да и глянет – аж душа замрет, и баста, попробуй не подчинись. Верняком бы сбег, когда б не открылся заговор. Ребята теперь под караулом, осудят соколиков: кому каторга, кому дисциплинарка, валяй, брат, по всем по четырем. Сам же арестант кончился, кажись, еще до Рождества. Вот тебе и “сила правды”… Какая в ей сила? Хреновина одна. А вот деньжищ от секретного арестанта в команду прорва перепала, вот те и сила правды…
Темнело. Звонче делался шаг. И не слышалась уж капель, только где-то, не разберешь где, осторожно потрескивало. Линии Васильевского острова упирались в набережную, как темные каньоны. Оттуда несло застоявшимся, нечистым. Чудилось, Нева вздувается подо льдом, ширит разводья. Блики фонарей лежали на реке то недвижно, мертво, а то вдруг оживали, шевелились.
В сущности, кой черт смотреть “голубя”? Дегаев не колебался: Провотворов был бесценной находкой. Такой же, как некогда два солдата из команды Алексеевского равелина, что передавали записки “секретного арестанта нумер пятый”, записки Нечаева. Дегаев помнил, как исполнительный комитет “Народной воли”, как Желябов и Перовская, порицая Нечаева за давнее, за мистификации, восторгались несокрушимостью его духа. Дегаев помнил, как замышлялся побег Нечаева и как Денис Волошин пытался осуществить безумный побег. Волошин, смельчак в пальто офицерского покроя, со щегольской тросточкой и в котелке, сдвинутом на затылок. Пробрался в крепость, чуть не в равелин проник, но был застигнут, его преследовали, и он в темноте угодил в невскую прорубь… Нечаев не дождался воли, умер… Все это было, все это сплыло… А долговязый – находка бесценная. Особенно теперь! Вера Николаевна в бастионе. Кой черт смотреть “голубя”, пора бы чайком да водочкой побаловать… А надо отдать должное Блинову, его друзьям: ловко завязали сношения с Трубецким бастионом. Впрочем, главная тут заслуга Златопольского.
К Златопольскому испытывал Дегаев уважение и неприязнь. Последнее, пожалуй, в большей степени, нежели первое. Познакомились они два года назад здесь, в Петербурге. Златопольский был введен в исполнительный комитет и этим, сам того не подозревая, больно задел Сергея Петровича.
О членстве в комитете Дегаев мечтал неотступно. Ему казалось, что он заслужил, достоин “высокого партийного положения”. В обществе – и среди сочувствующих, и среди враждебных “Народной воле” – исполнительный комитет, неуловимый и карающий, грозный и вездесущий, почитался чуть ли не подпольным правительством России. Дегаев не без труда скрывал свое нетерпеливое, жаркое желание. Он не раз сетовал на невнимание к себе, но Желябов и Перовская оставались глухи к его намекам. Не пугались ли они огонька честолюбия, которое нет-нет да и вихрилось в душе отставного штабс-капитана?.. А этот Златопольский, едва появившись на питерском горизонте, заполучил членство в комитете. Не откажешь ему в сметке, в решительности не откажешь, а все же мог бы послужить и в “нижних чинах”.
Дважды Дегаев имел с ним дело по семейным, так сказать, обстоятельствам. К нему обращался Сергей Петрович, выясняя, кто такой есть Лизин ухажер, увязавшийся за сестрою на Семеновском плацу. Златопольского поставил Сергей Петрович в известность о “подходах” Судейкина, и это он, Златопольский, санкционировал Володину контршпионскую деятельность, из которой, увы, вышел пшик. Теперь Дегаев как бы даже и не вспоминал, что сам настаивал на братниной связи с инспектором; теперь Дегаеву хотелось думать, что всему виною был именно этот ушастый одессит, и Сергей Петрович так и думал. Однако прошлогодний арест Златопольского искренне опечалил Дегаева. Но не душевно, а скорее из общих, практических соображений. И при этом Дегаев запоздало укорил себя в неприязни к товарищу. Впрочем, раскаяние это объяснялось, пожалуй, тем, что Златопольский сошел со сцены.
Мечтая о членстве в комитете в самую сочную пору его могущества и деятельности, Дегаев с помощью Фигнер стал членом, в общем-то, уже и не существующего комитета. Предстояло воссоздавать, предстояло возрождать. И Дегаев заявлял молодым: надо воссоздавать, надо возрождать. А молодых, рвущихся в бой, оказалось, к удивлению, не так уж и мало…
Дегаев прибавил шагу. Обгоняя Блинова, зажег папиросу, подал условный знак, и Блинов шепнул унтеру: следуй за этим господином во фроловский трактир.
5
Унтер был прав, рассуждая о траве и камне. Склепы, созданные для медленного умерщвления, для тихих и буйных помешательств, для самоубийств, неукоснительно выполняли свое предназначение. Но трава, пусть блеклая, чахлая, сиротская, осиливала железо и камень. И человек противился безмолвию, которое сравнивал с гробовым, и одиночеству, для которого не умел найти сравнения.
Застенок, этап, каторга так прочно и кряжисто втиснулись в наше государственное бытие, что и пословица, будь она проклята, народилась: от тюрьмы не зарекайся. Быть может, никакие другие заключенные во всем свете не выказали столько изобретательности, столько изощренности, сколько выказали русские.
Тут было и старое, как сама тюрьма, перестукивание, несложная азбука. И записочки, нацарапанные обгорелой спичкой или оловянной пуговицей от кальсон. И отчеркнутые ногтем буквочки в строках какого-нибудь “душеспасительного чтения”. И узелки на нитках из основы холщовых портянок. И условные зарубки на рукоятке деревянной лопаты, которой узники перебрасывали с места на место песок в тюремном дворике. Ни карцеры, ни лишения прогулок, ни цепи не могли удержать заключенных от общения друг с другом. Как голод, как жажда – либо утолишь, либо околеешь.
Но высшим, но самым желанным было общение с волей, с теми, кто дышал и ходил, кто еще находился “там”. Требовался “голубь”, почтальон-посредник, некий субъект, приставленный, чтоб держать тебя взаперти, тут Ефимушка требовался.
Ох как нужен был “голубь”! Златопольский ничего бы, кажется, не пожалел. Он слушал шаги, голоса солдат, сменявшихся в карауле. Он знал нечаевскую историю, знал, что и в Трубецком бастионе можно найти “голубя”. Посредник чудился в одном, в другом, в третьем. Но кто же? Кто? Он искал, приглядывался, принюхивался, взывая к своему инстинкту опытного конспиратора.
На шпиле собора парил архангел с трубою. Когда вострубит архангел? Что-то происходит на воле? Хоть бы клочок газеты, хоть бы обрывок. О, если б он верил в грозного иудейского бога! Он верил в случай…
Был июль. Как некогда Нечаев, слышал Златопольский свистки пароходов на Неве, пронзительные бодрые свистки, зов плещущего мира.
Вечером вошел в камеру унтер с двумя шевронами за беспорочную службу, малый лет тридцати, долговязый, круглорожий. Этих назначали для слежки и за арестантами, и за караулом. Этих пускали в камеры важных арестантов на суточное дежурство. Эти почитались отборными из отборных. Они обязаны молчать как стены. Они обязаны ходить как заведенные. Они воплощают Неумолимость.
Унтер молча ходил по камере. Златопольский тоже ходил и тоже молчал. Обоим было душно. Унтер расстегнул крючочек мундирного воротника. Златопольский сбросил халат. Обоим хотелось пить.
Они ходили из угла в угол.
На Неве посвистывали вечерние пароходы.
– Садитесь, пожалуйста…
Любезный хозяин? Глупо, смешно. Унтер не сел и не ответил, но что-то намекающее в лице его почудилось Златопольскому, и арестант добавил:
– Жарко, можно и отдохнуть.
Унтер выразительно покосился на дверь. Шерохнул “глазок”: подглядывали из коридора… Они опять ходили молча. И вдруг Златопольский, как по наитию, назвал свое имя. Унтер не обязан был знать его имени, унтеру это запрещалось, он должен был знать его номер, соответствующий номеру каземата: шестьдесят второй. Но унтер кивнул, и кивок означал: “Запомню!”
– Вы давно в службе? – тихонько спросил арестант.
– Могут услышать, – суфлерски ответил стражник.
И это “могут услышать” решило все. Златопольский рывком отвернул кран, вода бурно засипела. Златопольский опорожнил ковшик и еще один, без передышки… Потом арестант и стражник обменялись несколькими торопливыми словами. Суть была не в словах. Суть была в том, что они были произнесены.
Господи, как он пережил двое суток ожидания? И вот опять в камере номер шестьдесят два дежурил унтер-офицер, награжденный шевронами за беспорочную службу.
– Мартыновский, Зунделевич, Тригони, Кобылянский, – шептал Ефимушка.
Он словно бы рекомендации показывал. Народовольцы, названные им, содержались на каторжном положении здесь же, в Трубецком бастионе Санкт-Петербургской крепости.
Всем им услуживал Ефимушка Провотворов. Однако конспиративных адресов уже не было, а Златопольский, “свежий”, имел такие явки, которые, как он надеялся, пока не провалились. Следовало торопиться. И не следовало торопиться. Он не смел рисковать. Он должен был рискнуть.
Еще одно дежурство – и прямой, в упор, вопрос: “Не отнесешь ли записку в город?” Унтер трудно, как мужик на торгах, молчал. Потом ухнул: “Две тыщи!”
Не сумма изумила, все равно таких деньжищ не было, изумила хватка Ефимушки. Не играет в сочувствие “несчастным”, а ребром: две тыщи – и шабаш. У Нечаева в равелине солдаты действовали “по совести”: это уж после Нечаев просил товарищей ссужать их деньгами, да и то небогато, чтоб не запили. А этот – малый не промах: плати, и баста.
Златопольский не торговался. Была не была, лишь бы начать. Другое неотступно мучило: а не ставит ли дошлый унтер и на бога и на черта, не переметный ли, куда как прыток, а ведь знает, каково придется, коли накроют.
Ничего еще, в сущности, не произошло, но Златопольскому уж в камере просторнее. Слабенько, но будто дунул ветер воли. Нет, не грезил о побеге, в голове роились планы постоянных сношений “мира мертвых с миром живых”. В подпольных изданиях, в заграничных изданиях виделась рубрика: “Письма из Петропавловской крепости”. Пусть узнают люди о бастионном режиме, пусть “Письма” послужат революции, пусть стучат в сердца спящих, вызывая гнев и сострадание, ибо сострадание и гнев ведут за руку Действие.
Все это хорошо, стройно уложилось в голове Златопольского, потому что он уж несколько переменился в тюремных глухих стенах. Он верил, что сострадание непременно предполагает действие. Он не хотел принять в расчет разрыв, дистанцию, какие сохраняются между состраданием и опасным действием у людей, поглощенных хлопотами повседневности. Но разве из этого следовало: не стучите, ибо не отверзется?
Он уже не перекладывал с места на место песок бессмыслицы, как перекладывал гимнастики ради речной песок в тюремном дворе. Простеньким шифром составил краткую записку, адресовал легальному, студенту Военно-медицинской академии, – потянул первое звенышко длинной путаной цепочки.
Полетел Ефимушка на Выборгскую, отыскал студента, такой оказался мозглячок. Передал, исполнил в точности. Правда, арестант нумер шестьдесят два не сулил тотчас тыщи, но вроде бы и намекнул. Оно понятно, заломил-таки Ефимушка.
Однако надо ведь и в его положение вникнуть. Не шутки шутит – или голова в кустах, или… У него свое на мушке. Аннушка в полюбовницах, ах, малина-баба, так это они сладко сладились, пора и под венец. Да вот Аннушка медлит. Сперва уж так-то, мой ясный, расстарайся, чтоб нам, говорит, собственную торговлишку завести, надоело, говорит, мне мадамочек обшивать. А расстарается Ефимушка, тогда уж мундир долой, из крепости долой, его высокоблагородию смотрителю Леснику под козырек, прощевайте, господин майор, был у вас, дескать, унтер Провотворов верный слуга, а теперича кум королю, сват министру. И заживут они с Аннушкой, совет да любовь. Вот у него какой прицел.
Преступники государственные хоть и не злодеи вовсе, как начальство толкует, но распробестии, а только и он, Ефим Провотворов, тоже не лыком шит. Понимает: и на старуху бывает проруха, не ровен час обремизишься, во сто глаз и за унтерами присмотр. Ну, на такой-то случай… Ха-ха! Прозапасный ход имеется, не лыком шит Ефимушка, не прост. Ему бы поскорее расстараться, как Аннушка-умница наставляет, да и концы в воду. А уж лавочку в низке они приглядели, хороша лавочка, в Архиерейском переулке, аккурат там, где Аннушка квартирует. Ну заживут, эх, заживут, совет да любовь.
Поначалу его все испытывали, в Архиерейском переулке рассматривали. Да и он, не будь плох, Аннушку подпускал: последи-ка, куда вон тот господин стопы направил. И две-три записочки Ефимушка припрятал, не отдал. Тоже, стало быть, если заминка, нате, мол, вашескородь, я это, богом клянусь, для пользы службы. А двумя тысячами, правда, лишь по губам мазнули. Ладно… Полегоньку съехал на пятьсот, на том и уперся всеми копытами. Получал в рассрочку четвертными, получал и красненькими – прикапливал.
Обе стороны держались начеку. Но “голубиная почта” действовала, в общем-то, исправно, словно бы городская, однако, в отличие от городской, минуя “черный кабинет”, перлюстрацию минуя. И газетки объявились в Трубецком, и вечное перо доставил Ефимушка, и писчую бумагу.
Снега обкладывали крепость. Долгие, то вьюжные, то звездные ночи влеклись над крепостью. Стужа пронизывала камень бастионов. Дымили печи, отзванивали куранты. И в высокой пасмурности коченел на шпиле архангел с трубою.
Не было в “мире живых” решительной, сердитой Веры Топни Ножкой, неутомимой Веры Фигнер. Тихомиров – это авторитет, но не сравнишь его с Верой. Как допустили? Как не уберегли?.. Снег, снег… Молчит архангел. Вере грозит смертная казнь. Обмер Златопольский, когда Провотворов шепотом: “Здесь, в бастионе-с”. В тот день он ни о чем не говорил с Ефимушкой.
Потом он послал ей привет, несколько ласковых слов. Она отозвалась “проверочной” запиской – два-три наводящих вопроса. Он ответил. И получил шифром: Дегаев бежал из тюрьмы, еще не все потеряно.
Дегаев, Сергей Петрович Дегаев, отставной штабс-капитан артиллерии. Он, Златопольский, ввел его в кружок кронштадтцев. “Вываренной тряпкой” ругнул Дегаева кто-то из товарищей. Гм, “вываренная тряпка…”. Исполнителен, это да, только вряд ли дождешься от него инициативы, энергии. Но, может быть, ошибка? Бывает и так. Вере лучше знать… И все ж он не разделяет Вериного оптимизма. Однако если Дегаев бежал, сумел бежать, значит, есть в нем искра. Дегаев бежал, а Вера здесь, рядом, на Вере синий халат, желтые кожаные коты, она в том одеянии, в котором ходят “состоящие под следствием”…
Фигнер привезли в бастион на другой день после “смотрин” в кабинете генерала Оржевского. Генерал еще изящно рысил по гостиным, еще рассказывал, пощелкивая пальцами, как она срезала графа Дмитрия Андреевича, а глухая карета уже доставила “ужасную женщину” в крепость, и уже гремели шаги и железо, и уже надели на нее мерзкую, травленную по́том дерюгу. Генерал-лейтенант еще скакал по гостиным, его сиятельство граф Дмитрий Андреевич, затворившись дома, услаждался Горацием, а директор департамента полиции уже фиолетово, тонко и строго, без завитушек, выставил свое имя под секретным документом. В том документе, “совершенно доверительном”, предписывалось коменданту Санкт-Петербургской крепости иметь строгое наблюдение за наиважнейшей государственной преступницей.
В каземате была она с середины февраля восемьдесят третьего года. И с февральских тех дней Златопольским владела мысль о побеге: ее, Верином, побеге из крепости. Он сознавал не трудность, нет, почти невозможность, почти безумие своих проектов. Он сознавал, что те, кому он пишет, слишком неопытны, слишком малосильны. Но писал. Писал намеками…
Нынче, апрельским стылым вечером, укрывшись в задней комнате черного трактира близ Андреевского рынка, Ефимушка передал одну из тех записок господину, которого прежде знать не знал.
Господин был недомерок, тщедушный, с большой головою, с угрюмым взглядом темных глаз. Ефимушке он не понравился. Впрочем, что ж? Не детей крестить… Не охнув, выложил господин полсотенки. Видать, тороватей того, прежнего, из студентов. Выложил, следующее свидание назначил. И вежливо так отбыл-с.
6
Дом пятьдесят шесть дробь два на углу Большого проспекта и Гагаринской был на замете у департамента полиции – “по причине проживания лиц, скомпрометированных в политическом отношении”. Да сами посудите: сперва библиотека принадлежала писателю Павлу Засодимскому; потом писателю Александру Эртелю; там же одно время снимал комнату и беллетрист Николай Златовратский. Хоть легальные, хоть при паспортах, но за версту неблагонамеренностью несет. А к ним кто? Универсанты, технологи, бестужевки, разных журналов сотрудники. С недавнего ж времени библиотека досталась братьям Карауловым, Николаю и Василию. Жена Николая, слушательница врачебных курсов, хозяйство вела, прислуги Карауловы не держали, скромно жили. Однако подполковник Судейкин прилепил филеров к угловому дому на Большом и Гагаринском, и вот уж, помимо прочих, замелькал в филерских суточных донесениях некий господин в английском суконном пальто с воротником-шалью, в круглой енотовой шапке с синим верхом. Господин этот – сыщики меж собою нарекли его Головастиком – приезжал на извозчике, держался спокойно, никогда не юлил проходным двором… Ага, вот он, собственной персоной. Ишь, прет, не оглядывается, ровно барин какой.
Из трактира близ Андреевского рынка Дегаев поехал на Петербургскую сторону. Был уже поздний вечер, ясный, в молодых звездах.
На Гагаринской, отпустив извозчика, Дегаев, не озираясь, не осторожничая, вошел в парадную, взбежал по лестнице, позвонил условным звонком.
В читальне он не показывался, а показывался лишь на тесных сходках в квартире хозяев библиотеки братьев Карауловых. Отворил ему нынче старший, Николай Андреевич, человек плечистый, гулкоголосый.
Ах, мирная картина! Круг от лампы, блики самовара, белое запястье женщины, опустившей стакан в полоскательницу, а в серебряной сахарнице – твердая голубизна колотого сахара. И наплыв папиросного дыма. Мирная картина… “О, в самом бы деле”, – с внезапным и грустным сожалением подумалось Дегаеву.
Он знал собравшихся. Филолога и поэта Якубовича: “Так без жизни проносится жизнь вся моя: поглощаемый мутною тиною, я борюсь день и ночь, сам себе – и судья, и тюрьма, и палач с гильотиною…” Ну да, да, а молодость свое берет: румянец-то ровный, юношеский, неподвластный горькой думе… И милейший Стась Куницкий тут же, огненным взором брызжет, воплощенная пылкость этот Стась Куницкий, в жилах его горячая, как пунш, смесь польской и грузинской крови. Он Дегаеву вроде бы крестником: Стасю передал Сергей Петрович нелегальный кружок в Институте инженеров путей сообщения… Кто еще? Ага, в креслах, поодаль, как будто в гоголевской шинели с поднятым воротом, неулыбчивый Флеров. Крупный, породистый нос, выпуклая, будто вызывающе развернутая грудь. “Кто знает, господа, не перейдет ли в скором времени дело революции в руки рабочих?” Это он сказал, неулыбчивый Флеров. А вот и Блинов. Блинов демократически пьет чай – с блюдечка пьет, вытянув губы. Блинов – будущий горный инженер (ежели не арестуют) и будущий зять (ежели Лизонька не отвергнет, что, впрочем, весьма сомнительно-с).
Дегаев принял от хозяйки стакан чаю, но еще не поставил на стол, как почувствовал пристальный взгляд и поднял голову.
В стакане тонко и дробно зазвенела ложечка; Сергею Петровичу почудилось, что где-то там, на улице, проехала тяжелая фура, и вот здесь, в комнате, этот дробный, тонкий звон. Он поставил стакан.
Ювачев? Дегаев смотрел на отрочески тонкого загорелого офицера. Неужели Ювачев? Неужели один из тех офицеров-южан, с которыми он, Дегаев, познакомился в Одессе и в Николаеве? Значит, уцелел?
Ювачев, сын мелкого придворного служащего, был похож на романтичных моряков из увлекательных книжек капитана Марриэта: хорош собою, четкий очерк рта, бронзовость, которой одаривают солнце и ветер морей.
Ювачев стоял у зашторенного окна, спрятав руки за спину.
– Последний из могикан? – печально улыбнулся Дегаев.
– Вам уже известно? – быстро и неприязненно спросил прапорщик.
– Следовало ожидать, – вздохнул Дегаев. Прибавил значительно: – Увы, следовало. Да-с.
– Отчего же следовало? – Ювачев голосом подчеркнул это утвердительное “следовало”.
Дегаев пожал плечами, словно удивляясь недогадливости молодого человека. И объяснил:
– Предательство. Я уж говорил: предательство. Я первый, верно, об этом сказал. Еще когда у Софьи Григорьевны… Ну да вы об этом знаете, надеюсь.
Дегаев взял чай, негромко заговорил с публикой.
Ювачев не слушал. Достал папиросы и спички, но не закурил. Он задумался, на душе у него было смутно. Повернувшись, он лбом раздвинул шторы, приник к черному слепому окну.
Недавно в Одессе Ювачев впервые увидел Дегаева, представителя центра. Да и товарищи его, офицеры флотские и армейские, тоже, кажется, впервые встретились с этим невзрачным, хмурым Сергеем Петровичем.
Тогда, в Одессе, Дегаев внушал членам Военной организации необходимость возобновить террористические действия. Террор замер вместе с эхом бомб на Екатерининском канале, бомб первого марта восемьдесят первого года. Террор словно бы иссяк вместе с казнью императора Александра Второго и казнью террористов на Семеновском плацу. Возобновить террористические акты, по мысли Дегаева (стало быть, и центра), значило возвестить, что “Народная воля” существует, действует.
Тогда, в Одессе, как казалось Ювачеву, Сергей Петрович был весьма категоричен и нецеремонен. Он беседовал с каждым офицером отдельно. Брал об руку, уводил в уголок. В этом “уводе” чудилось Ювачеву что-то паучье. И он, штурман Ювачев, довольно резко возразил Дегаеву: понуждать к террору неуместно, намерение метать бомбы должно исходить, так сказать, изнутри, а не под чарами чужого красноречия.
Дегаев отвечал небрежным жестом. А на упрямство Ювачева: “Серьезное требует серьезной подготовки” – и вовсе отмахнулся: “Пустое! Если и сорвется на полдороге, и то уж дело, хорошо, ибо жандармы узнают, что опять надвигается гроза”. Ювачев вспыхнул: “Я, как офицер, как член военной организации, у которой целью – подготовка войска, пропаганда, я, сударь, не могу и не хочу в какие-то четверть часа принять определенные обязательства!” Дегаев рассердился и принялся за другого – опять поволок в угол… А Ювачеву подумалось: “Ну, брат, эка ты легко распоряжаешься судьбами! Раньше-то я слыхал про пушечное мясо, а нынче вроде бы слышу – про жандармское…”
Приникнув лбом к черному слепому окну, прапорщик чувствовал и смущение, и недовольство самим собою. И какого дьявола он сейчас сунулся со своими намеками: почему, мол, следовало ожидать разгрома военной организации? Сунулся, и пожалуйте-с – щелчок по носу, как щенку: “Я говорил: предательство”. И ведь верно. Он говорил. Он первый говорил о предательстве. Софье Григорьевне Рубинштейн напрямик о том объявил. Верно. У нее скрывался после побега из тюрьмы, ей и сказал про предательство. Именно Софье Григорьевне. И это тоже понятно: вот уж кто достоин безусловного доверия, так это она, Софья Григорьевна, легальная жительница Одессы и покровительница всех нелегальных, родная сестра знаменитых музыкантов и сама музыкантша. Говорят, у нее частенько находил кров Желябов. И право, неудивительно, что Дегаев, весь еще в огне, примчался к Софье Григорьевне – отдышаться, сменить одежду, одолжить денег. И действительно, тогда же сказал ей, что из жандармских допросов вынес убеждение: предатель в центре партии. Он, Дегаев, сказал ей первой, и от нее услышали другие. А Дегаев, взяв у Софьи Григорьевны адреса, приехал к ним, в Николаев. И действовал энергически. И это после тюрьмы, после страшного напряжения. Но едва он уехал, к госпоже Рубинштейн вломилась полиция: обыск, все вверх тормашками. И опять-таки ничего удивительного: где ж прежде всего искать беглеца? Ничего удивительного, штурман. На месте полиции вы поступили бы точно так же. Однако позвольте: эти аресты в Николаеве – по следам Дегаева? Стало быть, сами и виноваты: плохо конспирировали… Ну а этот слух? В Одессе, за ужином у какого-то интенданта жандармский полковник, захмелев, хвастливо намекал о крупном предательстве. Впрочем, нельзя не признать, что жандармы – источник мутный, отравленный. Есть некий полицейский прием: темные слухи пускать в публику. Так-то оно так, а все ж одесские товарищи осторожности ради известили харьковских. Харьковчанам виднее, там и Вера Николаевна обреталась, а Фигнер ведь давно и хорошо знала Дегаева. Ну-с, харьковские и ответили: стыдно, дескать, клеветать.
Но сейчас, увидев Дегаева, это серое, нездоровое лицо, услышав этот голос, напомнивший ему о “жандармском мясе”, сейчас штурман Ювачев будто б помимо воли поддался прежним подозрениям. И получил щелчок по носу. И поделом, поделом!
Ювачеву было нехорошо, обидно. Он чувствовал себя и правым и виноватым, он чувствовал себя скверно. Папироса смялась, табак крошился. Прапорщик взял другую, чиркнул спичкой. На черном окне обозначился и легонько вытянулся огонек. “Как якорный, когда видишь судно с берега”, – рассеянно определил штурман.
А Дегаев, пригубливая стакан крепкого чая, говорил:
– Теперь, господа, надо практически. Златопольский прав: ее надо спасти. Разумеется, сил и средств у нас недостача. Но спасти надо. Далее вот что… Не знаю, осведомлены, нет ли… Хочу вам напомнить. Вы знаете эту историю с Нечаевым? Я знаю подробно. Нечаев был готов совершенно. Но мы шли к первому марта. На оба предприятия нас не могло хватить. Мы сделали Нечаеву прямой вопрос: он или центральный акт? Он или казнь царя? И Нечаев ответил, как подобает революционеру: просил отложить свой побег до совершения центрального акта. Одну минуту, господа! Для меня, как и для вас, Вера Николаевна – это… это… Ну да вы понимаете. Тут нет двух мнений. Однако могу поклясться, что на вопрос, подобный тому, какой был задан Нечаеву, Вера Николаевна…
– Мы не готовим! – заволновался Куницкий. – Мы ведь и не помышляем о центральном акте! Не так ли, господа?
Сергей Петрович, ощутив как толчок вопрошающие взгляды, медленно усмехнулся:
– Согласен, Стась. Ты лишь не прибавил: “Пока что”. Пока не думаем, пока не готовим. А разве мы забыли, что террор… Полагаю, господа, не забыли. – Он сунул руку в карман сюртука, выхватил печатные листки, сложенные вдвое. – Этим еще в Михайловской артиллерийской академии запасся. Вот, – он потряс листками, – вот, инструкция по изготовлению динамита. – Он внезапно заторопился, точно его подстегнули. – Но это не всё, господа. Не мне убеждать вас в значении пропаганды. И вот это еще. – Он показал им книжку в ветхом переплете: “Руководство для типографщиков”. И снова усмехнулся: – Издано товариществом “Общественная польза”!
Ни на одной здешней сходке не заикался Дегаев о терроре. Никогда не касался “техники”: динамитной мастерской, печатни. Должно быть, приглядывался. Должно быть, взвешивал. Должно быть, примеривался. Умолкнув, откинувшись на спинку стула, он чувствовал необыкновенное удовлетворение. Он, член исполнительного комитета, заменяет весь исполнительный комитет. “Вываренная тряпка”? Они узнают эту “вываренную тряпку”… Будут бомбы. Будет печатный станок.
Сказанное Дегаевым не прозвучало неожиданностью. Ничего нового. Тут было старое. Тут была “Народная воля”. Разбитая, повешенная, замурованная. Каждый думал о возрождении, каждый думал о продолжении. Была та особенная минута, когда веришь: началось. Незримый, но явственный переход.
Заговорили разом, перебивчиво. Ювачев бросился к столу, Флеров выдвинулся из мрака. Говорили о Фигнер, о провале последней динамитной мастерской, о запасах шрифта в типографии Академии наук, о студенческом кружке… Дегаев вглядывался в лица. Где-то, в тени его мыслей, опять мелькнула грусть по мирным чаепитиям.
Прощаясь, Дегаев перешепнулся с Флеровым. Николай Михалыч занимался с московскими рабочими, а Златопольский в нынешней записке советует отыскать в Москве некоего Сизова. Не знает ли Николай Михалыч этого самого Сизова?.. Нет, он, Флеров, не помнит такого.
Прощаясь, Дегаев сказал Блинову, что послезавтра навестит Лизу. Не будет ли и Блинов на Песках? Будет? Ну и отлично.
Дегаев пожал руку Ювачеву. Прапорщик пробормотал: “Извините…” Дегаев улыбнулся: “Что ж, я вас хорошо понимаю. Держитесь осторожно в Петербурге, очень осторожно”.
7
Свечи горели звездчато, на мгновение будто жмурились. Тогда, тоже на мгновение, мерк огромный иконостас. Мрамор гробниц, белый как смерть, давил усопших самодержцев.
В Петропавловском соборе служили вечерню. Служба была будничная, нелюдная, священник вершил требу спустя рукава. Блинов томился. Он поглядывал на обстриженные затылки солдат, на прямую спину капитана Домашнева – начальника крепостных жандармов, на рыжеватого блондина в армейской шинели – майора Лесника, смотрителя тюрьмы.
Собор наводил на Блинова тоску. Его преследовал запах тления. Романовско-голштинско-готторпский погост, вот что такое этот собор… Без церкви на холме, без церкви у дороги русский пейзаж – сирота. Зодчие в опорках чутьем угадывали, где срубить храм. А этот? Знатоки находят пропорции, грозную прелесть, но Блинов чует: смердят гробницы. Кто-то ему говорил, что сторож за мелкую мзду пускает гимназистов; перед экзаменом бегут гимназисты, посвященные в великую тайну, бегут, чтобы одним глазом, в какую-то щелку глянуть на императора Павла; веревка повешенного приносит счастье, вид удушенного тоже. А любопытно было бы, а? Да нет, врут, наверное. Чего там увидишь, даже если щелочка есть? Император Павел Первый – табакеркой в висок да шарф на шею. Трагедия или фарс? Что ты знаешь об этом курносом? Только то, что он курнос. Матушку ненавидел, ать-два, прусский шаг, сидел в Гатчине. Нынешний тоже сидит в Гатчине. Здесь их закапывают. А у сторожа губа не дура: служащий во храме от храма и кормится… Служащий в тюрьме от тюрьмы и кормится, у Ефимушки губа не дура. Рядом тюрьма, совсем рядом, “караулы его величества стоят спокойно”. Ефимушка не любит встречаться во храме. “Неспособно, – говорит, – боязно”. И точно: вот эти солдаты, вот эти жандармы, и присяжные, отставные гвардейцы, и старик с крепкой шеей, и майор. Неспособно. Ничего не попишешь, срочная “депеша”. Дегаев спешит успокоить Веру Николаевну, успокоить Златопольского. Дегаев преображается, когда говорит: “Наша Вера…” Вот оно, старое товарищество… Ну, поп, будет кадить.
Отошла вечерня. Шаркая, подавался народ к выходу. Солдаты, прихожане из ближних с крепостью улиц. И Ефимушка-унтер выплыл, не глядя на Блинова, но близенько. Неприметно рукой об руку задел, принял депешу и поплыл далее в медленной толпе.
Гаснут свечи, сперва ослопные, большие, меркнет иконостас, жухнут каменья окладов, только вот тот, в рубинах, кровавым мраком дотлевает, и скоро уж, инвалидно постукивая, сойдутся поболтать погребенные самодержцы. А нынешний-то сидит в Гатчине.
Иоанновские ворота обдавали гулкой стынью. У Блинова холодела спина. На выходе из крепости, в Иоанновских воротах, он проникался колдовским гнетом русской Бастилии и убыстрял шаг, топорща лопатки, убирая руки в карманы.
Стражники втихомолку материли прихожан-богомольцев. Чего тянутся, черти собачьи? По четыре бы, в колонну – марш-марш, без задержки. Не-ет, вольные, вишь… Вот ужо крикнут тебе команду, тогда навались плечом, брюхом навались, скри-и-ип, затворяй Иоанновские до утречка. И в будку. “Караулы его величества стоят спокойно”.
Блинов хватил воздух всей грудью. Как вынырнул. А вокруг тьма, дальние огни, и справа, неподалеку – ход Невы, широкий, темный. Блинову подумалось о Времени. Неотчетливо, смутно подумалось, вот так, как слышалась Нева, и сразу же мысль скользнула к иному, “маленькому” времени. Он шел во тьму, к огням, быстро шел не только оттого, что торопился на Пески, но и потому, что крепость, как с костылем, гналась за ним длинными тенями, кислой вонью.
А на песках, у Лизы, была Яхненко.
Лиза ей обрадовалась. Ничего петербургского – малороссийская вишня эта Наталья Яхненко. Флегматична немного, но так и пышет здоровьем. Наташа не говорила: “Я страстно отдаюсь искусству”, – и не засиживалась в “Венской” кофейне; хору Воронежского подворья, что на Васильевском острове, предпочитала “Гей, не дивуйте, добрii люди…”.
С Дегаевой держалась она дружелюбно, но сердечных отношений у них не складывалось, а Лизе хотелось нравиться Яхненко, и эта Натальина сдержанность беспокоила, даже злила ее. У Лизы были товарки, а она ведь так нуждалась в интимной подруге после того, как познакомилась с Блиновым.
Наконец-то Наташа на Песках! Впрочем, Лиза подозревала, что причиною тому последняя книжка “Отечественных записок”. В читальне уже составилась очередь. Наташа не поспела, замешкалась, ждать ей не дождаться. А Лиза возьми да скажи: есть, мол, только приходи. А книжки-то и нет у нее. Сболтнула, с языка сорвалось. Лизе и весело и неловко – попалась.
Нет, Наташе вовсе не по душе ни Цезарь, ни Дьяконова. И пусть Лиза их не защищает! Разве так можно? Антон Григорьевич остался недоволен. Да и как же? Соло трудные, спору нет, но разве одной, пусть отличной выучкой возьмешь? Если б Лиза послушала, как певали у Софьи Григорьевны… А Цезарь и Дьяконова, конечно, успешливые консерваторки, однако у Софьи Григорьевны…
Имя это Лиза уже слышала. Слышала здесь, в этой комнате, где у них гостиная. (Над фортепьяно пыльная гипсовая маска Бетховена, напротив, на другой стене, дагерротипный портрет покойного статского советника Дегаева; в сем vis-a-vis домашние не обнаруживали ничего комического.) Имя Софьи Григорьевны произнес здесь однажды Андрей Иванович. Да, да, Андрей Иванович Желябов. Он сидел в потертом дедовом кресле. Он был одет элегантно. Ему, верно, все было бы впору: и гвардейский мундир, и купеческий кафтан, и мужицкая рубаха распояскою. В тот вечер он был трогательно задумчив. С ним пришла неизменная его спутница. В этой женщине, похожей на девочку-подростка, Лиза не находила ничего примечательного: одутловатые бледные щеки, высокий, не женский лоб. Лиза недоумевала: какая неподходящая пара. Они приходили, в сущности, к Сергею. Сергей держался с ними почтительно: скрывая почтительность, делался шумен, развязен. Лиза догадывалась: гости – крупные революционеры, может, члены исполнительного комитета. (Их подлинные фамилии узнала она, когда в здании окружного суда на Шпалерной шел процесс первомартовцев. В последний раз она видела Желябова и Перовскую на Семеновском плацу.) Андрей Иванович, вот кто восторгался госпожою Рубинштейн. Лиза тогда играла Шопена. Желябов вежливо похваливал, потом, оживившись, заговорил о Софье Григорьевне…
– Да, они дружили, – молвила Яхненко. – Андрей Иванович часто бывал у вас?
Знакомство с Желябовым давало Лизе превосходство, чувство причастности к чему-то значительному и необыкновенному.
– Ты… ты тоже его знала? – ревниво спросила Лиза.
У Яхненко не было желания открываться Дегаевой, с отстраняющим лицом Наташа ответила:
– Хорошо знала.
(И тут же подосадовала: зачем рассказывать Дегаевой, выйдет что-то банальное, ничего эта Дегаева по-настоящему не поймет. А с Желябовым виделась Наташа и после разрыва. Ни полусловом не корила за то, что оставил семью, сыночка оставил. Но сестру жалела. Ольге сострадала. Андрей Иванович отыскал Наташу в Петербурге, в консерватории. Он любил приходить к ней, но всегда один, без Перовской. И Наташа сознавала, что именно ей, Наташе, хочет Андрей Иванович объяснить причины разрыва с Ольгой, но Наташа не могла и не хотела слышать его оправданий. Теперь уж это давняя история. Нет на свете Андрея, и нет той женщины, что была ему и женой и соратницей. Жили вместе, умерли вместе. После казни Желябова Ольга сменила фамилию, вернула себе прежнюю, девичью. И племянник теперь не Желябов, а Яхненко. Жаль сестру, не задалась жизнь.)
– О, – сказала Лиза, фальшиво улыбаясь и грозя пальцем. – Ты его знала? До-га-ды-ва-юсь.
Наташа вспыхнула.
– Ничего ты не понимаешь!
Лиза не обиделась, рассмеялась, глядя на Яхненко. В сравнении с такой вишенкой Перовская была дурнушкой, и Лизе это было не по-хорошему приятно.
– Душно у вас, – сердито сказала Яхненко. – Пора мне. Ты журнал обещала.
– Ах, как же, как же, – всполошилась Лиза, – да вот беда… Господи, вот память! Прости, милая, выклянчил один знакомый, божился отдать скоро. Прости, пожалуйста.
У Яхненко очи рассверкались грозою, но тут – звонок в прихожей, и Лиза, прикусив губу, заторопилась выпроводить гостью.
Лиза нынче Блинова не ждала, а по звонку-то судя, Блинов пришел, Лизе же совсем не хотелось, чтоб Николай увидел Наталью Яхненко.
Блинов поклонился. Наталья хмуро, едва кивнув, прошла к дверям, а Блинов посмотрел ей вслед так, что у бедной Лизы екнуло под ложечкой.
Она хлопнула дверью, а этот противный Блинов как ни в чем не бывало спросил, нет ли Сергея Петровича.
– А! – вспыхнула Лиза. – Так вы не ко мне, сударь?
Он, смеясь, взял ее за руки.
– Оставьте! Оставьте! – сердилась Лиза, не удерживая счастливой улыбки.
Брат Сергей и Блинов, должно быть, виделись нередко. Лизе это нравилось. Пусть сблизятся, так возникает родственность. Сближение брата и Николеньки казалось ей какой-то гарантией… Да вот нынче хорошо бы обойтись без Сергея.
Они прошли в комнату, сели рядом на диване. И тотчас услышали взманивающую, предательскую тишину пустой квартиры, и Лиза быстролетно, точно воруя, глянула на Блинова.
От тишины, от самих себя их спас Сергей Петрович. Блинов поразился: тусклый, линялый, словно бы подменили Дегаева, совсем иной, нежели третьего дня у Карауловых.
– На скорую руку, Лизонька, с ног валюсь. Там и бутылочка. – Он отдал Лизе сверток, сказал Блинову: – Не откажетесь? Иногда почему же… – И спохватился: – Видели?
– Видел.
– А молодец, молодец этот унтер, – ухмыльнулся Дегаев.
– Дошлый, – согласился Блинов. – Уж такой дошлый, что как бы и не того…
– Мне тоже, знаете ли, разэдакое взбредает. Да только осторожность осторожностью, но и крайность, знаете ли… Ко всему, ко всем недоверие. Горький опыт, н-да-с.
Лиза вышла в кухню, Дегаев поманил Блинова.
– Есть некоторые тревожные сведения, – проговорил он негромко и потянул Блинова за край пиджака, приглашая сесть рядом. – Вам надобно уехать из Петербурга. Тсс! Слушайте! На месяц самое большое.
И пока Лиза возилась в кухне, Сергей Петрович объяснил Блинову цель будущего путешествия, назвал явки. Он определил Блинова эмиссаром исполнительного комитета.
Сели ужинать. Дегаев налил водки. Блинов водку не терпел, от повторной рюмки он отказался. Дегаев пил страдальчески, Блинов с мимовольной брезгливостью подумал о запое, а Лиза затревожилась:
– Ты плохо выглядишь, Сереженька.
Он криво усмехнулся:
– Здоровью моему полезен… Я, знаешь ли, не ангел…
Вышла пауза.
– А, слушай, – произнес наконец Дегаев, словно что-то вспомнив. – Слушай, Лизок. Покорнейшая просьба: в Москву не прокатишься ли?
Она взглянула на него с недоумением.
– Понимаешь ли, – продолжал Дегаев, задумчиво почесывая щеку, – человек нам один нужен, очень нужен, вот какое дело. А нелегального как в Москву пошлешь? Коронация на носу, там землю роют, нюхают на каждом углу.
Никогда прежде брат не впутывал ее в конспиративные хлопоты. Никогда, а тут вдруг без предисловий, непременно. Нет уж, увольте… Но Лиза перехватила взгляд Блинова, устыдилась, даже как будто бы испугалась, ответила поспешно:
– Конечно поеду, Сережа, как же не поехать…
– Вот и спасибо, милая, спасибо. Я тебе после объясню, что и как. – Он улыбнулся. – А кстати и коронацией полюбуешься.
– Балет и опера вместе, – заулыбался Блинов.
– А может, салют и фейерверк, – сдержанно и веско заметил Дегаев.
Блинов притаил дыхание.
– Неужели?
Но Дегаев как не расслышал. Он еще выпил и нахохлился. Молчание его было угрюмым, почти злобным. Блинову сделалось неловко. Ни на кого не глядя, Дегаев сказал, что хотел бы немного отдохнуть в своей комнате.
Собрался и Блинов. В прихожей Лиза, нервически всхлипнув, припала к нему, быстро и коротко оглаживая его щеку, требовательно зашептала:
– Не уходи! Не смей… Жди… Он скоро… Не смей…
Блинов кивнул, но ему было стыдно, за нее стыдно, и страшно, что она заметит этот его стыд за нее.
У себя, в своей комнате, Дегаев казнился. Негодяй, предатель, мразь, животное. Вот здесь, в этой комнате, ты жил с Любинькой, с Белышом. Еще и башмаков не износил. Млел, глядя, как она стелет постель, как взбивает подушки. Она сама чистота, твоя суженая, твоя спасительница. А ты мразь и подлец. Такой женщины нет в мире, она была с тобою в аду и спасла тебя. А ты негодяй, животное… Нагнув голову, он ходил по комнате.
Блинову было нехорошо. Лиза его ужаснула: жадный всхлип, жадный, требовательный шепот. Сейчас он уже не чувствовал к ней никакого влечения. “Прочь, – говорил он себе, – немедленно прочь”. И не двигался. Стоя на другой стороне улицы, смотрел, как блуждает тень Дегаева. Прочь отсюда, это непорядочно, она и себя, и тебя проклянет. Прочь, говорят. Но ведь обещал. Обещал, не так ли? Бежать, пожалуй, тоже непорядочно. Ах ты размазня, фалалей чертов!
Тень в окне исчезла. Блинов схоронился в подворотне. Неподалеку тяжело застучал экипаж. Потом стихло.
Дегаев ушел. Он как бы исповедался в своей комнате, грех отпущен. Он больше не думал об этой толстой потаскухе. Он переспал с нею в заплесневелом мезонине, изменил Белышу, в первый раз изменил. Но грех отпущен, баста. Он шел успокоенный. Он прошел почти рядом с Блиновым.
Тот выглянул из подворотни, ругая себя соглядатаем. Прислушался к шагам Дегаева.
За углом дожидалась Дегаева большая карета. Дегаев отворил дверцу, кто-то сказал: “Трогай!” – экипаж покатился.
Блинов постоял с минуту, вернулся в дом, но не успел позвонить – парадная распахнулась. Он увидел Лизины глаза. Почему-то мелькнуло: “Воровка”.
Глава третья
1
– Почивать изволят, – ухмыльнулся Судейкин. – Вон его окна, во втором этаже. А в швейцарской – замечаете? – свет горит: наши дежурят. Береженого мы бережем…
Дом, что напротив трактира “Малоярославец”, солидно спал, с достоинством: в его стенах жил министр внутренних дел и президент императорской Академии наук граф Дмитрий Андреевич Толстой.
А Яблонскому, право, на все наплевать было. Они с Георгием Порфирьевичем ужинали в “Малоярославце”, у Киселева отменная “патриотическая” кухня. Ужинали в кабинете. Вошли (а теперь вышли) не общим, темным ходом.
Большая Морская лежала пустынная, как брошенная. Майская ночь казалась Яблонскому бесцветной, лишенной запахов, как дистиллированная вода. Он чувствовал усталость, равнодушие. А вот “милому Гошеньке” хоть бы что.
Н-да-с, “почивать изволят”… Должно быть, утром их сиятельство будет в Гатчине. Государь выслушает очередной доклад министра. Государь останется доволен: неусыпным радением секретной полиции пресечены сношения Трубецкого бастиона с волей. Государь, конечно, велит судить унтера Провотворова военным судом… Инспектор вновь выказал блистательную расторопность. А ты, брат Яблонский, вновь остался за бортом. Но если завтра не исполнится… О, тогда уж, тогда… По правде, Яблонский не знал, что “тогда”.
– В три пополудни, – сказал Судейкин, протягивая Яблонскому руку. – И не беспокойтесь.
Он был в летнем пальто, в темных очках, скрывающих взгляд, с толстой тростью, скрывающей длинный узкий стилет.
– Прощайте, – повторил инспектор. – На углу Гороховой ночные извозчики.
В этих расставаниях Яблонскому всегда чудилось нечто унизительное. “Как содержанка”, – думал он о себе с вялым, покорным раздражением…
Судейкина не мутило, хотя он воспринял в “Малоярославце” дай бог молодому. Не грех бы и… Ну нет, ныне он – в супружескую постель. Так у него заведено: перед длительной отлучкой он исправный семьянин. А вообще-то не грех на часок в Гончарную. Никакая она не б… И совсем не растратилась в кратком замужестве. Однако ни-ни! Домой. Это уж у него за правило: перед отлучкой, командировкой – никаких “отхожих промыслов”. Домой, под супружеское одеяло, перед отлучкой он исправнейший супруг. И так это отрадно – тихонько, на цыпочках – в детскую. Ах, как они посапывают, маленькие, озаренные лампадкой! Волосики, ладошки…
Все отлично, черт подери. Вот уж повезло с этим Яблонским! Недоверчив, капризен, с надрывом, но, ей-богу, незаменим. Плеве согласился принять. Толстой, как все большие баре, полагает, что дело делается щучьим велением. А вот Вячеслав Константинович Плеве ценить умеет-с! Не свысока глядит, понимает.
Теперь коронация близко. “Сюрпризов ждут, сюрпризы будут”. А государыня императрица: “Надеюсь на Судейкина”. Стало быть, наслышаны, стало быть, знают: есть, мол, на свете инспектор Судейкин. Но коли и после коронации не дадут давно обещанной высочайшей аудиенции, то, уж увольте, не фунтик вам подполковник Судейкин, не играйте с ним, господа!
Вот он теперь выспится хорошо, по-домашнему в супружеской постели, пусть эти олухи в крепости сами расхлебывают кашу. Он им бросит унтера Провотворова – нате, грызите. И больше никого. Разве вот этого… Как его бишь? Приблудного Ювачева. И за каким чертом занесло тебя, прапорщик, в столицу? Николаевским, одесским нечего тут делать! Сидел бы, сударь, в тишке, ничего бы и не приключилось. Ан нет, в Питер, так уж не обессудь – попалась птичка, стой! Взять Ювачева просто – летят, глупенькие, на Петербургскую сторону, к братьям Карауловым летят, как бабочки на огонек. А Карауловых этих – ни пальцем, Карауловых на развод…
Ему было хорошо. Ему даже собственная сейчашняя грузность нравилась. Он сознавал свою исключительность. Ему хорошо было.
А в десять утра Коко Судовский уже отворял дядюшке кабинет, похожий на проходную комнату.
– И пошла писать губерния, – весело сказал дядюшка. – Так, что ли, Коко?
Судовский улыбался. Он дядюшку любил.
– Вот, – сказал Коко, настраиваясь служебно, – это вы давеча наказывали в первую голову, чтобы к приезду господина директора.
Судейкин прочел:
Директор департамента Государственной полиции.
Совершенно доверительно.
Милостивый государь Иван Степанович!
В последнее время обнаружились преступные сношения государственных преступников, содержащихся во вверенной вашему высокопревосходительству крепости, с членами преступного сообщества, находящимися в г. Санкт-Петербурге. Сии сношения осуществлялись при содействии унтер-офицера Ефима Провотворова, каковой…
Роскошное древо цивилизации плодоносит “исходящими” и “входящими”. В бумажных закромах кормятся тьмы. Плавное коловращение бумаг – свидетельство исправности государственного механизма. В бумаге – и причина, и следствие. Отсутствие бумаг равносильно хаосу. Министерство внутренних дел объемлет своим попечением бытие, посему число здешних “исходящих” и “входящих” математически не определимо.
Судейкин бумаг не терпел. Судейкин к бумагам притерпелся. Впрочем, чаще полагался на память. Памятью он обладал чудовищной. И гордился ею.
Тэк-с, телеграмма из Парижа. Поверх цифр карандашом дешифровщика выставлено: “Лопатин, улица Гей-Люссака, девять, квартира двадцать два”. Лопатин? Инспектор ответил бы без запинки: в феврале скрылся из Вологды состоявший под гласным надзором Герман Лопатин. Тогда же генерал Оржевский известил о происшествии все пограничные пункты империи, разослал фотографические карточки лобастого русоволосого человека в окладистой бороде. Впрочем, и без карточки беглеца опознал бы Судейкин. Хоть по походке да опознал бы: “При походке замечается особенное движение плеч и выпячивание живота”. Судейкин опознал бы, на то он и Судейкин. Но на пограничных пунктах проморгали. И этот Лопатин, прехладнокровная бестия, отныне в Париже, как явствует из телеграммы заведующего русской агентурой в Европе г-на Рачковского. И там же имеет быть бывший полковник социалист Петр Лавров – Париж, улица Сен-Жак. Черт знает, близко ли, далеко ли от улицы Гей-Люссак до улицы Сен-Жак, но Лопатин-то наверняка частым гостем у Лаврова. А ведь молодец, право, хваткий малый, что и говорить. Вот так-то, судари мои, инспектору нет надобности рыться в бумажных курганах. Он лишь подскажет Вячеславу Константиновичу Плеве: пусть-ка Рачковский не упускает из виду Лопатина, крайне важно именно теперь, в канун коронации.
Выкроить часик, отдаться сочинительству. Инспектор не думал о конце карьеры, не писал мемуаров. Говоря прозаически, подводил некоторые важные итоги; говоря поэтически, пел гимн агентурной службе. То было естественное желание запечатлеть свой труд, оставить след.
Нынче он чувствовал вдохновение. Однако проклятущих бумаг пропасть! Георгий Порфирьевич просматривал бумаги, помечая их размашистыми, в два-три слова резолюциями.
Он не был крохобором, как Кириллов, прежний, еще в Третьем отделении, начальник агентуры. Тот перекорялся с филерской шушерой за каждый истраченный на “проследках” полтинник. Чудак! А Клеточников меж тем кругом его дурачил… Нет, Георгий Порфирьевич умел-таки ворочать немалой деньгой. В прошлый год полмиллиона извел на внешнее наблюдение. Эх, жирные тыщи летят, а все недостает. Однако на филерах экономить, каждое лыко им в строку, это уж помилуйте, господа! Разумная щедрость – вот она суть.
Не хуже скупердяя Кириллова замечал инспектор, как передергивают, жулят филеры. Но у Судейкина своя метода, он ловит с поличным №… Нуте-с, нуте-с, какой такой расходец влепил сюда этот прохиндей? Бухгалтерски, вприщур целил инспектор в многочисленные шпаргалы: “Счета деньгам, израсходованным по квартире и для лошади и выданным авансом по наблюдению за личностями”, “Счета деньгам по розыскам и поездкам в нижепоименованные города…” Пачка гостиничных счетов – в завитушках, в пышных гербах, с изображением какой-нибудь тифлисской “Ливадии” или елизаветградского “Бристоля”, – пачка счетов, где указана не только плата за номер, но и “за печь” и “за самовар”.
Судейкин замечал, как его агенты, его гончие, его “приват-доценты” – так он порою иронически звал филеров – передергивают, дописывают, подчищают. Замечал, но распеканции не устраивал. Нет, эдак отечески брал за шиворот, мордой тыкал в дерьмо: меня, дуралей, не объегоришь, да уж ладно, бог простит, смотри мне впредь… И “приват-доценты” проникались к Судейкину нелицемерной благодарностью. Не укроешься, на сажень под землею видит начальник, но сам живет и другим жить дает, за таким хозяином не пропадешь.
Заграничные и внутренние телеграммы; секретные циркуляры; финансовые ведомости, крапленные мелким подлогом; выписки, собранные перлюстраторами и вложенные в конверты с типографским курсивом: “Его Высокоблагородию Георгию Порфирьевичу Судейкину в собственные руки”, – изо всего этого следовало ухватить как магнитом те ценные крупицы, из которых и возникает переменчивая мозаика розыска.
Судейкин был создан для розыска. Судейкин создавал розыск для себя. Не злодеями, но соперниками были ему крамольники. Он не питал к ним личной ненависти, но и не уподоблялся тому английскому офицеру-джентльмену, что кричал французам: “Стреляйте первыми!” Тут была борьба, и Судейкин уважал противника. А мелкая опека над агентурой претила ему, раздражала его, как раздражают и претят мастеру дилетанты.
В начале петербургской службы ему таки попортила крови “Священная дружина”, подпольная угодная царю лига, созданная аристократами. У, как он ненавидел этих лигистов, эту банду белоручек. “Лигисты”, – выговаривал Георгий Порфирьевич как площадную брань. Дворцовые лизоблюды надумали подменить департамент полиции. Царь им потворствовал: “Следите, други, охраняйте, не очень-то я верю своей полиции…” И эти лигисты шныряли, требовали арестов тех, кого он, Судейкин, давно выследил, но в интересах дела оставлял покамест “на травке”.
Некоторые видные сановники тоже были недругами лигистов, самым сильным – обер-прокурор Синода Победоносцев. Наконец и государь убедился в никчемности добровольных сыщиков, впустую бросающих миллионы, и поручил графу Шувалову “озаботиться полным расформированием «Священной дружины»”. Расформировали… Но сколько крови попортили Судейкину эти идиоты.
“Дружина” испустила дух. Однако существовала прокуратура, а далеко не каждый прокурор походил на Вячеслава Константиновича Плеве с его тончайшим, с его деликатнейшим отношением к розыску. Находились такие, как Добржинский. Этот карьерный шаромыжник частенько мешал Судейкину. Не выяснив загодя мнение инспектора, производил обыски и арестования, на следствиях домогался имен секретных осведомителей. И какая амбиция! Я-де принудил Гольденберга к полному раскаянию, я-де и Рысакова загнал в угол. Амбиция, гонор шляхетский! Нечего спорить, террориста Гольденберга обвел вокруг пальца, Рысаков выдал ему все и вся. Верно, так было. Теперь сыск поставлен на иную высоту, но этот колобок, потряхивающий манжетами, никак не желает сообразоваться с методой инспектора… А нынче г-н Добржинский получит дело о сношениях Трубецкого бастиона, унтера Провотворова допросит. Ну нет-с, господин прокурор, тут-то уж мы вам палку в колеса: тпру, тормози-ка! Ни Дегаева, ни студента Горного института Блинова вам не заполучить, простите великодушно, сударь.
Инспектор надавил кнопку электрического звонка. Явился Судовский.
– В крепость поехали, Коко?
Судовский отвечал утвердительно.
– Ну, как привезут, тою же минутою веди ко мне, – приказал Георгий Порфирьевич.
– Точно так, – ответил Коко.
Инспектор кивнул: ступай, дескать.
Широко повел руками, расчистил стол. Брякнув ключом, достал заветную тетрадь. В комнате вдруг смело высветилось: солнце прорвало тучи. Судейкин подумал: “Май на дворе, хорошо”, – раскрыл тетрадь и стал писать:
Рискуя жизнью в интересах службы Его Величества, будучи готов ею жертвовать каждую минуту, особый инспектор секретной полиции, естественно, вправе рассчитывать: 1) на полное и неколебимое доверие высшей власти; 2) на условия полной свободы развития агентуры.
Только при исполнении означенных условий я считаю возможным надеяться на предупреждение злоумышлений против Особы Его Величества.
Высшей властью раз и навсегда должен быть решен принципиальный вопрос, что должно быть важнее в деле борьбы с крамолой: формальное ли дознание, имеющее своей задачей уличение преступников, уже совершивших злодеяние, или агентура, имеющая, по моему мнению, задачу недопущения этого преступления…
Тугой сноп лучей наискось бил. Инспектор вдохновенно излагал свое кредо. Он сочинял гимн Агентуре.
2
Перед дежурством сласть покурить на солнышке.
В Питере редкая весна дружно берет, нынешняя тоже вроде бы хворая. Сегодня, правда, сильно прорежило тучи. Сизые, свежие, спеша и поталкиваясь, двинулись они к морю. А солнце било сквозь них тугими толстыми снопами. И уже весело яснели соборный шпиль, стекла комендантского дома, медные кольца в дверях казармы, лужи на крепостном дворе.
Сласть покурить перед дежурством. В бастионах сыростью до хрящиков проймет, заклацаешь зубами, ровно конь подковой. А пока вот грейся, жмурься, как кот на сметану.
Курили солдаты, курили жандармы. Были они сейчас мирными, благодушными людьми, дымили и щурились, чуя далекий, непитерский запах очнувшейся, затосковавшей земли.
Разомлев на солнцепеке, не сразу приметили служивые странную суету у крыльца комендантского дома, других, не из крепости, жандармских офицеров, а когда приметили, те уже, придерживая шашки и обходя лужи, направлялись к казарме наблюдательной команды.
Унтер-офицер Провотворов тоже курил на солнышке, привалившись боком к стене. Шинель была у него распахнута, он чувствовал, как пригрело ему грудь, и, опустив веки, бездумно созерцал радужные пятна. Кто-то сигнально толкнул его, он поперхнулся дымом и выпрямился.
С машинальной беглостью Ефимушка застегнул шинель, бросил окурок. Он смотрел на быстро приближающихся господ офицеров. Его удивило, что смотритель, грузный майор Лесник, и начальник крепостных жандармов, красный седой капитан Домашнев, идут бочком, не по-хозяйски, и тут-то у Провотворова под ложечкой отяжелело.
Чужие офицеры вошли в казарму и тотчас приступили к обыску. Ефимушка дрогнул, залился потом, минута была страшная: последние записки Златопольскому не поспел он упрятать за пазухой, так они и лежали там, под тюфяком. “Господи, царица небесная, пропадаю!” Унтер рванулся к майору Леснику.
– Ваше высокобродь, осмелюсь доложить: содействовал. Ей-богу, содействовал, господин майор, как на духу…
– Что ты мелешь, скотина? – рявкнул Лесник.
Ах, только бы он не кричал так громко, чтобы чужие-то, чужие не слышали! Почему-то казалось, что теперь господин майор – “свои”, а весь ужас и вся погибель – в этих вот, в чужих.
– Единственно с целию, ваше высокобродь, – залепетал Ефимушка, – единственно подробнее вызнать и донесть, ваше высокобродь, богом клянусь. Да я… – Он глотнул воздух и с отчаянной внятностью проговорил: – Да я в секунд представлю. – И Ефимушка выпростал из-за пазухи несколько бумажных комочков. – Вот! Вот! Единственно с целию по начальству, ваше высокобродь! И еще там, в тюфяке, сам давно думал…
– Извольте полюбоваться, господа! – яростно вскрикнул Лесник.
Он рванул унтера за погон, погон затрещал. Смотритель выругался матерно, приказал взять “мерзавца”.
Ефимушку увели. Он мелко, монашески перебирал ногами, мотая головой, сокрушался: “Единственно с целию… Богом клянусь…”
В тюрьме Трубецкого бастиона стражники мыкались в ожидании смены. Эти минуты перед сдачей караула – самые постылые. На дворе распогодилось, а ты знай ходи, как маятник, в “глазок” засматривай. А чего там, в каземате, интересного? Ну, арестант мухой ползает. Или на койке лежит, мечтает, стало быть, про вольную волю. Известно. Эх, кому служба – мать, а кому – мачеха. Ежели, скажем, в губернском управлении, то в городе обретаешься, господ разных, дамочек наблюдаешь, оно и весело. Или, допустим, на арестование отрядят. В ночь-заполночь нагрянешь, а он, голубчик, как подстреленный. Бывает, правда, и пальбу откроет. Тут уж не моргай, может, и намертво порешат, а может – медаль. Боязно, конечно, но опять не то, что здесь, в бастионе… И чего мешкают? Курант брякнул, а смены нет как нет.
Арестант номер шестьдесят два тоже мыкался в ожидании смены: “голубь” нынче прилетит. Очень гордился Златопольский выучкой “почтового голубя”. Ожила тюрьма, словно рацион увеличили и прогулки. Дерзкий план вызволения Фигнер принял, судя по всему, практические очертания. Дегаев ввязался. Вера Николаевна радуется его побегу из одесского застенка. Вот тебе и “вываренная тряпка”… Не только письмом, еще и газеткой нет-нет да и побалует тюрьму добрый малый Провотворов. Невелика, правда, радость от нынешних газет. Редакторы, как Щедрин язвит, приговорены к пожизненному трепету… Однако что же это? Куранты отзвонили, пора. Гм… А денек-то выдался, солнце так и ломит. Спешить надо: белые ночи близко, и как бы, глядишь, Веру-то Николаевну в Алексеевский равелин не определили… Однако что за причина, отчего смены нет? Всегда минута в минуту, без задержки…
Послышался шум множества шагов. Идут! Дверь каземата распахнулась. Не Провотворов вошел, не унтер Ефимушка, не “голубь” – рыжий смотритель Лесник, стремительный, гневный, без шинели, в сюртуке с майорскими погонами. А за Лесником еще офицеры. Лесник к окну, другой чин – к ватерклозету.
И вот уж на ладони смотрителя – мелко исписанные листки папиросной бумаги. И вот уж у другого чина в брезгливо-мокрых пальцах огрызок карандаша.
Тугой сноп солнца бил в камеру. Но в камере темно – будто ослеп арестант номер шестьдесят два.
3
Инспектор Судейкин допросил унтера Провотворова. Сперва наорал, топая ногами и употребляя излюбленное “мать твою рябиновую”. Потом папироской угостил, поспрошал укоризненно. Провотворов тотчас признал в подполковнике “настоящего хозяина”.
Георгий Порфирьевич убедился, что малый действовал “единственно” из корыстолюбия, и это было очень понятно инспектору, это его успокоило, снисходительно расположило к Ефимушке. Убедился Судейкин и в том, что малый в одиночку действовал, стало быть, никакого заговора и в помине не существовало.
Об этом инспектор теперь толково доложил директору департамента, сидя в его голом холодноватом кабинете. Кабинет казался совсем неприютным оттого, что в высокие окна смотрело майское солнце. И по той же причине замкнутое лицо Плеве казалось еще бледнее и еще строже.
– Наконец, Вячеслав Константинович (наедине они обходились без чинов), наконец, просьба деликатного свойства. Делом, очевидно, займется Антон Францевич. В интересах розыска необходимо настоятельно внушить Добржинскому, что у нас нет надобности до поры трогать Блинова. Да, да, из Горного института. Вы же знаете Добржинского: я-ста, мы-ста… – Судейкин, усмехаясь, развел руками.
– Я переговорю с ним, – сказал Плеве. – Антон Францевич страдает порой излишним рвением. Следствию будет предъявлен лишь Провотворов. С этим решено. Ну-с, а что же наш Яблонский?
– Непременно будет. Жаждет.
– Ну что ж… А он и впрямь заслуживает внимания.
– Согласен, но дозвольте заметить, внимания заслуживает…
Они обменялись понимающими взглядами.
– Я не забываю, Георгий Порфирьевич. Мне дали знать: после коронации. Согласитесь, сейчас не до того, чтобы государь вас принял.
– Не спорю, – Судейкин помрачнел. – И всё ж… Может, именно до коронации?
Плеве взглянул на него пристально. Они молчали. Потом директор сказал мягко:
– Вы знаете мою искренность к вам, но я лишь директор, и мои возможности… А он – увы!
Имя министра не было произнесено. Судейкин вздохнул с видом человека, несущего свой крест. Плеве, опустив веки, поискал в бумагах, хирургическим движением извлек глянцевитую тетрадочку, сшитую витым шнурком.
– Прочтите на досуге, Георгий Порфирьевич. Немало любопытного.
Судейкин, думая о своем, скользнул без интереса по рукописному заглавию: “Обозрение полицейских учреждений городов Парижа, Берлина и Вены”. Рассеянно полистал, сказал негромко:
– В Европе умеют замечать и награждать преданность.
Плеве снова опустил серые веки, потер, будто затачивая, длинный палец о сукно письменного стола. Высочайший указ о его, Плеве, производстве в тайные советники уже заготовлен. И не по выслуге, а за отличие. Да, заготовлен, но не подписан. Это после коронации.
– Я убежден, – значительно сказал директор, честно глядя на Судейкина, – я совершенно убежден, что и наше правительство умеет замечать и награждать преданность.
– Дорого яичко ко Христову дню.
Настойчивость Судейкина слегка утомила директора.
– Москва, – сказал Плеве. – Как много в этом звуке… Не так ли?
Судейкин помедлил. И опять вздохнул с видом человека, несущего свой крест.
Они заговорили о Москве.
И верно, многое, слишком, пожалуй, многое слилось теперь в “этом звуке”. Предстояла коронация. Великое всенародное торжество устрашало. Неизбежность появления гатчинского затворника при стечении огромных толп; сотни тысяч – и государь на виду. Это неизбежно. Он проедет по улицам, запруженным людьми. Мимо домов с бессчетными окнами, откуда можно стрелять. Мимо чердаков и крыш, откуда могут швырнуть бомбы.
В недавнем докладе министерства внутренних дел государю императору сказано: “По агентурным сведениям, партия террористов произведенными за последнее время арестами деморализована”.
Но вот анонимка, черные чернила, печатные буквы: “Царя и всю его семью взорвут на воздух в Москве, на коронации, на Тверской улице, три большие мины, погибнет и войско, и народ”.
В недавнем докладе государю сказано: “Под влиянием арестов, произведенных среди офицеров на юге, в партии террористов существует предположение, что в ее организации находится важный правительственный агент, который не допустит достижения преступной цели”.
А перехваченное письмо? Письмо, адресованное неизвестным в Женеву? Чеканно и непреложно: “Сюрпризов ждут, сюрпризы будут”. Предгрозовым шелестом пошло в Санкт-Петербурге: “Сюрпризов ждут, сюрпризы будут”. Эхом вторили генерал-адъютанты и сенаторы, действительные статские и действительные тайные. Никто из них не хотел, не желал цареубийства. Но с каким-то судорожным придыханием: “Сюрпризов ждут, сюрпризы будут”. Тут жажда необычайного, ужасного, холопье злорадство.
Из Швейцарии сообщали шифром: Плеханов едет, с американским паспортом едет Плеханов, возглавит шайку для убийства императора. И Гартман едет, известный “Сухоруков”, взорвавший в семьдесят девятом поезд с царской свитой.
Плеханов? Судейкин улыбался. Нет, “Капитал” Георгий Порфирьевич не одолел, хоть и брал приступом не однажды, но различия русских революционных фракций постиг. Плеханов? “Они” зовут его Жоржем, а клички зарегистрированы: Оратор, Федька, Волк. Этот не из бомбистов, противник террора. Этот во главе “Черного передела”. Сказать по совести, инспектор отнюдь не стремился к арестам “чернопередельцев”. Они против бомб, против террора – вот главное, вот суть. А злоязычить русскому культурному человеку сам бог велел. Нет, инспектор не гонялся за “чернопередельцами”. Гм, Плеханов в роли цареубийцы? Галиматья! А в департаменте верят. И пускай, Судейкин разубеждать не станет. Что ж до Гартмана, то без Яблонского не обойтись; умен, хитер террорист Гартман, а никак Яблонского ему не миновать… Но вслух иное:
– Да-а-а, птицы немалого полета.
И Плеве быстро, с надеждой:
– Однако Яблонский…
– И на старуху бывает проруха, – вскользь замечает Судейкин.
Блеклые губы директора сжимаются еще плотнее. После коронации подпишет государь высочайший указ: тайный советник фон Плеве. После коронации. И Плеве сухо и четко, как оттискивая:
– Никаких прорух. И вы – в полковниках.
Они хорошо понимают друг друга. Все еще недоверчивый, все еще настороженный, но уже обнадеженный повышением, Судейкин, капитулируя, наклоняет кругло остриженную голову в жестких иглах ранней седины. Плеве белыми пальцами оглаживает ворс зеленого сукна.
– Полагаю, он ждет, ваше превосходительство.
Этим “превосходительством” инспектор замыкает беседу, обильную недомолвками, почти интимную. Плеве взглянул на телефонный аппарат.
– Не любит Константин Петрович, когда телефонируют.
У Судейкина вопросительно, белесо шевельнулись пушистые брови: “Вот как! Неужели?” Он, инспектор Судейкин, не удостаивался такой чести, а его шпион, его Яблонский…
– Да-с, выразил желание, очень заинтересован, – продолжал Плеве. – Однако Константин Петрович будет за портьерами. Так что, надо думать, прямого знакомства не произойдет.
Ага, вот как! Ну, это еще куда ни шло. Судейкин откланялся. Ему не очень-то был по душе нынешний визит Победоносцева. “Заинтересован”! Яблонским заинтересовался сам Победоносцев. А вот им, инспектором, Победоносцев не интересуется…
Победоносцев запаздывал. Но обер-прокурор Синода не терпел телефонных аппаратов, и Плеве не решался досадить ему звонком. Да и какая надобность? Директор департамента подождет, agent-provocateur[1] – тем паче.
Плеве знавал Константина Петровича смолоду. В ту пору Победоносцев еще не был известен всей России, занимал кафедру гражданского права в Московском университете. Плеве был усердным студентом. Поныне хранил он четырехтомный курс, составленный профессором Победоносцевым.
Недавно как-то директор департамента улучил минуту сказать обер-прокурору, что по-прежнему, мол, считает его своим учителем. Победоносцев ответил не без остроумия: “Вы в очень хорошей компании”. Константин Петрович некогда преподавал законоведение великим князьям, детям покойного императора Александра Второго, одному из них, ныне царствующему, поднесь оставался наставником и наперсником. Что и говорить, хорошая компания.
Вячеслава Константиновича злило расположение Победоносцева к графу Толстому. “Настоящий человек на настоящем месте”, – определял обер-прокурор. И Плеве знал, что это именно он, Победоносцев, надоумил государя уволить Игнатьева и вручить министерство Толстому. Ну что ж тут? Приходилось терпеть похвалы графу Дмитрию Андреевичу.
Обер-прокурор находил, что генерал Оржевский не совсем не прав, говоря о тухлой рыбе, плывущей по течению. Обер-прокурор полагал, что император прав, несколько сомневаясь в твердости убеждений Плеве: при диктаторстве Лорис-Меликова держался либеральных идей; при Игнатьеве, сменившем Лориса, исповедовал, как и новый начальник, особый (глупый) род славянофильства; теперь, при Толстом, – ревностный поборник антилиберальных взглядов. А за душой? Честолюбие, карьерность. Но с рельсов, нет, никогда не сойдет. По правде сказать, Победоносцев – не едко, а снисходительно – презирал Плеве. Однако не отказывал в покровительстве, в приватных свиданиях. Обер-прокурор даже любил изредка потолковать с дельным, преуспевавшим воспитанником юридического факультета.
И странная штука: застегнутый, не повадливый на откровенности Плеве не только как бы раскрывался перед стариком (Победоносцеву не было и шестидесяти, но выглядел он на все семьдесят), не только как бы раскрывался, а и позволял себе рискованные замечания.
На прошлой неделе Вячеслав Константинович приезжал к Победоносцеву домой, на Литейный. (Курьез, право: живет стена об стену с сатириком Салтыковым, то бишь Щедриным.) Константин Петрович прихварывал, хандрил, кутался в халат и, кажется, искренне обрадовался гостю. Разговор у них зашел о Каткове, редакторе “Московских ведомостей”. Победоносцев признавал достоинства Михаилы Никифоровича, однако не оправдывал “известные” недостатки характера, несносный тон “некоторых” статей, касающихся внешней политики.
Плеве слушал, соглашался, сказал, что не читает “Московские ведомости” – штудирует. “А знаете ли, что самое ценное? – продолжал Победоносцев. – Постоянное, настойчивое стремление к политическому единомыслию. И Михаила Никифорыч прав: ничего России так не надобно, как именно единомыслие”.
(Вот тут-то Плеве и позволил себе одно из тех рискованных замечаний, что вырывались у него в присутствии сурового старика. Старика, который во многом определял высшие государственные дела, часто и подолгу виделся с императором.)
– Политическое единомыслие? – повторил Плеве. – Помнится, Калигула желал, чтоб римский народ имел одну голову: ее можно снести махом.
Победоносцев нахмурился, в глазах было недоумение.
– Нет, нет, оборони бог, – Плеве так и подмывало, он испытывал что-то такое, что было ему вовсе не свойственно. – Оборони бог, Константин Петрович, я душою, сердцем за политическое единомыслие, за одну голову. За такую, Константин Петрович, которая только б и знала что кричать “ур-р-ра!”.
Старик покашливал, старик не сердился. И Вячеслав Константинович совсем уж расстегнулся, сознавая, что попал в хорошую минуту и ею следует пользоваться, потому что такие минуты упрочивают положение лучше, сильнее годов верной службы. Ах, не только это он сознавал, не только. Ему было весело и жутко дерзить “старому льву”. И Вячеслав Константинович бухнул:
– А при политическом единомыслии, Константин Петрович, нашей матушке-России и парламент не страшен, можно и парламент завести.
“Парламент и Россия” – слуху Победоносцева нестерпимое созвучие, Плеве хорошо это знал, да вот она, минута: старик рассмеялся, закашлялся, замахал руками. Ему, должно быть, вообразилось нечто в высшей степени комическое – российский парламент при всеобщем единомыслии, эдакая одна башка с разверстым хайлом: “Ур-р-ра!” И Константин Петрович Победоносцев рассмеялся, закашлялся, замахал руками…
Обер-прокурор опаздывал, мысли Вячеслава Константиновича вернулись к Судейкину, к разговору о Москве. Было бы справедливым еще до коронации произвести инспектора в полковники. Он, Плеве, говорил Оржевскому. Да ведь генералу вечный недосуг: “Петербург танцует…” Да, танцует и… “ждет сюрпризов”. Что же до Плеве, то он уверен: все обойдется тихо. Почти уверен. Но в этом “почти” – тревога.
Там, в Москве, решительно все меры приняты. Целый год хлопочет особая комиссия. Князь Долгорукий шлет обстоятельные отчеты. Лишь свод охранительных распоряжений, беглый их перечень занял двадцать листов. А недавно командированы в первопрестольную трое опытнейших водолазов. Что еще? Решительно все меры!
А государь, говорят, не спит ночей. И начальник охраны, этот бурбон, этот пропойца Черевин пристает: обеспечена ли безопасность? Ох, если б коронацию в Гатчине… Так нет, Москва, сердце России, святые кремлевские соборы и т. д. и т. п. Всенародное торжество требует всеполицейского напряжения.
Плеве окликнул дежурного чиновника: здесь ли нужный человек? Услышав ответ, велел проводить в “ту комнату”.
Соглашаясь на встречу с Яблонским, директор департамента не преследовал никаких целей, а лишь уступал просьбе Судейкина. Да и то сказать, Яблонский в силу оказанных услуг, веса, необычайного положения вправе на встречу с самим министром. Плеве это понимал и принимал. Он не испытывал брезгливости к шпиону-провокатору. Каждому свое. В замшевых перчатках не берутся за политический розыск. А граф не пожелал видеть Яблонского: “Фи!” Граф корчит из себя большого барина. Впрочем, он действительно большой барин. А вот Константин Петрович Победоносцев очень даже и пожелал: “Этот ваш Яблонский, очевидно, незауряден”. Зауряден, нет ли, а на альянсе Судейкин – Яблонский ныне многое держится.
Особенное движение послышалось в приемной. Плеве коснулся кончиками пальцев холодных висков и слегка надавил на виски, словно переключаясь от одних мыслей на другие.
4
Ему было неловко в костюме с иголочки, неловко в этой несветлой комнате с двумя креслами. Ему чудилось, что за портьерами другая комната и там притаился кто-то. Он был бы рад Судейкину, он бы ободрился в присутствии Георгия Порфирьевича, но Судейкин предупредил, что свидание состоится с глазу на глаз.
Добившись аудиенции, Яблонский боялся аудиенции. Он вытвердил речь-программу. Но сейчас нервничал, дожидаясь директора департамента. Хотелось курить, а он не знал, можно ли. И эта нерешительность – курить, не курить – унижала его. Тщедушный, большеголовый, он, как случалось с ним в критические минуты, ощущал свою физическую непривлекательность, и это тоже его унижало.
Он бы убрался из этой загадочной комнаты с двумя креслами и портьерами. Его страшно тянуло в солнечный день, в город, к людям, в сутолоку, где можно затеряться, исчезнуть.
Вошел Некто: бледное лицо, холодные глаза, сюртук без орденов, с одним прокурорским значком. Некто мог не представляться: Яблонский узнал его, хотя раньше и не встречал.
Плеве не назвался и руки не подал. Однако предложил сесть и не сел прежде Яблонского.
У Яблонского вспотели ладони. Плеве смотрел на него. В этом взгляде не было ни начальственной строгости, ни даже любопытства. Неумолимость? Мертвенность? Взгляд Медузы? Яблонскому показалось, что он уже выдерживал такой, именно такой взгляд. Но где? Когда? И внезапно вспомнил: полковник Катанский, Одесса, жандармский полковник Катанский. И оттого, что холодные пристальные глаза директора департамента показались ему глазами провинциального полковника, Яблонскому стало легче. Он перевел дыхание.
– Милостивый государь, я прежде всего… – Плеве поискал слова. – Я считаю своим приятным долгом, милостивый государь, благодарить вас, официально благодарить за содействие арестованию Фигнер, а также за то, что она, слава богу, пребывает в крепости. Во-вторых, позволю себе выразить надежду, что вы и впредь окажете важные услуги, каковые, несомненно, будут отмечены.
Яблонский наклонил голову. Ему надо было принять благодарность как должное. И он принял ее как должное, без ответной благодарности. Он ждал таких слов, он их дождался, и ему сделалось еще легче, еще вольнее.
– Ваше превосходительство, – сказал Яблонский, отирая ладони и ощущая, что они уже не потеют, – я, ваше превосходительство, думаю, мне следует воспользоваться вашей любезностью в интересах… Да, в интересах высоких и значительных. Мое душевное желание убедить вас вот в чем. В моем сотрудничестве нет ни карьерных, ни меркантильных соображений. Я долго размышлял и, поверьте, не с легким сердцем принял… не побоюсь сказать… принял миссию, которая, может быть, рисуется в невыгодном, неблаговидном свете. Я долго размышлял, да. И какой же капитальный вывод, ваше превосходительство? Вы знаете мое прошлое, я не отрекаюсь. Но вывод почти математический: действия террористической фракции заслуживают не только осуждения, но и пресечения. Философ Соловьев говорит: правду нельзя обрести неправдой. А ведь пролитие крови – неправда.
– Похвально, – бесстрастно вымолвил Плеве, по-прежнему пристально и холодно вглядываясь в Яблонского.
Вячеслав Константинович предпочел бы деловой разговор. “Философ Соловьев”! Но Плеве подумал, что еще рано обрывать Яблонского. А тот продолжал, ощущая уже не только освобождение от неловкости и страха, но и нефальшивую искренность.
– Я могу вам открыть, что даже такие революционеры, как Желябов… А Желябов, ваше превосходительство, был могучим деятелем… Да, такие, как Желябов, в иные мгновения ужасались того, к чему стремились со всей энергией и самозабвением. Желябов из крестьян вышел, народ знал. И он утверждал: в народе накопились горы дикости, горы зверства, восстание будет морем крови, хаосом. И он прав. Прав, ваше превосходительство. Я много думал. Россия нуждается в мирной, вседневной, созидательной деятельности. Вы помните? “Идите узкими вратами, ибо широкий путь и широкие врата ведут к погибели”. Вот вкратце мотивы. Ничего карьерного, никаких видов. В этом и хочу убедить…
– Верю, – медленно проговорил Плеве. – Верю и понимаю.
Ни черта он не верил, ни единому слову. Но и не понимал. А считал себя докой по части психологии. И теперь чувствовал, что сбит с толку. А Победоносцев-то там, за портьерой, все слышит. Плеве это раздражало, ему было неприятно, что шпион-провокатор держит нить беседы, “воспаряет в сферы”.
– Верю и понимаю, – повторил Плеве. – Однако, милостивый государь, я хотел бы, так сказать, практически… Вы знаете, Россия накануне великого события, великого торжества. Вы знаете также… э-э-э… существуют некоторые сомнения. И естественно, мне, на которого возложено… Н-да-с, вот о чем, сударь.
Яблонский был схвачен под уздцы. Его швырнули на место: цыц, платный агент! А он никогда не допускал мысли о “простом” шпионстве. Все в нем возмутилось. Кризис революционной идеи, ужас перед грядущим хаосом, великая проповедь философа Соловьева и – “…я хотел бы, так сказать, практически”. И это директор департамента? Нравственный чекан, умственный калибр провинциального полковника.
Яблонский упал с высоты, на которую, как ему казалось, он сам себя поднял. Но он знал, как дать почувствовать этому сухопарому сановнику свою – практическую, пожалуйста! – значимость.
Господин директор департамента в канун коронации жаждут успокоения? Однако Яблонский вовсе не намерен вносить мир в сию бездушную душу. Это не в расчетах господина Яблонского. Вот так-то, ваше превосходительство.
Да, вслух сказал он, партия террористов хотя и обессилена, но живуча. Вряд ли, сказал он, кто-либо возьмет на себя смелость начисто отрицать возможность покушений. Он, Яблонский, во всяком случае, не может дать гарантий. И его превосходительство не станет, наверное, требовать подобных обязательств даже от него, Яблонского.
Плеве выдержал. Плеве подумал: вот они, тонкие особенности политического розыска. Он вдруг и совершенно отчетливо, даже будто и физически, ощутил свое бессилие перед агентом-провокатором. И, ощущая это странное бессилие, Плеве как бы ощущал упорный и насмешливый взгляд – оттуда, из-за тяжелых портьер. Черт догадал пригласить обер-прокурора! Но директор департамента не обнаружил ни досады, ни раздражения. Громко, полуофициально, полулюбезно сказал, что с такими людьми, как г-н Яблонский, отечество ступит наконец на путь мирного процветания, разумного обновления.
И действительный статский советник, кавалер орденов святой Анны, святого Станислава и святого Владимира обменялся с Яблонским напряженным рукопожатием.
Сейчас, после Яблонского, после этого бессилия и этого рукопожатия, в котором было что-то заискивающее, сейчас Вячеславу Константиновичу до смерти не хотелось видеть Победоносцева. Однако как можно?
Старик покоился в глубоком кресле – большая полуночная птица. Он смотрел на Плеве незряче, словно сквозь белесую пленку. У него бывают видения, вспомнилось Плеве, тогда он ругается извозчичьими словами и прогоняет беса… Директор выдавил улыбку: понравился ль Константину Петровичу поклонник философа Соловьева?
– Да-а, нынче суббота, – молвил непонятное Победоносцев невсегдашним, далеким голосом.
Он ушел, подагрически шаркая, он думал о том, что по субботам беседовал некогда с покойным Федором Михайловичем. С Достоевским беседовал он по субботам.
5
Встречали чиновники из секретно-розыскного отделения. Чемоданами завладели не артельщики, а молодцы филерского обличья. Встречающие, как и приезжие, были в партикулярном платье.
– Теплынь-то у вас, ах, теплынь, – улыбался Георгий Порфирьевич, – сразу оно и видно: матушка белокаменная.
У него, как водится, осведомились, какая погода в Петербурге.
– Эх, – весело отмахнулся Судейкин, – там и погоды в наличии не имеется.
Все, понятно, рассмеялись.
Судейкин не жил в Москве и не служил, но по душе ему были и московская размашистость, и московское радушие, и короткость в отношениях, в Москву Георгий Порфирьевич с удовольствием вояжировал.
Он шел по дебаркадеру с господами из розыскного отделения, с неизменным своим Коко Судовским, упруго шел, подняв голову, бодро осматриваясь.
Наметанным глазом различал он в толпе, валившей с курьерского, множество петербуржцев. То была публика состоятельная и патриотическая – в первопрестольную на коронацию. И вот так же наметанным своим взором скользнул Георгий Порфирьевич по личику молоденькой барышни, одетой скромно, но не без кокетства, с баульчиком в руках. Барышня не была в духе Георгия Порфирьевича, однако он задержался взглядом на ее личике. Черт побери, на кого ж она так похожа?..
Лиза давно не бывала в Москве. Когда маменька овдовела, перебрались Дегаевы в Петербург. Лизе в ту пору еще косички заплетали. А потом, когда ездили на юг, к сестрам, в Москве не задерживались – денег-то всегда в обрез, – с одного вокзала на другой, и только. Сергей тоже иногда ездил с ними… Да, если б не Сергей, она и теперь не попала бы в Москву.
Правду сказать, не очень-то она обрадовалась Сережиной просьбе. Конспирация, тайное поручение, какая-то записка, из тюрьмы, кажется, и какой-то Нил Сизов. Смешное имя: Нил… Она не обрадовалась поручению. Невелика охота рисковать, отыскивая какого-то Нила. Но Коленька так смотрел на нее, точно бы испытывал. Она согласилась – и вот в Москве. В лифе зашита записка некоего Савелия Савельевича. А Коленьку видела накануне отъезда. После той ночи – “Ночи безумные…” – он не избегал Лизы, но выглядел несчастным, виноватым. Сказал, что он, революционер, не имел права… Милый ты мой, ты еще не знаешь свою Лизу. Никаких претензий, никаких домогательств, будь что будет. Он сказал, прощаясь, что уедет надолго. Пусть Коленька простит, она не поверила. Но Сережа подтвердил: уедет надолго. Ах, разве нельзя было послать их вдвоем в Москву? Они были бы счастливы. Тут их никто не знает, они были бы счастливы. Они насладились бы сопрано Светловской. Коленьке даже не вообразить, какая это Татьяна Ларина. И хохловского баритона Коленька тоже не услышит.
Лиза миновала опрятный, высокий, сумеречный Николаевский вокзал. Вокзал украшали в ожидании царского семейства. За работой наблюдал полицейский наряд.
Лиза вышла на Каланчевскую площадь, в московскую толчею, в дребезгливый перезвон медлительных конок, в гам извозчичьей биржи, в запах еще свежей майской пыли, холщовых торб, овса, лошадей. Лиза чувствовала себя светской дамой, потому что Сережа ссудил ее солидной суммой (откуда у него столько?), и решилась взять лихача.
Садясь в карету, Судейкин опять увидел маленькую барышню и опять вопросительно подумал, на кого же она так похожа. Но его память и теперь промолчала. А девица, ишь ты, на лихаче упорхнула.
Судейкину и Коко приготовили номера в “Дрездене” на Тверской площади, рядом с дворцом генерал-губернатора и гауптвахтой. Встречавшие простились с приезжими. Предварительно у господина инспектора взяли слово компанейски отужинать в “Эрмитаже”.
Дядюшка и племянник остались в номерах. Номера были дорогие. Ванные, прихожие, ампирная, как в Английском клубе, мягкая мебель и ковры, которые, кажется, не слишком-то часто выколачивали коридорные.
Настроившись на московский лад и чувствуя себя “человеком с дороги”, Георгий Порфирьевич, не спрашивая завтрака, заманил Коко в баню: “Здесь, брат, не питерские брызгалки, где одной немчуре здорово”.
Они ухали, они крякали на верхнем полке, а два жилистых мужика в набедренных, как у полинезийцев, повязках наддавали пару. Потом другие банщики, старики, иссушенные, как пергамент, мотая нательными крестиками, с деланым остервенением корежили, давили, терли, пришлепывали Георгия Порфирьевича и Коко, а те – оба могучие, белотелые, мускулистые – мычали, стенали, даже поскуливали от истинно московского банного наслаждения. И мозолики им посрезывали, и цирюльник легкой стопою прибежал, десять лет подвизался в наилучшем куаферном заведении Невиля на Тверской, в доме Парамонова, и чудо-квас им подносили, убродивший, в больших стеклянных кувшинах.
В “Дрезден” прибыли они, лоснясь, испытывая тот радостный голод и потребность в запотевшей рюмке, какие возникают лишь после бани. Ублажившись, соснули на перинах, а час пробил поспешать в “Эрмитаж”, поднялись, что называется, как встрепанные.
Москвичи расстарались, эрмитажный повар-кудесник не ударил лицом в грязь, и музыка оффенбаховская нежила, штиблеты в такт двигала, и Коко волооко провожал дам, что в бедрах, пожалуй, шире питерских.
А на другой день Георгий Порфирьевич был уже при исполнении “особых служебных обязанностей”. Не в банях баниться, не в эрмитажах кутить пожаловал за шестьсот с лишком верст.
Кто ж еще, как не Георгий Порфирьевич, мог ревизовать готовность первопрестольной к приему царской фамилии? Три месяца назад высочайше утверждено “Положение об устройстве секретной полиции в империи”. Согласно пункту пятому Судейкину вверили “ближайшее руководство” всеми учреждениями тайной полиции. Ему, чину малому, не прекословят начальники губернских жандармских управлений вкупе с начальниками отделений по охранению общественного порядка и безопасности. Вот то-то и оно, генерал не генерал, а извольте-с. А ежели в “Эрмитаже” чокались, то это еще не значит, что спуск будет. Ни малейших послаблений, господа, сами понимаете – коронация.
Он-то ой как все понимал. Недаром выспрашивал Яблонского, недаром опытнейших филеров гонял. Яблонский после свидания с Вячеславом Константиновичем заартачился было: “я-де не убежден”, “мало ли что”, “есть группы, мне неизвестные”… Цену набивал, все-то недоволен. А Георгий Порфирьевич напрямик: “У нас с вами, Яблонский, иные цели, так? У нас никакой надобности в шуме-громе, так?” Умный, умный, а дурак: согласился, признал, что не будет в Москве злодеяния. Спасибо, брат.
Однако инспектор не бросился со всех ног успокаивать директора департамента. Зачем? Лыком шит, что ли? Нет, пусть: “Сюрпризов ждут, сюрпризы будут”. Пусть на него, Георгия Порфирьевича Судейкина, богу молятся: спаси, вызволи. Этот старый дурак (в Академии бы наук тебе, ваше сиятельство, злого бы духа пускать по преклонности годов, и довольно), старый дурак снизошел. Губу жевал, глаза желтые: “Как вы полагаете? Государь на вас надеется”. Да и ты, ваше сиятельство, крепко на меня надеешься. Однако ни полковника не дал, ни высочайшей аудиенции. Потом, дескать, после. Ну хорошо, хорошо, благодарствуйте. Поживем – увидим. А орденского крестика мне не надо, шубу не сошьешь.
Он многое понимал, инспектор Судейкин. Яблонскому верил, намертво верил. И все ж сомнения (не в Яблонском, а в его осведомленности о делах московских нигилистов), сомнения-то червем посасывали. И Георгий Порфирьевич день-деньской на ногах. Повсюду поспевает Георгий Порфирьевич, а за ним тенью Коко Судовский. Без форсу, без свиты, без рассыльных. Скромно, тихо, посторонними эдакими господами.
Народные торжества чего требуют? Городовых, чтоб пьяных до потери образа по мордасам, а карманников за шиворот – и вся недолга. Иная статья, совсем иная, коли торжества народные в присутствии высочайших особ. Это ведь уже что? Это ведь не просто, а единение с верховной властью. Оно в газетках куда как хорошо выполнено. Но в нашей грешной, быстротекущей жизни за этим вот самым единением глаз нужен. И какой глаз! Всевидящий!
Большую часть времени, оставшуюся до коронации, Георгий Порфирьевич убил в Кремле. Судейкин не ворошил журналы “Комиссии для принятия мер к предупреждению злоумышленных взрывов”. Инспектируя, он хотел быть самовидцем.
Судейкин меньше всего умилялся великорусским святыням, хотя, конечно, обнажал голову в воротах Спасской башни, как делали все православные со времен Алексея Михайловича, и крестился на соборы, как делали все православные со времен еще более стародавних. Он не предавался размышлениям о Кремле как вместилище бестрепетного насилия и наглого самозванства, печальных отречений от престола и перемены веры ради престола, кровавых мук и принудительных постригов, осквернения храмов и осквернения девственности. Он не бродил меланхоликом меж гробниц, столь многочисленных, что Кремль, можно сказать, на царственных костях зиждился, как Россия на костях верноподданных. И трепетно не всматривался Георгий Порфирьевич ни в архитектурные пропорции, ни в живописные эффекты.
Инспектору секретной полиции подполковнику Судейкину все эти строения на Боровицком холме, обнесенные зубчатой стеною с башнями, были огромным, сложным, чертовски путаным хозяйством с бессчетными лазейками и щелями, потайными ходами и закоулками, полутемными сенями, коридорами, подклетями, подвалами.
Георгий Порфирьевич по совести признал: “Комиссия для принятия мер…” во главе со свитским генералом Козловым потрудилась ревностно. Засовы и тяжелые, как ядра царь-пушки, замки нерушимо замыкали переходы и подвалы, где пахло тленом. Железные решетки перегородили подземные сообщения с Москвой-рекой.
В Спасских воротах саперы копошились, звякал шанцевый инструмент, светили фонари. Вот уж десятилетия и десятилетия российские самодержцы во всех наиторжественных случаях проезжали в Кремль Спасскими воротами. Теперь Спасские ворота ждали императора Александра. И саперы копошились: нет ли минного подкопа, вроде того, какой соорудили изверги революционисты два года назад в Питере, на Малой Садовой. Подкопы отыскивали саперы, мины отыскивали.
А в вышине, над солдатами и офицерами, над Красной площадью и торговыми рядами, отзванивали в тридцать три колокола башенные часы: дважды в день “Коль славен” и дважды в день “Преображенский марш”. Отзванивали с нервной мрачностью, и москвичам было бы тягостно слушать эти башенные “пиесы”, если б только они слушали. Но горожане, занятые будничными хлопотами, лишь машинально отмечали время, потому что “Коль славен” играли в девять утра и в три пополудни, а “Преображенский марш” – в полдень и в шесть вечера. Марш этот звучал и Георгию Порфирьевичу, когда инспектор завершил наконец главный и самый ответственный раздел своей ревизии.
Однако Боровицкий холм был лишь одним из семи, на которых уселся своим широким дебелым задом Третий Рим.
Из Петровского дворца, что по Петербургскому шоссе, государь проследует в Кремль. Оно сподручнее бы с Николаевского вокзала. Да на рысях, скоренько. Но нет, существуют “исторические воспоминания”. Петровский дворец при Екатерине воздвигли в память одоления басурман-турок; все императоры в преддверии коронации останавливались в том дворце. И потому, стало быть, ехать его величеству Тверской бойкой улицей, засыпающей позже всех прочих.
Судейкин опять не мог по совести не признать ревностной распорядительности комиссии свитского генерала Козлова. Во-первых, Тверскую наново мостили, дабы царские кони, хоть и о четырех ногах, не спотыкались, и мостили лишь засветло, под призором городовых. Никаких тебе, значит, подкопов. Во-вторых, домовладельцев “на время проезда” строжайше обязали затворить все окна, все балконы, чердаки и ворота, парадные и черные двери. Как при моровом поветрии. И в-третьих, сняли с Тверской телеграфные и телефонные провода. Зачем, для чего? Этого уж и сам Георгий Порфирьевич объяснить не умел.
Князь Гедройц, лейтенант, явился в “Дрезден” поутру. Отказавшись от чая, повез Георгия Порфирьевича на Неглинку. Князь, молодой человек с какой-то прокуренной физиономией, был дельным сапером. Неглинки он ужасно опасался: тоннель пересекает главные улицы, прямо-таки готовенькая минная галерея! Да, да, уже сделаны глухие люки, но всё же… Князь ходатайствовал о специальном охранении. Генерал-губернатор Долгорукий пожал плечами: не затолкаешь, дескать, городовых в эту клоаку. И верно, с ног шибает. Князь даже головой покрутил. Но почему бы, собственно, и не “затолкать”?
Инспектор от поверочного спуска в “готовенькую минную галерею” увернулся, любезно заверив лейтенанта, что вполне надеется на его опытность. Инспектор только потопал каблуком в наглухо заклепанные люки и попятился – так оттуда разило. Ничего удивительного: Неглинка принимала сточные воды; если Яузу москвичи иронически величали семицветной, то уж Неглинка, сдается, была семидесятицветной.
Н-да-с, Москва, черт возьми, изрядно пованивала. Георгий Порфирьевич осуждал здешнее “санитарное состояние”. Оное, конечно, не входило в круг обязанностей инспектора, но ведь Судейкин-то непрестанно оказывался под его сокрушительным воздействием. Особенно в Охотном ряду, в этом московском чреве.
Охотный дымился густой, бьющей как обухом вонью. Воняло кровью, парным и лежалым мясом, прогорклым жиром и заплесневелыми костями, паленой шерстью, пухом, испражнениями, прелой рогожей. Багровые мужичины, вооруженные ножами и топорами, в кожаных фартуках, с закатанными по локоть рукавами, ворочали товаром, ворочали и тыщами.
Он бы упразднил этот чудовищный вертеп. Что ж до самих охотнорядцев… О, они всегда готовы резать студентов, жидов, умников-разумников, они плюют на все западное и чтут все исконное, они воняют, как сам Охотный ряд. Георгий Порфирьевич не одобрял “варфоломеевского дня”, когда мясники крушили универсантов. Не одобрял. Противодействие крамоле – задача полиции, воинских команд. Но инспектор, съевший собаку на политическом розыске, инспектор, внедрявший провокацию, догадывался: существуют охотнорядцы и пребудут, ибо в них надобность, как во псах при овчарне. А может, это и хорошо? Однако ж непорядок. Поди-ка сообрази… Впрочем, Георгию Порфирьевичу недосуг соображать. Какое ему, в сущности, дело? Вот коронация – это его дело.
Тихо, скромно, не привлекая внимания, Судейкин и Коко показались в Манеже, в Большом театре, во храме Христа Спасителя, в Дворянском собрании, то есть именно там, где будет государь с августейшим семейством.
К Дворянскому собранию, где готовился грандиозный бал, примыкала гостиница “Лондон”. Г-н инспектор распорядился временно поселить во флигеле полицейских чинов, а бильярдную в первом этаже временно закрыть.
Бронная и Козихи, где селились студенты (московский Латинский квартал), находились слишком близко от Тверской. Г-н инспектор распорядился увеличить там число городовых. Разумеется, тоже временно.
Две ночи Судейкин допрашивал филеров. Его интересовали настроения в университете и в Петровской земледельческой академии, на Прохоровской мануфактуре, в заводах братьев Бромлей, Гопнера, Листа. Он призвал трех водолазов, посланных Плеве, и услышал, что мины под мостами на Москве-реке “никак нет, не заложены”. Он заглянул и в императорский российский Исторический музей, только что законченный постройкой. Прапорщик лейб-гвардии показал ему наблюдательные посты, с коих просматривалась вся булыжная ширь Красной площади.
Потом, закругляясь, г-н инспектор секретной полиции явился в “Комиссию для принятия мер…”. Встретил Судейкина сам генерал Козлов, свиты его величества генерал, молодящийся, крепко надушенный, с кавалергардской осанкой.
“Итак, ваше превосходительство?” И генерал со штабной четкостью докладывал подполковнику: “На вокзале – шестьсот солдат; по пути высочайшего следования – шестьдесят городовых, жандармский дивизион; в Кремле – пехотный батальон, в Манеже – кавалерийский эскадрон; при высочайшем выходе в Кремле – сорок пять полицейских офицеров, семьдесят восемь околоточных, четыреста десять городовых, жандармский дивизион; на улицах, в толпах – четыре тысячи агентов охраны”.
Все было готово к единению верховной власти с народом.
6
Лиза обидела извозчика. Тоже, понимаешь, горазда на лихачах раскатывать, а остановилась-то где? В меблирашках Литвинова, на Варсонофьевском. Тьфу, пропасть! Извозчик был не простой – вокзальный. Эти получали от хозяев гостиниц особую плату за доставку гостей. В размере поденной стоимости номера. С меблирашек велика ли мзда? Полтинник, не больше. А Лиза, взяв лихача, вдруг и оробела: какое мотовство! И в гостиницы не поехала, поехала в дешевые меблированные комнаты.
Ей там очень приглянулось. Опрятная комната, окнами на просторный двор с деревьями и кустами. И такая миленькая горничная – тугой платочек по самые бровки, протяжный ласковый “акающий” говорок: “Харашо ли даехали, барышня? Атдыхайте на здаровьице, миласти просим…”
Сережино поручение она обязалась выполнить в первый же день. Так-то и лучше: долой записку – вольная птица. Нила Сизова надо было спросить в мастерской Смоленской железной дороги. Если неудача, отправиться к Тверской заставе – позади трактира “Триумфальный” живет его мать.
Путь был неблизкий, другой конец города. Лиза рассчитывала на конку, но, дохнув безветренной майской теплынью, услышав шум Москвы, решила хоть часть дороги, пока не устанет, пройти пешком.
Ей было хорошо: почти позабытый город, деньги есть, крыша над головой есть, время есть. И эта уверенность, что в последний месяц она похорошела, расцвела. Она замечала, что близость с Коленькой избавила ее от частой хандры и раздражительности. Теперь, когда она шла переулками, держа направление к Тверской, она ощущала в себе что-то давнее, гимназическое, будто шалунья, улизнувшая на прогулку.
Все ей сейчас было по сердцу. И эти улочки, и эти мужики с лотками, и бородач, распевавший: “Ножи, но-ожницы точить”, и дряхлевшие особняки, и даже то, что их классические фасады облеплены вывесками портных, сапожников, торговцев, вот вроде этой аршинными буквами: “Продажа бумаги писчей, почтовой, рисовальной Ивана Васильевича Жукова”. У нее радостно екало сердце, когда рядом, из-за забора, вдруг взлетали белые, серые, сизые комочки и, шарахнувшись, бойко треснув крыльями, устремлялись вверх. Ей нравилось, что дома стоят с патриархальной вольготностью, и она подумала, что вот так же, наверное, и в Архангельске, о котором брат Сережа вспоминает нередко. А большие доходные дома Лиза замечать не хотела.
Потом Лиза очутилась на Петровке, в Столешниковом, в средоточии московской, торовато распродающейся роскоши. Ее обступили перчаточные и шляпные, кондитерские и ювелирные, готового платья и готового белья. О бедный Фамусов! Эти улицы никак не утрачивали своей притягательно-разорительной силы. И, поддавшись ей, Лиза забыла Сережино поручение.
Витрины Невского были блистательнее, солиднее. Но Лиза дорожила каждым рублем. А теперь, а здесь она была проездом, она была при деньгах и не думала о завтрашнем дне. И почему-то казалось, что тут всё дешевле, доступнее и торгуют тут с какой-то ласковостью, словно одаривают, а если берут деньги, так это уж так, между прочим, не в деньгах счастье. А вокруг шум, смех, “pardon”, “merci”, радушие, предупредительность.
И верно, “вся Москва” пребывала в том нетерпеливом возбуждении поскорее и побольше накупить, какое охватывало “всю Москву” в предвкушении балов, празднеств, парадных обедов, военных смотров. “Эти петербуржцы” уже съезжаются, ну так Москва себя покажет, Москва утрет им нос. И, взбурлив, Москва осаждала Кузнецкий, Столешников, Петровку, брала пирожные от Трамбле, причесывалась у Жозефа, заказывала бордо и сотерн, галстуки и штиблеты, цветы и сигары.
Лизе до смерти захотелось транжирить, ведь она не хуже других, почему бы и не поддаться искушению, вовсе не ради коронации, а просто потому что “все”, и тепло, май, и еще потому что одна-одинешенька в этом городе. И она купила себе лайковые перчатки, купила шляпку, новомодную, парижскую, серой тафты, а вокруг тульи розовая муаровая лента, а поля подбиты черным бархатом.
Уже в сумерках Лиза добралась до Триумфальных ворот. День отходил, как жил, – в мирной теплыни. У Тверской заставы начиналось Петербургское шоссе. Пахло незастроенной, сохнувшей после недавней ростепели землею, рощами пахло, открытыми пространствами, которые хоть и не были видны из-за домов, но угадывались. Ни особняков тут с фронтонами, старых гнезд московских, ни доходных, в пять этажей, а приземистые дома, бедные, бревенчатые. Ворота у них сплошные, дощатые, высокие, не перелезешь, а калитки с фасонными щеколдами. Как в Можайске, как в Верее.
Слева, в глубине площади, за теперь уже стихающим громом ломовиков и конки, сумерки размывали фасад Смоленского вокзала, слабо синели керосиновые фонари. Лиза подумала, что пришла поздно, что в мастерских, должно быть, кончили. И вдруг удивилась: зачем это Сергей направил ее в мастерские? Интеллигентная барышня – в мастерских? Как это так, а? И для чего, спрашивается, мастерские, когда вон, по правую руку, трактир, где-то там, во дворе, живет этот Нил Сизов.
Отворила пожилая женщина. В комнате огонь горел, слышался запах стряпни и постирушки.
– Вам кого? – голос был неласковый, настороженный.
Лиза сказала.
– Ни-ила? – протянула хозяйка. – Входите.
Она зажгла свет. Лиза увидела ее лицо: властное, умное, раскольничье.
– А вы кто же будете?
– У меня к нему дело.
– Вы кто же будете?
– Простите… Он скоро?
– Право, не знаю. – Хозяйка переставила лампу, чтоб свет падал на гостью. – Садитесь.
– Благодарю.
– Чего ж, садитесь, – пригласила хозяйка властным тоном.
– А Нил скоро?
– Нил-то? – Она усмехнулась и спрятала усмешку. – Не сказывается матери. Вы-то откудова будете?
Лиза начинала сердиться.
– Скажите, пожалуйста, ждать мне, нет? Вы понимаете…
– Понима-аю, – насмешливо и сурово перебила хозяйка.
– Да вы меня не за ту принимаете! – вспыхнула Лиза.
– Сиди, сиди, ишь, подхватилась.
Лиза увидела в ее глазах как бы теплый отблеск.
– Нет, я пойду, – сказала Лиза. – У меня просьба…
– Обиделась. Я вас за ту, именно что за ту принимаю, а вы и обиделись на старуху.
– Отчего же за “ту”? – облегченно улыбнулась Лиза.
– А потому сестра наша вроде бы еще не опаскудилась.
– Вы всё загадками.
– Ка-акие загадки, милая? Я к тому, что этих-то… предателев промеж баб нету.
– А-а, – рассмеялась Лиза и продолжала послушным голоском: – Я ждать никак, ну никак не могу, а вы уж передайте, пожалуйста, чтоб навестил Елизавету Петровну в номерах Литвинова. Варсонофьевский переулок знаете?
– Как не знать? В Москве полвека, да не знать! Лизавету Петровну, значит? Так, так… – Она снова нехорошо усмехнулась. – В номера чтоб?
– Послушайте, – сказала Лиза с сердцем, – я к нему послана, а вы…
– А я что? Я ничего. А только нынче уж его не ждите.
Лиза ушла. Она чувствовала, что Сизова стоит на пороге, смотрит вслед. “У-у, боярыня Морозова”, – поежилась Лиза и прибавила шагу.
Уже стемнело. В трактире были открыты окна, мелькали половые в белых полотняных одеждах. Музыкальная машина громко вытренькивала “Ах, где же ты, моя услада?”. Лиза вышла на площадь, взяла извозчика и тут только почувствовала усталость. Но усталость была приятная, она подумала, что спать будет хорошо, крепко, и это предвкушение сна тоже было приятно Лизе…
Утро встало высокое и светлое. На дворе деревья покачивались; наверное, можно было б услышать их лепет, когда б дядьки в картузах не голосили сипло:
– Калоши старые бере-е-ем…
– Ведра, корыта, кровати починя-яем…
Нил Сизов не являлся. Ехать к нему Лизе не хотелось. “Поеду, – думала, – как домой соберусь”. Ни Светловской в “Онегине”, ни хохловским баритоном насладиться ей не удалось. Певцы были заняты репетициями, Лизе сказали, что они будут с хором на Красной площади в день коронации.
Она бродила по Москве, видела, как город охорашивается гирляндами, флагами, иллюминациями, царскими вензелями. На Страстной и Смоленской видела, как по старинке торгуют с возов. Видела, как медленно, одышливо влекутся конки, на империалы которых (в отличие от Петербурга) слабый пол не пускали.
Москва уже томила Лизу. Чувство новизны, избавления от будней затупилось. Она бы удрала домой, но в Петербурге не было Коленьки. Ужасно затоскуешь в опустелом городе. Легче думать, что они оба в краткой отлучке. И надо ж увидеть коронационные торжества, зрелище редкостное.
Торжества начались 10 мая 1883 года. В первую половину дня натянуло тучки. По крышам и мостовым играючи пробежался молоденький дождик. Потом распогодилось.
Лиза поднялась к Сретенке. Публика с серьезным радостным оживлением, похожим на пасхальное, текла в сторону Тверской, Манежа, Красной площади – смотреть, как царь поедет в Кремль.
В этот самый час к главному подъезду Петровского замка подвели снежной белизны коня в черных, глянцевито зализанных чулках. Конь был поистине царской крови, рослый, крупный, спокойный.
Император вышел из дворцовых сеней. Так выходили некогда: первый Павел, первый Александр, первый Николай, второй Александр. А теперь вышел человек чрезмерно плотного сложения, с лицом, которое одним напоминало мопса, другим – быка. Он был в генеральской форме, в круглой барашковой шапке.
Вокруг он видел знакомых, хорошо ему известных людей: великих князей и великих княгинь, иностранных принцев и принцесс, послов и посланников, статс-дам, сенаторов, генерал-адъютантов. И единственный, кому он верил последней кровинкой, тоже был тут – его денщик, его собутыльник, его верный приятель, начальник охраны генерал Черевин. Этот рубил весь мир надвое: ни для кого не досягаемый государь, при государе он – Петр Черевин; ну еще – так уж и быть – государыня Мария Федоровна с детьми. Остальные – сволочь. Все, кто сейчас в своих придворных и военных мундирах, со своими плюмажами, аксельбантами, вензельными эполетами, орденами, все, кто сейчас суетился, расхаживал, выбегал, убегал и возвращался, перешептывался, взмахивал руками, кивал, – все они сволочь. Включая и великих князей, этих лоботрясов, вечно досаждающих царю.
Император и начальник охраны переглянулись, оба думали об одном: ах, кабы да в Гатчину! Государь затворился бы в кабинетике, читал бумаги и аккуратно, крошки не обронив, набивал табаком папиросные гильзы. Черевин сидел бы при дверях. Безопасность, покой, уют.
Но Александр бессилен что-либо переменить, как может быть бессилен лишь владыка и самодержец. У него будто пухнут ноги, тяжелый, он словно еще на пуды тяжелеет. Он скашивает глаза на темноволосую женщину с прелестными зубами, полуоткрытыми в напряженной улыбке. Александр любит ее покойно, но сейчас, при ее прикосновении, грудь полнится нежностью, благодарностью, страхом. Сейчас, стоя на крыльце, готовый в путь, он уже не за себя страшится, не за наследника, не за детей. И с мольбой мысленно произносит ее имя, не русское, не Мари и не Мария Федоровна, но девичье, невестино имя – Дагмара, моля всевышнего пощадить, уберечь.
Она платит ему прочной привязанностью, хотя предмет ее тайных вожделений – некий флигель-адъютант. Но сейчас, в минуты ожидания ужаснейшего происшествия, она отчетливо и больно сознает, как дорог, как близок ей этот толстый мужчина в генеральском мундире. Будто и не было династических расчетов, а было то, что бывает у всех людей, – супружество и дети, добросовместно, в согласии зачатые.
Некогда, совсем еще юной, определили Софию Фредерику Дагмару, дочь датского короля Христиана IX, невестой наследника российского престола. Но цесаревич угас в Ницце, и юная датчанка легла в постель его брата Александра.
Если Париж стоил мессы (а Париж ее стоил), то Россия стоила перехода из протестантской веры в православную, и Дагмару нарекли Марией Федоровной. Она не смирялась со своей судьбой, потому что никогда не бунтовала против нее. В сущности, она была счастлива. Саша любил ее, она это знала, любил простодушно и доверчиво, он ведь кроток и мил, как большое дитя… Она погладила его руку. Она готова была разделить его участь.
Три пушечных выстрела возвестили Москве: государь сел на коня, чтобы следовать в Кремль, в Успенский собор. Три пушечных выстрела, один за другим, и процессия тронулась.
Великолепное шествие тронулось – живописное, пышное, глупое, театральное, азиатское. Алели бешметы конвоя его величества, переливались цветные перья на шляпах скороходов. Сахарными головами сверкали чалмы черноликих “арапов”. Обер-гофмаршал в открытом экипаже держал жезл так, словно боялся пролить чашу с благовониями. Государевы охотники красовались парадной формой. Взвод жандармов ехал верхами на вороных, эскадрон кавалергардов – на пегих, эскадрон лейб-гвардии конного полка – на серых в яблоках, эскадрон лейб-драгун – на каурых. И еще кавалькады, и еще. И четырехместные кареты с принцессами, с великими княгинями, придворными дамами.
И огромная золоченая карета, запряженная восьмеркой кобылиц, в карете датчанка Мария Федоровна в белом платье русского покроя. А в центре процессии – тот, кто готов венчаться на царствование, тот, кто искренне верит в святость происходящего и в то, что царь царствующих взирает сейчас на него, третьего Александра.
Белый конь в черных чулках, выступая тяжело и мерно, нес тяжелого, костистого, бородатого человека, наряженного генералом. “Боже, царя храни”, – гремели полковые оркестры, расставленные по всему пути следования, а когда государь приближался, оркестры смолкали и военные барабанщики с грозной отрешенностью выбивали дробь.
Тень Триумфальных ворот лежала в начале булыжной Тверской. Люди теснились и жались по сторонам улицы. Людей было множество, они кричали “ура” и махали шапками. Александр улыбался, наклонял голову. Ему было душно, у него прело в паху, толстые щеки подергивались. Странное, тягостное, мучительное ощущение липло к ладоням. Александр пошевелил пальцами, и это движение, он чувствовал, как бы приблизило его к какой-то разгадке. Но, только выпростав платок, только медленно отирая пальцы, отирая ладони, он все понял.
(Два с лишним года назад, зловещим мартовским вечером, карета, окруженная павловцами, летела из Зимнего в Аничков. Там, в Зимнем, в батюшкином кабинете, пахло кровью, йодоформом, оплывающими свечами. В минуты агонии он поддерживал голову отца, и обильный смертный пот увлажнял ладони. Руки сохранили память о зыбкой скользкой тяжести. И тогда, в карете, возвращаясь к себе, в Аничков, он отирал ладони платком. Карета летела мимо Екатерининского канала. На том месте, где грянул взрыв, стояли часовые-преображенцы. В Аничков мчалась карета. Он был один на один с этим проклятым городом. Он был один на один с притаившимися стомиллионными подданными. И ему было жутко. Сказано же было так: “Но посреди великой нашей скорби глас божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного”.)
Процессия двигалась посреди толп, флагов, жандармов, мимо взлетающих шляп, сквозь “ура”, мимо запертых ворот и подъездов. Император улыбался, наклонял голову, а на ладонях была зыбкая студенистая тяжесть…
Ударило громадно, звучно, и литой вал гулко и плавно пошел в горних высотах. Не в этом небе, как всегда меченном галками, крестами, двуглавыми мертвыми птицами, не в этом небе с его редкими обыденными тучками, а там где-то, в вечной синеве.
У Лизы пресеклось дыхание. Она не успела перевести дух, как опять, но еще громаднее и звучнее, во всю ожившую государственную мощь четырех тысяч медноголосых пудов сотряс воздух Успенский колокол. Общий вздох прошелестел над Красной площадью, и толпа сняла шапки.
А на Иване Великом, следом за Успенским колоколом, уже вступали, как младшие витязи, и двухтысячный Реутревун, и семисотенный Воскресный, и Медведь… Не марсовый рев, но ратный мужской хор, торжественный, как ополчение.
Но вот заблаговестили кремлевские соборы, и позади Торговых рядов и за рекой сотни колоколов заблаговестили. И странно: что-то переменилось, покинуло людей, редкостная минута была утрачена. Лиза уже не чувствовала слез, у нее уже не замирало дыхание, хотя она и прониклась чудной красотою московского благовеста.
Потом закричали: “Едет! Едет! Едет!” Толпы расколыхались, напирая на солдатские цепи, теснясь к Спасским воротам. Началась давка. Лизу затолкали, стиснули, она испугалась за свою новую шляпку, хотела придержать, но не могла поднять руку. Ее сжимали всё сильнее, наваливаясь на спину, она пыталась стряхнуть с себя чьи-то лапищи, ей стало жарко, она задыхалась от запаха чужих тел, пота, ваксы, от этого воспаленного животного запаха шевелящейся, колышущейся толпы, орущей “ура, ура-а-а!”.
У Лобного места симфонический оркестр заиграл из “Жизни за царя”, хор запел “Славься”. Там пели и “несравненная Татьяна Ларина”, и несравненный Хохлов, там пели хористы Большого, певчие придворной капеллы, инструментовка для хора и оркестра была Чайковского, и вот они играли из “Жизни за царя”, пели “Славься, славься…”, играли и пели у Лобного места, и “Славься, славься, русский царь” в первый, но не в последний раз звучало над Красной площадью.
Лиза едва не потеряла сознание. Она не видела, как император проехал в Кремль. Все перемешалось: чьи-то руки, чьи-то выпученные глаза, опасение за новую шляпку, “Славься”, всадники, мундирный блеск, топот коней, колокольный звон.
Чуть живая она добралась до Варсонофьевского. Ей было скверно, она не могла избавиться от чувства физической нечистоты. С досадою она вспомнила, что этот Нил Сизов так и не показался.
На дворе была тишина, недвижные деревья, бледное вечернее небо. Вдали палили пушки, салютуя императору. Она подумала о другой толпе, на Семеновском плацу. Император Александр начал царствование виселицами. В Кремль он ехал при звуках “Славься”.
“Славься, славься, русский царь…”
К Сизовым она пришла утром. Нила опять не было. Сизова и при дневном свете показалась Лизе властной раскольницей. Но, пожалуй, старше, чем тогда, в сумерках. Нет, сказала, Нил не появлялся, она и сама не знает, куда кинуться.
– Может, случилось что?
– Бог не без милости, – с каким-то, как послышалось Лизе, высокомерным спокойствием ответила Сизова. – А у вас, барышня, что к нему?
Лиза на минуту задумалась. Сережа просил отдать из рук в руки. Однако не везти ж обратно в Петербург?
– Я мать ему, – строго сказала Сизова.
– Ну конечно, да-да, – поспешно согласилась Лиза, опять робея перед властным “боярским” взглядом и думая, как бы поскорее избавиться от опасной записки, которую она таскает при себе. – Да, да, отчего же… Ножницы у вас есть?
– И стираем, и шьем, как не быть, – усмехнулась Сизова.
Лиза вспорола материю, извлекла записку.
– Вот, пожалуйста, только прошу вас никому не показывать.
– Одному попу на исповеди, – недобро отшутилась Сизова. И прибавила: – Дай-ка, барышня, я поправлю.
Она быстрой стежкой, мелькая иглой, зашила лифчик, разгладила ладонью, подала Лизе.
– А спросит, как сказать? Лизавета Петровна, в номерах Литвинова?
Лиза заколебалась, нерешительно указала на записку: дескать, там все объяснено, поймет.
– Да вы не опасайтесь.
Сизова так открыто, так неожиданно улыбнулась, что Лиза тотчас назвала свой петербургский адрес.
– Ага, не здешние, стало быть, – отметила Сизова. – Ну хорошо, ладно.
На улице Лиза струхнула: оставила адрес, дура! Всегда эдак: скажешь, сделаешь, а потом – батюшки! Вот дура… Сережка хорош: отдашь Сизову, и больше ни гугу! Но ведь мало ли что, успокаивала себя Лиза, а может, правильно?
Успокаивала, но нехорошие предчувствия владели ею. Торопливо расплатилась в номерах, помчалась на Николаевский вокзал. До поезда было долго, на вокзале мерещились преследователи, она ходила в окрестных улицах, повитых паровозной гарью, холодными руками сжимала ручку баульчика, картонку с обновами. Нехорошие предчувствия не оставили и в поезде, и Лиза то и дело украдкой озиралась.
А в Москве продолжались торжества по случаю возложения короны на толстого мужчину в генеральской форменной одежде. И на супругу его – темноволосую женщину с бархатными глазами, в длинном платье из серебряной парчи с орденом святой Екатерины на пурпурной ленте.
В Успенском соборе придворная капелла исполняла “Милость и суд воспою тебе, господи”. Управляющий капеллой Балакирев, облаченный в мундир придворного ведомства, стоял на правом клиросе; его помощник, тоже в придворном мундире, Римский-Корсаков, высился на левом клиросе. “Милость и суд воспою тебе, господи”, – пели певчие. Рядом с Корсаковым поместился человек во фраке, единственный в соборе человек во фраке – художник Крамской. Он был назначен увековечить картину коронации. Крамской рисовал, певчие пели. Император, начавший царствование виселицами, входил в Успенский собор. “Милость и суд воспою тебе, господи”.
Он прочел символ веры, у него был мягкий голос простодушного, примитивного тембра. Митрополит возгласил: “Благодать святого духа да будет с тобой, аминь”.
Этим вот “аминем” и началось, в сущности, главное действо. В нем было множество ритуальных телодвижений и телоположений, бессчетное повторение господнего имени, надевание неудобных для головы шапок, изукрашенных драгоценностями, поднесение порфиры, державы, скипетра. В этом действе были протодьяконовский бас, коленопреклонения и лобызания, пальба и трезвон, народ, кричавший на всю Ивановскую и на всю Кремлевскую площади. И тяжелый взгляд генерала Черевина, и просветленное лицо Победоносцева, и вытянутый, будто аршин проглотивший Плеве, уже произведенный в тайные советники, и развернувший плечи Судейкин, еще не удостоенный полковничьего чина.
А после – иллюминация, гульбище на Ходынском поле, пьяное и людное, и торжественный марш в Сокольниках, тот самый коронационный марш, который сочинил композитор Чайковский с “величайшим отвращением”, а Танеев дирижировал в Сокольниках, очень хорошо дирижировал.
Руки уже не напоминали о зыбкой тяжести. Бог не выдал, сюрпризов не было. И все ж хорошо бы в Гатчину. Нет, надо ездить на Ходынское поле, где чернь опорожнила тысячи бочек пива, и в Дворянское собрание надо ездить, где танцует “эта сволочь”.
А на обширном дворе Петровского замка в трех громадных шатрах истово кушают шестьсот тридцать волостных старшин – подстриженные окладистые бороды, медали, крепкие шеи.
Потом стоя они истово слушают мягкий, простодушный, вразумляющий голос:
– Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным и нелепым слухам и толкам о переделах земли, даровых прирезках и тому подобном…
Глава четвертая
1
Настоящее торжество не в Кремле вершилось, а там, где Нил Сизов приютился. Май как из духовки шел. В озерцах яснела вода. Вечерами майский жук гуще жужжал. Паровозы на Смоленской дороге кричали будто октавой ниже: березняки да осинники, одевшись листвою, глушили их окрики.
Местность была в увалистых холмах. Если взойти на взгорок, хорошо видно, весело глядеть. Конечно, и за Тверской заставой рощи, там-сям огороды, но со здешним привольем не сравнить. Живи, радуйся. И дядя Федя по-родственному принял, точно Нил с Сашей уже повенчаны.
Всё в природе спокойным чередом. Хотя – нет, Дарвином доказано: сильный остается, слабый гибнет. Борьба за существование. Так-то оно так, да ведь в людском мире хуже: волк волка не ест, человек человека азартно жрет.
Сизов книжки привез. Казалось бы, самое время приняться, а его из дому тянет, не усидит в сторожке дяди Федора. А на вольном воздухе, в ходьбе этой какие там серьезности, так, чепуховые мысли какие-то, будто в мальчишестве. Да вот иной раз залюбуется Москвой-речкой (здесь верх ее, талые воды сойдут, богородицыной слезой будет), речкой залюбуется иль лесом, что на крутом левобережье, и вдруг Митя перед глазами встанет. Глядит с укором: благодать тебе, Нил, а мне, брат, темно и сыро, нет меня и уж не будет во веки веков.
На свет они погодками явились. Митя первенцем. Росли о бок. Нил в росте не отставал, в плечах тоже. Отец досадовал: “Что б тебе, мать, промежуток оставить – одежа бы с одного на другого перелазила”. А мать ему: “Твоя вина – дорвался!” Отец плешь почешет, бросит молоток, обнимет жену.
Отец-то у Нила неказист был, мать – красавица. К ней когда-то удалые ухажеры Ямского поля лепились, она нет да нет, вот бог, вот порог. Отец ста́тью не удался, зато рукомеслом взял. Ему обувь носили фасонную, сапоги заказывали. Митька и Нил с пеленок нюхали тяжелый запах товара, видели дугу отцовой спины и как торчат в его сжатых губах гвоздочки, один к одному, рядком.
“У Якова-то, – не сомневались соседи, – ребяты поднимутся, не иначе тоже тачать будут”. Вышло иначе. Едва поднялись, Сизов определил обоих в образцовую ремесленную школу в Грузинах. “Пущай по металлу обучатся”. Мать опешила. В дому она голова, а как мальцов определять, Яков не спросился броду: “По металлу!” Она вспылила, у нее это не в редкость. И что же? Оказалось, Яков-то сиднем сидит, но далеко целит. Яков своей Нюре как одну копейку: теперь, говорит, нужные, вот что. Да и почище моего пусть поживут, вот что.
В ремесленном стали учить и простой и технической грамоте, стали учить Митю на токаря, Нила – на слесаря. Мастер-наставник, махонький, седенький, пошучивал: “Глядишь, братики, дело свое взбодрите, а? «Металлические изделия. Братья Сизовы». А? Хе-хе! – Взденет очки, задумчиво, будто что припоминая, добавит: – Очень это возможно, ежели пофартит”. Ему-то, верно, не пофартило.
Ребят похваливали. Отец, лучась глазами, благодарил царицу небесную. Что ж до начальства в образцовом ремесленном, то уж тут Сизов отрабатывал как барщину: обувку чинил даром.
Но вот беда – недоглядел Яков Илларионович, как сыны к чтению приникли. Сам-то он книжек опасался, ровно дурной болезни. Духовные, конечно, исключение. Но для тех попа содержат в церкви Василия Кесарийского. И вот книжная зараза змеей приползла, шурх в двери – вот она я!
Ногами Яков Илларионович не топал, ни к чему это. И драть не стал. Сопливые были – пальцем не коснулся, а теперь поздно – вымахали с Ивана Великого.
Яков Илларионович подсел к книгочеям, чего-то незримое смахнул со стола, накрыл страницу ладонью.
– Та-ак, – вздохнул, – значит, пропадать надумали?
– Отчего, папаня? – удивился Митя.
– То есть как “отчего”?
Яков Илларионович, наморщив лоб, осуждающе пошлепал ладонью по книге.
– Дак это ж Некрасов, – встрял младший. – Мить, зачти.
– Цыц! – вскипел Яков Илларионович. – Я те зачту! Чтоб больше… – И швырком книгу. – Поняли?
– Нет, не поняли, – заупрямился Митя, хотя Нил и пихал его под столом ногою. – Мудрено понять, папаня.
Яков Илларионович уже поостыл, кротко высказался:
– Я вам добра желаю.
– Знаем, папаня, – согласился Митя, – да ведь и в книжках добро.
– Эх, не ведаете, что творите, – покачал головою отец. – Ну-ка, нам вот с матерью… – Он оглянулся на жену; та стирала, стоя к ним спиною, но по тому, как белье и вода все тише ходили в корыте, понятно было, что она прислушивается. – Да-а, – продолжал Яков Илларионович, – вот, стало-ть, скажите нам с матерью: кто вы такие есть?
Сыновья скупо улыбнулись.
– Э, стой! – прихмурился отец. – Говори: кто вы такие есть?
– Мы есть дети своих родителей, – почтительно отвечал Нил.
– Хорошо, верно, – почти удовлетворился Яков Илларионович. – А еще кто? По сословию-то кто?
– Мастеровые, – догадался Митя.
– Во, во, – возликовал Яков Илларионович, – загвоздил в точку. Мастеровые. Отсюда что? Отсюда вот что: дело ваше мастеровое, а книжки эти, пропади они пропадом, дело студентское. Что и заключается, – победительно резюмировал Яков Илларионович.
Нилу не хотелось огорчать старика. “Ладно, пусть его, – думал Нил. – Мы с Митькой схоронимся”. Но старший заершился. Дескать, не затем грамоту выучили, чтоб кабак от булочной отличать. Дескать, в книгах добро и разум черпаешь. Дескать… Тут мать распрямилась и таким это голосом, точно кочергу узлом вяжет: “Отец дело говорит, а вы поперек!” И у обоих братьев – головы в плечи.
От чтения, однако, не отпали. Тут у них, в доме, во втором этажике, Санька жила, девица еще, на суконной мануфактуре Бома работала; матери у нее давно не было, вдовый отец, дядя Федя, путевым сторожем на Смоленской служил, редко наезжал. У Саньки они и приловчились.
Скоро, впрочем, мать обнаружила, где сыновья сумерничают, и неожиданный укор выставила: “Что ж, олухи, девку-то хорошую позорите? Застрамят ее соседи”.
А Мите с Нилом, ей-богу, ничего “такого” в голову не забредало. Явятся к Саньке (Сашей звать стали), она, усталая, прикорнет за своей занавесочкой в цветочках, посапывает, слушать приятно, а Нил с Митей листками шуршат. Не торопясь читают, со смыслом и памятливо. Студент (началам механики в ремесленном учил) занятными книжками ссужал Сизовых. “Надо, – говорил, – больше читать и больше думать”. Сперва давал такие: “Пауки и мухи”, “История одного крестьянина”. Потом сказал: “Можно, господа, за Беляева приниматься”. Какой такой Беляев? Оказывается, “Крестьяне на Руси”. Для чего, зачем? “А для того, – отвечает, – что следует досконально штудировать крестьянский вопрос, ибо в России это вопрос вопросов”.
После маминой укоризны оба вдруг и приметили, что Саша вправду “хорошая”, да только не в одном, мамином, смысле, а и в другом, о котором вслух неловко говорить. Нил было надумал отстать, но Митька, ерш, на дыбы: “Э, предрассудки! Наши отец-мать понятия при крепостном праве получили”.
Яков Илларионович, конечно, тоже знал, где ребята сумерничают. А разве свяжешь? Очень он за них тревожился. Ужинать сядут, Яков Илларионович ввернет, что от книжек этих, пропади они пропадом, все на свете беды, бунты, смута, прежде смирно жили – и ничего, кормились, да еще как, жирнее нонешнего, а теперь какие-то злодеи-социалисты обнаружились, бомбы в живых людей кидают, из револьвера палят, ни царя небесного для них, ни земного, всё тьфу. И чего только полиция ушами хлопает? Он бы, Яков Илларионович, словил, загнал бы черт-те куда, хоть на остров Сахалин.
Митя с Нилом не спорили. Молчок. Пусть отец что хошь, а они ложками стук-стук. Но опять-таки Митька сорвался.
– Ругаешь социалистов всяко, а сам и в глаза ни одного…
– Не-е, я бы их, супостатов, порешил, – загрозился Яков Илларионович, который, что называется, и куренка в жизни не обидел.
– А вдруг, батя… Вдруг на поверку сын твой Митька как раз и есть социалист?
– Прикуси язык, дурень! – крикнула мать.
Социалистами сыновей своих Яков Илларионович не увидел. В ту осень, когда ребята в мастерские Смоленской железной дороги устроились (рукой подать, за вокзалом), занемог он жестокой горячкой. Загорелся как сушинка, в два дня и убрался. Мать не голосила. Инструмент, покинутый навсегда, в руки брала. Возьмет и смотрит, смотрит. Митя от нее ни на шаг: “Мам, а мам”, – не слышит. Нил плакал.
Стали жить втроем. Митя и Нил до последнего пятака всё матери отдавали. Хорошие получки у них были, потому что большие ремонты начались. Мать раньше, бывало, посмеется: “Вот уж, Яша, ребяты на ноги встанут – покатаемся как сыр в масле”. Теперь она не то чтобы постирушки сократила, а еще дольше в господских домах пропадала. Они чуть не на коленках: “Не надо, мам! Чего нам не хватает? Христом-богом просим!” Она ладонью тронет их колкие уже щеки: “Мне так лучше”.
2
Обоих Сизовых быстро аттестовали в мастерских: из тех, мол, которые “божьей милостью”. Мастер, сам токарь и слесарь первой статьи, откровенно, не боясь, что молодые задерут нос, признавал: “Брательники эти паровоз из проволоки сладят”.
В огромных мастерских Нилу с Митей все по душе пришлось. И сама их огромность, не то что закутки у “рашпилей”, как прозывали мелких хозяйчиков; и машины “на чистом электрическом ходу”; и германской выделки инструмент. А работы не муторные, всякий раз как загадку отгадываешь.
Составилась у Сизовых “умственная” компания. Даже Лоскутов примкнул, человек серьезный, самостоятельный, повидавший белый свет. Он не только в Питере иль в Кронштадте токарничал, но и за кордоном, на Льежском оружейном… Этот вот Лоскутов и предложил однажды: “Хорошо бы, братцы, в обед не турусы на колесах, а газетку сухомятникам!” Кто жил далеко от мастерских, прозывался “сухомятником”, потому что харчи брал в узелке. Сизовы хотя и не брали, домой в обед бегали, но поддакнули Лоскутову.
Газеткой не обошлось. Мало-помалу то Успенского Глеба, то про Гарибальди, но все цензурой дозволенное. А не дозволенное цензурой – вечером, для немногих. Теперь и дома можно было, Сашу не беспокоили.
Она сама обеспокоилась, пришла как-то.
– Можно? – спрашивает. – А то скучно.
Косынка на ней была новенькая, такой Сизовы раньше не видели, и ботинки новенькие, на каблучке и со шнуровочкой. Улыбается скромненько. Хозяева еще и рта не открыли, как Гришка-красавчик, из медницкой, Гришка-кавалер выискался:
– Отчего же, коли скучно. Пожалте, пожалте.
И так это особенно на Сашу глянул, Нила с Митей на кривой объехал.
– Заходите, Саша, – промямлил Митя, вдруг обращаясь к ней на “вы”.
Гришка, разлетевшись, табуреточку подал и даже будто пыль с нее смахнул, как половой. “Ишь, шельма”, – неприязненно подумал Нил, а у Саши глаза смеются. Митя просительно скосился на Лоскутова, тот и завел:
– Стало-ть так, господа, приезжаю я в Кронштадт, от Питера это неподалеку, городок на острове, кругом, значит, вода. Само собой, пароходы разные.
Пощуриваясь, ковыряя в ухе, Лоскутов нес околесицу. Саша вежливо слушала. Сидела она прямо, руки вытянула на коленях. Гришка постреливал в нее зенками, бровями поигрывал. Нил и Митя, изображая равнодушие, злились. Мастеровые покуривали, усмехались: “Горазд Лоскутов лапти плести”.
Саше чудно было. И чего собрались? Водку не пьют, даже книжку не читают. Эка невидаль, приехал дядька в какой-то там… (Она позабыла, какой город.) Ну, в завод нанялся, куда ж еще?.. Гришкино внимание льстило Саше. Но вот если б заместо этого парня да Нил… Она догадывалась, что Нил сердится. “Позлись, позлись, – тешилась, – а то ходишь мимо”.
Право, Гришка нахал: ишь, бровками дергает, Скобелев-победитель. А Санька-дуреха млеет. Своя-то она своя, но попробуй-ка читать при ней “Устав боевой дружины”.
У Саши наконец скулы задрожали от подавленной зевоты. Гришка вызвался было проводить, да она ему: “Благодарствуйте, мне рядышком”, – и, округлым плечом дверь нажимая, перехватив взгляд Нила, вдруг и зарделась.
– Посиделки, – проворчал Лоскутов. – Время даром… В другой раз умнее будете.
Кому он выговаривал, Митрию ли с Нилом, Гришке ли, разлетевшемуся со своим “пожалте”, неясно было.
В следующую субботу прочли “Устав”. Митя отрубил: “То, что нам нужно! Действовать!” Нил отмалчивался. У него свои соображения, да на людях неохота с братом перекоряться. “Устав” этот что? “Устав” требует полного признания программы партии “Народная воля”. А Нил, по правде сказать, и про “Черный передел” подумывал, отрицающий террор. Эти ж вот дружины названы боевыми, и каждый, кто в них, обязан участвовать в терроре: кому заводского доносчика убрать, кому предателя-шпиона, чтоб в охранку не шастал, а кому и покрупнее дичь срезать, коли призовут. Но ведь и то в расчет взять – кто важнее императора? Ну одного убили, другой сел, и теперь уж порохом вовсе не пахнет.
Нил отмалчивался. Да в общем-то, все смешались. Словно бы тяжестью их придавило. Не газетки “сухомятникам” пощелкивать, не книжки разбирать. Тут кровь, смерть, виселица, тут отчаянность во какая нужна. Работу забастовать – почему и нет, если прижмут? Но чтобы это с бомбой выскочить… Да-а-а, смешались мастеровые. Лоскутов тоже вроде смутился. Эх, не ко времени он, не подошло тесто, хоть и дрожжи есть.
– А я, братцы, – молвил Лоскутов, глядя в сторону, – я так, для ознакомления. – Он помолчал. – Чтоб знали вы: есть такие дружины. А лучше сказать – бывали, потому жандармерия, известно, гадов своих во все дыры запускает… Ну для ознакомления, значит, спешить-то нам ни к чему.
Митя Сизов загорячился, вспылил, совсем как мать. Лоскутов внушительно и намекающе пресек:
– Ты за всех не ответчик. Желябов, покойник, советовал: лучше меньше, да лучше.
Мастеровые разошлись. Митя напустился на брата. Нил отвечал, что хотел бы прежде определить суть несогласий “Народной воли” и “Черного передела”. Дмитрий растопырил пальцы.
– Разные, видишь? Пальцы-то, говорю, разные, а на одной руке и одному человеку служат.
Нил показал сжатый кулак:
– Так-то способнее. Верно?
Но Дмитрий свое не отдавал.
– Возьми, Нилка, семью. Муж с женой не во всем сходятся, а живут вместе и вместе детей растят. А ты – “несогласия”! Чему удивляться! Вот если бы их не было, тогда бы да, тогда удивляйся. – Он тряхнул черными, с блеском, такими же, как у брата, волосами. – Я тебе скажу: противно будет жить, если все на одну резьбу. Если такое случится, род людской вымрет. Ей-богу, вымрет!
– Эва хватил, – рассмеялся Нил. – Быть такого не может.
После неудачной попытки устроить боевую дружину Лоскутов, похоже, охладел к сизовской компании. А вскоре, ни с кем не простясь, исчез. Однако перед тем познакомил братьев Сизовых с человеком в рыжих вихрах и обильных конопушках. Сказал: Савелий Савельевич, нелегальный, беречь надо Савелия Савельевича. То был Златопольский, член исполнительного комитета “Народной воли”, о чем, разумеется, Сизовым знать не полагалось.
Савелий Савельевич не часто навещал Тверскую заставу. Наверное, не один сизовский кружок занимал его время. Но уж когда приходил, очень горячо, толково беседовал и о французской революции, и о борьбе за политические права, без которых не видать народу свободного существования, и об идеалах социализма. Беседовал однажды и о Парижской коммуне, всех увлек, а больше других, кажется, Нила. О делах же практических Златопольский, несмотря на тоскующие намеки Дмитрия, не заговаривал.
Практические дела, впрочем, сами набегали. И как-то так оборачивалось, что в застрельщиках ходили Сизовы.
Ученик был у них в мастерской, тихий, старательный, да на беду, не потрафил чем-то мастеру, тот ему и скостил помесячную плату. Ни много ни мало – на пять целковых скостил! Мальчонка плакал, мастер пихнул его взашей, а тот к Сизову-старшему: “Дядя Мить, заступись!”
Мастер осерчал: “Не лезь, Сизов, твое дело сторона”. – “Это, может, ваше дело сторона, господин мастер, – возражает Дмитрий, – а наше – артельное: вы ж знаете, парень и сестренку, и больную мать содержит…” Токари, слесари вокруг сгрудились. Мастер самолюбивый, ежели б один на один, а тут все смотрят, нельзя отступить, он и Митьку послал “вдоль по Питерской”. Выдвинулся младший Сизов: “Нехорошо, господин мастер. Ведь сами понимаете, разве справедливо…” Мастер и этого обложил выше макушки. Нил крикнул: “А что, ребята, так и утремся?” Народ молчал, мастер ободрился: “Утрешься!”
В конторе брякали счеты. Конторщики уставились на Сизовых. “По какой надобности?” – “К начальству”, – хмуро ответил Дмитрий.
Начальником мастерских Смоленской дороги был пожилой холеный инженер, пенсне у него сверкало, манжеты, запонки-камушки тоже сверкали.
Дмитрий, вольно заложив руки за спину, рассказал, что произошло. Инженер произнес наставление – кто есть такой господин мастер. Выходило, мастер прав.
– Да ведь какая ж это бережливость? – рассудительно отвечал Нил. – Железной дороге, господин начальник, выгоднее хороших работников выучивать, как этот мальчик. А голодом морить и невыгодно и позорно, не по-человечески.
– Гм! Экономия, выгода. Вот как? – Инженер снял пенсне, по лицу его мелькнула улыбчивая тень. – Гм! А вы, однако… Хорошо, я подумаю. Можете идти, улажу.
– Вот так-то оно разумнее, – похвалил Дмитрий.
– Н-да? – иронически отозвался начальник. – А кстати, ваши фамилии? Сизовы? А-а, как же, как же, – протянул инженер. – Наслышан. Ну-с, можете идти, желаю здравствовать.
Вечером, уже на улице, окликнул братьев конторский сторож:
– Эй, ребята, погоди-кась… Только это вы оттеда вышли, а к начальнику один из ваших, из слесарей. Как его, мать его… Куликов, что ли? Да из ваших, из слесарей.
– Куликов, – сказал Нил.
– Во, во, тараканом забег к нему: эти, грит, Сизовы первые у нас заводилы, не иначе, грит, сицилисты, господин начальник.
– Ну? – рванулся Дмитрий.
– Вот те и ну! А наш-то, Орест Палыч: мне, вскричал, наушников не надоть, ты, грит, беги еще и на меня доведи.
– Ох ты, – обрадовался Нил, – молодцом наш инженер.
– Ладно, – нахмурился Дмитрий, – тут другое: этого Куликова гнать, суку, вот что. Нынче – к начальнику, завтра – к жандарму.
– Известно… – утвердил сторож.
После Рождества выдалось “практическое дело” крупнее. Расценки снизили, мастеровщина взбурлила: “Последнюю шкуру дерут!” И гурьбою к Сизовым: “Что же это такое, а?”
Инженер принял сухо:
– Правление в силу разных причин не может платить по-прежнему, вы, господа, как я заметил, понимаете… Ну-с, не может.
– А рабочие, Орест Павлович, – попытался объясниться Нил, – не могут в силу одной-единственной причины: нам, как и вам, есть надо.
– Не моя власть, – пожал плечами инженер.
– Да ведь и от нас кое-чего в зависимости, не так ли? – пригрозил Дмитрий.
– Это уж как угодно-с, – опять пожал плечами Орест Павлович. – Одного не забывайте: Россия не Англия.
– Не Англия, – бойко согласился младший Сизов. – Но может обернуться Ирландией.
Вроде бы комитет собрался у Сизовых. На другой день предъявили в контору письменное требование, Орест Павлович раскричался, потом утих. Помолчав, нервно пощипал бородку, сказал, что передаст требование в правление железной дороги. Но пока просит работать, потому что каждый пустой час приносит такие-то и такие-то убытки.
Единодушия в мастерских не было. Одни нехотя соглашались встать к работе, но большая часть уперлась на своем. Гришка-кавалер орал, что нечего ждать, хватит, надо-де контору крушить. Сизовы кричали, что нет смысла, этим, мол, не пособишь. Какое там!
Еще с ночи ударил крещенский мороз. Теперь, утром, все бледно курилось. На путях хрупко повизгивали колеса, пар из локомотивов бил как хлыст. Конторское красного кирпича здание обметало сединой.
Сторож воински, храбро раскинул руки: “Стой! Не пущу!” Его оттолкнули. Минуту спустя брызнули, как от взрыва, стёкла. Послышались крики, стук, грохот, дребезг.
Контору громили недолго. И как-то тотчас иссякла ярость. Ребячески озираясь, утирая пот, ощущая бессмыслицу погрома, мастеровые торопливо вернулись к станкам, к верстакам и с какой-то виноватой жадностью, одержимо принялись за дело.
Сизовы из мастерской не выходили, они не громили контору, но тоже, как все, чувствовали что-то унизительное, беспомощное и тоже, как все, работали одержимо, точно наверстывая упущенное.
Вскоре явились жандармы. Кони, прядая ушами, пугливо косили на черные локомотивы, на вагоны, на весь этот чуждый им мир железа, пара, угля.
Велено было шабашить. Вошел офицер, капитан кажется. Высокий, гибкий, смотрел весело, все в нем будто играло, в руке листок – список зачинщиков и смутьянов.
Глядя на офицера, Нил вдруг испытал оскорбительное чувство бессилия перед таким же, как и он, двуногим существом, разве лишь одетым в платье особого фасона. И еще сознание своей малости, своего ничтожества пред тем мертвенным и холодным, что слышалось в скрипучем слове “государство”. Нил испугался. Его испуг был похож на детский: как в темноте или у кладбищенской ограды. Но притом Сизов сознавал, что трусит, собственно, не этого капитана, не этих жандармов, а вот того, безликого и скрипучего, которое стояло, как морок, за ними.
Капитан не торопясь, гурмански приступил к арестованию. Он будто еще повеселел, выкликая фамилии, означенные в “черном списке”. И те, кого офицер называл, покорно, бледнея, с потерянной, кривой улыбочкой отходили в сторону.
– Сизовы, – все так же весело произнес капитан.
– Вот те раз: во чужом пиру похмелье… – высоко, чуть не сорвавшись, прозвенел Дмитрий.
Капитан взглядом полоснул его как клинком.
– Ладно, ужо похмелишься!
Арестованных набралось десятка три. “Бежим, как поведут”, – шепнул Нил. Дмитрий засопел: “Не башиловские яблоки”. (Мальчишками лазали по башиловским садам, что за Ямским полем, всякий раз счастливо уходили от сторожей с дробовиками.) “Сбегу, пра, сбегу”, – шептал Нил, уже не страх чувствуя, но азарт. И громко обратился к капитану:
– Ваше благородь, дозволь оправиться.
Офицер поискал глазами просителя, осведомился:
– Обмарался?
– Около того, ваше благородь, – скорбно отвечал Нил, прижимая руки к животу.
Капитан усмехнулся.
– Сведи его, Ильин. – И уже вслед крикнул: – Да побыстрее там.
Сортир был просторный, как в казармах.
– Ты, парень, мигом, – буркнул жандарм, не переступая порога и крутя носом.
– Мигом, дядя, только вот запором маюсь.
– Меньше жрать надо-ть, – выставил диагноз жандарм, недовольный дурацким своим постом у заводского ретирадного места.
Сизов уединился. В разбитом окне розовел и клубился полуденный мороз. Нил примерился к оконному проему. Нахлобучил шапку. “И-эх, спаси и помилуй!”
Зайцем стреканул он за груды ржавого железа, на цыпочках, как пританцовывая, скользнул меж дымивших холмов шлака, выскочил позади пакгаузов на запасные порыжелые пути и припустил во все лопатки. Он несся в сторону Ваганькова, хватая грудью студеный воздух, перепрыгивая стрелки, мотки проволоки, шпалы, поленницы.
3
За старшего Сизова взялся плотный господинчик, брюхастенький, русый, с выпуклыми глазами бутылочного стекла.
Дмитрием Сизовым занялась не мелкая охранная сошка, а сам Скандраков, Александр Спиридонович Скандраков, начальник московского секретно-розыскного отделения. Приятель и сослуживец Судейкина, он не без основания считался alter ego[2] главного инспектора государственной полиции.
Дмитрия Сизова отделили от прочих. Не потому, что он не участвовал в погроме конторы. Нет, г-н Скандраков отделял овец от козлищ. В этом Сизове он угадывал запевалу.
Как и Георгий Порфирьевич, Скандраков принадлежал к розыскным деятелям новой формации. Ему претило показное жандармское рвение, ничего не значило число уловленных. Во сто крат была для него важнее паутинная осведомительская сеть, а не дуроломное изъятие недозревших преступников.
– Прошу садиться.
Скандраков помещался далеко от Дмитрия, на другом конце узкой длинной комнаты. “Боится, сволочь”, – подумал Сизов, вглядываясь в брюхастенького.
И тот, казалось, тоже не без интереса всматривался в Сизова. Потом заговорил. Неторопливо и очень уверенно, будто наперед все зная. Тоном строгим говорил, но не угрожающим. Глаза грозили, голос нет.
Противоречивость эта раздражала Дмитрия, он, однако, вспомнил, что́ Златопольский рассказывал о поведении революционеров в застенках, и решил блюсти вежливость, собственное достоинство, а главное – “не давать фарисею ни зацепочки”. Но это-то последнее и оказалось самым трудным.
На утверждение Скандракова, что он, Сизов, давно уже “в революции”, Дмитрий возразил:
– Какая там “революция”? Я в мастерской с шести до шести, а то и на весь вечер останусь. Книжку почитать и то времени нет.
– Тэк-с, на книжку времени нету? Да они небось трудные, а? – Скандраков проницательно улыбнулся. – Политическая экономия, да? Миртова “Исторические письма”? – И наклонился доверительно: – А кто советует такое читать? Ведь есть благодетель – советует? И номерок “Народной воли” принесет, не так ли? Ну-с, какие ж мы книжки читаем?
– А какие подвернутся.
– А где ж берем?
– Покупаю.
– И “Народную волю” покупаем? Вы же народоволец, а?
– Я про таких не слыхал.
– Да? Простачком будем прикидываться? Я не я? А ведь как бы не пожалеть: мышеловочка хлоп – и пожалеете. Вы, Дмитрий, в расцвете, руки золотые. Ну зачем это вам, к чему? Всё впереди, ан вдруг и мышеловочка. К чему этакое?
“Сволочь, – накалился Сизов, – пожалел волк кобылу”.
– В толк не возьму, чего держите? – спросил он, глядя на Скандракова с плохо скрытой ненавистью. – Контору не громил, всякий подтвердит, а меня вторую неделю ни за что ни про что. Работать надо, матери помогать, я, может, уж сороковку потерял.
– Очень понимаю, – живо откликнулся чиновник. – У меня, Дмитрий, тоже мать-старушка, как не понять. Примерный сын, похвально. А мы вам, Дмитрий Яковлевич, за все и заплатим. Что? Ой, господи, как же вы так превратно поняли? Деньгами заплатим. Что-с? Привыкли работать и за работу получать? Опять же похвально. А как иначе? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Конечно, за работу. Мы работу дадим. Мы здесь тоже в социализме малость смыслим, да, да, не думайте, пожалуйста. Вот хоть меня взять. Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Я, ежели хотите знать, социалист. Но государственный! Да-с, государственный социалист. Коли изволите, социал-монархист. В социализме есть зерно истины. Капиталисты, согласен, обиралы, наживалы, захребетники. Но только твердая власть может защитить бедных, заставить богатых поделиться с бедными. А нам мешают, не дают, к жестокости понуждают. А куда, к чему зовут вас народовольцы? “Воля”, хе-хе-хе… Да они к власти рвутся, сами для себя, вот что, Дмитрий Яковлевич. Вы хоть и народоволец, да они и вас вокруг пальца обводят, а мы вам, ей-богу, поможем.
Сизова поташнивало. Встать бы да и хрясть эту сволочь по соплям, встать да и припечатать, чтоб дух вон. Но Сизов не взорвался. Повторял:
– Другой работы не возьму, я свою люблю. И денег не возьму. Отпустите вы меня, не наигрались, что ли?
– Какая игра? Какая игра, господин Сизов? – приобиделся Скандраков и короткими ножками посучил. – Кто же это играет? Я с вами играю? – И выдохнул с чувством: – Эх, Дмитрий, Дмитрий!
– Знаю, как вы играете, – бухнул Сизов.
– Знаете? Откуда же? Кто рассказывал? Ведь не с неба ж, а? Ну кто? Кто?
– Насильничаете, – озлобился Дмитрий, сознавая, что не следует так отвечать, но уже почти не владея собою.
Теперь Скандраков и вправду обиделся. Новатор в секретной полиции, он не считал себя инквизитором, понимая насилие в прямом, физическом смысле. Замечание Сизова задело его.
– У вас к нам нехорошее отношение, – молвил Скандраков со строгой укоризною. – Мы отечество от хулы и хаоса бережем, а вы… “насильничаете”! Ну кто это вам внушил? Откуда вы это взяли? Я вам открою: раньше, в прежние-то времена, бывало, хотя и тут много напраслины возводят. Но теперь! Э нет, Сизов, вы это запомните: никаких насилий. Вы вот лучше скажите-ка, кто вам внушил такое?
– Ничего не скажу, оставьте меня.
Скандраков молча рылся в бумагах. Потом устало вздохнул.
– Н-да-с, характерец у тебя, Сизов, не леденец. А братец единокровный, тот, знаешь ли, покладистее.
Дмитрий не понял. Только будто гром отдаленно прогремел.
– Помоложе годами, – продолжал Скандраков, твердо уставляя в Дмитрия бутылочные глаза, – помоложе, но, знаешь ли… – Он приложил палец ко лбу. – Себе на уме молодой человек-с.
Сизова как на ухабе подбросило.
– Врешь, сволочь!
Бдительный палец Скандракова мог бы и не нажимать пуговку электрического звонка: верзила-гайдук был уж в кабинете.
– Ничего, ничего, – повторял Скандраков, адресуясь не то к верзиле, не то к себе самому, а может, и к Сизову. – Ничего, бывает. – Он щелкнул серебряным портсигаром. Удивительно, как портсигары вовремя приходят на помощь чиновникам политической полиции. – Садись, садись, Сизов. Куришь?
Дмитрий кивнул. Ему было так скверно, что он и не подумал, следует ли тому, кто “в революции”, одолжаться табаком у врага. Гайдук подал папиросу, поднес спичку. Дмитрий затянулся, голова у него пошла кругом, точь-в-точь как в мальчишестве, когда он впервые прилепил самокрутку на мокрую губу. Скандраков поплыл, по столу заходили враскачку медные высокие подсвечники, Дмитрию казались они циркулями, какие были в чертежной при мастерских.
Скандраков опять заговорил. Он не называл имени Нила, он как бы в пространство рассуждал о тех, что “хоть и помоложе, но…”. И Дмитрий уже не вскакивал, не кричал, а сидел пригнувшись, зажимая в кулаке папиросу, и, коротко, быстро затягиваясь, слушал Скандракова:
– …выпустим, конечно, зачем держать, но я не вправе скрыть некоторые обстоятельства: станут часто сюда приглашать, вам, батенька, от этого не уйти, ну и, натурально, заподозрят товарищи ваши, то-се, шепотком, а потом, смотришь, и нож найдется, как уже случалось не раз. А скрыться… – Он ладошками в стороны махнул, как ангелочек крылышками. – Скрыться, не обессудьте, не придется. Вы вот не цените моей доверенности, а я вам прямо говорю: филеров приставлю-с. И, ей-богу, зря упрямитесь.
Освободили на масленицу. Сизов, щетинистый, вшивый, вышел из арестантского дома в гукающую теплую метелицу. Он чуть было не угодил под бубенчатого троечника, бабьи румяные лица вспыхнули, из трактира пахнуло блинным духом, и Дмитрию вдруг захотелось плакать, напиться и плакать, обминая пальцами чьи-то обнаженные круглые плечи.
Сани летели плавно, как сама государыня-метелица, Дмитрий слышал женский смех. Наверное, и мужчины смеялись, он слышал только женщин. А сани мчали к Новодевичьему монастырю, туда, где гуляет широкая масленица, где балаганы, горки и снежный дым над Москвой-рекой, до самых Воробьевых гор. И по Тверской бежали санки, легко оставляя позади унылую конку, к Петровскому замку летели, на большой круг в роще, где тоже гуляли.
Уже болезненной синевою подрагивали керосиновые фонари, уже освещались окна, в них шатались тени, а метелица все гукала, ходила плавно, как и положено на Москве в масленую неделю.
Мама поднялась, у Саши ладони метнулись к щекам. Мама не кинулась, не обняла, брови у нее затрепетали, еще черные красивые брови, такие же, как у сыновей, мама не кинулась, не обняла, а перекрестила дрожью пальцев и молча поклонилась низко.
– Здравствуй, мам.
Она заплакала.
– Нил дома?
Он же видел, что брата нет. Он спросил машинально, про Нила подумав мельком. Молчаливый мамин поклон сразил его, ему нужно было услышать ее голос, вот он и спросил про Нила. Но она не отвечала, она плакала. Дмитрий взглянул на Сашу. Саша медленно отняла ладони от щек и опустила глаза, и Дмитрий опять подумал про брата, но уже не машинально, не мельком, а с отчетливой, пронзительной тревогой.
4
У Никитишны, в “гранд-отеле”, чуть не исподнее пропивали: потому как масленица и без “монаха” обойтись нет возможности.
“Гранд-отелем” именовал эти смрадные подвалы сосед Нила, бывший акцизный чиновник, насмерть отравленный зеленым змием. А “монахом” прозывался штоф оглушительной водки, и разминуться с ней, да еще на масленую, действительно никаких способов не обнаруживалось.
По случаю праздников хозяйка оделила братию полудюжиной сальных свечей, и теперь в гостиной или в зале, то есть в одном из самых обширных подвалов, относительно сухом и теплом, стабунилась вся золотая рота. Благодушно присутствовал и городовой, тоже здешний обитатель, с очень звучной фамилией – Сенатский.
И сама Никитишна, ворчунья и скупердяйка, но, приглядеться, не такая уж и ведьма, завернула к постояльцам, и рюмочку восприняла, и угощением не побрезговала.
Угощение было копеечное – рыба вареная. Зато бутылки – початые и еще не початые – составляли главную часть пиршества, как пожарный обоз во время смотров у Китайской стены.
– Не откажи, – ласково подносил хозяйке рябой мужичонка в красной палаческой косоворотке. – Выпей, родная.
– Пусть Манька спляшет тогда уж, – кобенилась Никитишна. – Коза, а Коза? Слышь, что ли? Будет тебе… – она вышамкала непристойность.
Из тонувшего в темноте угла отозвался плаксивый, с придыханиями голос:
– Только Сенечку приворожу, Никитишна требует…
Публика расхохоталась. У Никитишны мелкие слезочки брызнули, так и залилась. А рябого в красной рубахе облапил, покачиваясь, чубатый Вася-драгун и тоже пристал:
– Выпей, ваше благородь, мы ж к тебе всей душой!
– Гм… душой! – потешалась Никитишна, отпихивая его руку со стопкой. – Иде она у тебя, душа-то? Черту заложил душу-то.
Всякого, не в ладах кто с полицией, Петербург выручал проходными дворами, а Москва – подвалами. В отличие от петербургских, обособленных, наглухо замкнутых, московские подвалы дружественно сообщались то дверью, невесть для чего сделанной, то каким-то пещерным лазом, то почти крысиным ходом, как бы прогрызенным в кирпичной кладке. Можно было, как в здешних, приютивших Нила Сизова, нырнуть в преисподнюю у Красных ворот, а вынырнуть на свет божий чуть не на Каланчевской площади. Ничего не стоило заблудиться в подземельях, где утробно урчали сточные воды, где тьма пахла поганками, рухлядью, где ненароком и на труп наскочишь да и заорешь благим матом.
Народ тут подбирался лихой судьбины: уголовные и бродяги, не помнящие родства, всяческой масти разнесчастные, изъеденные алкоголем, как ржой; банкрутные, по миру пущенные удачливым конкурентом; проститутки, почти вышедшие в тираж; да и фабричные случались. Живали (вот как у Никитишны Сенатский) и “духи”, то есть городовые в веригах многодетности.
Хозяйке за ночлег постояльцы платили рупь-полтора помесячно, “духу” накидывали кто гривенник, кто пятиалтынный; тот в благодарность упреждал о налетах полиции.
Сенатский, бывало, и оплошает, но уж Никитишна “духов” угадывала, как ненастье, – поясницу у нее будто свербило. Тогда она командовала, как ротмистр: “Рысью марш!” – и постояльцы, подхватив портки, кидались врассыпную. И точно, полиция, стараясь не замарать шинели, заглядывала в подвалы. А там, понятно, ни единой рожи. Долг службы исполнив, полиция верталась, зажимая в пудовых кулаках чаевые, сунутые Никитишной “за беспокойство”.
Теперь, на масленой, незваных гостей не опасались, Сенатский с благодушным упорством наливался спиртным, крестец у хозяйки не свербил, она “музыки” требовала, и Вася-драгун раздувал “венку”.
- Заиграй, гармонь моя,
- Последний день гуляю я.
- Гармонь нова, в три баса,
- Играет разны голоса…
Нил Сизов тоже выпил, лежал в стороне, у стены. Стена была ласковая, для ночлежника самая выгодная, потому что за ней помещалась котельная, полнившая этажи бархатным калориферным теплом. Нил спиною к стене привалился, подперев рукой голову, смотрел на чубатого Васю, на усердного Сенатского, на мужика в палаческой рубахе, на хозяйку, уже захмелевшую и поскуливавшую в такт гармонике: “Их, их, их…”, на всю эту встрепанную полупьяную публику, озаренную сальными свечами.
После побега и всяческих мытарств по Москве, вдруг оказавшейся для него чужой, враждебной, Нил приткнулся к Никитишне. Паспорта она не требовала, в участке жильцов не отмечала, жить было можно.
Дома, у Тверской заставы, Нил боялся показываться. Он подкараулил Сашеньку, когда она возвращалась с фабрики, рассказал все без утайки. Сашенька ахала, костила жандармов, голосок у нее дрожал, и Нилу было сладко ее сочувствие. От Сашеньки он знал, что Митьку не выпускают и передач не берут, а мать околоточный пытает, где, мол, твой меньшой.
Потом они встречались с Сашей в сугробистых улочках Ямского поля или близ Грузин, в слепых проулках. Хорошо было им, да в мороз не разгуляешься, а в трактиры и чайные Сашу не затянешь – стесняется. Она забирала грязное белье, приносила чистое, уверяя, что Анна Осиповна выстирала; Нил знал, что не мама, и ему было приятно. Саша и пироги носила, и тут уж Нил наверняка знал, что мамины, потому Саньке, не в обиду будь сказано, таких ни за что не напечь.
Опасливо, страшась розыска, но работать Нил все ж нанялся. Мастер спросил было паспорт, Нил обещал принести, когда хозяйка вернет, взяла-де для приписки. Но дни плыли, а слесарь Сизов обещания не выполнял. Мастер то ли позабыл, то ли не хотел расставаться из-за пустяков с дельным парнем. Попробуй-ка найти такого слесаря для этих проклятых камер, где налаживались сушильные машины.
Работа и впрямь досталась не малиновая. Смоленские мастерские добром не однажды помянешь. Был бы градусник в сушильных камерах фабрики Гюбнера, никак не меньше шестидесяти показал бы. Нескончаемой цветастой лентою натекал ситец из-под вальцов набивных машин, струился, подрагивал, пари́л на горячих металлических валиках. Ситец просыхал в несколько минут, Нил в своей ситцевой рубахе мок тринадцать с половиною часов. Дышать было нечем. Вдруг сожмет, стиснет в груди, как перед смертью. Выскочишь, черпанешь из бочки, вода ледяная в ковшике позвякивает, и опять в сушильные камеры, как в первый день творенья, когда ничего не видать было, одна мгла да дух святый. Тринадцать-то с половиной часиков отдашь хозяину, господину Гюбнеру, изойдешь влагой, как гриб, тогда и в подвале у Никитишны под шум, гам, писк уснешь мгновенно, будто свечку задуют…
– Манька, стервь, долго будешь… – уже не шутя расходилась Никитишна, опять загибая соленое. – Сенька, пусти, хватит. И чего нашел, а? – недоумевала хозяйка, обращаясь к постояльцам.
– А вот мы их чичас, – петухом кричит рябой, ляпает себя по бокам. – Окропим, – кричит он, крючковато захватывая бутылочное горло. – Эй, тама, многая лета-а-а!
Публика, кто еще на ногах, устремляется с хохотом в дальний темный угол, к рваным грязным занавескам, но Коза уже выскакивает, спешит к столу, и Сизову видно, как Манька, испитая, простоволосая, слабо машет рукой Васе-драгуну: начинай, мол, я вот только горло промочу. Она опрокидывает почти полный граненый стакан, а рябой, шутовски приседая, похаживает вокруг нее, верещит:
- Тебя Сенька усладил,
- А ты нас услади,
- Тебя Сенька усладил,
- А ты нас услади…
Костистое лицо Маньки мучительно морщится. Но вот уж Коза головой мотнула, оправила кофточку на плоской груди, вот уж выступила-переступила одной ногой, другой ногой, будто определяя, послушны ль они и ладно, хорошо ль ведет “Барыню” Вася-драгун, и тут уж Нил замечает, как Манька будто вся меняется, все в ней пружинно и точно на местах устанавливается. И гордячкой, недотрогой выходит, неприметным почти движеньем плеча убирает с дороги рябого, всех убирает. Бывали дни алмазные, танцевала Мария так, что господа к ней с цветами и шампанским ломились. А теперь у нее Сенька в полюбовниках, карманный сухаревский мазурик, да и тот нос дерет, молодуха, говорит, у меня на Сретенке, пальчики оближешь. Вот он, Сеня, выполз из угла, руки, худенькие, верткие, в карманы посунул, в зубах папироску прикусил, на затылке мятый плюшевый цилиндр. Фартовый малый Сеня, только на правый бок косенький, били его как-то у Сухаревской башни, ломали ребра. Ну-ка, Сеня, посмотри, полюбуйся, как Манька твоя, танцорка, выказачивает.
Всех она взметнула своей “Барыней”. И акцизного, который всхлипывал, и рябого, что стоял раззявив рот, и женщин, таких же, как она, проституток, сестрински обнявшихся на лавке, и городового Сенатского, забывшего закусить, и Сеньку, который оглядывался, как бы делясь своим восторгом, и Никитишну, прижавшую к губам кулачок, точно в радостном испуге. Нил Сизов уже не лежал, не поддерживал голову рукою, он вскочил на ноги. Вот же, проносилось у него в голове, по-скотски живут, а живут, ни хрена им ни книжек не надо, ни царя, ни бога, и ничего про черный день, потому все дни черные, но уж выдастся минута – отойди, не мешай.
Глядя на этот вихрь, на смерч этот, что рванулся, треща каблуками, рубахами, юбками, Сизов начисто позабыл и свое омерзение вонючей сивушной жизнью подвальных обитателей, и свою снисходительность к “несчастным”, “пропащим”, и свое высокомерное убеждение, что уж он-то, Нил Сизов, никогда не уподобится им. Он все начисто забыл. Вольницу он видел, освобожденность ото всего, что большинству на свете мило-дорого, и ему уже не только хотелось быть таким же бесшабашным, но он уж вроде был таким. Жизнь – копейка, голова – ничего! И хмельной вином, хмельной этим смерчем, Сизов тоже сорвался в пляс, два пальца ткнул в рот и засвистал, засвистал.
Все выпили, ни косушки на похмелку, пролито было и наблевано, кто-то, рыдая, стучал по столу, Сенька-мазурик тряс акцизного, потому что плешивый лез целовать Маньку Козу. Наконец все утихло, угомонилось, улеглось.
Свечи чадно гасли, ночлежка выдыхала перегар. В котельной печи остывали. Нил, казалось, различал шорох умирающих головешек. Сквозь шорох вилась мелодия “Барыни”, туго закручивалась в затылке, теперь надоедливая, однообразная, никчемная, мучительная: “Сударыня, барыня, сударыня, барыня”. И снова, и сызнова… Он стал думать о Мите, об арестном доме, о матери и Саше. “Саша, – думал он, – Сашенька-то меня любит, очень она меня любит…” Но и в сладость мыслей о разделенной любви вплетался, путая их, мешая, все тот же чертов мотив “Барыни”.
Сизов забылся. Снилось ему что-то темное, неотчетливое, душное.
Происшествие в Смоленских мастерских огорчило Златопольского как нелепость, как несуразица. Огорчил и арест Дмитрия Сизова. Они оба, эти Сизовы, были ему симпатичны. Он усматривал в них родство с Тимофеем Михайловым, повешенным на Семеновском плацу, с Тимошей, которого прокурор назвал “апостолом петербургских рабочих”. Разумеется, Сизовы еще не были “апостолами”, но они, несомненно, были из того же крутого теста, и Златопольский говорил товарищам, что на них можно положиться.
Прослышал Златопольский и о том, что младший Сизов улизнул от жандармов. Однако попытки отыскать Нила кончились ничем. Анна Осиповна с суровой отчужденностью приняла Златопольского. То ли ненавидела “совратителей”, то ли опасалась подвоха. В глазах ее было столько враждебности, что Савельич не досаждал расспросами.
Время шло. Златопольский думал, что Сизов-младший совсем убрался из Москвы, да уже и забывал симпатичного малого, любителя серьезных рассуждений о социализме и Парижской коммуне. Но вот однажды в разговоре с Александровым был упомянут некий “новый слесарь”.
Александров, кузнец с завода Бромлея, устанавливал подпольные связи с гюбнеровскими ткачами. Ткачи, хоть и бунтовали недавно и опять собирались бунтовать, в кружок тянулись со скрипом. Александров ругательски их ругал, превознося до небес сознательность металлистов. “Нового слесаря” помянул он вскользь: парень-де лет двадцати пяти, работник хоть куда, но держится волком и в трактир “Плевна”, где гюбнеровские получку отмечают, никогда не заглядывает. Златопольский выслушал все это вполуха.
Потом, неделю, верно, спустя, Савельич в каком-то разрыве своих повседневных обременительных забот смекнул, что странное поведение гюбнеровского слесаря должно чем-то объясняться. Может, в охранном запугали, мучается парень? Ведь стараниями Судейкина такие вот затравленные объявились на питерских заводах, ну и Москву, кажется, не минула чаша сия. Предположение это казалось Златопольскому верным, и он пожалел неведомого слесаря.
Поздним вечером – светло было от полной луны, – когда на фабрике пошабашили и ткачи устало и словно бы нехотя вываливались из ворот, Александров исполнил просьбу Савельича – показал ему издали “этого самого волка”.
Златопольский сразу признал Сизова, однако не окликнул, виду не подал, привычно подчиняясь законам конспирации. Александров смотрел на Савельича вопросительно. Златопольский равнодушно пожал плечами, и они разошлись.
Нил шел изнуренной походкой, не останавливаясь, чтобы закурить и осмотреться, не прибегал ни к одному из тех приемов, каким нелегальные обнаруживают слежку, и Савельич мысленно укорил Сизова за неконспиративность. Яловые сапоги, в которых шагал Сизов, тоже не остались без внимания Златопольского. Он улыбнулся: “Цеховые традиции”. В отличие от ткачей, от ремесленников, настоящие заводские валенками пренебрегали, валенки для “серых”, а они, токари и слесари, знают толк в городском обличье.
Улучив минуту, Златопольский окликнул Сизова. Тот, вздрогнув, косолапо загреб ногой, резко оборотился. Мгновение всматривался – и блеснул улыбкой.
Чайная Клочкова славилась “немецкой” опрятностью, несвойственной московским чайным, но завернули-то они сюда лишь потому, что чайная эта тотчас и приветливо попалась на глаза.
“Пить!” – силился крикнуть Нил.
Душистый чай, тяни-посасывай… Чер-рт, горло как в песке, язык как тряпичный. И чего мешкает половой? Вот рохля попался… Савельич мигает: езжай, говорит, в Питер, я тебе, говорит, чистый паспорт достану. И вздыхает, душа-человек: рано, говорит, рано тебе, парень, в нелегалы, жизнь, говорит, в нелегалах трудная. А паспорт – не сомневайся, добуду, ищи тебя после, свищи… Горит в горле, пить хочется смерть! Отчего ж половой не идет? Чайники-пузанчики так и плывут, так и плывут, покачиваются; чайная чайком балуется, слышно, как бараночки хрупают. Ну нет сил терпеть…
– Пить, – крикнул Сизов. – Пить дай!
– Ай, може, выпить? – вкрадчиво произнес чей-то голос. Сизов открыл глаза. Рябой мужичонка в красной рубахе, уперев руки в полусогнутые коленки, вытянул бороденку. – Слышь, мастер, ты давай-ка вот что… У тебя жа есть, ты бы дал, а мы эт-та в секунд. А? Гибнем мы, мастер, право слово, гибнем. Выручи ты нас, а?
Ночлежники чаевничали. Городовой громко всасывал с блюдечка, громко вздыхал и сморкался. Акцизный, обреченно уронив голову, грыз баранку. Лица у всех были как из оберточной бумаги.
Нил нашарил в кармане деньги. Рябой алчно осклабился, припрыгнул, закивал:
– Отдыхай, родной, отдыхай, а я тебе сичас пивка, пивка!
Вернулся он “в секунд”, не одевшись бегал, в разбитых валенках на босу ногу. Крикнул с порога:
– Эй, мастер! Баварецкое получай да выскакивай: краля ищет.
Сизов про пиво забыл, опрометью вылетел. Что такое? Сама-то сюда, к Красным воротам, никогда не ходила. Не дай бог с матерью что…
Он схватил ее руки.
– Ну?
– Митя пришел, – сказала Саша радостно, но сразу будто испугалась: водкой разило, такого не бывало.
– Мать ничего? – спросил Нил.
– Здоровы, кланяются, – ответила она с укоризненным вздохом.
– Митя пришел, да? – повторил он, словно сейчас только понял.
– Шапку надень, за воротами подождем, – сказала Саша.
Рассверкался денек – вот оно, прощеное воскресенье, масленой венец. Снег – белее Красных ворот. Топчут снег рысаки, пешеходы, коночные клячи, топчут кому не лень, а он сверкает взапуски. По Земляному, что ли? А-а, не все ль равно! Пошли!
Митька отощал, пожух, не блины едал арестантом. Гляди-ка, улыбается Митя, да улыбка-то как с отвычки. Ничего, где наша…
– Так, так, стало быть, клонил к измене? Прохвост, чтоб его кондратий тюкнул. И деньги сулил? Подавись он своими деньгами. И охранным стращал? Так, так…
Ну что про себя сказать? Живу, брат, в “гранд-о́теле”. Публика, сам понимаешь. А слесарничаю в пекле, Смоленские – рай небесный, честно говорю. Да ладно, это после. Тут вот что: Савельича встретил. Не вру, провалиться мне, не вру. Душевный человек, за таким в огонь и в воду. Ну, встретились, выпало такое. Достану, говорит, паспорт, чистый совсем паспорт. Жалел: нелегальный, объяснял, вечно бездомовный, настороже вечно, глаза сомкнешь – под головой револьвер держи. А как, говорил, паспорт дам, махни-ка в Питер, вот какой совет. Свидание назначил в той же чайной. Жди, сказал, через три дня. И что же думаешь? О сю пору жду. Нету.
“А и хорошо, что нету, – думала Саша, – благодетель какой: «Паспорт достану»! Это что ж такое? Это уж, значит, тайком живи, ни дома, ни семьи”. Не-ет, Саше не нравился какой-то там доброхот Савельич. Выдумал тоже: в Питер езжай. Где родился, там и живи. А то – в Питер! И пойдет Нил шататься, перекати-поле. Он, стало быть, в Питер, а она куда?
– Нечего ехать, – с сердцем сказала Саша. – Ты не один… С матерью-то как же?
– Ну как? – беспечно, понимая, о чем речь, ухмыльнулся Нил. – Уж как-нибудь. Как сейчас. Да вот и Митя дома будет.
– Нет, какое, – сумрачно сказал Дмитрий. – У меня впереди темно.
– Те-емно? Отчего ж темно? Ты вольный казак.
– Подневольный, – еще сумрачнее поправил Дмитрий.
– Да брось ты, – не унимался Нил. – Не удрал, сами отпустили. Теперь это ты ступай к Оресту Палычу, так и так, принимайте, мол, под вашу руку.
– Сами отпустили, – потупился Дмитрий.
В ушах у него звучал голос Скандракова: “Приглашать будем. Товарищи, натурально, и заподозрят…”
– Слушай, Нил, – Дмитрий вдруг приметно ободрился, – а как бы это все ж Савельича-то повидать?
Нил об этом думал не однажды, да ничего не надумал. Заглядывал он в клочковскую чайную – толку никакого. Взяли Савельича, не иначе как взяли. Но Митя-то ободрился, у него надежда большая на Савелия Савельича. Как брата огорчить?
– Такая, Митя, штука, – осторожно молвил Нил, – уехал он, вот что я тебе скажу. Знаешь, подхватило в одночасье, давай бог ноги. – Быстро прибавил: – Да только приедет, вернется, это уж непременно. Я как понимаю? Натура у Савельича поперечная: власть к нему так, а он к власти эдак. – И Нил старательно рассмеялся.
“А хоть бы и не приехал, – мысленно твердила Саша, – без него образуется. Уже околоточный бросил досаждать, еще малость, и вовсе позабудут про Нила. И чего такого сделал? Ну, сбежал от караула, вина какая, прости господи. Заодно с братом брали, а брата, вишь, сами отпустили, не за что, стало быть, держать. И тех-то, которые контору разносили, тоже на все четыре стороны. Кого, сказывают, на родину выслали, а других выгнали, и вся недолга. Нет уж, Нил Яковлевич, потерпи-ка в берлоге своей, только к водке не обвыкни, а там и домой. Обойдется, перемелется. А не домой, так еще где комнату наймем. Анна Осиповна по-хорошему, а все свекровь, можно и в стороне поселиться”. Все у Саши аккуратно сметывалось, по-людски.
Расставались в сумерках, в редких, робких огнях. Метель, себя закачав, устала и легла. Зазвонили к вечерне, прощеным воскресеньем масленица кончалась.
После вечерни в домах заговляться блинами станут и рыбою, а потом прощенья просить друг у друга и отвечать с улыбкой: “Бог простит”, отдавая друг дружке низкий поклон.
– Прости, Нил, – грустно сказала Саша.
– Бог простит, – невесело улыбнулся Нил.
Есть у них дом, и нет у них дома. Есть у Мити воля, и нет у него воли.
– Прости…
– Бог простит…
И поклонились они в сумерках, близ Красных ворот.
5
В понедельник, направляясь в контору, старший Сизов с изначальным интересом всматривался в полную машинных звуков и запахов, движения и деятельности панораму. После тюрьмы Дмитрий примечал многое, на чем прежде не задерживал глаз.
Он беспокоился, как-то его примет инженер Орест Павлович, но при этом жадно разглядывал темные, как копченые окорока, стены, грязно-белые кирпичные кружавчики по верху водокачки, плотные столбы пара, струение рельсов, приподнятые или опущенные стрелки, похожие на молотки игрушечных медведей-кузнецов, вырезанных из липового бруска. Он вслушивался в гудки локомотивов, тоскующих по дальним пробегам, в озабоченный посвист торопливых маневровых паровозиков, в осторожное, как на пробу, полязгивание буферов, в слитый железный шум мастерских. Он думал о былой причастности к тому, что вершилось здесь, и вдруг ему стало обидно, обидно и жаль, что без него, верно, произошло в мастерских нечто важное, определяющее, к чему он, Дмитрий Сизов, не имел отношения.
В конторе все было как и до разгрома: щелканье костяшек, запах клейстера, запах папирос “Аграфиоти”. Люстриновые пиджаки писали, сводили дебет с кредитом, открывали и закрывали счета.
И Орест Павлович остался таким же, как тогда, когда они с Нилом вручали ему письменное требование мастеровых. Впрочем, нет, не таким же, потому что сейчас лицо его в пенсне и с бородкой не было сухим и отчужденным.
– Те-те-те, – произнес он бодро, – санкюлот пожаловал. По какому поводу, извольте узнать?
Дмитрий объяснил. Инженер откинулся на спинку высокого, черной кожи кресла.
– У мастера был? Нет? Почему же? – И не дал ответить. – Хорошо, распоряжусь. Но помни… – Он беззлобно погрозил пальцем. – Помни, Сизов!
– Спасибо, господин начальник.
– Да! Погоди! – остановил инженер. – А братец где же? – Дмитрий, насторожившись, пожал плечами. Орест Павлович снял пенсне, дыхнул на стеклышки. – Эх, Ирландия, Ирландия, – протянул он намекающе и насмешливо, вспоминая дерзкое замечание Нила, что Россия, конечно, не Англия, но может восстать, как восстала Ирландия. – Вот тебе и Ирландия, – добавил начальник, протер и надел пенсне, но взглянул мимо Сизова. – Кстати, запрашивали о тебе… Слыхал? Знаешь?..
Дмитрий слыхал, знал. Сука эта, Скандраков, в охранном сетовал: вот, дескать, начальство отзывается положительно, а ты, Дмитрий Яковлевич, и так далее.
– Благодарствую, Орест Павлович, – искренне отвечал Сизов, впервые называя инженера именем-отчеством.
– Полноте, – прихмурился тот и как-то внезапно оборвал разговор: – Ступай.
Теперь, когда его приняли, когда он шел к станку, Сизов уже думал, что все получилось, как оно и должно было получиться. Орест Павлович добр, но принял-то оттого, что нехватка в таких вот первой статьи токарях.
Мастер, конечно, не возрадуется, размышлял Дмитрий, обходя вагоны и локомотивы, бочки, груды угля, поленницы. После истории с оштрафованным учеником Корней Иванович дулся на Сизова, хотя, правду сказать, по-прежнему поручал сложные работы и платил на совесть.
И точно, Корней Иванович, рослый, с медвежьими глазками, бородатый, не заплясал при виде Сизова.
Сизов снял шапку, поклонился.
Корней Иванович сдержанно ответил:
– Здравствуй.
Сизов сказал, что начальник велел поставить его к работе.
– Та-ак. К начальству сунулся? А Корней Иванович тебе, получается, не указ?
– Да я думал…
– Ты думал! – Мастер фыркнул. – Он думал! – И передразнил: – “Начальник велел!” – Помолчав, вздохнул притворно: – Начальство велит, наше дело сполнить. Идем.
Дмитрием снова овладело острое чувство новизны, интереса и любопытства, но сейчас интерес его был обращен не на строение со стеклянными продушинами в крыше, откуда падал скупой зимний свет, не на маслившиеся машины, не на трепетный и напряженно тугой бег трансмиссий, а на тех, кто был в этой мастерской. Дмитрий не видел многих старых товарищей, хотя вот дружески кивают ему, по плечу хлопают, а кто-то и под бок на радостях толканул. Но многих он не находил, самых закадычных, “умственных”.
– Ну, – сказал Корней Иванович, останавливаясь, – конь твой. Седлай.
Станок был тот самый, на котором Сизов прежде токарничал. Сизов тронул ладонью патрон, бабку и нагнулся, как в нутро заглядывая, и опять все потрогал, но уже обеими ладонями. А у Корнея Ивановича медвежьи глазки любовно мерцали.
– Теперь али уж с завтрева? – слукавил он, зная, что ответит Сизов, но желая вкусить этот его ответ.
– Чего там завтрева?
Корней Иванович крутнул головой, просиял.
– Эх, Митюха, руки золотые, да горло говенное.
То было дедовских времен, истинно заводское присловье, похвала и укоризна вместе: похвала за мастерство, укоризна за нрав неуломный.
Недели не работал Сизов, как в контору потребовали. Сторож-старик, приглашая его, глядел жалостливо. Дмитрий понял причину неурочного вызова. Он сразу взъярился, у него дыхание перехватило.
В конторе дожидались двое немолодых, устоявшейся выправки жандармов.
– Сизов?
– Да, да, – раздраженно ответил Дмитрий, чувствуя испуганно-любопытные взгляды конторщиков.
– Пожалуйте с нами.
– Пойдемте, пойдемте, – вызывающе согласился Дмитрий, сознавая никчемность своего раздражения и торопясь убраться из конторы.
Поехали на конке. Жандармы сели по бокам. Пассажиры смотрели на Сизова с тем же выражением на лицах, что и заводские конторщики. “Наверное, за червонного валета принимают, – думал Дмитрий, – за жулика”. Ему было неловко, стыдно. Но какой-то студент, пухлый, с родинкой, совсем еще мальчик, выходя из вагона, бросил Сизову: “Вы как Христос между разбойниками”, – и, спрыгнув, приветливо помахал рукой.
Сумрак лестниц, переходы, коридоры – все это Дмитрий уже видел. И этих господ в партикулярном или форменном платье, озабоченных, серьезных, спешащих со своими бумагами, взглядывавших на него скользяще, но цепко и как бы без всякого выражения, тоже видывал.
Кабинет Скандракова был убран с той неказенной роскошью, в которой угадывалась гостиница второго разряда. На стене висел портрет императора Александра Второго: вечное и грозное напоминание тайной полиции о кровавых социалистах.
Скандраков усадил Дмитрия, прошелся на своих коротеньких ножках от дверей до стола, повернулся и уставил в Сизова выпуклые пристальные глаза. Потом, видимо удовлетворившись, вернулся к столу, под портрет убиенного императора.
Голос Скандракова казался таким же русым, каким он сам был, но в этом уже знакомом Сизову голосе звучала нынче новая интонация, не сразу уловленная Дмитрием. Вскоре он уловил и понял ее: она окрашивала разговор в теплый цвет доверительного сотрудничества. Мы, мол, с вами, Дмитрий Яковлевич, обо всем уже условились, остаются частности, а частности нам, батенька, проще пареной репы. Уловив эту особенность, Дмитрий медленно побледнел, но его, однако, сильно занимало то, что говорил Скандраков. А тот говорил, что многие закоперщики-революционисты, переметнувшиеся из Петербурга в Москву, с божьей помощью изловлены. Да, да, изловлены!
– Между прочим, и некий Савелий Савельевич, – сообщил он, тонко улыбаясь. – Эти-то Савельичи и сбивают с толку народ наш, к коему не имеют никакого отношения, как элемент чуждый и пришлый. Да-с, так вот. Закоперщики изъяты, забота теперь другая. Я ведь, Дмитрий, очень хорошо понимаю твою любовь к работникам, к своему сословию, и прямо нахожу это достойным уважения…
Сизов, опустив глаза, смотрел на короткие ножки в блестящих востроносых штиблетах. Скандраковские ножки находились в егозливом движении: то вспрыгивали одна на другую, то выставлялись поочередно, то каблучком пол придавливали, как в мазурке, то штиблетный носок морщили улыбчивыми морщинками. И наконец твердо, плотно, всей подошвою припечатались к паркету.
– Надо оберегать сословие! Вышнее правительство печется о благоденствии всех сословий! Однако промышленные работники не всегда это понимают. Нужна правильная, согласная, сердечная деятельность. Надобно заблаговременно знать положение мастеровых и доводить до сведения. – Он поднял палец. – И тогда воспоследуют милости. Не знаю, слыхал ли: граф Ростовцев и граф Дмитриев ходатайствуют об учреждении акционерского общества. И какого, думаешь? “Благо рабочих”. Да, да, именно благо рабочих!
– Кто пайщиками? – поинтересовался Сизов.
– Ага, – улыбнулся Скандраков. – Ты вот сейчас и вообразил: за счет рабочих! Не так ли? А вот и не так, не так. Частное страхование за счет хозяев, да-с! – Он помедлил, потом сказал сожалеючи: – Пока еще не осуществлено. Но, полагаю, осуществится, непременно осуществится! Однако нам помощь, осведомленность нужна. Понимаешь, братец, это ведь совершенно несправедливое мнение, будто вы, мастеровые, сами по себе, а мы, то есть и не мы, а вышнее правительство само по себе. – Он сокрушенно развел ладошками. И продолжил: – Так вот, никаких выдач! Такой-то сказал то-то, эдакий грозил, третий подозрительно мыслит: не надо! Решительно говорю: ничего эдакого не надо. Вы нам, Дмитрий Яковлевич, общие настроения, общие сведения. Так сказать, крупным вкладчиком в наше… – он улыбнулся, – в наше общество “Благо рабочих”.
Дмитрий поднял глаза. “Благо рабочих”? Гм, интересно! Да только не здесь, не в охранном. Он знал твердо: никакое благо – рабочее, нерабочее, – никакое благо, ничье благо не совместимо с тайной полицией. Он покачал головой.
– Не по мне, не пойдет.
Скандраков притопнул ножкой, как копытцем, рассмеялся коротко. Он был оскорблен в лучших намерениях. Острее, пристальнее инспектора Судейкина вглядывался он в этот “рабочий вопрос”. Нет, Скандраков не желал исключительных законов наподобие германских. Любой проходимец может править страной, пользуясь всеподавляющей жестокостью. Тут не нужен Вольтер, а нужен фельдфебель, усатый или безусый, в штатском или военном, но фельдфебель. Не осадное положение, не исключительные законы, а нечто гибкое, гуттаперчевое. Таково, думал Скандраков, веление времени.
Но вот, черт возьми, сидит мастеровой, отвечает тупым “нет”, а он, Скандраков, бьется как рыба об лед. И потому г-н Скандраков мгновенно отбрасывает “государственные соображения”, высокие материи отбрасывает он к дьяволу. Разумеется, нетрудно измотать упрямца регулярными вызовами в розыскное отделение, загнать в угол, распустив слух о сотрудничестве его с тайной полицией. Способ испытанный, такие, как этот Сизов, задыхаются насмерть. Можно, все можно, но у г-на Скандракова есть еще козырь. И, вперив в Дмитрия Сизова стеклянные глаза, он козырь этот выкладывает.
Хорошо, говорит он своим “русым” голосом, но уже без доверительности, хорошо, пусть так. Однако, может быть, Сизову Дмитрию не след забывать Сизова Нила? Может быть, поразмыслить о своем братце?
Дмитрий оскалился:
– Не пугайте, уже пугали.
– А-а, да, да, как же. Упоминал об его податливости? Ну что ж, не скрою: преждевременно. Времени у нас не в обрез.
– Врали про него, всё врали!
– Стало быть, виделись?
– Чего – виделся? – опешил Дмитрий, догадываясь и ужасаясь своей догадке.
– Ах, опять, какой мы простачок, – устало сказал Скандраков. – Виделись вы с ним, вот чего. Скрывается у Красных ворот, вот чего.
Дмитрий молчал. Следили за ним – выследили Нила.
– Так вот, друг мой, мы его арестуем.
– А за что? – вскинулся Дмитрий. – За что?
– А хоть и ни за что, – ухмыльнулся Скандраков. – И виною старший братец. Вот как оно, от двух бортов в угол.
Дмитрия будто в машину затягивало, окидывая крупным потом.
– На досуге прошу поразмыслить, – сказал Скандраков. – Но, увы, не больше двух дней. И не упреждайте вашего Нила – бесполезно.
Город был пуст, мертв. Были люди веселые, невеселые, равнодушные. Но город был пуст, мертв. Стояли дома, разные, каждый своим обычаем, но пусты они были, мертвы. Снег бил в лицо. Сумрак, жуть светлого полуденного часа, одиночество среди толпы, сумрак, жуть, одиночество, когда на тебе – узкий, щелью, желтый зрачок тайной полиции.
Дмитрий оглянулся. Блеклый видом прасол шел следом. Дмитрий свернул в проулок, опять оглянулся. “Тот” шел по следу. Дмитрий замедлил шаг, и “тот” замедлил шаг. Дмитрий боком, упруго, злобно прыгнул в подворотню, и шпик в барашковом пирожке вильнул в подворотню. Дмитрий сжал кулаки. Филер покорно смотрел на него снизу вверх.
– Прилип, гад?
– Велено, – вздохнул филер.
– Башку проломлю!
Филер грустно моргал.
– Ступай, – мотнул подбородком Сизов.
Филер переступил с ноги на ногу.
– Держи целковый, – сказал Сизов.
– Благодарствую. Сменят – выпью-с…
Дома по-старому пахло кожевенным товаром, но запах уже утих. Дмитрий разделся, сел у окна на низенькую скамеечку. На ней отец сиживал, согнувшись, сжимая губами рядок гвоздочков-тексов. Приколачивая кожу у носка, стучал легонько, это ведь не подошва, подошву-то батька лупил машисто. Отцовы инструменты мать прибрала в ящик. Дмитрий вспомнил, как она трогала, оглаживала их, а покойник лежал на столе.
Дмитрий, сутулясь, рылся в ящике; задумчиво выпятив губы, разглядывал заточенное лопаточкой тачальное шило, и рантовую срезку, похожую на укороченный серпик, и фумель, брат стамески, прямое шило-форштик, все эти колодки и гладилки, вар, дратву, связки щетинок, кленовые гвоздочки (когда их вбивают худо, наперекос, то зовут “адамовыми зубами”), и неизменный башмачный молоток-барец, казалось, всё еще с теплой рукояткой, и этот плоский, бритвенно заточенный рейнской стали нож. Осторожно поворачивая широкое лезвие, Дмитрий видел тусклые безличные отсветы. “Как на рельсах”, – определил Дмитрий, поднялся, постоял в нерешительности и вышел во двор.
Шпик прилепился к стене.
– Эй, – негромко окликнул Дмитрий, – на-ко, вали в трактир, погрейся. Никуда не денусь.
– Не врешь? – робко понадеялся продрогший филер. – А то дадут под ж…, а у меня пятеро. – Он показал, какие они у него, мал мала меньше: – Во, во, во…
Сизов побожился, шпик радостно пискнул, трусцой взял в “Триумфальный”. Дмитрий не мешкая взбежал этажом выше, толкнулся в Сашину дверь.
Саша в суконной фабрике работала, у купца Бома, на Сущевской, домой поспевала она до фонарей, тотчас заводила живой переплеск над ушатом, капли не обронив, скоренько и плавно носила полные пригоршни – мылась, чистюля, долго и сладостно.
Дмитрий вломился, заставил Сашу метнуться за ситцевую занавеску. Ее голая крепкая спина блеснула, Дмитрий смущенно затоптался… Шурша одеждой, мелькая сгибами локтей над занавеской, Саша испуганно спрашивала, не приключилось ли чего с Нилом.
Высоко поднимая руки, оправляя волосы, в туго натянувшейся блузке, она показалась из-за своего укрытия и, перехватив взгляд Дмитрия, сердито закраснелась. Тот постарался изобразить независимую улыбку, а улыбка-то не получилась, и Дмитрий, кашлянув, заговорил нарочито резко.
Он еще объяснял Саше, что надобно делать, а она уже накидывала шубенку, уже повязывалась шалью, и в ее торопливом “сичас, сичас” звучало что-то совершенно бабье, негородское и горестное.
Маму угомон не брал, вечно в заботах, хоть семья и убыла вполовину. Она сидела боком к керосиновой лампе, починяя, зашивая, посовывала иголку на нитку, и опять, опять был мелкий, мерный промельк иглы, которому словно вторили стенные часы-екалки.
Дмитрий наскоро, не в аппетит поужинал и молча лег. Матери не было ему видно, видел он ее тень на скосе потолка; ему хотелось тихо поговорить с мамой, сейчас он испытывал к ней прощальную любовь.
Она неслышно приблизилась, склонилась, лицо у нее было не властным, а скорбным, как у Параскевы Пятницы.
– Ты что это, Митенька?
Он еще помолчал, не справился и глухо выдохнул: “Ох, мама…”
Ни о чем она не спрашивала, только руку ему на лоб положила.
– Ты, Митенька, нравом горячий, сожжешь себя, как свечка, боюсь за тебя. Ты, Митенька, лучше не так, мало ль чего бывает, зло какое, хула, а ты не гори, ты лучше тихо…
Рука ее, крупная, весомая, пахла поташным мылом. Митя трогал губами жесткие рубчики, что бывают на подушечках пальцев у прачек.
Наверное, в полночь, может, позднее Саша стукнула в окошко. “Быстро управилась, – обрадовался Дмитрий. – Эка Санька-то перепугалась, «сичас, сичас» лепечет… А тебя, – подумал он, – никто и не вспомянет”. Дмитрий сознавал, что это неправда, убиваться будут по нем, но ему хотелось думать о забвении, завидовать Нилу, которого любит Санька, и хотелось жалеть себя, никем не любимого.
– Кто там стукнул? – спросила мать. Дмитрий замычал, будто спросонок. – Да ладно тебе, – сказала мать, – я ведь слышала.
Он пробормотал:
– А черт их, шляются тут.
Мать вздохнула. Она лежала без сна, Дмитрий тоже не спал. Он разобрал ее шепот: мать молилась Иисусу сладчайшему, царице небесной, и Дмитрия опять засаднило прощальной любовью, но теперь уже не к одной маме, но и к Нилу и к этому дому, где пахло надежным, стародавним ремеслом.
Поутру увязался за Дмитрием другой филер – усатая орясина, смахивающая на балаганного борца. Сизов не ощутил к шпику ни злобы, ни усмешливой снисходительности. И не о том страшном, что ему, Сизову, предстояло, думал он, выходя на утреннюю, едва очнувшуюся улицу, а думал о том, как переждать этот час до начала занятий в секретно-розыскном отделении.
Дмитрий увидел ломовиков, конку, мглистое небо с позабытым месяцем, похожим на клок обтирочной ветоши, и этот слабый, нечаянный месяц, которому суждено было скоро угаснуть, вернул Сизова в его одиночество, в его отрешенность, и он опять поверил, что сделает свое роковое дело.
Снег отдохнул за ночь и голубел, на снегу красиво и легко дымились редкие еще яблоки конского навоза. Из отворявшихся дверей нежно пованивало заспанным домовьим уютом, слышался сухой, как на горельнике, запах древесных углей. Розвальни тянулись к торговой Страстной площади, скрипя полозом, как на проселке.
Утренняя обыденщина должна бы, кажется, мучить Сизова, но нет, он осматривался почти умиленно, с той прощальной и приметливой ко всему любовью, какую испытал недавно в своем каменном полуэтажике.
Филеру, похожему на ярмарочного борца, никогда еще не доставался столь беззаботный крамольник. “Ерой, – недоумевал филер, – одно слово, ерой: ни оглядки, ни страху, чистый дьявол”. И вовсе уж не ждал, не гадал скандраковский “наружный наблюдатель”, что крамольник, вверенный его попечению, направится в канцелярию обер-полицмейстера, крыло которой занимало секретно-розыскное отделение. Этакая неожиданность исторгла из филера зычное “гы!”, он даже шапку сбил на затылок.
Сизова после недолгих расспросов провели к Скандракову. Александр Спиридонович только что приехал, был еще свеж с морозца, ладошки потирал и похаживал.
– А-а, – затянул он приветливо, – вот и хорошо, вот и хорошо, молодцом, Митенька, совсем ты молодцом…
– Молодцом, – сипло согласился Дмитрий, – совсем молодцом, еще бы не молодцом…
Отцовский нож, согревшись в рукаве пиджака, скользнул, как играючи, в ладонь Дмитрия, и Скандраков прянул назад от этого острого разящего промелька.
Дежурный чиновник, двое охранников-гайдуков вбежали в кабинет. Скандраков валялся на полу. Его ножки подергивались. Он был похож на самурая.
Из разбитого вдребезги окна резко и прямо садил холод.
6
“Ни широка, ни глубока, шумит, бежит Москва-река”. Сядешь, где посуше, и уж не слыхать мимолетных поездов за увалистыми холмами, за березками и соснами, где путевая сторожка дяди Федора.
Никогда еще не забирался в такую даль от города – шестьдесят с лишком верст! Воля, покой. Радуйся. И вдруг Митя, брат Дмитрий глянет с немой, пристальной укоризною: “Хорошо тебе, Нил, а мне темно и сыро, был я, и нет меня и вовеки не будет”.
По Долгоруковской в тот вечер мела заметь. Звонили у Пимена, дымом тянуло, и огни означались как бельма. Толстой округлой тьмой стояла башня. А дальше, за Бутырским тюремным за́мком, чудилось – нет ничего: ни огней, ни людей, ни дымов, только ночь, только нежить.
Саня впервые не одна пришла – вместе с его, Нила, матерью, под руку ее держала, и обе они, будто ослепнув, выступили из потемок, свет фонаря пал на лица, колокол у Пимена захлебнулся, накренилась бутырская башня.
Кончился Митя в тюремном лазарете. Умер в пролежнях, на вонючих дерюгах. Выбросился из окна, переломил позвоночник, умер в муках. Мать не пустили проститься, она на коленях стояла в приемной полицмейстера, ее выволокли.
За́меть была, огни как бельма. Кажется, годы брели они по Лесной улице к Тверской своей заставе, и Нил брел не защитником, не единственной надеждой – жалким парнишечкой.
Убежище, смрадный “гранд-отель” пришлось оставить. Кочевье началось цыганское, в ночных чайных ночевал, где общие номера держали для залетных постояльцев, и фабрику Гюбнера бросил, перебивался шаткими заработками.
Падали дни как снегопады, потом отзвенели капелью. Было чуждо и странно примечать неостановимость времени, но он тоже был в этом времени и ловил в себе радость от близости весны, от Сашиной близости, редкой, всегда нечаянной.
Может, и правда Сашина, что жандармы давно позабыли какого-то Нила Сизова, не велика птица, может, и так. Да только теперь одна у него и главная на всю жизнь забота: он им, иродам, сам о себе напомнит, он с ними разочтется сполна, ему бы лишь коронацию в затишке переждать, потому что от облав и обысков спасу нет, а какой резон так, задаром угодить за решетку.
Не было Сизова ни в толпе на Тверской, когда государь с государыней ехали в Кремль, не было и на Красной площади, когда ударили колокола Ивана Великого, и на кремлевских площадях его не было. Не в Москве, не в Кремле весеннее торжество вершилось, а тут, в лесах, на полях, у реки.
Дядя Федор, Санькин родитель, хорошо, по-родственному принял, будто б Нил с Сашей уже повенчаны. Нет, “нас не в церкви венчали”, не обвел поп вкруг аналоя, не спрашивал, берет ли он в жены Александру. Без попа обошлось.
Река мыла известковую осыпь. Над высоким левобережьем гомонило воронье. Покой и воля. И вдруг, в неуследимую минуту – немой Митин укор: “Хорошо тебе, Нил, а?”
Глава пятая
1
Арестант перемахнул через ограду, надзиратель заорал: “Держи-и!”; Поливанов стремительно бросил руку с револьвером… И громом загремела пролетка. Вослед пролетке вывихрились всадники. Как шишиги, только пыль взялась столбом.
Опомнившись, прапорщик побежал. На бегу он придерживал саблю. Вчера упрашивал Поливанова: “Я приду. Если что случится, брошусь на помощь. Вы знаете, мундир производит впечатление!” Поливанов улыбался: “Пустое, Володенька, только себя погубите”.
Гремела бешеная пролетка, унося Новицкого, унося спасителей его Поливанова и Райко. Но все ближе были всадники, припавшие к взмокшим холкам военных коней. На повороте пролетка шваркнула о каменную тумбу, мгновенно опрокинулась, взрывая землю, осколки булыжников – два колеса обреченно крутились в воздухе.
Всадников будто сбросило с седел на распростертых, оглушенных беглецов. И сапогами куда ни попало, и палашами куда ни попало. А кони хрипели, брызгали горячей пеной. А все эти лавочные сидельцы, эти дворники и ломовики в красных жилетках, вся саратовская улица уже вскипала истерическим восторгом безнаказанного убийства.
Прапорщик увидел глаза Поливанова – будто подняли Поливанова вздетые копья; увидел словно бы надвое рассеченный лоб Новицкого, голую грудь Райко. И всех троих поглотил орущий, вздыбленный безумный водоворот. Рука Володи Дегаева бессильно соскользнула с влажного эфеса.
Кручи курчавились садами. Прапорщик срывался с круч. Он изодрал мундир, потерял фуражку. Под кручами, у берега, он упал на скамью.
Волга лениво несла песок. Отмели нежились на солнце. Над Волгой стояло порожнее небо. Городской шум увяз где-то там, далеко в садах.
Прапорщик подумал, что он уже мог умереть. Его растоптали бы, как Райко. Если б Поливанов не отказал, прапорщик занял бы место Райко на козлах. И теперь валялся бы на мостовой. Он упрашивал неотступно, а Поливанов повторял: “Полно, Володенька, тут много риску, вы еще очень молоды…”
Володя Дегаев подумал, что сейчас он не сидел бы на скамье, не смотрел бы на Волгу, не слышал бы гудка парохода. Да, он, Дегаев Володя, сейчас, вот в эти минуты, уже бы не существовал. И, думая об этом, прапорщик испытывал болезненное, почти мучительное удовольствие…
Судейкин стращал: “Постарайтесь, чтобы правительство вас забыло”. О, в стране существуют писаные законы! Но в стране не существует правосознания, даже правоощущения. А кому тогда властвовать, если не тайной политической полиции?
“В деревню, в глушь, в Саратов, к тетке”. Тетки у Володи в Саратове не числилось. Его тетками стали пушки: он служил в полевой артиллерии. Артиллерия – “бывшая епархия” брата Сергея, брат Сергей дослужился до штабс-капитана.
А Саратов-то вовсе не глушь. Володя знал это еще в Петербурге. (Будь проклят этот Петербург, где нелепо, глупо кончился Володин “роман” с инспектором полиции.) Саратов отнюдь не глушь. Какие люди перебывали в Саратове! Их имена были громки. Но Володя опоздал. Черт возьми, он еще хаживал в кадетской куртке, когда на конспиративной квартире где-нибудь на Камышинской улице, Армянской или в роще на Алтынной горе появлялись гениальный конспиратор Александр Михайлов, удивительный пропагатор Плеханов, Гартман, тот самый Гартман-“Сухоруков”, что взрывал под Москвой царский поезд, и Юрий Богданович, знаменитый “лавочник Кобозев”, из сырного заведения которого в Питере, на Малой Садовой, сооружали подкоп, чтоб взорвать цареву карету. И сама Вера Николаевна Фигнер тоже посетила Саратов. А он, Володя Дегаев, в то бурливое время зубрил в Морском училище английские вокабулы, звучные термины: “фордевинд”, “бейдевинд”, “шкоты”, “планширь”… Ах, как он опоздал! Уж он бы не остался в стороне от покушений на императора, как не остался брат Сергей. Великая душа, выдающийся ум у Сергея. А сотоварищи, однако, недостаточно оценили Сергея, и брат втайне страдал, и он, Володя, тоже втайне страдал за брата.
Офицера беднее прапорщика Дегаева в бригаде, пожалуй, не было. Деньги у него не водились, он жил в казарме, харчился из солдатского котла. Лишь недавно сестры стали присылать ему рублей семь-восемь в месяц. Но прапорщик почти всё отдавал центральному кружку саратовских революционеров.
Среди местных радикалов никто не мог сравниться с Поливановым, и Володя тотчас избрал Поливанова кумиром, образцом для подражания. Застенчиво, исподтишка любовался его смуглым, “испанским лицом, глазами серны”, ладной фигуркой, порывистой и горделивой, как у старинных романических пажей.
Впрочем, не одного лишь молоденького, наклонного к восторгам прапорщика покорял Поливанов. Немало горожан, далеких от революционности, втихомолку гордились земляком. Еще гимназистом он поразил всех мгновенной сменой школьного ранца на партизанскую котомку. В те годы часто и горячо толковали о балканских братьях славянах, изнывавших под игом полумесяца. Поливанов ринулся в Сербию, к повстанцам, выказал храбрость, нанюхался пороха. Рассказывали – и то была сущая правда, – как он, будучи в столице в дни процесса Веры Засулич, участвовал в жестокой уличной схватке с жандармерией. Очутившись в Москве именно в тот день, когда охотнорядцы избивали студентов, Поливанов примчался на помощь коллегам. Шквал арестов, налетевший с чисто русским размахом, не обошел и Саратов. Лучшие друзья Поливанова оказались в остроге. Саратов для него обезлюдел, как погост. И Поливанов решил вызволить заключенных…
Прапорщик рассеянно следил, как пароход хлопотливо борол стрежень, как с трубы нехотя сползал набекрень малахай темного дыма. Волга дремала, на дальнем берегу млела хлебная слобода, пароход, одолевая течение, держал к слободе, к Покровской пристани.
Володе захотелось перенестись туда, где нет острогов и надзирателей, конных стражников в пудовых сапогах, нет конспиративных сборищ, нелегальных кличек. Совсем иная жизнь вообразилась бедному прапорщику. Струящаяся, как этот нагретый воздух, и чтобы было фортепьяно, как у них дома, на Песках. И чтоб рядом была Томилова. Володя “давно и безнадежно” (ему нравилось меланхолическое: “давно и безнадежно”) любил Томилову, очаровательную, как ему казалось, вдовую полковницу.
Но при мысли о Томиловой прапорщик, краснея, признал, что отпраздновал труса. Не только не обнажил сабли, как обещал Поливанову, но даже и голоса, офицерского командного голоса не подал, чтобы прекратить избиение. Он стал уверять себя, что ничем бы не помог, что Поливанов был прав, отговаривая от какого-либо вмешательства, и что ему, прапорщику Дегаеву, еще предстоит многое. У него ж на руках связи с военными, как бывало у брата Сергея. И не с одними сослуживцами-артиллеристами, но и с пехотинцами. Нет, нет, то была вовсе не трусость, а скорее благоразумие, присутствие духа, столь необходимые революционеру.
Володя почти успокоился, но все же ощущал стыд, как оскомину, как привкус. И ему не хотелось видеть Томилову. Он вспомнил о дежурстве и не посетовал на тяготы военной службы. Правду сказать – обрадовался дежурству как избавлению.
2
Ужасное происшествие долго занимало горожан. Мнения и симпатии разделились. Многие совершенно не одобряли Поливанова: убил надзирателя, отца шестерых деток. В пользу сирот собирали пожертвования, толкуя при этом о бессердечии нигилистов. В то же время немалое число хулителей признавало необыкновенное мужество неизвестного, исполнившего роль кучера. Находили, что он повторил питерского студента Гриневицкого, метальщика бомбы на Екатерининском канале: Райко, изувеченный стражниками, отказался отвечать на вопросы жандармов и умер, не открыв своего имени. Поливанов и Новицкий лежали в тюремной больнице. Несмотря на строгий запрет, доктор и санитары передавали горожанам, что заключенные оправляются от побоев. Говорили, что отец Поливанова, помещик, обезумел от горя, а губернатор Зубов впал в жестокую хандру. Над губернатором посмеивались: этого родственника Поливанова ждут крупные неприятности.
Приспело бабье лето. Бурая Волга работала как бурлак. Низовые баржи пахли арбузами. Из самарских и донских земель, отстрадав страду, возвращались мужики.