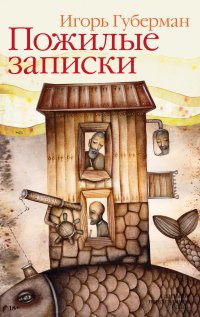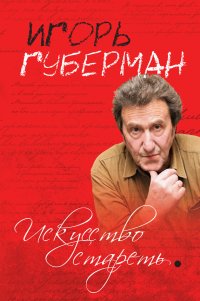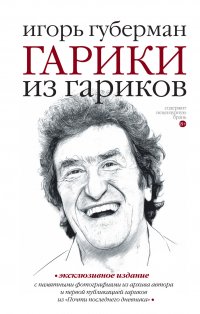Читать онлайн Проза о неблизких путешествиях, совершенных автором за годы долгой гастрольной жизни бесплатно
- Все книги автора: Игорь Губерман
Учился, путешествовал, писал,
бывал и рыбаком, и карасем;
теперь я дилетант-универсал
и знаю ничего, но обо всем.
Светлой памяти Миши Юдсона, писателя и друга
Тридцать лет на сцене
Точнее говоря – тридцать один, впрочем, красивый заголовок много интересней голого факта. Надо было бы устроить бенефис, но лень и неохота: старость. Я уже привык к ее медлительному ритму.
Мне одна старушка в Москве как-то сказала доверительно:
– Вы должны жить долго, потому что вы себе представить не можете, как ваши стихи влияют на мое здоровье.
Я этот завет и исполняю.
Вообще, старушки положительно относятся ко мне.
Еще одна сказала мне, что у нее от чтения моих стишков понизилось давление.
А у другой – повысился в крови гемоглобин. От этого читательского одобрения, конечно, надо жить и жить.
Еще совет очередной старушки: толстых книг писать не надо, потому что толстая книга очень больно бьет по голове, когда засыпаешь.
Как-то мы с женой в гостинице на Рижском взморье познакомились с симпатичной старушкой, которая оказалась года на три старше меня, лет восьмидесяти семи, как не более. Общительна она была, словоохотлива и местами хвастлива. Так, в ранней юности случился у нее роман с Герасимовым. Их ведь (известных Герасимовых) было трое: двое кинорежиссеров и художник. Был, правда, еще и знаменитый антрополог-скульптор. Просто я других не знаю. А старушка, видимо, забыла начисто, с кем именно из них случился у нее роман, так что в детали не вдавалась. Упомянет лишь неназойливо фамилию (довольно часто) и замолкает. Но как-то высказалась столь прекрасно, что я тут же записал с восторгом ее фразу. Мы втроем поднимались в лифте на наши этажи – она, мой тамошний приятель и я. О чем-то говорили незначительном, и мой приятель, вспомнив про расхожий совет дамам не садиться в лифт с незнакомыми людьми, поинтересовался у нее насчет опасности быть изнасилованной в лифте. Старушка яростно сверкнула мутноватыми глазами и сказала злобно:
– Не трогай мечту!
Раз уж начал я писать об этом дивном возрасте, то не могу не вспомнить тост одной приятельницы нашей, справедливо она им гордится: за хорошие анализы! И тут же похвалюсь, как некий доктор, опытно помяв живот мой, одобрительно сказал: ваша печень еще не знает, что вы – пьющий.
Эх, читатель, не с того я начал, с чего хотел. Я собирался начинать с признания, как долго я боялся сесть за это предисловие. Чего боялся, сам уже не знаю, просто все тянул и откладывал.
А побороли эту неохоту – дивные мысли мной издавна любимого Евгения Шварца. Он меня издалека ободрил, еще в совсем молодом возрасте сформулировав девять правил для себя. Под номером один шло: «Писать ежедневно». Под номером шесть – «Черновики запрещены». Под номером восемь: «Писать можно о чем угодно, что угодно и как угодно». И под девятым: «Все на свете интересно». Это меня когда-то сильно вдохновило. Хотя насчет «как угодно» есть у меня большие сомнения. Я ведь очень много читаю. И порой такое попадается, о чем лучше всех сказал какой-то старый еврей: «Руки опускаются ниже всяких критериев».
Начну с печального.
На склоне лет явилось у меня забавное душевное расстройство. Я считаю числа на номерах машин, которые увидел. И если сумма первых трех цифр совпадает с суммой трех последних, я счастлив и молча благословляю владельца транспорта. Это не так уж часто случается: за каждый выезд в город – один или два раза. И я чувствую, что день прошел не зря. Конечно, безобидное расстройство, но ничего я с ним поделать не могу, такая вот мания.
А подлинное чувство унижения меня совсем недавно постигло.
Вдруг по электронной почте получил я крайне уважительное письмо из Питера, от какой-то явно административной женщины из Театра комедии имени Акимова. Мол, не найдется ли у меня время выступить в их театре с концертом. Господи, да еще как найдется, честь какая! И мгновенно день в гастролях отыскался, и в хмельном виде уже не раз я похвалился друзьям, где я буду скоро читать свои стишки. Но тут получаю (от нее же) новое письмо. Вы меня, дескать, извините, Вы должны меня понять, но Управление культуры отказало в разрешении на Ваш концерт в нашем театре.
Что это значит – отказало? Значит, надо к ним за разрешением обращаться? Но тогда не Управление культуры этот орган, а Управление культурой. Ничего себе поправка. Я почувствовал, что будто снова живу в Советском Союзе, мерзостное очень ощущение.
Чтобы его загладить (снова оно вспыхнуло), я похвалюсь одним глупейшим случаем. Недавно в Вене мы сидели с женой, от виденного отдыхая, на скамейке в дивном дворце – музее Бельведер. И к нам вдруг с возгласами припорхнула толстая рыжая тетка неопределенного возраста. Изъявив свои восторги, она взяла у меня автограф и с торжественной серьезностью сказала:
– Самый, конечно, изумительный момент нашего приезда в Австрию – это встреча с вами!
Как я не заплакал, удивляюсь до сих пор.
В Сан-Франциско (недавно поездил по Америке) я услышал дивную историю. Молодой адвокат, еврей, работал в юридической конторе, поставляющей защитников тем людям, у которых не было денег на частного адвоката. И был он позван к некому убийце. Подзащитный оказался молодым наглым парнем, да еще и ярым антисемитом. Увидев адвоката, он разругался грязными словами и погнал его прочь. Тогда к нему явилась вся их адвокатская контора – трое сразу. И притом – одной национальности. Старший даже был в кипе. Увидев надругательство такое над его святыми чувствами, убийца по-мальчишески заплакал.
– Неужели, – говорил он сквозь текущие потоком слезы, – нет среди юристов неевреев?
И тогда старшему так стало его жалко, что погладил он убийцу по затылку и участливо сказал:
– Есть, сынок, конечно, есть, но все они – прокуроры.
Ты прости мне, друг-читатель, вечные мои мало связанные переходы от сюжета к сюжету, все эти житейские истории, но я недавно вдруг набрел на истинного, подлинного российского патриота. Настоящего, а не из числа тех лицемеров, что, разбрызгивая слюни, громогласно вопиют о собственной любви к отчизне.
Это в Нижнем Новгороде было (не случайно, значит, именно оттуда был Козьма Минин). В ходе чемпионата мира по футболу 2018 года, который, как известно, проходил в России, местная аптекарша, продавая презервативы иностранным футболистам и болельщикам, прокалывала иглой эти нехитрые приборы для скоропалительной любви. Она это делала, как призналась на следствии, для улучшения отечественного генофонда. Очень уж ладные и стройные были эти гости России. Я таких бы женщин награждал и всячески благодарил – за отвагу, сметку и патриотизм. Я лично восхищаюсь ее подвигом.
Однако же все – все написанное выше – только попытка куда-либо в сторону сместить/отложить или хотя бы как-то оттянуть то главное, ради чего я это предисловие пишу.
Мне восемьдесят три уже (с огромным хвостиком), пора бы закругляться. Говоря высоким стилем, подводить итоги. Если Бог поможет, то предварительные…
А какие у меня итоги? Я за эти тридцать лет изрядно помотался по различным городам и странам. Скромное эхо этих путешествий (впечатления и даже мысли) рассеяны по сборникам последних лет – они стишки там предваряют.
Вот я и надумал собрать их воедино – чем не итоги? За последние пятнадцать – двадцать лет гастролей с начала этого столетия (я ведь уроженец прошлого – не только века, но тысячелетия). Надеюсь, это кому-то будет интересно.
Тени в раю
Воинственное прошлое жителей Швейцарии осталось в том времени, что на будущее не распространилось.
Когда-то это были элитные воины в европейских армиях, причем и на противной стороне швейцарцы бились с тем же платным воодушевлением. Но столетия выветрили их наемную отвагу, и швейцарцы стали домоседами, часовщиками, сыроварами и патриотами. Символом былого остался снайпер арбалета Вильгельм Телль. Еще в России навсегда сохранилось профессиональное название охранника – швейцар, когда-то пришедшее сюда через Германию и Польшу.
Сегодня вся Швейцария – страна умиротворенного покоя и хронического процветания. Лыжные курорты, зеленые долины возле озер немыслимой красоты и отрешенные альпийские вершины – словом, это грех и упущение – Швейцарию не повидать и не проехаться по ней.
Нам повезло: ревнивый Бог еврейский, благосклонно (в меру своего доброжелательства) взирающий на нашу жизнь, переселил на жительство в Швейцарию довольно много россиян – достаточно, чтоб нас с женой туда однажды пригласили.
Мы жили у людей немыслимого обаяния и гостеприимства. В их заснеженной деревушке возле города Ньон я выпил столько виски, что уже за первые два дня блаженно понял: удалась швейцарская поездка.
В Женеве мы виделись с очень славными людьми, хотя сам город был чужим донельзя.
Самый лучший в мире город можно усреднить и обезличить, возведя в нем столько офисов, контор и учреждений, как здесь. Шевельнулось во мне вялое желание добраться до холма Шампель, лобного места средневековой Женевы. В шестнадцатом веке там по приказу Кальвина сожгли на костре великого ученого и столь же безрассудного еретика Мигеля Сервета. Я, однако же, сообразил, как может выглядеть современный спальный район на этом месте, и оставил глупую сентиментальную затею что-нибудь почувствовать спустя без малого пятьсот уплывших лет.
И все-таки витает, витает в Женеве ощутимый дух седой цивилизации. То вдруг над островком, где, по преданию, любил сидеть Жан-Жак Руссо, то под массивной древней аркой перестроенного дома, то в разбойном повороте узкой улочки.
Тата, моя чуткая жена, прекрасно это выразить сумела. Мы возвращались от приятелей в тот дом, куда пустили нас пожить, успели на автобус и уже почти доехали, когда мне Тата вдруг сказала:
– Давай сойдем на остановку раньше, я люблю гулять вечером по Европе.
После и по Берну мы немного погуляли.
Я вдруг вспомнил, что в середине тридцатых годов здесь состоялся шумный судебный процесс: решали степень подлинности «Протоколов сионских мудрецов». Понаехало полным-полно различных экспертов-специалистов и решили, что это бесспорная фальшивка, к радости евреев и наивных гуманистов всех мастей.
Только все равно продолжали идти «Протоколы» по всему миру, издавались многотысячными тиражами, и спокойно их вовсю употребляла геббельсовская пропаганда, да и в сегодняшней России они, как и встарь, пользуются массовым успехом. А у меня в голове давно сидит довод, убедительный настолько, что бессмысленной мне кажется та давняя судебная разборка. Да конечно же, провокацией были эти пресловутые «Протоколы»! Потому наверняка это фальшивка, что мои двусмысленно прославленные предки ведь на то и были мудрецами, чтобы догадаться о необходимости не оставлять ни строчки письменных улик.
По Берну никак нельзя погулять не вспомнив, что здесь работал клерком патентного бюро Альберт Эйнштейн. Сто лет назад он тут и сделал почти все свои главнейшие открытия. А на службе на него наверняка смотрели косо, ибо он, конечно же, в присутственные часы обдумывал свои идеи, кое-как справляясь с поступавшими проектами всеобщих растворителей и вечных двигателей. И когда слышу, как печально жалуются чьи-нибудь родители, что их ребенок очень поздно начал говорить, тотчас вспоминаю это имя: сам Альберт Эйнштейн молчал до шести лет, говорю я, и это сразу утешает.
В Цюрихе мне также было весело и любопытно.
Тут когда-то побывал народоволец Николай Морозов, герой моей первой «негритянской» повести. И здесь училась его будущая подруга по подполью Ольга Любатович. Именно здесь, кстати, он познакомился и с Верой Фигнер – та приехала учиться на врача, но быстро увлеклась идеями свержения самодержавия. И все вокруг об этом говорили непрерывно, жаркие дебаты не стихали даже ночью, возмущая окружающий покой.
А как покой ценили местные швейцарцы, проще показать на маленькой детали из воспоминаний Анны Григорьевны Достоевской, жены писателя. Когда у них погибла от простуды крохотная, только что родившаяся дочь (это было в Женеве), молодая мать рыдала после похорон, и от соседей (что произошло, они прекрасно знали) к ним пришел посыльный попросить, чтобы она не плакала так громко, потому что женский плач действует на нервы.
В Цюрихе на сборищах, почти ежедневных, то читались рефераты разных революционных партий, то заезжие пропагандисты выступали с пламенными призывами к освободительной борьбе. Спорили до хрипоты, до ругани и оскорблений, до скандалов и до ссоры навсегда.
Русская колония тут насчитывала несколько сот человек и состояла отнюдь не только из молодых людей мужеского пола. Ибо хлынула сюда, фиктивно выходя замуж, огромная волна девиц из тогдашней Российской империи, одержимых жаждой получить образование. А страсть к образованию немедля переходила в одержимость революцией. Даже русская была библиотека, куда из метрополии поступали газеты и журналы. Тот же Морозов, он ведь именно здесь написал свою книгу о необходимости террора, тихий был и бесконечно добрый человек, но в воздухе уже витало будущее самоубийство горячо любимой им России, с этими ветрами совладать не мог никто. Еще ранее бывал тут и герой второй моей «негритянской» повести – Николай Огарев, он приезжал сюда по какому-то поручению Александра Герцена, который Цюрих не любил из-за семейных тягостных воспоминаний: тут его жена Наталья увлеклась немецким поэтом Георгом Гервегом.
Нас водили по городу молодая русская женщина и ее муж – немногословный местный житель, с очевидностью школьный педагог, как это скоро и подтвердилось. Что касается его немногословия, то дело было в нас: не зная языков, мы с ним могли общаться только через перевод, а это к болтовне располагает мало. На эту экскурсию я напросился ради одного кафе, о котором понаслышке знал и собирался ощутить там ощущения (простите это масляное масло, но точней мои надежды выразить нельзя).
Надежды оправдались полностью.
Я с давних пор очень люблю, когда на застольях произносят тост, который может допустить лишь русский язык с его немыслимой пластичностью: за сбычу мечт! И я, как только принесли заказанный нами виски, именно это и произнес.
Уже побывав к тому времени во многих знаменитых ресторанах и кафе (в Париже, в Риме и других городах), где когда-то сиживали люди, имена которых много говорят уму и сердцу, я успел убедиться, что все эти заведения настолько затоптаны немыслимыми толпами подобных мне туристов и так надышаны восторгами и охами, что на мою долю мало что осталось.
А вот grand café «Одеон» знаменитым почему-то не стало. И не перестраивалось много лет. Выпив рюмку и прихватив сигарету, я пошатался чуть по маленькому зальчику. Полным-полно было людей, но это были не туристы, явно – местные. И в большинстве – мужчины. Все очень много курили, музыки, по счастью, не было, на стенах и на деревянных перекрытиях лежала не то пыль веков, не то патина столетий, которую я чувствовал душевным нюхом, и никаких других следов мне нужно не было.
В начале прошлого века тут сидели (даже и по времени почти не расходясь, а то и вместе) – Лев Троцкий и Альберт Эйнштейн, любимый мной художник Алексей Явленский и грядущий дуче Муссолини. Стефан Цвейг мог почти наверняка разговаривать за чашкой кофе с психоаналитиком Карлом Юнгом, учеником и оппонентом Зигмунда Фрейда.
Не мог сюда не захаживать великий провокатор Евно Азеф, поскольку подрывателей основ, боевиков и теоретиков ниспровержения тут было видимо-невидимо. Здесь кричали-спорили и составляли манифесты художники-дадаисты. Они жарко обсуждали наступившую в начале века абсолютную свободу творчества, его полную раскрепощенность, необходимость в нем анархии и детского лепета. Время густо пахло озоном преображения мира, и как раз об этом говорили, собираясь, все тогдашние художники – поэтому, быть может, их любили слушать будущие костоломы века.
В этом кафе Ленин неоднократно сиживал с кружкой пива и даже играл в шахматы с поэтом-дадаистом Тристаном Тцара.
Интересно: вспоминал ли, скажем, Цвейг впоследствии, что он сидел возле творца кошмарного, но, безусловно, звездного часа человечества?
Хорошо мне было в стенах кафе «Одеон». И я окинул взглядом посетителей. Кто из них прославит это место своим сегодняшним присутствием? Но никого такого не нашел. Все были респектабельны, благополучны и в нормальном состоянии ума. Во всяком случае – наружно. Так ведь оно было и тогда, сообразил я. И выпил еще рюмку виски за процветание этого дивного места.
Больше в Цюрихе меня уже ничто не восхищало. И по дому пастора Лафатера, знаменитого физиогномиста, я скользнул пресыщенным взглядом, слушая вполуха, что сюда общаться с ним приезжали Николай Карамзин и Павел I.
Здесь когда-то жил великий педагог и просветитель Иоганн Песталоцци, только я учителей боюсь и не люблю еще со школы. И на склоне лет во мне нисколько не остыло это двойственное чувство.
Дня через три был выходной, и нас, как обещали ранее, повезли двое новых знакомых посмотреть знаменитый фешенебельный курорт Монтрё. Туда мы не заехать не могли: на нас лежало путевое поручение. Моя теща из Москвы по телефону попросила положить цветы на могилу Набокова. Категорической та просьба не была, однако же ослушаться нам даже в голову не приходило.
Сам городок меня скорей расстроил, нежели порадовал, своей роскошной зеленью и прочими красотами, присущими великому курорту. Избыточно прекрасным было это место. Даже беспечная гладь Женевского озера мне показалась чуть отлакированной восторженными взглядами десятка поколений отдыхавших. В гостинице, где Набоков жил чуть не двадцать лет, нам дали адрес кладбища (российские туристы посещают его чаще, чем мусульмане – Мекку), возложили мы букет, я погулял вокруг и часть цветов перетащил к захоронению Оскара Кокошки (пустовала бедная могила замечательного этого художника).
После мы снова воротились к гостинице, где в садике напротив сидел величественный бронзовый Набоков.
«Чисто райское местечко», – пробурчал я про себя. И вдруг подумал по естественной ассоциации, что именно сюда, поскольку место райское, могли бы отпускаться на побывку тени тех, кто некогда бывал в этих краях, а ныне – в очень разных обиталищах коротает свою загробную жизнь. И понеслось! Я закурил и молча наблюдал.
По всей длине центральной улицы обозначилось шествие отменно разодетых теней: это двигалась – поколение за поколением – российская высшая аристократия. Не будучи представлены друг другу, они раскланивались церемонно и сдержанно. И рассматривали незнакомые им платья и прически. А в садике моему взору предстали узнаваемые тени. Лица были те же, что я видел на портретах, время сохранило их и не попортило ничуть.
Грузная тень Набокова пыталась тенью сачка накрыть живую бабочку, присевшую на бронзовую руку его изваяния. Чуть поодаль стояли Герцен с Огаревым. Герцен что-то говорил, но Огарев его не слушал, вожделенно глядя на витрину с выпивкой наискосок через дорогу. И я их видел, как живых.
А вон тень Ивана Бунина нагнулась, чтоб найти и кинуть камень в промелькнувшую тень Ленина, но не было камней в этой траве, да и бесплотная рука не в силах была камень ухватить. Бунин выпрямился, виртуозно матерясь, а Лев Толстой стал быстро ему что-то говорить. Возможно – о непротивлении злу насилием, но все-таки скорей о том, что уже поздно кидать камни.
И Осип Мандельштам тут был, но ни к кому не подходил, а всех рассматривал, надменно вздернув подбородок. Максим Горький что-то тихо и стеснительно рассказывал Леониду Андрееву, мне показалось, что он жалуется на что-то.
Вон группа целая: Тютчев, Гоголь, Вяземский, Жуковский – неподвижные, как будто их рисуют или фотографируют. Я сразу же узнал Бакунина с Кропоткиным. И только позже усмешливо сообразил, что ведь сюда и заявились только те, кого я в состоянии узнать.
Я ликовал и наслаждался. А историк Карамзин смотрелся очень странно рядом с книжником Николаем Рубакиным. Их жизни разделяло поколений пять, но они явно получали друг от друга удовольствие. Величественный Карамзин внимал тезке восторженно и жадно: он, возможно, от него узнал сейчас впервые, что он до сих пор – почитаемый в России историк. Я извертелся, чтоб увидеть Достоевского, но так его и не нашел: он даже на земной побывке, вероятно, предпочел хотя бы тенью оказаться в казино.
Тут наступил закат, и петушиным криком закричал фельдмаршал Суворов (при мундире с орденами и со шпагой). Тени медленно и плавно исчезали по местам своего успокоения.
– Что ты так уставился на выпивку в витрине? – спросила меня Тата. – Мы ведь едем в гости.
До гостей, однако, а точнее говоря, до выпивки у нас в этих краях было еще одно великолепное посещение: Шильонский замок. Он тут был неподалеку. Вечную славу у потомков принесла этому замку поэма Байрона «Шильонский узник».
Байрона подвигла на поэму тяжкая судьба женевца Франсуа Бонивара – он так страстно участвовал в борьбе против герцога Савойского, что тот, несмотря на то что потомки назовут его Карлом Добрым, заточил патриота в подземелье замка, приказав цепью приковать к столбу. И там бедняга проторчал шесть лет. Потом его освободили, и еще он долго жил в благополучии и почете у сограждан. Случилось это все в шестнадцатом веке.
Я так легко пишу об участи бедняги Бонивара, потому что срок подобный – эка невидаль российскому читателю, да и о цепях он не понаслышке знает.
Байрон написал замечательную поэму, чем обеспечил на века поток туристов в этот замок. Походили мы по сохраненным залам (каждому заядлому туристу и почище замки попадались) и спустились в знаменитое подземелье, где толпа японских туристов азартно щелкала своими аппаратами, фотографируя на память столб и цепь. Столбы-колонны в этом подземелье – из песчаника, который мягок и удобен, чтобы расписаться. Накарябано имен там – тысячи. Естественно, мое теперь там тоже нацарапано. Любители-фанаты уже много лет разыскивают подпись Гоголя: тот сообщил кому-то, что оставил свой автограф. Тут я совершил открытие – печальное, но поучительное крайне. Фотографируют не столько столб и цепь, как имя Байрона, на этом столбе довольно явно процарапанное. Его уже администрация ради сохранности и чтобы легче находить, прикрыла лоскутом плексиглаза. Однако же под этим охранительным стеклом совсем не Байрон расписался! Там большая буква В латинская, все правильно, но только после этой В там выцарапана ясно видимая точка, после которой идет столь же заглавная У и остальные буквы фамилии. Айрон – так она звучала бы по-русски. Когда-то здесь была в каком-то месте подпись Байрона (с ним рядом некогда почтительно поставил свое имя переводчик «Шильонского узника» поэт Жуковский), но потом истерлось это временем и сквозняком. А весьма похожая расписка некоего простодушного Берчика Айрона – сохранилась. И ее благоговейно запечатлевают сотни (а скорее – тысячи) восторженных и впечатлительных туристов.
Ехали обратно мы, кружа по серпантину, по спирали горной дороги, постепенно набиравшей высоту. А я смотрел на зелень нисходящего в долины леса и помалкивал блаженно. Записал услышанную байку о каком-то мудром пожилом еврее, которого везли этой дорогой и заботливо спросили, не укачивает ли его от непрерывного кружения. А он в ответ спросил ворчливо: «Если да, укачивает, вы поедете прямо?»
В деревню нашу мы уже по темноте вернулись. Было мне уютно и возвышенно. Шествие тех теней, что увидел я в дыму от сигареты, ощущалось мной как реальное. И я решил, что стану жить разумно и красиво: напишу рассказ «Монтрёнин двор» и отошлю на отзыв Солженицыну.
Дня за два до отъезда выбрался я в книжный магазин.
Конечно, раньше надо было выбраться, однако ж – не досужий путешественник я был, а концертирующий фраер, по утрам для отдыха мне свято полагалась выпивка, и я беспечно расслаблялся. А купив книгу, о которой знал еще с Израиля, я очень пожалел, что не собрался приобрести ее раньше.
Писатель Михаил Шишкин, где-то здесь живущий, сделал замечательный путеводитель «Русская Швейцария». Написанный отменно, содержал он массу информации. Если бы я раньше почитал его, то по Ньону, маленькому городку в горах, совсем иначе бы ходил. Без той надменности, что свойственна пресыщенным туристам в малопримечательных местах. Поскольку русских теней в нем ничуть не меньше оказалось, чем фамильных призраков – в английском старом замке. Когда-то Герцен попытался собрать сюда свою семью, которая по трещинам взаимной розни на глазах разъединялась. И конечно, Огарев был рядом, пытаясь их своей любовью вновь соединить. Эсеры-боевики прятали в здешнем отеле динамит, которым был потом взорван министр внутренних дел Плеве.
Я весьма обязан этой книге еще тем, что в ней наткнулся вдруг на имя, ранее неведомое мне. Уже вернувшись домой, я собрал доступные материалы. Судьба нарисовалась дивная и страшная.
Сабина Шпильрейн была дочерью удачливого коммерсанта из Ростова-на-Дону. Училась, музицировала, была обучена отцом трем европейским языкам. Когда она оканчивала гимназию (с золотой медалью, кстати), у нее погибла от тифа горячо любимая младшая сестра. И у Сабины началось психическое недомогание. Галлюцинации, дурные сны, депрессия, попытки кончить жизнь самоубийством. Нафтулий Шпильрейн, отчаявшись вылечить дочь у местных врачей, отправил ее в Цюрих. Там она попала к молодому доктору Карлу Юнгу, он нашел запущенную истерию и решил ее лечить психоанализом, которым тогда беззаветно увлекался. О своей российской пациентке он даже учителю писал, так что Зигмунд Фрейд уже знаком был с этим именем. В лечении психоанализом имеется черта, замеченная сразу же его творцами: у пациента вспыхивает к доктору любовь. Сабине было девятнадцать, и она, конечно, полюбила Карла Юнга. Психоаналитик ей ответил пламенной взаимностью. Поэтому выздоровление Сабины вряд ли можно объяснить одним лишь торжеством психоанализа, но главное, что все недомогания прошли. Роман их длился лет семь (и в тайне протекал, поскольку доктор был уже женат), а после Юнг порвал их отношения, покинув город. Однако же Сабина к той поре уже сама окончила медицинский факультет университета в Цюрихе и занялась психоанализом.
А вскоре в Вене сделала она доклад, в котором главная идея настолько потрясла Фрейда, что великий ученый весьма заметно изменил основы своей теории. Ранее он полагал, что главный жизненный инстинкт, который движет человеком, – это Эрос, созидательный инстинкт продления рода. Молодая исследовательница сделала доклад, который назывался «Разрушение как фактор созидания». Она веско утверждала, что стремление к погибели, деструкции и смерти неразрывно в человеке со стремлением творить и созидать. И возникший в новой книге Фрейда инстинкт смерти (Танатос) был уже на равных с Эросом в психическом устройстве человека.
Фрейд упомянул короткой строчкой первенство Сабины в данном вопросе, но не раз впоследствии его ученики с усмешкой говорили, что блестящая идея была попросту присвоена выдающимся открывателем устройства нашей психики.
Почему коллега из России сделала такое поразительно глубокое открытие? Вопрос этот многажды возникал у психоаналитиков того времени. А я, когда об этом удивлении прочел, то только усмехнулся понимающе. Не слышится ли вам в названии доклада («Разрушение как фактор созидания») отчетливая смысловая рифма со словами известного бунтаря, всюду разнесенными в те годы ветром времени? Пожалуй, не было тогда в Швейцарии никого из россиян, кто не слыхал (и в разговоре не употреблял) фразу Бакунина: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть».
Отсюда – два шага до переноса этой мысли на глубинное устройство человека. Соглашусь со всеми, кто скептически пожмет плечами, только я уверен, что мышление Сабины (кроме знания о собственных недугах и влечениях) с несомненностью включало и этот знаменитый анархический лозунг. А кстати, несколько десятков лет спустя в Женеве были найдены потерянные дневники Сабины Шпильрейн. И вот какие, в частности, слова там были (года за два до того доклада знаменитого она записывала мысли, приходившие ей в голову): «Демоническая сила, сущностью которой является разрушение (зло), – в то же время есть и творческая сила». А тут уж – совпадение полнейшее.
Недолго поработав в разных европейских клиниках, Сабина переехала в Россию. Фрейд горячо одобрил переезд: Россия представлялась мэтру очень плодоносным полем для психоанализа, к тому же – уезжало с глаз долой живое и безмолвное напоминание об авторстве основополагающей идеи.
В Москве в двадцатые года был учрежден солидный Государственный институт психоанализа: каким-то коммунистам-теоретикам казался очень перспективным этот путь проникновения в интимные глубины человека. Ибо победившая идеология заявляла: «Класс в интересах революционной целесообразности вправе вмешиваться в половую жизнь своих членов». И еще одна прекрасная цитата, много говорящая о духе полыхавшего замыслами времени: «Необходимо… электрифицировать огромный сырой подвал подсознания». В частности, психоанализу с восторгом покровительствовал Троцкий. Как только его влияние ослабло, институт закрылся навсегда. Более того: довольно скоро даже слово «психоаналитик» сделалось едва ли не синонимом погибельного звания «троцкист». Рассосались без следа эти ученые, а имя Фрейда на десятки лет исчезло из научного упоминания. От этой травмы лишь недавно стала оправляться психология в России.
Сабина вернулась в свой родной Ростов. Работала в поликлинике врачом (легенда есть, будто читала где-то лекции) и с мужем вновь сошлась. Еще когда-то в Цюрихе, чтоб заглушить тоску по Юнгу, вышла она замуж без любви и дочку родила, но муж ее потом оставил. А в Ростове – возвратился. Родила вторую дочь. Все прошлое разбито было и зачеркнуто, ни о какой науке речь уже не шла. К тому же наступили кровавые тридцатые, три ее брата (видные ученые) погибли в годы сталинского террора. Муж умер от разрыва сердца (слухи были, что ареста ждал и отравился).
Когда пришла война, Сабина уезжать категорически и резко отказалась: более культурной нации, чем немцы, не встречала она в жизни, а поэтому и не боялась ничего. В первый свой захват Ростова немцы удержались ненадолго, но вскоре пришли вторично. И в последний раз великого психолога Сабину Шпильрейн соседи видели в колонне, что в августе сорок второго года тянулась по центральной улице по направлению к Змиевской балке. С нею шли две дочки. Змиевскую балку вскоре стали называть Черным оврагом: там полегли под выстрелами двадцать семь тысяч человек еврейского населения. Возможно, больше, в точности никто не знает.
Уже намного позже разные мыслители напишут, что присущий в целом человечеству дух Танатоса – дрожжи революций, войн и появления таких погибельных миражей, как нацизм и коммунизм. Но мне уже глубины эти недоступны.
И еще по двум городам мы побродили кратко и наискось.
Признаки благополучного устройства жизни всюду раздражали мой наметанный российский глаз. Очень я душевно оживился от рассказа, как безумно процветает горный санаторий, сотворяющий омоложение усталых организмов. Тут желающим – за бешеную плату – впрыскивают вытяжку из печени эмбриона черного барана. Смешно мне стало, потому что век назад недалеко отсюда (но уже во Франции) как раз с баранов начинал свои эксперименты физиолог Сергей Воронов. Он половую железу барашка молодого старому барану подсадил, и тот опять стал покрывать овечек. После Воронов стал пересаживать семенники различных обезьян (орангутанги, павианы, шимпанзе отлавливались в Африке бесперебойно) всяческим дряхлеющим, но с деньгами мужчинам. Именно его прославленным экспериментам обязана российская наука за возникновение большого обезьяньего питомника в Сухуми.
Советские вожди немедля после смерти Ленина всерьез разволновались за свое здоровье, и немыслимых размеров средства были выданы на экспедицию за обезьянами. Но это уже русская, а не швейцарская история. Забавно только, что омоложение в горах швейцарских – с непременностью от черного барана. Вот и толкуйте после этого, что человечество умнеет век от века.
Мне, как путешественнику с опытом, обидно было, что не побывали мы в Люцерне. Потому что я лишился из-за этого прекрасной фразы – как бы она могла украсить путевой дневник! Я б мельком написал: «В гостях у Вагнера бывал тут Ницше». Не пришлось.
В Цюрихе дороги наши с Татой разошлись: она поехала домой, а мне еще недлинный предстоял вояж, который странным образом с заснеженными горами Швейцарии отменно рифмовался.
Я летел на выступления в Тюмень, Сургут и Салехард.
Когда мне близкий мой приятель предложил съездить туда, я ни минуты не кобенился и не скулил о диких расстояниях. За Северным полярным кругом я бываю редко, с радостью подумал я, припомнив, что уже один раз был. И циничную придумал тут же шутку, всем ее настырно излагая. Мол, когда в швейцарский город попадаешь, то обычно спрашиваешь, кто из интересных личностей здесь некогда бывал, а в городах сибирских – кто из замечательных людей тут некогда сидел.
В Тюмени мне хотелось постоять и выкурить сигарету возле старого большого дома (кажется, бывшей гимназии), где четыре года, всю войну, лежала – под охраной и врачебным сохранением – мумия Ленина, привезенная из Москвы.
Эту законсервированную реликвию отправили в эвакуацию почти что первой, чтобы не досталась подлому врагу. Еще хотелось мне за рюмкой водки поговорить неторопливо с кем-нибудь из местных знатоков о прошлом этого такого непростого места: здесь когда-то ведь была столица Сибирского ханства. А под водку с малосольной рыбой из Оби (особенно здесь славится муксун) как дивно потекла б эта беседа о казачьих отрядах Ермака и рати хана Кучума! Ну а если б удалось еще и в Ялуторовск смотаться – там были в ссылке декабристы и музей их есть, – то иначе как полным везеньем такое и не назвать.
Не сложилось. Пили много, и с хорошими людьми, но мы в Тюмень приехали, уже побыв в Салехарде, и совсем другие мотивы заполняли меня. Поскольку в Салехарде я хотел сыскать какие-нибудь местные труды о страшной стройке, что когда-то здесь вершилась, о железной дороге Салехард – Игарка, названной еще в ту пору коротко и страшно: Мертвая дорога. И нашлись материалы (их я вез с собой).
Исполнять стишки мне в Салехарде было очень трудно. Я уже давно избалован доброжелательным вниманием, отзывчивостью публики, а тут передо мной расстилалось глухое, полное молчание первых десяти – пятнадцати рядов. Откуда-то издалека я слышал смех, но не задние ряды делают погоду в зале, я выступал перед немой и вязкой пустотой. Забавно, что в конце были горячие и общие аплодисменты: первые ряды созрели или снизошли. Позднее на пьянке мне усмешливо мою догадку подтвердили: да, билеты в первые ряды купило местное начальство, чтобы лично посмотреть на фраера, которого читать не доводилось, но чего-то где-то было слышано о нем.
Я не был удивлен, не первый раз я сталкивался с тем, что местные хозяева сегодняшней российской жизни в большинстве своем еще совсем чуть-чуть ушли от образа своих коллег недавних подлых лет. И хотя они считают себя продвинутыми и много понимают в нынешней текущей жизни, но только внутренне переменились очень мало и окаменело цепенеют от любых свободных текстов. Да к тому же громко и со вкусом произнесенных. Замечательно когда-то было сказано, что русские писатели – все вышли из гоголевской «Шинели». Этот образ развивая, можно смело утверждать, что русское начальство – снизу доверху – все вышли из шинели сталинской. И в ней привычно пребывают, что в определенных ситуациях особенно заметно.
Утром я слегка опохмелился и вышел покурить на дьявольский мороз – что такие бывают, уже изрядно мною подзабылось. Крыльцо гостиницы выходило на центральную улицу, всюду стояли современные дома, на фоне снега выглядя особенно красиво, и ничего уже о прошлом не напоминало.
В лагерные времена здесь во Дворце строителей был зэковский театр, в нем играли многие известные артисты, музыканты и певцы, а оперы и драмы ставил актер и режиссер Леонид Оболенский, когдатошний сподвижник Эйзенштейна. Симфоническим оркестром управлял былой руководитель оркестра одесской оперы Николай Чернятинский. За пианино тут сидел недавний аккомпаниатор Давида Ойстраха Всеволод Топилин.
Зэк Александр Дейнека, действительный член Академии художеств СССР, оформлял этот Дворец культуры.
На каком-то лагерном участке, ото всех таясь, писал тут зэк-писатель Роберт Штильмарк свой блистательный роман «Наследник из Калькутты». Он хоть выжил, слава Богу, о нем судьба пеклась, а сколько здесь других талантливых людей погибло – знать уже не доведется никому. Еще глухая есть легенда, что начальство лагерное вольным докторам не доверяло, а лечиться в лагерные лазареты ездило и привозило свои семьи: очень уж известные врачи сидели в этих гибельных местах.
И ни одна живая тень на этой улице передо мной не промелькнула. Словно заморозилось мое воображение. А если б я и знал кого-нибудь по их былым портретам, то не опознал бы все равно в колонне истощенных зябнущих людей, бредущих на работу под надрывный хрип овчарок.
Легче мне представить оказалось, как по этой улице однажды лошади неторопливо протащили несколько саней, в которых кое-как накиданные, не прикрытые ничем валялись трупы. Это всем решила показать охрана стройки, как она карает за побеги. А отчаянные, обреченные побеги были часто. На поимку беглецов и авиацию пускали, да и активно помогало коренное население: награда полагалась за содействие. И вряд ли хоть один из беглецов добрался до материка.
Я знал затейливую пакостность своей натуры: где мне бывает хорошо, красиво и уютно, там немедля подползут-нахлынут яркие кошмарные воспоминания и мысли. О чем-нибудь, что пережил когда-то сам, или о том, что прочитал, увидел и услышал.
Спустя полгода оказался я в Америке. И выступал в Нью-Джерси, в замечательно красивом доме одного известного пианиста.
Дом был очень русский, мне его хозяйка показала, посоветовав еще по заднему двору пройтись – вон там, где ходят люди, выпивая и куря, лужайка наша того стоит, чтоб на ней немного погулять. Лужайка? Я не знаю, как назвать точней это огромное, поросшее кустами и травой пространство под старыми деревьями. Со вкусом запущенную подмосковную усадьбу это чем-то напоминало, хотя, видит Бог, усадьбы подмосковные мне видеть довелось только в изгаженном и запустелом виде. Я прошел этот большой участок до конца по мощенной камнем узкой тропке, вышел за ворота в задней части забора. И вот тут я обомлел. Буквально в метре от забора шла забытая железная дорога. Повсюду между шпал росла трава, а рельсы потемнели, их давно уже не шлифовали, придавая блеск, вагонные колеса. Но эта брошенная колея не выглядела мертвой. Над ней висела аура отдохновенного музейного покоя. Я побрел на выступление с досадой, что нельзя прямо сейчас – на той, к примеру, деревянной скамье – спокойно сесть и записать то, что мгновенно и ожиданно вспыхнуло в моей заглохшей было памяти. Точней – в сознании моем.
Я понял, почему я в Салехарде, глядя на дорогу, пройденную тысячами зэков, ни единой тени мысленно не смог увидеть. Потому что не хотел я видеть ничего, что отравило бы мое душевное гастрольное благополучие. Со мной случилось то же, что случилось с миллионами людей, боящихся того немыслимого прошлого, желающих забыть о нем и свой покой души не растревоживать. И не читаются поэтому воспоминания о лагерях – а потому и не хотят их издавать издатели, привычно чуткие к читательскому спросу, и равнодушная трава забвения растет над памятью замученных людей.
Зло запредельное, зло абсолютное – оно ни описанию, ни изображению любому начисто и напрочь недоступно. Более того – оно из памяти стремительно уходит, словно шлаки, могущие отравить душевную систему. И нужны усилия ума и воли, чтобы эту память встряхивать. И кстати, немцы это делают – с настойчивостью и назойливостью даже.
Однажды я побывал в Дахау.
В Мюнхене автобус есть, на нем конечная остановка так и обозначена: Дахау. Пассажиры его вряд ли чувствуют толчок сердечный, прочитав название городка, где издавна живут. А я на эту надпись на автобусе смотрел с непониманием и ужасом: у нас ведь очень точные ассоциации навеки сохранились с этим словом. А потом ходил я по большому лагерю-музею, недоумевая, как из него выветрился начисто тот дух отчаянья и смерти, что когда-то здесь витал. По-немецки аккуратно выглядели сохранившиеся чистые бараки, даже печи для сжиганья трупов тут смотрелись как реликвии какой-то мирной отошедшей технологии в каком-нибудь политехническом музее. Словно здесь была когда-то некая обычная и будничная фабрика по производству дыма (а еще – волос и золота, что сохранялось на зубах), а что материалом были здесь живые люди – этого почти не ощущалось. И с таким же отрешенным чувством постоял я в газовой камере под сотнями опрятных дырочек в потолке – как будто правда в душевой. Возле каждой из печей стояла грубо сваренная из железных полос тележка. Это на нее клали тело после газовой камеры, и тележку заводили в печь, освобождая для новой погрузки. Вдоль печей была протянута музейная цепь, чтоб любопытные туристы ничего не трогали руками. Никаких дежурных не было однако: полагали, что цепи вполне достаточно для хорошо воспитанных людей. Я сызмальства себя к таким не относил. Поэтому я молча переступил ограду и попробовал, как это делалось. Тележка очень оказалась тяжела, громоздка и малоподвижна. Как с ней управлялись двое истощенных до предела зэков, было страшно думать. А еще пылала печь, и рядом за спиной лежала очередь из трупов. Я немедля выскочил на воздух покурить.
(Пару лет спустя попал я в дом одного киевского коллекционера всяческих камней. Он хвастался своим собранием, любовно обсуждая каждый экспонат, я вежливо и равнодушно слушал и смотрел – я камни не люблю и слабо ощущаю красоту их цвета и слоистости. Один большой, с некрупное куриное яйцо, черный кристалл с блестящими гранями хозяин дал мне подержать. «Это не природный, это технологический камень, – пояснил он мне, – вам будет интересно, это сколок накипи внутри печной трубы, мне его привезли из Освенцима». Я долго не мог выпустить из рук этот кошмарный сгусток отошедшей дымом жизни.)
Я все время думаю о том, сколько душ было загублено в России. И многие убитые были бы наверняка близки мне, к русской относясь интеллигенции. По ней смертельная коса прошлась особенно активно. Я – вульгарный и неисправимый атеист, но, думая об этих людях, очень я хочу, чтобы загробный мир существовал. И чтоб они хотя бы там сумели получить вознаграждение за их земную преждевременную и мучительную гибель.
Но теперь вернусь на Мертвую дорогу. Ни одна из дьявольских и грандиозных затей того времени не породила столько мифов. Самый из них звучный – будто бы Иосиф Сталин, ознакомившись с проектом, высказался, словно Петр Первый: «Русский народ давно мечтает иметь выход в Ледовитый океан…» Ему было видней, конечно. Легенда, которая оказалась наиболее устойчивой, сохранилась по сию пору, – проста и достоверна много более: под каждой шпалой этой брошенной и незаконченной дороги – кости заключенных, что строили ее. Проложить успели – километров восемьсот.
Понять восторг отца народов нам не трудно: он, попыхивая трубкой, видел карту. На ней тянулась вдоль берега Ледовитого океана, рассекала Уральские горы (за полярным кругом там была долина) и ползла к Игарке (это Енисей уже) красивая и аккуратная линия железной дороги. Вождь не мог не помнить, как ему однажды доложили: прямо в устье Енисея (года два уже, как шла война) преспокойнейше зашел немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер», покрутился там, как дома, и ушел. А как шныряли там немецкие подлодки! Пусть теперь попробует какой-нибудь мерзавец – база Северного флота рядом.
И потянулись в этот край потоки заключенных. По весне сорок седьмого это было. Теперь совсем немного – о природе тех краев. Там десять месяцев в году стоит зима с сорокаградусным морозом и свирепыми ветрами. Нет, конечно, не все время ни мороз такой, ни ветры, но достаточно и месяца для человека, кое-как одетого, полуголодного (точней, голодного всегда), работающего на распахнутом пространстве, а ночующего – в шалаше, землянке или домике из торфа и травяного дерна. До минус двадцати пяти бывало по утрам в таком укрытии. Спали там по очереди, места не хватало. А когда бараки появились, такая же осталась теснота. Двухъярусные нары из жердей. Матрас или тюфяк – большая редкость, их обычно забирали уголовники. Обувь свою первая смена передавала второй. Снега выпадало столько, что в пургу по трубы заносило паровозы, про насыпь, где укладывались шпалы, нечего и говорить.
Летом начинал свирепствовать комар. От этих кровожадных насекомых дохли лошади и падали олени. Были случаи самоубийства часовых на вышках. Пытка холодом не менее мучительной сменялась. Грязь и бездорожье летнего сезона (вся почти работа делалась вручную) этот страшный рабский труд не облегчали. Наказывая, заключенных ставили «под гнуса», возле вышки, шевельнешься – пуля.
Я не нагнетаю ужас специально, я выписываю крохотную часть того, что прочитал в сухом и сдержанном труде историка, поднявшего архивные и бывшие в печати сведения и воспоминания. И вот еще одна (оттуда же) случайная некрупная деталь: за два всего лишь месяца сорок восьмого года были освобождены из заключения (сактированы) – восемьсот пятьдесят человек, ставших на стройке инвалидами. Случайно обнаруженные цифры больше говорят об этой стройке, чем любые подвернувшиеся под руку слова.
Но вырастала насыпь, на нее укладывали шпалы, и протягивались рельсы, и мосты на реках возводились. Приблизительно сто двадцать тысяч человек работало на этой стройке. И все время подвозился новый контингент рабов. О смертности весьма глухие цифры есть: примерно триста тысяч человек осталось навсегда в районе вечной мерзлоты. И невозможно их могилы разыскать: скопившиеся трупы каждые несколько дней вывозили в ближайший карьер, где их бульдозер засыпал землею кое-как. За каждую такую ездку вывозили двести – триста человек. Того, вернее, что еще вчера было людьми. На стройке было много 58-й статьи («политики»), бытовиков и обреченных по указу о хищении народной собственности (те, кто собирал остатки на уже убранном колхозном поле). Это перечислены здесь те, о ком известно было, что они работают усердно и послушно, а на стройку отбирались именно такие. Уголовники здесь гибли только от междоусобных неурядиц.
Прошлый век в истории России был таков, что никого не впечатляет эта цифра. Что такое триста тысяч в той империи, которая убила несколько десятков миллионов собственного населения? Но спустя пять лет свернули эту стройку, а спустя еще два года – полностью забросили. И дорогостоящей она была, и нужность ее стала расплываться, и куда пограндиозней обозначились проекты покорителей природы. А потом ее засыпало песком, разрушились мосты и рельсы скрючило, уцелели только кое-где остатки бараков и, как вехи той эпохи, вышки караульных. Мне дали фильм, совсем недавно снятый по-любительски историками края, и смотрел я эту ленту уже дома, в Иерусалиме. И неудержимо дрожь меня трясла. Настолько понапрасну здесь мучились и гибли люди, что останки стройки этой – самый точный памятник эпохе.
Мертвая дорога – так ему и надо называться.
Земля костей и черепов
Побывать на Колыме по собственной воле и с обратным билетом – истинное счастье для бывалого советского человека.
Прилетев, долго смотрел я, куря сигарету, на огромный транспарант «Колыма – золотое сердце России» и час спустя уже оказался в гостинице.
Номер мне достался с видом на море: с балкона, куда вышел покурить, светилась тихая вода залива и темнели сопки.
– Это бухта Нагаева, – пояснила местная импресарио.
И меня как током пронзило – ничего точней этой избитой фразы не передаст моих ощущений. Это сюда ведь приходили корабли из Ванино, груженные полуживыми рабами! По двести тысяч зэков ежегодно привозили пароходы, чтоб в этой мерзлоте они остались навсегда, успев добыть империи урана, олова, вольфрама, кобальта и золота.
– А где сам порт? – спросил я.
– Он чуть правее, отсюда не видно, а у вас под окнами – как раз дорога из него, – пояснила приветливая женщина. – Пойдемте ужинать?
Я, как прилетел, уже выпил немного, но, когда вернулся в номер, немедленно добавил из заранее припасенной бутылки.
Бухта Нагаева терялась в темноте, серая дорога, скупо освещенная фонарями, полого тянулась вверх. В воспоминаниях зэков я читал, что она была очень крутой. После недели-двух качки в зловонном трюме, духоте, грязи и голоде наверняка она была крутой, эта немощеная тогда, растоптанная тысячами ног просека.
То безумное по жестокости время давно уже не дает мне покоя. В конце восьмидесятых я наткнулся на незнакомое мне раньше имя и принялся искать все связанное с Николаем Бруни – скульптором, поэтом, музыкантом, художником, потом священником, его убили в Ухте в тридцать восьмом. Я тогда обошел человек тридцать бывших зэков, написал роман «Штрихи к портрету», а наслушался столько, что забыть уже не мог и с жадностью читаю до сих пор то немногое, что написали свидетели длившегося несколько десятилетий кошмара. К этой сегодняшней поездке я готовился давно, довольно много прочитал, и память, растревоженная видом бухты и выпивкой, принялась мне возвращать запомненное.
Такое сумеречное состояние и называется, вероятно, просоночным: открытыми глазами я видел серый асфальт пустой дороги, а когда их закрывал – брела по этой просеке нескончаемая колонна измученных, угрюмо сгорбленных людей. В густой толпе отдельные лица были неразличимы, но я знал нескольких, о которых читал, и они были тут, хотя прошли этот недолгий путь в разные годы.
Тут шел «русский Беранже», как его называла некогда литературная критика, – поэт Василий Князев. Он был автором «Песни коммуны», которую знала и пела вся страна. Самые знаменитые слова этой песни он заимствовал из английского гимна, который сам же и перевел: «Никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами». Здесь он и умер вскоре, было ему сорок лет.
Здесь шел по этапу легендарный грузинский прозаик Чабуа Амирэджиби. Пятнадцать лет провел он в тюрьмах и лагерях. Три месяца после суда ожидал расстрела в камере смертников, получил двадцать пять лет и три раза бежал. После последнего побега он оказался в Белоруссии, документы у него были поддельные, но за четыре года этой зыбкой свободы он вырос до директора завода, был даже представлен к какой-то госнаграде, тут в документах и разобрались. Он сидел в Норильске, но после лагерного бунта, в котором активно участвовал, был переведен на Колыму, где выжить, по словам Шаламова, можно было только случайно. Но выжил этот удивительный человек и даже прошел по этой же дороге обратно, а после написал роман «Дата Туташхиа», переведенный на десятки языков, и еще несколько книг, и ему в ноябре две тысячи одиннадцатого только что исполнилось девяносто.
Здесь весной тридцать девятого шел будущий главный конструктор космических кораблей Сергей Королев. Он почти сразу попал на золотой прииск Мальдяк, зловеще известный всей Колыме: там погибало за зиму не меньше половины пригнанного туда очередного этапа. А в один зимний сезон из четырех тысяч выжило к весне только пятьсот человек. Королев очень быстро стал доходягой, и кто-то из соседей по бараку уже горестно и привычно посочувствовал ему: ты зиму не переживешь. Но в это время, по счастью, его родные чудом добились пересмотра дела, и в декабре его отправили в Москву. Уже беззубого, опухшего, с гноящимися ранами на ногах – дни его были бы сочтены…
В Хабаровске в пересыльной городской тюрьме произошло еще одно чудо. Видя состояние заключенного, кто-то, не потерявший остатки человечности, сказал Королеву, что прямо рядом с тюрьмой живет в бараке докторша, к которой хорошо бы обратиться – вдруг она хоть как-нибудь поможет. Это был явно из надзирателей кто-то, ибо он вывел Королева из камеры и довел до часового на выходе. И часовой (насколько после помнил Королев) сказал, окинув его взглядом: «Ну, ты уже не убежишь» – и выпустил его. Он постучался в дверь барака и на вопрос, кто там, ответил: «Умирающий заключенный», и его впустили. Эта докторша не только обработала и перевязала ему раны на ногах, но и снабдила витаминами, которых хватило Королеву до самой Москвы. Срок ему всего лишь скостили с десяти лет до восьми, но он уже вернулся не на Колыму, а попал в шарашку к Туполеву, откуда и началась его вторая жизнь.
Будучи уже главным конструктором, он неоднократно собирался в Хабаровск, чтобы повидать ту докторшу и сказать ей всякие слова сердечной благодарности, но так и не собрался.
Тут шел великий русский писатель Варлам Шаламов, ему предстояло провести на Колыме шестнадцать лет. Он выжил, по счастью, и не только потому, что обучился на фельдшера, но и благодаря горевшей в нем решимости описать все, что он видел.
Разминувшись с Королевым на шесть лет, шел тут его знакомый и коллега, гений космонавтики (определение не мое, а тех, кто знал его работы) Александр Шаргей. Всему миру, впрочем, он известен как Юрий Кондратюк. Дело в том, что во время Гражданской войны он призывался в Белую армию, откуда оба раза сбегал, но его родные, справедливо опасаясь, что офицерский чин Шаргея при советской власти до добра не доведет, достали ему документы умершего от тифа знакомого.
Еще в шестнадцатом, увлекшись космосом (девятнадцать лет ему было), написал он небольшую книжку, в которой не только развил идеи Циолковского, о котором он и знать не знал, но двинулся гораздо дальше. А в двадцать девятом году он издал книжку (на собственные деньги, сидя на хлебе и воде), в которой до мелких подробностей расчислил оптимальную трассу полета ракеты на Луну. Спустя много лет руководитель американского проекта «Аполлон» написал, что именно идеи этой книжки легли в основу разработки траектории полета.
И первый лунный астронавт Нил Армстронг специально попросил свозить его в Новосибирск. Там он бережно подобрал горсть земли возле здания, где некогда работал Шаргей (в шарашке для заключенных инженеров, кстати), и сказал американский астронавт, что эта горсть земли не менее дорога ему, чем лунный грунт.
Чем только Шаргей не занимался: проектировал гигантскую ветроэлектростанцию, изобретал оборудование для шахт, вежливо и упорно отвергал предложения Королева перейти в коллектив ракетчиков. Простая тут была причина: понимал, что при проверке документов вскроется его прошлое. Потом ушел он на войну и в сорок втором году пропал бесследно. Он был в плену, работал (согласно существующей легенде) в лаборатории Вернера фон Брауна, а в сорок пятом американцы выдали его. Так он оказался на Колыме. И обратно не прошел по этой дороге. Где его могила – неизвестно.
А на мысе Канаверал, откуда запускали «Аполлон», поставлен ему памятник, в Новосибирске к приезду Армстронга наскоро соорудили музей и именем Кондратюка назвали площадь, уже объявлен он великой гордостью украинского народа, и книги уже написаны об этом гениальном сыне шведской дворянки Шлиппенбах и местечкового еврея по фамилии Шаргей.
Господи, я чуть не забыл Вадима Туманова! А он ведь жив до сих пор, и с ним недавно я подружился с первых же часов знакомства – я людей настолько уникальных в жизни не встречал, да вряд ли есть еще такие.
Двадцати с немногим лет начал штурман Туманов свой тюремно-лагерный путь. Приписали ему и шпионаж, и террор, и антисоветскую агитацию, и чтение стихов Есенина как часть этой агитации. Присудили восемь с половиной лет, но уже очень скоро срок этот сменился на двадцать пять. Ибо одна идея целиком владела этим человеком: бежать. Любым способом, что подвернется, куда угодно, но бежать из рабской неволи.
И бежал он – восемь раз! После чего, избитый до полусмерти, но непокалеченный, по счастью, отлеживался в больнице или штрафном изоляторе и вновь задумывал побег. Ибо не только духовно, но и физически был крепок чрезвычайно: проявил, еще служа на флоте, незаурядное боксерское дарование. На Колыме он прошел двадцать два лагеря, пять лет отбыв на самых гибельных зонах этого смертельного края.
Вся Колыма знала зэка Туманова, он был на стороне воров во время длительной войны воров и ссученных и умел дружить без оглядки на смертельную опасность. И пускался на побег, почти наверняка зная, чем это кончится. А после смерти Сталина переменился зэк Туманов и выбрал для приближения к свободе путь иной и неожиданный: собрал бригаду, которая добывала золота вдвое больше, чем такие же коллективы по всей Колыме. И в пятьдесят шестом его освободили. Он сколотил вольную артель (потом их было несколько), которая уже втрое и вчетверо обгоняла по добыче все государственные предприятия такого рода.
Принцип у артели этой был предельно прост: каков твой личный вклад труда и выдумки, таков и заработок твой. И богатели все, ибо никто не увиливал. Артели Туманова строили себе жилье и дома отдыха, еду варили повара, сманенные из лучших ресторанов разных городов, люди приезжали на сезон, а оставались на годы, слух об артели, где царствуют честность и справедливость, катился по всей советской державе. По самой своей сути такая вольная артель была экономическим инакомыслием и раздражала все партийное начальство – снизу доверху. Бесчисленное количество раз ее пытались закрыть, но ни к чему придраться не могли. В разгроме его последней артели «Печора» принимали участие шесть отделов Центрального Комитета КПСС. А на предложение Туманова создать такие артели по всей стране, чтоб выволочь ее из экономической пропасти, кто-то неприязненно и точно заметил, что для этого нужны сотни Тумановых, а взять их негде. И идея провалилась. Было это уже в восемьдесят седьмом году. В очередной раз Россия величаво прошла мимо возможности выйти из тупика и упадка.
А Вадим Туманов написал впоследствии изумительную книгу-биографию: «Все потерять – и вновь начать с мечты» – ее полезно почитать любому человеку, столько в ней ума, добра и знания российской жизни.
Вспоминая это, я отвлекся от дороги, выпил чуть еще и кое-как добрался до постели.
Как отоспался, в полдень я пошел в город.
Первое, что бросилось мне в глаза, – роскошная, словно вчера возведенная церковь, необузданной отделкой вычурной напоминающая храм Василия Блаженного в Москве, но только вход в нее зиял еще не крашенным цементом, заставляя думать, что внутри она тоже порядком не доделана.
К слову тут упомянуть и дивную историю. Уж не ручаюсь за ее фактическую достоверность, но правдоподобие сквозит явное, поскольку так во всей России нынче происходит.
Церковь эту якобы замыслил прошлый губернатор. У братков он был в большом авторитете, и поэтому, когда он их призвал немедля скинуться, чтобы на эти миллионы церковь возвести, они откликнулись охотно и сразу. Так и возникла эта красота. Но деньги кончились, а губернатора в Москве убили аж на Новом Арбате – явно заказное было дело, и, естественно, зависло, разве что непосредственных исполнителей посадили.
Следующий губернатор у братков в авторитете не был, и потому, когда собрал их, чтобы скинулись еще, они, хотя не возражали вслух, но как-то слитно промолчали. А когда уже к своим машинам расходились, то негромко перекинулись отрывистыми фразами, в которых общий смысл к давнишней лагерной сводился поговорке: «Хер тебе на рыло, чтобы в нос не дуло». Деньги так и не собрали.
Покурил я возле здания театра магаданского – здесь некогда отменные российские артисты выступали, когда были в рабстве лагерном, и знаменитый Козин пел много лет, поскольку не захотел возвращаться на материк после освобождения, а нынче и музей открыт в его квартире. Но я по недостатку времени пошел в музей города.
Как я был прав! Тут охватило меня чувство – следует, наверно, радостью его назвать, но поводом для этой радости такое зрелище служило, что не стану лучше я искать слова, а изложу, что видел. Ни в одном музее по России еще нет такого, а должно быть в каждом непременно. В аккуратных выгородках, изнутри обитых черной тканью (так обычно золотую утварь древнюю в музеях выставляют) была собрана одежда зэков и те инструменты, те орудия труда, с которыми они одолевали мерзлоту и камень. Изношенные, трепанные, ветхие, прожженные штаны и ватники соседствовали здесь с лопатами, кирками, ломом и отбойным молотком. Погнутые от долгого употребления (скорее – искореженные) миски с кружками такой чисто музейной драгоценностью смотрелись тут, как будто археологи на уникально первобытную культуру здесь наткнулись и ее предметы быта бережно собрали. Нет у меня слов, да и найти их, очевидно, невозможно.
Хотя все было под стеклом, такой кошмарный запах зоны в зале этом повисал над посетителем, что я недолго тут ходил и вышел потрясенный. У меня и посейчас стоит перед глазами этот зал. Директору музея этого я дал бы высшую награду страны, а представить, что он вынес, пробивая по начальству эту экспозицию, легко даже без расспросов нетактичных. Сохраняя память о невинно убиенных, мы хоть как-то свои души очищаем – это так банально, что писать об этом мне неловко, только вот никак уразуметь я не могу, как могут этого не понимать – или не чувствовать хотя бы – те, кто управляет памятью России. Впрочем, не мое ведь это дело.
Внизу купил пять маленьких книжек – «Краеведческие записки», которые выпустил музей. Там было много статей про обычаи туземного населения, про раскопки археологов и первобытные орудия труда и охоты – словом, типичное краеведение. Но кошмарное прошлое этого края тоже чуть было представлено воспоминаниями бывших зэков. Поскольку крохотен тираж этих книжек, я перескажу содержание нескольких свидетельских показаний тех людей, кому посчастливилось пройти обратно по дороге в порт Нагаево.
Илья Федорович Таратин был учителем в сельской школе. За мифическое «участие в контрреволюционной деятельности» попал на Колыму. Пытался бежать, был пойман, после штрафного лагеря отправлен в тюрьму для смертников – Серпантинку. Круто вьющаяся по сопке дорога дала название этому месту, о котором знала вся Колыма.
Дальше мне душевно легче не пересказывать, а привести кусочек текста самого автора: «В камере находилось человек сто таких, как мы, и несколько уголовников. И нас, еще сорок человек, закрыли сюда тоже. Меня поразила мертвая тишина, царящая в ней. Люди лежали на нарах в какой-то странной задумчивости. Причина такого странного состояния заключенных вскоре выяснилась: из этой камеры не было возврата, из нее брали людей только на расстрел». Дальше сдержанно и просто описывается, как ближе к ночи приехал трактор с санями, на которых стоял большой деревянный короб. Вызывали смертников по пять человек. «Все вызванные молча и медленно идут к выходу». Оставшиеся видели происходившее снаружи через щели между бревнами – барак был сколочен наспех.
«В ту жуткую ночь попрощались с жизнью семьдесят человек. Палачи работали как на скотном дворе. Без отдыха, до рассвета. Всю ночь работал мотор трактора. Он умолк, как только прекратили вызывать… Утром я многих не узнал: молодые стали седыми. Опять заработал трактор, послышался лязг гусениц. Я снова припал к щели. Видел, как трактор поднимается все выше и выше на освещенную утренней зарей гору…» Таратин спросил, куда теперь везут эти трупы в тракторном коробе, и кто-то объяснил ему, что на склоне ущелья есть большая яма – туда их и сваливают. Многих обреченных из тех, кого привезли, даже не доводили до барака: «Вдруг среди ночи открылись тюремные ворота. В освещенный прожекторами двор заехали два грузовика с заключенными. Под охраной надзирателей их быстро разгрузили и заставили лечь на землю. Начальник посмотрел на вышку, поднял руку. С вышки на них направили пулеметы. Стали поднимать по пять человек и уводить в палатку… К утру расстреляли всех».
Автору этих воспоминаний неслыханно повезло: через несколько дней расстрелы внезапно прекратились (что-то происходило в лагерных верхах) и смертников, еще способных к работе, развезли по разным приискам.
После этих мемуаров я с душевным облегчением и даже восхищаясь прочитал, как ловко и легко на Колыме водили за нос приехавшего сюда в сорок четвертом году вице-президента Соединенных Штатов Генри Уоллеса. Он, собственно, летел в Китай, но по дороге пожелал ознакомиться с советским Севером.
На Колыме он пробыл два дня и был очарован. Хорошо знакомый с сельским хозяйством (был даже министром по этой части), Уоллес прежде всего попросил свозить его в совхоз. Добро пожаловать! Не зря к его приезду готовились два месяца, как не побольше. Принимал его (скорее гидом был) недавний зэк Вячеслав Иванович Пальман. С гордостью показывал он высокому гостю замечательно ухоженную теплицу (одну из пятидесяти), с глубоким знанием предмета обсуждал проблему семян и хранения овощей, быстро убедил Уоллеса, что он отнюдь не подставное лицо, дал попробовать сочный свежий огурец и угостил помидорами (все это действительно выращивалось для начальства). Но главное, что восхитило посетителя – вид женщин, которые выхаживали все это великолепие. Дальше – слова участника: «В теплицах, которые мы обходили, к приезду Генри Уоллеса произошла подмена. Вместо женщин-заключенных роль тепличниц исполняли дамы из управленческого аппарата, опрятно одетые, в фильдеперсовых чулках, с подкрашенными губами».
Разумеется, гость хотел посмотреть и золотодобывающий прииск, и его свозили туда. Боже, как добротно и тепло были одеты зэки, рослые и упитанные, с сытыми и жизнерадостными лицами. А бульдозерист и вообще работал в пиджачной паре (взяли у одного из инженеров). Переодетые в зэков охранники бодро и толково отвечали на вопросы вице-президента. Он хотел проверить уровень добычи, и для него раскрыли прибор (то, что у старателей называлось просто лотком), в который намывают золото, и он искренне удивился невероятному количеству добытого сегодня драгоценного металла. Откуда ему было знать, что, к его приезду готовясь, несколько дней отсюда не убирали добытое за это время золото. И потому, вернувшись в Америку, написал он о своем полном восторге от увиденного.
В одной из этих книжек я нашел цифру, доложенную в Центральный Комитет (то есть наверняка заниженное число): всего на Колыме погибло семьсот тысяч зэков. Автор воспоминаний, где я наткнулся на это число, чудом выживший на Колыме человек, сам потом работал в одной из комиссий по пересмотру дел заключенных. Он написал об этом очень лаконично: «И я узнал, что сталинский геноцид на Воркуте не отличался от колымского».
И еще на Магадане услыхал я (и прочел потом) о самой восточной стройке, задуманной усатым гением и уже начавшей осуществляться, – о тоннеле на остров Сахалин. Длиной в одиннадцать километров, он тянуться должен был ниже уровня морского дна, на глубине почти пятьдесят метров. Эдакий российский Ла-Манш. И для бомбардировок он недосягаем был бы – особо веский пункт проекта и подробность очень яркая для времени борьбы за мир, которой так была увлечена советская империя. И шахту изначальную уже пробить успели до намеченной тоннелю глубины, и был насыпан остров – дамба, чтобы укротить течение, и тюбинги стальные девятиметровые в диаметре (как те, которыми тоннели метрополитена выложены) уже начали сюда везти. И сорок тысяч зэков здесь уже работало, но как только стратег загнулся, так немедленно затею эту прекратили, очень уж безумен и бессмыслен был проект. А может быть, с рабочей силой были затруднения. Ведь бесчисленные северные стройки с дикой, сумасшедшей скоростью перемалывали поступающих рабов. И недаром еще в сорок пятом, за три месяца до окончания войны, когда на Ялтинской конференции уже писался протокол, что́ каждая из победивших стран возьмет с Германии, оговорил стратег усатый некое диковинное (Средними веками пахнувшее) право для своей империи: использовать немецкое население для восстановления советского народного хозяйства. Во вкусе рабского труда он, как никто, был сведущ в это время.
И первые такие лагеря уже возникли, и не военнопленные в них были, а гражданские, прихваченные как попало в разных городах на оккупированной зоне. А потом эта идея как-то незаметно выдохлась и сникла – очевидно, было проще и дешевле набирать рабов из собственных немереных просторов. А году в сорок девятом отпустили всех гражданских немцев, кто еще в живых остался. Думается мне, что досаждал Международный Красный Крест, а собственной империи невольники гуманный внешний мир не волновали. Только не хватало их – отсюда и посадки массовые, что пошли в конце сороковых, когда повсюду брали «повторников», то есть некогда уже сидевших, но оплошно выпущенных по окончании срока. Уже нисколько не политика это была, а экономика рабовладельческой империи.
В миллионах исчисляется число рабов, строивших ту канувшую империю. Забавно (хоть и неправильно выбрано мной это легковесное слово), что все неисчислимое начальство лагерей в своих несметных отчетах и рапортах употребляло слово «рабсила», не замечая, как двусмысленно оно звучит.
Но Нюрнбергский суд так и не случился в России. Написав эту фразу, я вспомнил, как, возвращаясь из музея в гостиницу, застыл ошеломленно на какой-то из центральных улиц. Там на стенах сразу трех стоящих рядом домов (на одном бы не поместилось) вывел кто-то громадными буквами: «Магадан был, Магадан есть, Магадан будет!»
Города и годы
Да читал, читал я книгу Константина Федина с этим названием. Но у него литература художественная, у меня же – никакая. А заимствовать слова, которые мне впору и годятся – дело справедливое и верное.
В каждом почти городе я натыкаюсь на какую-нибудь частную историю, которая переполняет меня радостью: хотя бы ради этого не жаль было потратить месяц странствий, думаю я всякий раз.
В Биробиджане, например, в музее, посвященном тому краткосрочному еврейскому переселению (все было как всегда: обманные посулы и немыслимые тяготы), вдруг увидел совершенно там некстати находящуюся книгу оголтелого и ярого марксиста двадцатых годов Абрама Деборина (кажется, это была «Философия и марксизм»).
– Это-то здесь при чем? – спросил удивленно.
– А вы ее раскройте, – торжествующе сказала хранительница музея.
Я брезгливо отвернул обложку. Внутри была одна из книг Талмуда, и ровные строки иврита освежающе напомнили мне о жестковыйности и хитроумии нашего народа.
А в Новокузнецке, рассказали мне, мэр города весьма следит за чистотой. И каждый день, везя в детский сад своего пятилетнего сына, объезжает несколько улиц, ревизуя их убранность. Одна из улиц оказалась как-то с кучами лежалого мусора. Увидев это безобразие, мэр сурово нахмурился, а его пятилетний сын заботливо спросил отца:
– Папа, кого ебать будем?
Но хватит анекдотов (как они, однако, украшают нашу жизнь!), лучше расскажу я о нескольких замечательных городах, которым обязан очень разными существенными впечатлениями.
История довольно часто учиняет шутки, которых мы не замечаем, что весьма разумно, ибо ни к чему отравлять душевный оптимизм, и так все время дышащий на ладан.
О городе Новокузнецке слышал я с того раннего школьного времени, когда с ума сходил от Маяковского. Его знаменитое стихотворение «Рассказ о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» читал наизусть на каком-то школьном вечере. С особенным накалом произносил последние строки: «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!»
А строки предыдущие я лучше перескажу своими словами – для тех, кто не помнит это стихотворение, написанное за год до самоубийства.
Там под старой телегой лежат рабочие, и слышен их гордый шепот: через четыре года здесь будет город-сад. А далее – свинцово темнеет ночь, бьют оземь толстые, как жгут, струи дождя, рабочие сидят уже в грязи, но губы, посиневшие от холода, шепчут все то же: через четыре года здесь будет город-сад. Потом опять вокруг промозгло и сыро, и рабочие сидят уже впотьмах, жуют мокрый хлеб, но шепот громче голода: здесь будет город-сад. Все слова, приведенные здесь, – из стихотворения, я просто изложил их прозой. Почему я тогда был в восторге, почему не ужаснулся? Но об этой нашей общей слепоте уже написаны тома бессильных (хоть и не напрасных) размышлений.
Кузнецкий металлургический комбинат, как и еще пятьсот таких же промышленных гигантов, – гордость советской индустрии, строился по проекту американской фирмы. Руками – нет, отнюдь не комсомольцев и других энтузиастов, о коих надсаживались в голос все газеты и журналы СССР. Строили его спецпоселенцы, крестьяне, согнанные со своей земли за то, что слишком хорошо там жили и работали. Кулаки и подкулачники – становой хребет сельскохозяйственной России. Их вырвали из деревень и, как скотину, в товарных вагонах перевозили в Сибирь, на Крайний Север и Дальний Восток. Количество погибших в пути и на местах по сю пору точно неизвестно. А всего их было – около двух миллионов. Советская власть очень быстро ощутила выгоды рабского труда. (А кстати – для фанатов Троцкого: он планировал подобными трудармиями покрыть всю страну.)
В Новокузнецке высится огромный чугунный памятник Маяковскому – как бы благодарность за это стихотворение об озаренном энтузиазме строителей. Но Маяковский никогда там не был. Ему об этой стройке рассказал Ян Хренов, и сначала стихотворение так и называлось – «Рассказ Хренова о Кузнецке и людях Кузнецка». Я читал его уже без этого имени. Потому что в тридцатых Яна Хренова посадили. Но об этом чуть позже.
Тут забавно, что и сам Хренов был в Кузнецке очень мало: он занимался в Москве какими-то профсоюзными делами и на стройку приезжал организовывать что-то ударное. И даже написал о Кузнецкстрое восхищенную брошюру, где поместил по случаю фотографии строителей. Две из них я видел. Какие там комсомольцы! С фотографий смотрят два типичнейших крестьянских лица, изможденных и твердокаменных. Лет сорок пять этим строителям – энтузиастам, вот кто мог бы много рассказать, но уж давно они молчат, как угрюмо молчали в те страшные годы рабского труда вручную (всякая техника пришла из Америки много позже).
Хренова посадили, обвинив в троцкизме, и на Колыму он несколько суток плыл в одном трюме с Шаламовым. В памяти писателя сохранился чуть оплывший человек с чисто тюремной зеленоватой бледностью лица, не расстававшийся с красным томиком Маяковского, где он с гордостью показывал желающим стихи о Кузнецке и дарственную надпись поэта. Можно себе представить, насколько это было интересно населению пароходного трюма. А на Колыме, однако, он выжил, ибо, как сердечник, числился в команде инвалидов.
Мне легенду рассказали, когда пили мы в Новокузнецке после концерта, что как будто лагерные надзиратели его порой по пьянке призывали и приказывали читать это стихотворение. Где-то там и умер он, дожив до освобождения и вынужденный остаться на пожизненной ссылке. Вот кому я поставил бы памятник и школьников туда водил, чтоб помнили историю родины.
А город-сад разросся, стал Новокузнецком (долгое время был он Сталинском), обзавелся еще множеством заводов и ныне числится среди российских городов, атмосфера которых сильно вредна для жизни из-за выброса в воздух города всяких ядовитых веществ. Особенно в районе комбината. «Мы дышим всей таблицей Менделеева», – хвастливо сказал мне сосед по застолью.
Хоть и давно освоен мной гастрольный жанр рассказчика баек, но в каждом городе всплывает столь весомое его прошлое, что никуда от разговора о серьезном не деться.
В Норильске первый раз я был лет пятьдесят тому назад – да-да, уже такими оперирую я числами.
В той вечной мерзлоте, что под Норильском и его окрестностями, лежат несметные природные сокровища: там золото и платина, там медь и никель, кобальт и какие-то редкоземельные металлы (или вещества, я не геолог).
И еще теперь лежит там главное российское богатство – люди, жизнь которых тут прервалась. Их число несчетно и несчитано. Цифра приблизительная – несколько сот тысяч.
В тридцать пятом, когда решено было строить тут медно-никелевый комбинат, пригнали сюда, провезя в барже по Енисею, а потом пешком по голой тундре сто километров, первую тысячу заключенных (а возможно – две тысячи, бесстрастно пишут историки). Шалаши, землянки и лачуги строили они уже сами, а баланду получали – во что придется, у кого что есть. Бывало, что из ботинка ее пили, из шапки или просто из горсти. Инструментами у них много лет были кирка, лопата, лом и тачка. Этими приборами и выкопаны (вернее, выбиты в вечной мерзлоте до скального надежного основания) тридцатиметровой глубины котлованы для зданий горнорудного комбината.
А новые рабы все прибывали и прибывали. Гибли они тут от дикого холода (Норильск сильно севернее воображаемой линии полярного круга, здесь морозы и за минус пятьдесят градусов не редкость), от смертельного недоедания, от непосильного труда, от множества болезней, лучше их не перечислять.
Еще тут сумасшедшие ветра, и на работу зэки порой добирались, обвязываясь, как альпинисты, общей веревкой – запросто сдувал свирепый вихрь тело запредельно отощавшего человека. Снежные заносы (а зима тут – большую часть года) были таковы, что с ними ежедневно боролось до четырех тысяч зэков. И эти люди победили: комбинат состоялся. Даже снег они осилили: зэк Потапов, бывший инженер-путеец, придумал щиты, не просто ограждающие дорогу от снежного заноса, но так направляющие вихревой поток, что он еще и сдувал с этой дороги попадающий на нее снег.
А раньше вот как было (прочитал в одном из воспоминаний): после особенно бурного снегопада под шестиметровым слоем снега откопали застрявший на путях узкоколейки паровоз. Еще дымился в топках уголь, но машинист и кочегар уже погибли, отравившись угарным газом.
Потапов рассчитал направление ветров – оно менялось в разное время года, и такие изгороди почти избавили дороги города от заносов. Стоят они и до сих пор.
Автор этого изобретения (простого и гениального, как изобретение колеса, прочел я в каком-то очерке) попал сюда прямо из Соловецкого лагеря, где сидел уже два года – по сути просто за знакомство с Тухачевским. Когда здесь на новичка настучали, что он постоянно что-то высматривает и подсчитывает, его дернули к самому Завенягину, который в те годы руководил стройкой и был одновременно начальником лагеря. Завенягин выслушал инженера и велел ему заниматься только снегом, освободив от общих работ. А вскоре и досрочное освобождение ему устроил.
Тут и о самом Авраамии Павловиче стоит упомянуть, он личность легендарная, недаром комбинат лет сорок носил его имя. И нельзя не привести цитату о Завенягине в перечне знаменитых норильчан. Биографии всех людей, включенных в этот почетный список (там, кстати, и зэки есть – Потапов, например), сопровождаются разными лестными словами.
Про Завенягина написано вот что: «Оценки его на этом посту расходятся. По одним свидетельствам, Завенягину удалось создать в Норильске лояльный режим содержания заключенных, позволивший выжить тысячам людей. По другим, Завенягин – любимец Берии – лично расстреливал заключенных. Мнения сходятся в одном: он был сильным и опытным руководителем».
Словом, Завенягин был рачительным рабовладельцем, потому и выжил Потапов. Сколько инженеров и ученых там погибло на смертельных общих работах, знают уже только на небесах.
А в Норильск везли и везли этап за этапом.
И еще об одном зэке непременно надо вспомнить – о корейце Михаиле Киме. Норильск ведь в некоем строительном смысле – родственник Венеции: в обоих городах дома стоят на сваях. Только в Венеции это стволы огромных лиственниц (единственное дерево, которое крепчает в воде), а в Норильске это бетонные сваи, которые с помощью бурового станка вгоняли в вечную мерзлоту и заливали цементирующим глинистым раствором. Ибо сама мерзлота – опора ненадежная, она от потепления ползет, фундамент большого здания не может опереться на нее, поэтому идея зэка Кима была просто гениальной. Он, кстати, и вознагражден был по-царски: ему было позволено ходить без конвоя. Ленинская премия и всякие награды были еще далеко впереди.
Но даже при наличии свай мерзлоту надо было охранять от подвижки, поэтому в самом низу всех зданий в Норильске проделаны большие (и весьма уродливые) дыры – чтобы мерзлота все время обдувалась свежим воздухом. И еще ходят специальные люди, проверяя состояние этой капризной основы, а в подъездах уникальные висят таблички: «Берегите мерзлоту!»
Тут хорошо бы написать роскошную фразу: «Все это вихрем пронеслось в моей памяти, едва лишь я вступил на землю Норильска». Нет, к сожалению, не пронеслось, я все это позднее прочитал.
Что касается личных впечатлений, то они, честно сказать, – ужасны.
Где бы вы ни были – в России, в Европе ли – и вам предлагают показать Старый город (сознательно пишу с большой буквы), то это непременно красивые здания старой или даже древней постройки, прихотливо разбитые парки, всякие архитектурные изыски.
И в Норильске есть пространство, именуемое старым городом, и острое ощущение вчерашнего концлагеря мгновенно поражает вашу душу от вида этих мелких и обветшавших строений несомненно тогдашнего происхождения – всякие ремонтные мастерские и прочие технологические службы. Разве что нет поблизости бараков, только их незримое присутствие сразу дополняет общую картину. Все-таки мне кажется, что люди не должны здесь жить подолгу.
Да тем более, что и сегодня Норильск занимает одно из первых мест в России по загазованности, ядовитости своей атмосферы.
Это зона явного экологического бедствия: даже на тридцать километров вокруг – техногенная пустыня, мертвые деревья и убитая отравленным воздухом растительность тундры. А у людей – несчетное количество болезней от веществ, которые выбрасывают трубы комбината. Недаром тут и короче на десять лет средняя продолжительность жизни. Дикие холода, свирепые ветра и метели, долгая темнота полярной ночи – нет, помоему, тут надо работать вахтовым способом: месяца три-четыре, ну полгода, а потом – заслуженная и оплаченная передышка в нормальном для человека климате.
Я вспомнил слова великого полярного путешественника Роальда Амундсена – он ведь побывал на обоих полюсах планеты, он совершил кругосветное путешествие севернее полярного круга и сказал простые слова: «Человек не может и не должен жить в холоде».
Только тут же сам себя и опровергну: норильчане очень любят свой город, им гордятся и к нему как-то душевно привязаны. У меня на выступлении было много народа, и это был один из лучших моих концертов за все гастроли: искренне смеющиеся, слышащие слово люди. И на пьянке после выступления я не услышал ни единой жалобной ноты в разговоре о городе. Это какой-то очень подлинный местный патриотизм (хоть и не очень-то люблю это слово, замызганное пакостными златоустами). И явно не удвоенная зарплата – причина этой преданности городу в далеком Заполярье. Уникальность своего существования – высокая основа многих загадок человеческого бытия, и любовь к Норильску – явно из их числа. Как и весь, возможно, удивительный патриотизм российский, как бы ни пытались всякие мыслители его опошлить.
Только очень грустно стало мне, когда я обнаружил, что в музее города почти нет ничего о тех, кто давно уже погиб на давнем истребительном строительстве. Нет, есть в Норильске место, именуемое норильской Голгофой, – тут на месте старого городского кладбища стоят несколько сооружений в память мученической смерти нескольких сот тысяч рабов, но музей-то, он ведь непременно должен эту горестную память сохранять!
Мне сказали, как бы соглашаясь, что в День памяти политзаключенных здесь открывают специальную экспозицию, но люди ходят ведь в музей и остальные дни в году.
И снова мне это напомнило такую же картину почитай по всей России: ни к чему тревожить нервы посреди сегодняшнего благополучного покоя. Впрочем, не мое это, по сути, дело, только город, на костях построенный, обязан вспоминать об этом. Потому хотя бы, что любая сохраняемая память очень-очень благотворна и целительна.
В Красноярске я впервые в жизни стоял у памятника моему ровеснику, давнишнему приятелю, художнику Андрею Поздееву. Он умер несколько лет назад, и вот уже отлили его в бронзе – с зонтиком, мольбертом, словно собирался на этюды.
Как его травили в этом городе! Как тяжко и самоотверженно он жил, ни разу от своей манеры видеть и раскрашивать не отказавшись! Когда же в России непривычным воздухом свободы вдруг запахло, как-то сразу появились почитатели. Умер он, уже известности достигнув, что ничуть его не изменило. Я погладил эту бронзу, с ним здороваясь, отпил из фляжки (сколько же с ним было выпито!) и закурил, нелепо думая, кого еще мне доведется видеть уже памятником.
Не прошло и получаса, как я вскрикнул, попросив остановить машину. В перекрестье улиц, величаво сидя в кресле, смотрел на прохожих и немного вдаль бронзовый Войно-Ясенецкий, великий хирург, и он же – епископ Лука. Всего-то года три прожил он в этом городе, хотя за предыдущие шесть лет тюрьмы и ссылок он поколесил изрядно по Красноярскому краю.
Даже за полярным кругом побывав, где был не раз на грани смерти от голода и замерзания. А всему причиной была стойкость: будучи давно уже хирургом и религиозным человеком, он году в двадцатом принял сан священника – не самое удачное для этого время в России. И с тех пор хранил верность церкви с непреклонной твердостью. Он протопопа Аввакума этой твердостью напоминал. И все гонения переносил с такой же гордостью и со смирением таким же. Но спасал его талант хирурга. Впрочем, бывший земский врач, не только скальпелем он пользовал больных, но и народными лекарствами, которые еще не знала или отвергала медицина. И всюду, где он делал операции, висела на стене икона. По легенде, он перед началом операции рисовал йодом крест на теле больного – на месте разреза – и, короткую молитву сотворив, лишь после этого пускал в ход скальпель. Какое это впечатление производило на советское начальство того времени, излишне говорить.
И в Красноярске был он ссыльным, между прочим, и еженедельно в унизительной толпился очереди, чтобы отметиться в комендатуре. Шла уже война, поэтому его и допустили в этот город из поселка Большая Мурта. И был назначен этот ссыльнопоселенец главным консультантом всех госпиталей Красноярского края. Непрерывно текли с фронта эшелоны с ранеными, без малого двадцать пять тысяч коек насчитывало около шести десятков подопечных ссыльному священнику эвакогоспиталей.
Сам же он ютился в крохотной, сырой и темной комнатушке, бывшем обиталище дворника. И часто голодал – блатного продовольствия ему не полагалось. Его тайком подкармливали санитарки. Чуть после Сталин снял удавку с шеи церкви, справедливо рассудив, что в эти времена она полезна для империи, и всюду стали открываться донельзя уже загаженные храмы, и спустя два года хирург Войно-Ясенецкий был уже по совместительству – епископ Красноярский. В архиерейском облачении сидел теперь он, бронзовый, почти что в центре города.
Что ж, если так пойдет и дальше, подумал я благодарно, совершенно новыми памятниками обрастет Россия, возле них экскурсоводы будут излагать истории совсем иные, и года сплошного лихолетья запахнут правдой. Только вряд ли это будет для потомков интересно, вот что жалко. Уже собственные будут у потомков и герои, и мученики.
Из Красноярска мой путь лежал далее на восток – в Иркутск, Благовещенск, Хабаровск.
Давно уже заметил я, что знаменитые слова талмудического мудреца Гилеля «Если не я, то кто? И если не сейчас, то когда?» частично относятся к выпивке, так что в поездах с первой минуты ощущаю эту мудрость как неотложное житейское попечение.
Виски я прихлебывал из чайного стакана и на перекуры в тамбур уносил его с собой. Уж больно памятные за окном текли места. Ближе к ночи рухнул, обессилев, и наверняка забыл бы напрочь эту половину дня, но обнаружил по возвращении, что в рубашечном кармане у меня был блокнот, в который закорючками (все неразборчивей от часа к часу) какие-то пометки заносились. Поэтому приблизительно могу восстановить, что со мной в том поезде происходило.
Как только поезд тронулся, в купе пришла к нам проводница взять билеты. Прочитав мою фамилию, она спросила утвердительно:
– Вы ведь писатель?
– Да, – кивнул я удивленно.
– Трудная судьба, – сказала она с пафосом осведомленности.
Тут я расхохотался, чем немедля потерял ее расположение. Но по купе соседним она явно что-то растрезвонила, и три или четыре человека то ходили со мной в тамбур покурить, то вежливо беседовали в коридоре.
Конечно, в Канске я изрядно заколдобился.
Сюда, в тюрьму, нас привезли из лагеря, чтобы наутро перебросить к месту ссылки. Я всю ночь не спал, и дрожь меня трясла, никак не мог поверить, что свободен буду завтра. А когда в автобусе везли нас (девять или десять человек), то и охранники (все четверо) приветливые были, и овчарки обе словно чувствовали в нас уже не зэков: не рычали, на загривках шерсть не дыбилась – наверно, запах загнанности, страха и еще чего-то рабского в нас разом поубавился, а их натаскивали именно на этот запах. Я попросил у конвоира сигарету, и, протягивая мне ее, он снисходительно сказал:
– Что, блядь, волю почуял?
Узловая железнодорожная станция Решоты на Транссибирской магистрали, участок Красноярск – Тайшет.
Здесь когда-то был один из самых крупных по империи пересыльный лагерь. В нем умер дед моей жены. Знак своей обреченности он на визитной карточке упрямо сохранял уже при советской власти: «Граф Борис Дмитриевич Толстой». Много сотен тысяч жизней утекло в никуда сквозь эти Решоты. А стоянка поезда – одна минута, крохотная станция.
Потом есть запись лаконичная: «Что уцелел – Испания». И я вспомнил чувство, всю дорогу переполнявшее меня. Куда-то за окно, в унылое пространство это мне хотелось то ли крикнуть, то ли прошептать, что жив я, уцелел, в пространстве этом гиблом побывав, и вот я еду мимо, пью любимый свой напиток и курю, а завтра буду веселить огромный зал стишками личного изготовления.
Про Испанию тогда я вспомнил не случайно.
Годом раньше мы с женою Татой были в этой стране на экскурсии. И в городе Гранада, убежав на час от нашей группы, мы пошли в усыпальницу короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Там красиво, интересно и величественно – нет слов, но я туда поплелся не за красотой и интересностью, а утолить свою мечту пришел туда. Дождавшись, когда рядом не было туристов, я на купол усыпальницы кинул две монеты по шекелю. Чтоб Фердинанд и Изабелла знали, что евреи, некогда навеки изгнанные ими из Испании, не просто уцелели, но и собственной страной обзавелись. Уверен был почему-то, что такая весточка до них дойдет.
С похожим чувством предопределенности ответа на возможные вопросы я реагировал в Сибири на вопросы здешних жителей. На фоне тамошних не поддающихся осмыслению просторов.
Вот с каким-то я беседовал интеллигентом в тамбуре, почему-то речь о Сахарове шла. Наверняка был задан вопрос, был ли я знаком с этим великим человеком. Давно уже сталкиваюсь с повсеместной убежденностью смешной, что все, с режимом несогласные, друг с другом тесно сообщались, мыслями делясь и общую отвагу стимулируя. Сам когда-то огорчен был, от кого-то услыхав, что ни Сахаров, ни Солженицын не питали начисто расположения взаимного и не хотели видеться совсем. Но этот собеседник рассказал мне байку дивную. Что будто бы, когда академик находился в ссылке в Горьком, в квартире, где он проживал с женой, что-то приключилось с водопроводом, а не то – с канализацией. И вызвали они знакомого сантехника. Тот повозился, что-то починил, а после сокрушенно сказал Сахарову:
– Больше ничего не сделаю, Андрей Дмитрич, тут надо всю систему поменять.
И будто бы ужасно восхитился академик совпаденьем с собственными мыслями и на всю квартиру закричал:
– Ты слышишь, Люся?! Даже Валера полагает, что менять необходимо всю систему!
После этой байки я, скорей всего, и обнаружил, что давно уже весь пепел стряхиваю в виски. Впрочем, тот исправно оседал.
А вот тут рядом и стишок. Должно быть, мой, поскольку правлен в паре мест:
- В стране серпа и молота
- живу и тихо вою,
- другие моют золото,
- а я и ног не мою.
Все мысли мои – лагерные были, я уверен, только записи уже пошли и вовсе как шифровки. Взором мысленным, изрядно подогретым от количества испитого, я всюду видел трофические язвы бывших зон, особо изобильных в этом крае. А если поточней сказать, употребляя лексику физиков, – те черные дыры, сквозь которые навеки утекла значительная, лучшая – поскольку мыслящая и активная – часть российского народонаселения.
Нет, в таких высоких терминах не думал я, торча возле окна, но размышлял о лагерях, по их территориям едучи, – все время, неотрывно, словно под гипнозом находясь. Да и прочитанное давало себя знать. Не зря о лагерях так мизерна литература нынче – отравляться знанием о днях вчерашних никому сегодня неохота, я-то просто много раньше отравился.
Я, кстати, в этих поездах еще и потому тюрьму все время вспоминал, что снова часами вынужденно слушал радио. Господи, за что ж такое вешают на уши россиянам! Эту бодрую, бездарную, нахрапистую пропаганду не выражу словами, но ее отравность – безусловна. Где-то около Иркутска (ехали уже мы долго) я даже стишок об этом написал – нескладный, злобный, но по делу:
- В России все отнюдь не глухо,
- уже на Данию похоже:
- там жертве яд вливали в ухо,
- здесь научились делать то же.
В аду, подумалось, среди пыток-наказаний непременно будет круглосуточное радио, а так как там деления на сутки нет, то – вечное.
После Иркутска сразу и заметно участились разговоры о ползучем и безостановочном нашествии китайцев. Их число уже никак не опускалось ниже миллиона и заметно вырастало у энтузиастов этого грядущего порабощения. И многие из этих натекающих пришельцев благодаря феноменальному, забытому в России трудолюбию уже достигли процветания. Что раздражает, как известно, граждан России куда сильнее, чем любые личностные недостатки.
И еще одна забавная прозвучала нота – услыхать такое от хотя и местного, однако же еврея я никак не ожидал. Но очень, очень пожилой мой соплеменник удрученно поведал, горестно стуча ладонью о худую грудь в районе сердца:
– Вы меня в квасном патриотизме ведь никак не заподозрите, ведь правда? Но когда я вижу, как китаец со своим товаром к нам на городской приходит рынок, а тележку с этим его грузом позади него везет наш русский алкоголик, у меня вот тут делается горько!
То, как он выговаривал букву «р», делало эту печаль особенно впечатляющей.
В городе Благовещенске приснился мне замечательный сон. Я с утра решил пошляться по городу, сообразил, что до концерта запросто смогу отоспаться, и прихватил с собой фляжку с виски.
Первый глоток я сделал еще в гостинице. Для начала вышел я на берег Амура, глянул на роскошный китайский город через реку и покурил под триумфальной аркой, некогда воздвигнутой здесь в честь посещения города цесаревичем Николаем, когда он совершал кругосветное путешествие и возвращался из Владивостока в свой Санкт-Петербург.
Я об этом путешествии и знать не знал, но все было написано на арке. Ее восстановили недавно, при советской власти ей стоять не полагалось, но смотрелась она очень симпатично, и под ней я выпил снова и недолго покурил.
Неподалеку на каком-то длинном, амбарного типа здании висела мемориальная доска в честь Чехова – он тут пробыл один день по дороге на Сахалин. Не помянуть Антона Павловича было бы грехом непростительным. На той же площади, на каком-то роскошном старом здании бросалась в глаза большая мраморная доска в память о купце Чурине, и сбоку на доске отдельной пояснялось, что купец этот снабжал продовольствием не только ближние окрестности, но чуть не до Аляски простирались его лавки и магазины. Помянув двумя глотками неизвестного мне раньше Чурина (поскольку был он еще и выдающимся меценатом), я побрел по набережной, чувствуя озноб от ноябрьского ветра, и немного выпил возле памятника графу Муравьеву-Амурскому, который в середине девятнадцатого века был губернатором Восточной Сибири и Дальнего Востока. Для России сделал Николай Николаевич и вправду много – это он превратил Амур в российскую реку.
Здесь она была довольно неширокой, и в хорошую погоду, рассказали мне накануне, было слышно, как поют китайцы в расположенном напротив цветущем городе Хэйхэ. Благовещенцы туда мотались на пароме за дешевыми товарами. А Чурин это все им сам привез бы, подумал я и помянул еще раз даровитого купца.
В гостиницу я возвратился в некоем смущении от исторической недостоверности мемориальных досок, ибо наткнулся на такую в память о Надежде Константиновне Крупской, которая тут сроду не бывала. Может быть, это была школа ее имени? Или роддом, хотя у Крупской не было детей. Но почему-то именно домам родильным присваивают имена бездетных теток – Розы Люксембург, например. Или в Москве – все той же Крупской. Я на всякий случай почтил память обеих. И улегся спать, чтоб на концерте быть как стеклышко. Но тут мне и приснился дивный сон.
Я стоял под триумфальной аркой и смотрел, как по Амуру медленно причаливает к берегу небольшой белый кораблик. С него сошла группа людей, которые остановились, повинуясь мановению руки какого-то смутно знакомого мне человека, энергично пошедшего в мою сторону. Тут я почувствовал, что стою уже не один, и обнаружил слева от себя графа Муравьева-Амурского. В мундире с генеральскими золотыми эполетами, усами – чистый памятник, только оживший и стоящий по стойке «смирно». Я ничуть не удивился и справа обнаружил Чехова. Он почему-то был без пенсне и близоруко щурился – слегка растерянно, отчего выглядел подслеповатым учителем еврейской начальной школы.
А подходивший невысокий человек уже был ясно различим, и я узнал Николая Второго. Он был в какой-то непонятной мне военной форме, без фуражки и платком на ходу вытирал вспотевший лоб. «Простудится», – подумал я заботливо, без никакого благоговейного изумления. Подойдя к нам, цесаревич протянул руку Муравьеву-Амурскому и как-то запросто, приветливо сказал:
– Здравствуйте, тезка, самое смешное, что я только что был в Хабаровске на освящении вашего памятника.
– Ваше… – хрипло сказал граф, но Николай его досадливо перебил:
– Полноте, оставьте все формальности в покое. – После чего сухо, но учтиво мне кивнув, он пожал руку Чехову со словами: – Здравствуйте, Антон Павлович!
Я ничуть не огорчился, отчего-то ясно понимая, что живому человеку эта тень не может предложить рукопожатие. Чехов радостно улыбался, левой рукой вытягивая пенсне из верхнего кармашка сюртука. А Николай уже протягивал руку кому-то за моей спиной. Я обернулся: позади меня стоял высокий седобородый человек с очень простонародным симпатичным лицом. Он приветливо поклонился мне и тихо сказал:
– Чурин.
– Я узнал вас, – ответил я ему так же тихо, – я только что видел вашу мемориальную доску.
Он беззвучно рассмеялся.
– Надо бы выпить, господа, – решительно сказал цесаревич. – Я хотя и произведен буду в святые, но надо выпить. Кто-нибудь сбегает?
Он усмешливо смотрел на меня.
– У меня все есть, бегать не надо! – Чурин приподнял черный саквояж, стоявший у его ног.
– Вы в своем амплуа, – похвалил его цесаревич. – Где присядем?
Граф Муравьев-Амурский по-мальчишески махнул рукой куда-то за арку.
– Давайте возле лысого бандита, – сказал он, и все согласно засмеялись.
Больше всего мой сон напоминал кино, где отсутствовали промежуточные кадры. Мы все уже сидели в парке, ловко подогнув под себя ноги, а над нами возвышался бронзовый Ленин с протянутой в грядущее рукой.
Небольшая кучка сучьев разгоралась неохотно, и Чехов подтапливал ее листами из только что ошкуренной книги – обложка валялась рядом. Я обомлел, но промолчал: Чехов жег мою недавнюю книжку – «Седьмой дневник».
Чурин молча доставал из саквояжа маленькие стаканы, бутылку водки «Пять озер» (а водка современная, подумал я) и много-много крохотных бутербродов с колбасой и красной икрой, аккуратно завернутых в целлофан. Он же и разлил, протянув каждому стопку и бутерброд.
– За Россию, господа! – командирским тоном сказал цесаревич.
И мы все дружно чокнулись. Никто не стал разворачивать свой бутерброд, и Чурин, засмеявшись, аккуратно налил нам по второй.
– А Россию – это вы просрали, – громко произнес откуда-то сверху картавящий голос.
Я поднял голову. Бронзовый Ленин, так же неподвижно простирая руку вперед, смотрел на нас живым и гневным взглядом. Я недоуменно глянул на собутыльников.
– Он тут никогда не был и поэтому не может воплотиться, – снисходительно пояснил мне Муравьев-Амурский. – Впрочем, с ним и пить никто не стал бы.
И тут я заметил далеко за его спиной какие-то перебегающие за деревьями фигуры. Взгляд сфокусировался – нас со всех сторон окружали милиционеры (полицейские теперь, но суть осталась прежней).
– Атас! – закричал я отчаянно. – Атас!
И проснулся. Во рту еще стоял отчетливый вкус только что выпитой водки.
Большая обида постигла меня, кстати, в связи с этим замечательным сном. Несколько раз я рассказывал его друзьям на пьянках в Иерусалиме, и все, как один, с разной степенью насмешки говорили, что я все придумал.
О, если бы я мог придумывать такое! Я бы писал выдающуюся прозу. Но я не в силах ничего сочинить, Бог обделил меня по этой части, я могу лишь описать увиденное или же случившееся. И вот я описал, а мне никто не верит. Глупо это и обидно.
В Благовещенске образовался у нас небольшой перерыв, как бы антракт в три дня, и мы с приятелем моим (импресарио по совместительству) решили умотать в Китай. Он был тут рядом, и уж очень был велик соблазн. Так мы и сделали.
Нынче Харбин – большой китайский город, десять миллионов населения. Высоченные жилые дома, бетонное вознесенное кружево дорожных развязок, тысячи машин и много ультрасовременных офисных зданий. Возле входа в некоторые из них – два громадных золоченых льва, знак того, что дела у этой фирмы движутся особенно отменно.
Я очень благодарен Харбину за странное чувство, оба дня владевшее мной: ощущал себя исконным и кондовым русским человеком, россиянином, который вознамерился сыскать следы большого куска своей отчизны, канувшего в никуда острова русских поселенцев. Ибо чуть меньше века назад в Харбине (кстати, большей частью выстроенном россиянами) жило четверть миллиона беженцев из России, взбаламученной сначала революцией, а потом – свирепой гражданской бойней.
В Харбин, построенный в самом-самом начале века, где жили только работники Восточно-Китайской железной дороги, хлынули густые толпы из Сибири и Дальнего Востока. Остатки армии Колчака, белые партизаны из великого множества разных отрядов, успешливые предприниматели из этих неоглядных пространств и все-все-все, кто справедливо опасался жить при новой власти, уже крепко обнаружившей свой характер.
Разумеется, русская эмиграция в Харбине была не столь богата талантами, как те, что были в Праге, Берлине и Париже, но и зато талантливых людей практической складки в ней было несравненно больше. Ремесленники всех мастей, инженеры и техники, купцы, строители. Харбин стал процветать и расти с невиданной быстротой. Что не могло не сказаться и на культурной жизни города, где вскоре появились опера и оперетта, балет, драмтеатр, библиотеки, симфонический оркестр, одиннадцать кинотеатров и двадцать три церкви. Издавалось несколько журналов и десятка два больших газет. Четыре института здесь открылись, школы и гимназии.
И не все исчезло, кануло, сровнялось с землей.
Центральная улица города имеет и какое-то китайское название, но до сих пор сами китайцы именуют ее Арбатом, как называли некогда россияне. Улицу эту образуют десятка два зданий, невысоких на современном фоне, но изумительной красоты, моего любимого архитектурного стиля ар-нуво (или модерна, как еще его называют). Все это выстроили россияне в бытность своего тут проживания.
А вечером гуляя тут, я обнаружил на нескольких из них мемориальные таблички на китайском и английском языке. После фамилии архитектора в скобках было аккуратно обозначено, что он еврей. Китайцам почему-то было это важно. Вообще китайцы имеют о нас, очевидно, несколько преувеличенное представление, ибо в их книгах, обучающих бизнесу, то и дело встречается поощряющий призыв – «зарабатывать деньги, как евреи» и «добиваться успеха, как евреи». Впрочем, эта находка ничуть не остудила мои великорусские азарт и интерес, и то печаль, то восхищение испытывал я эти два дня, ища российские следы.
Нам с приятелем повезло сразу же по приезде.
Бредя по этой пешеходной улице Арбат, наткнулись мы на вывеску гостиницы «Модерн», немедля поселились в ней, а там – вдоль коридорчика, ведущего к номерам, в огромных шкафах располагался музей той бытовой утвари, что сохранилась тут с начала того века. Здесь был самовар и чаша для глинтвейна, кофейник и ведерко для шампанского, тарелки, ложки-вилки и ножи, салатницы и чашки, чайники и кастрюли, подсвечники и подстаканники. Все это – из характерного красивого серебристого сплава (мельхиор, если не путаю), по которому сразу отличима утварь того времени.
И телефонный аппарат тут был, и старинная пишущая машинка, и весы уже почти забытой конфигурации. И пела и гуляла моя русская душа посреди этого музейного великолепия. И фотографии висели на стене – Шаляпин в облике Бориса Годунова. Он приезжал сюда петь и останавливался в этой гостинице.
Тут я схватил себя за руку и перестал минуты на три писать, чтобы остыло желание мельком заметить, что я жил как раз в том самом номере. Но сюда приезжали петь и Мозжухин, и Лемешев, из Шанхая наезжал несколько раз Вертинский, Дягилев тут был с балетом – очень все-таки высока вероятность, что я жил в какой-то из их комнат.
Приезжавшие беженцы довольно быстро находили работу. Судите сами: в центре Харбина до сих пор высится красивое здание – бывший торговый дом купца Чурина (да-да, того самого, с кем я во сне пил водку возле памятника Ленину). Так вот, поставляли продукцию на его торговые точки сразу несколько его собственных фабрик: табачная, колбасная, чайная, пивная и лакокрасочная. А еще были заводы – кожевенный, мыловаренный, водочный. Работали механические и столярные мастерские, была даже собственная электростанция.
Харбин стремительно превратился в большой провинциальный русский город, живую иллюстрацию на тему «Россия, которую мы потеряли». Кошмарные российские бури того времени как бы ничуть его не касались. Но харбинцы жили не только собственными заботами. Так, например, в помощь голодающим Поволжья отсюда ушли, везя продовольствие, два десятка эшелонов по тридцать вагонов в каждом. А когда выяснилось, что в результате еврейских погромов на Украине осталось на грани голода множество детей, помощь пришла отсюда. И почти тысяча сирот в Харькове полностью перешли на содержание еврейской общины из Харбина.
Вообще, евреи были очень заметной и процветающей группой в городе, и было их тысяч двадцать. И, разумеется, построены были две синагоги, открылась бесплатная столовая для неимущих (без различия национальности и вероисповедания), появились больницы и дом для престарелых. Руководил общиной человек немыслимой энергии, ума и милосердия – доктор Кауфман. Такие люди специальных жизнеописаний достойны.
Нет, я погорячился, конечно, написав, что ветры времени обходили стороной этот островок покоя и благополучия. Споры о России и ее судьбе тут не стихали и порою достигали высокого накала.
А еще – мне это очень интересным показалось в читанных мной о Харбине книжках – тут возникла Русская фашистская партия, цель которой формулировалась ясно и однозначно: «Освобождение Родины от еврейского коммунизма любой ценой». Даже была открыта ими Высшая партийная школа. Несколько тысяч человек насчитывала эта организация. Но самое забавное в ней было – небывалое количество отребья, которое добывало деньги для нужд партийной жизни – точно так же, как большевики времен достославного Камо и еще не известного никому Джугашвили: разбоем. Только не банки они грабили, а похищали людей и требовали выкуп. Всего за полтора года они похитили двенадцать человек (из которых восемь были, кстати, евреями, что много говорит об уровне еврейской жизни в городе). И нескольких убили, хотя выкуп был уплачен. Эту гнусную партию разогнали пришедшие сюда японцы.
Слегка мне надоело пересказывать прочитанное в книгах, и пора печально изложить, как размылся и канул в Лету этот островок российской жизни, Атлантида и град Китеж, если угодно.
Многие разъехались кто куда: в Австралию, Южную Америку, Палестину (при японцах стали уезжать особенно активно). А потом наступил тридцать пятый год, советское правительство легко продало Китайско-Восточную железную дорогу, и работников ее товарищ Сталин пригласил вернуться на родину. Пообещав, естественно, райское на ней блаженство.
И на посулы эти клюнуло огромное количество людей. Зная о российских трудностях, все сбережения потратили они на всякие закупки – были среди них даже рояли. Поначалу все сложилось хорошо – иные поезда (а тысячи семей поехали) встречали с духовым оркестром. И направляли в города – по большей части захолустные. Но это была родина, российская земля это была, и счастье возвращения пока ничем не омрачалось. Но примерно года через полтора где-то совсем наверху было решено покончить с поселившимися в Советском Союзе японскими шпионами, «так называемыми харбинцами» – было написано в этом постановлении.
В архивных бумагах, много лет спустя всплывших для прочтения, сохранились даже цифры из чекистского отчета: арестовано пятьдесят тысяч, сразу же расстреляно – тридцать одна. Остальные, естественно, пошли в лагеря. Не очень-то большая цифра в мартирологе погибших в это время, но мы и говорим ведь о небольшом российском городе в Маньчжурии. Далее наступил сорок пятый год, и в Харбин вошла Красная армия. А за ней немедля – СМЕРШ, работники которого не подчинялись армейскому начальству. И расстрелы шли в Харбине ежедневно, а в Союз тянулись эшелоны, битком набитые людьми (белогвардейцы!).
Существенная акция была виртуозно проделана комендантом города почти немедля по вступлении в Харбин: на встречу с маршалом Мерецковым были приглашены двести пятьдесят самых известных, именитых граждан. Среди них были юристы, врачи, предприниматели, руководители общин. И больше их никто не видел. Кроме одного: спустя шестнадцать лет доктор Кауфман вернулся к своей семье, они уже давно жили в Израиле. Одиннадцать лет из этого срока доктор Кауфман провел в лагерях, его спасла профессия, в которой он был очень талантлив. И в Израиле продолжал он работать врачом, и успел большую книжку написать о своем тюремно-лагерном прошлом. Так она и называлась – «Лагерный врач».
Спокойный тон бесстрастного свидетеля поразил меня в этой книге. А мелкая одна история надолго в память врезалась. В тюрьме в Свердловске оказался с ним в одной камере земляк-харбинец. Председатель Верховного совета Российской фашистской партии. Так вот этот председатель принялся с усердием влезать в доверие к тюремному начальству и вскорости стал камерным стукачом – «наседкой».
Но многие харбинцы мирно прожили свой век и теперь покоились на русском кладбище. Сперва оно было в центре, потом переехало куда-то за город. На эту Желтую гору мы и поехали наутро. Оказалось там несколько десятков могил – немного надгробных плит и множество деревянных крестов, сиротливо торчащих прямо из земли. А дальше простиралось необозримое поле какой-то высокой степной травы – кладбище предполагалось надолго. Но где же тысячи остальных русских могил? Все объяснилось очень просто: в годы культурной революции кладбище в центре города просто закатали в асфальт, и нынче там парк культуры – колесо обозрения, карусель, американские горки и множество других аттракционов. Памятники с этого кладбища пошли на укрепление дамбы на реке Сунгари – в весенний паводок она порой заливала улицы, а плитами надгробными замостили часть набережной этой красивой речки. Канула даже память об эмиграции.
Посреди огромной городской площади в Харбине высится большой Софийский собор. Он очертанием слегка похож на храм Василия Блаженного в Москве, но нет на нем цветной керамической облицовки, полностью сложено здание из голого красного кирпича. Там сейчас музей строительства Харбина, весь он состоит из сотен фотографий разных лет. И я стоял на площади возле него, курил, и тихая печаль во мне журчала. Чисто российская – бессильная печаль.
А в аэропорту, уезжая, мы снова проявили истинную гордость великороссов. С недавних пор нельзя ведь в самолет нести с собой никакую жидкость в уже открытом сосуде. Ладно бы вода, бутылки с ней мы выбросили сразу и беспрекословно, но у нас еще была бутылка коньяка, едва-едва початая, когда прощались мы с гостиницей. Сообразив, что наша выпивка обречена, мы наглухо затормозили проход к таможенному конвейеру (вещи уже уехали) и стали пить из горлышка, чтоб не пропала эта Божья благодать.
Очередь и три контрольных китаянки смотрели на нас с улыбчивым пониманием. Но сколько можно выпить сразу? Так что с лицом скорее всего горестным отдал я почти полбутылки дивного напитка.
А когда прошли контроль, то глянул я на китаянку у конвейера столь выразительно, что она без единого слова достала из мусорной корзины нашу ополовиненную бутыль. Я подумал, что это акт великого гуманизма, и хотел было добычу сунуть в сумку, но она засвиристела по-китайски что-то запретительное явно, и мы принялись опять опустошать бутыль из горлышка. Доблестно ее прикончив, обнаружили, что три китаянки с соседнего контрольного конвейера, и наши благодетельницы три, и какой-то важный дежурный в маодзедуновском кителе стоят почти что в ряд и кланяются нам, сложив ладони впереди себя, традиционными китайскими поклонами. И улыбаются, заразы, очень полюбовно, а отнюдь не для проформы, как это у них принято. Снова коренным упертым россиянином я ощутил себя на этой территории.
А теперь я расскажу совсем немного о своей находке в городе Томске. Чисто книжной, разумеется, находке, ибо я ведь не ученый-наблюдатель, а гулящий чтец-декламатор, очень любящий книги, черпающий в них свои нехитрые познания.
Накануне подарили мне роскошный том про этот дивный университетский город, утром я его лениво полистал, а после вышел из гостиницы, чтобы еще раз всласть полюбоваться вычурной и уникальной деревянной архитектурой. Но отойдя совсем недалеко, сел покурить и вновь задумался о горести сегодняшней российской жизни. О несметной шайке воров и мздоимцев, расхищающих Россию и ведущих себя в точности как орда завоевателей в безгласной и покорной колонии.
Никак не мог понять, с чего я стал сейчас об этом думать и зачем – не мне ведь это унижение преодолеть и уничтожить, вон какие замечательные люди беззаветно и обреченно занимаются протестами в Москве, а результат?
Смутно чувствовал, что в толстом томе, наскоро пролистанном за утро, что-то промелькнуло именно на эту тему – только что? И вспомнить я не мог. Мимо меня прошел весьма немолодой бородатый еврей в шляпе и лапсердаке, похожий на Карла Маркса куда более, чем тот сам был на себя похож. Я рассмеялся при виде чисто иерусалимского персонажа и подумал, что вот текут столетия, а этот тип моего соплеменника продолжает сохраняться, наплевав на дух и воздух времени.
И вдруг сообразил, на что наткнулся я в той книге, а минут через пятнадцать уже выписывал себе в тетрадь эту историю. Почти что двести лет назад, в 1819 году, сюда приехал в Томск (с ревизией) тогдашний генерал-губернатор Сибири, временно опальный Сперанский (да, да, тот самый великий реформатор времен Александра I). И выступая перед начальством губернии, он сказал, что по климату и природному богатству Томская губерния могла бы стать одним из лучших мест в России, но «худое управление сделало из нее сущий вертеп разбойников».
И дальше он сказал: «Если бы в Тобольске я отдал всех под суд, то здесь оставалось бы только всех повесить». А после он уехал, и все потекло как раньше. Просто мало что в России изменяется, подумал я, приходят и уходят реформаторы (а среди них – и просто палачи), но неизменным остается что-то коренное в атмосфере, психологии народа и устройстве этой удивительной страны.
От такой банальной и расхожей мысли, много раз уже изложенной глубокими знатоками, почему-то сильно полегчало. Разумеется, и выпить захотелось, до концерта еще было много времени.
Последним пунктом того длинного вояжа была столица Казахстана. Астана – не город, а прекрасное явление.
Посреди безразмерной голой степи, на месте крохотного Акмолинска, ставшего потом убогим Целиноградом, – яркое и впечатляющее чудо возможностей современной архитектуры. Огромные и красивые невероятно здания из цветного стекла (сталь и бетон в них почти незаметны), роскошные зеленые парки с экзотическими деревьями и кустами, гигантский шатер торгово-развлекательного центра и много прочих прихотей и капризов строительного воображения. Это все планировал какой-то знаменитый японский архитектор и его французские и английские коллеги.
А широченные проспекты!
Словом, наглядно видно и очень понятно, как можно с толком распорядиться доходами от полезных ископаемых. И лучше про российские дела здесь хоть на время позабыть. Не зря посольства чуть ли не восьмидесяти государств кучкуются тут, суля стране большое будущее.
А еще отсюда ездили учиться в лучших университетах Запада восемь тысяч одаренных молодых людей. За счет государства. И все они вернулись – вот что главное! Ну, кроме нескольких девиц, которые там вышли замуж.
Утоляя мое естественное удивление, мне объяснили некое условие: кто если не вернулся бы, то все расходы на поездку и учебу были бы востребованы с родни, так что проявленный этой молодежью патриотизм имел достаточную подстраховку. Только все равно ведь убедительное это было мероприятие, честь и хвала мудрости тогдашнего президента.
А в центре города – невысокое здание, зовут его все – Дом президента, хотя как-то иначе оно называется. Там помещается музей подарков президенту (громадная коллекция), там залы для различных конференций-заседаний, всякие научно-просветительские кабинеты. И вот на паперти этого храма государственности я стоял не меньше часа, занимаясь интересным делом: извинялся перед теми, кто пришел на мой концерт.
Накануне оказалось, что назначенная дата пришлась на Йом Кипур – самый высокий наш и тревожный праздник, день, когда на небе где-то решалась судьба каждого еврея – жить ли ему следующий год. Мы как-то не подумали об этом вовремя, теперь о невозможности концерта в этот день напомнил мне посол Израиля. Вот я и стоял (сам вызвался на такое ответственное мероприятие) и извинялся, приглашая всех пришедших на завтра в то же время. И никто не сокрушался и не возмущался, обещали завтра снова прибрести (сдержали слово), только просили сделать фотографию на память.
Так что эта извинительная акция превратилась в фотосессию, что мне было забавно и приятно. А назавтра все было прекрасно. Потому еще, что заявилось много местных молодых поэтов. Еще не поселилось в них пренебрежение ко всем своим коллегам, были они дивно восприимчивые слушатели.
Но только это ведь – всего лишь предисловие. Мое давнишнее душевное устройство так зациклено на горестном прошлом, что всюду я интересуюсь лагерной историей тех городов, где мне доводится бывать.
Совсем недалеко от Астаны – место, где располагался некогда печально знаменитый женский лагерь АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников родины). Средневековая – нет, скорее, более древняя – жестокая замашка карать и родственников тех, кто уже каре подвергся, не могла миновать разум усатого палача народов. Отсюда – и этот лагерь. Узнав, что там построен музей-мемориал в память несчастных женщин, я попросил меня туда отвезти.
Очень достойный построили казахи мемориал. И даже величественный по размаху.
Как осуждали этих женщин, приведу лишь один пример (списано с одного из настенных экспонатов). Некая Славина Эсфирь Исааковна, педагог из города Слуцка. Выписка из приговора: «Достаточно изобличается в том, что была женой врага народа Славина И. Б.». И срок огромный.
Я не случайно выбрал несомненную еврейку, их тут было жуткое количество. Здесь было русских жен немногим более четырех тысяч, а на втором месте – восемьсот пятьдесят еврейских. Представительницы остальных народов империи (кроме украинок) несоизмеримо отставали по количеству. Не стану комментировать приведенные цифры, хоть они и повод для раздумий. Всего этих несчастных было шесть тысяч с небольшим. Это в степи с невыносимым летним жаром и дикими зимними морозами с ветром.
Но я хочу пересказать одну прекрасную историю, услышанную мной в этом музее (даже в стихах она изложена в одном из экспонатов, но так оно и было в реальности).
Как-то зимой большую группу зэчек погнали на замерзшее озеро рубить камыш. Не знаю, для каких конкретных нужд лагерного хозяйства. На открытом пространстве, где сливаются мороз и ветер, это было адским наказанием. А между тем на берегу, не выступая из-за линии кустов, явились вдруг два старика-казаха в теплых национальных халатах, обильно расшитых золотой тесьмой, явно почтенные аксакалы. Они недолго постояли, наблюдая, а потом исчезли. Им на смену через час пришли женщины-казашки в сопровождении подростков.
И мальчишки принялись бросать в зэчек камни, которые подавали им казашки. Женщины, рубившие камыш, все, как одна, принялись плакать от такого неожиданного унижения. Пока одна из зэчек, споткнувшись о брошенный камень, не обнаружила, что это замороженное молоко. Тут все они принялись подбирать эти камни, снова навзрыд рыдая – но уже от благодарного потрясения. Охрана не мешала, как бы ничего не замечая.
Под впечатлением услышанного я и покидал музей. Благословенна будь страна, которая хотя бы строит мемориалы!
Сентиментальное путешествие
Часть 1
Да, конечно же, я знаю, что такое название уже было, даже читал я некогда этот прекрасный роман, только никак иначе не назвать мне заметки о моих гастролях по нескольким городам Поволжья и Урала. Я изначально вдруг почувствовал, что будет хорошо и интересно.
По дороге проезжали мы известный ныне (даже знаменитый) город Петушки, а у меня с собой было, и я усердно помянул Веничку Ерофеева. К моменту, когда мы достигли дорожного знака о выезде из Петушков, во мне воссияло прочное ощущение, что дальше сложится все просто прекрасно.
Лет пять назад по этой же дороге ехал я в один некрупный город (умолчу его название), где после выступления повстречался с необычным человеком.
В гримерную ко мне народ набился, все неторопливо выпивали, а когда зашел рослый молодой парень с шикарной девицей, то пространство около меня мгновенно как-то опустело, многие даже ушли из комнаты, мы с этой парой оказались сами по себе.
Красивый молодой человек сказал мне всякие слова и даже предложил мои стихи мне почитать как доказательство приязни и роскошный протянул подарок: нарды явно лагерной работы. С отменно вырезанным волком на лицевой стороне, с искусно выжженным орнаментом снаружи и внутри. Такие лагерные поделки (выкидные ножи, браслеты из цветной пластмассы, шахматы) под общим названием «масти» я знавал еще по лагерю, где сидел, и несколько таких сувениров подарил когда-то музею общества «Мемориал». С великой, надо признаться, жалостью, ибо на зоне занимаются этим ремеслом очень способные зэки.
– Откуда у тебя такая масть? – благодарно спросил я парня.
– А я смотрящий по нашей области, – просто ответил он.
Я ошалело вынул сигарету. Парень чиркнул золоченой зажигалкой. Смотрящий – это хранитель огромных денег, так называемого общака, воровского банка, куда исправно сдает взносы местный уголовный мир для поддержки («подогрева») своих коллег в лагерях. Смотрящий – очень важная, доверенная и авторитетная должность, солидные и уважаемые воры избираются на это место коллективным сходняком. А тут – мальчишка.
– Слушай, ты ж еще ни разу не сидел? – невежливо и ошарашенно спросил я. И угадал.
– Ни разу, – ответил он. – Я положенец.
Мне почему-то запомнилось, что он себя назвал назначенцем, но потом мне объяснили, что положенец – правильное название.
Я задавал ему какие-то несуразные вопросы, все никак не мог смириться с тем, что воровской подпольной кассой управляет юный парень из чужого, презираемого ворами мира, – он спокойно и с большим достоинством мне отвечал. По дороге к машине (его все-таки задело мое недоверие) он говорил мне, как часто его били в милиции – выуживая, вероятно, какие-то сведения, – и что он не один такой на Руси.
Нарды эти я храню и никуда дарить не собираюсь – очень уж красива лагерная масть, а мысли навевает она – странные. О том, как дико и причудливо сросся уголовный, заведомо подпольный мир с обыденным, благопристойным и легальным, если воры открыто и спокойно берут себе в менеджеры людей из этого дневного мира. И вновь, как уже много лет назад, подумал я о радиации лагерного духа, пропитавшего насквозь Россию и растлившего ее на много поколений вперед. И от сумбурных и угрюмых этих мыслей я в тот раз не выпил, проезжая Петушки.
В городе Перми провел я дня четыре – удружило расписание гастролей. Я бродил по улицам, в музеях побывал и посидел в библиотеке, погрузившись в книги о городе. Из них, конечно, самая интересная – труд местного профессора Владимира Абашева «Пермь как текст». Идея, очевидная уже в названии, пришлась мне очень по душе. Хотя, конечно, тут куда точней ложится слово «палимпсест», что означает, как известно, рукопись, где прежний текст (и не один) размыт или соскоблен. Но слово очень редкое и чуть научное, оно бы только отпугнуло множество читателей. Но было б это точно и почти буквально: вот, например, на бывшем архиерейском кладбище, где издавна хоронили виднейших горожан, теперь устроен зоопарк, и нынешние пермяки-посетители коллективно топчутся на могилах своих предков – истинно советская коллизия.
На прежней окраине Перми, где начинался некогда Сибирский тракт, почти сохранно здание тюремного привала арестантов. Многие из лучших россиян здесь проходили или проезжали к месту своего наказания. И тюрьма, как полагается, была – аж до послевоенных лет.
Эти стены, хоть и перестроены неоднократно, многое могли бы рассказать, но стены молчаливы, а сегодняшнему люду очень мало интересны страшные недавние истории. После войны чекисты пустили здание тюрьмы под свой клуб.
На первом и втором этаже все перестроили под их культурный отдых, а подвал таким же и оставили: убого мрачный длинный коридор и крытые железом двери в камеры. Глазок для надзирателя на каждой двери и маленький прямоугольник кормушки. Нары сняты были, яму крохотного подземного карцера (трудно и представить себе смертный холод в этой тесной яме) досками покрыли и залили цементом.
Впрочем, ведь в подвал никто не опускался, наверху в тепле они гуляли.
Я пишу не понаслышке – двери я еще застал. Поскольку десять лет спустя чекисты подобрали себе здание поавантажней и побольше, а сюда вселили – вот ирония судьбы и смена текста – кукольный театр.
Впрочем, ведь и сами чекисты были марионетками в сталинских играх и спектаклях, так что, пожалуй, смена жанра не такая уж резкая приключилась.
А в театре этом, очень в городе любимом, с неких пор стал художественным руководителем поразительного таланта режиссер Игорь Тернавский, мой давний приятель. Он театр этот до неузнаваемости перестроил (красота внутри такая – радуется сердце), а совсем недавно заменил и двери, поскольку в подвале расположились театральные мастерские и людям ни к чему такая память.
Я же по тому тюремному коридору мимо тех дверей успел походить, и у меня так было сладостно и смутно на душе от личных оживающих воспоминаний, что я Игоря совсем не одобряю. Кажется, и он жалеет тоже: памятники надо сохранять, подвал тот для экскурсий был бесценен – подлинно российский палимпсест.
Игоря часто спрашивают, не опасается ли он, что зловещая аура этого жуткого здания влияет как-то на атмосферу в театре. Нет, отвечает он уверенно, детский смех и детская радость смывают начисто любую ауру.
Услышав это, я подумал: не потому ли российское телевидение своими передачами так усиленно старается вызвать у вполне взрослых зрителей именно детский смех и детскую радость?
Пермь – единственный в мире город, с чьим именем связан целый геологический период в жизни нашей планеты. В середине девятнадцатого века тут побывал известный в то время английский геолог Родерик Мурчисон. Исследуя этот край (и двадцать тысяч километров по нему нагуляв), он обнаружил мощные отложения красноцветных глин, песчаника и чего-то еще – приметы некоего геологического периода, который не был до него учеными описан. Он назвал этот период пермским. И добавлю ради красного словца, чтобы нечаянно блеснуть осведомленностью, что это был конец палеозоя – приблизительно двести пятьдесят миллионов лет назад. Здесь поднимались горы, оттесняя море, море высыхало, и отсюда эти неизмеримые запасы соли под землей.
Уже цвела повсюду жизнь, гуляли меж хвощей и папоротников древние ящеры гигантских размеров и невероятных наружностей, а климат был почти тропический. Найденные тут во множестве кости этих ящеров, а также многие виды окаменевших растений и насекомых (в частности – огромных тараканов) по сию пору радуют ученых изобилием. Одну прекрасно слепленную фразу явного пермяка-патриота я даже выписал из просмотренной книги: «А в областях с более холодным климатом тараканы редки, малоразнообразны и имеют мелкие размеры». Забавно было повторять эти надменные слова, топоча по снегу и трясясь от ветра по дороге из библиотеки в гостиницу.
И было ощущение все эти дни нечаянного отдыха, что я бездельничаю праведно и занят тем, чем должен заниматься. Как тот безвестный симпатичный работяга, написавший, объясняя свой прогул: «Вчера не вышел на работу, потому что думал, что вышел».
А еще в этих краях издавна выплавляли медь, отчего и назначено было стать городом этому пустынному месту.
Древние мастера уже в четвертом – третьем тысячелетии до н. э. умели отливать из меди плоские изображения разных зверей и птиц, людей (порою всадников) и неопознаваемых животных. Это старинное литье (при том что сохранились артефакты возрастом постарше, седьмой – девятый века) – художества поразительного, недаром Строгановы его стали собирать (и ныне почти вся эта коллекция хранится в Эрмитаже), а названо оно – по имени опять же города – «пермский звериный стиль».
Нет, не иначе как какой-то Божий свет сиял над этими местами в разные столетия и годы: я теперь о деревянной скульптуре восемнадцатого века хоть бы мельком, но хочу упомянуть. О «пермских богах».
Уже, наверно, раз шестой сюда приехал и снова я с немым обалдением смотрел на это совершенство резанных по дереву фигур.
Я вообще люблю резьбу по дереву и в разных городах Европы с наслаждением торчу в музеях возле раскрашенных фигур разных святых. Жаргонные слова об удовольствии – «тащусь я от этого» – наиболее точно передают мои ощущения. Так вот, от пермских изваяний я тащусь сильней, чем от других. Скуластые, немного плоские их лица (а порой и чуть раскосые глаза – ведь местные изображались люди), их позы, жесты выразительны настолько, что словами ничего не передашь, каким ни будь искусствоведом. У меня же лично сокровенный способ есть, чтоб выразить очарование и чувства выплеснуть: я по возможности негромко пару нецензурных слов произношу. И мне легчает.
Здесь когда-то жил загадочно исчезнувший народ («звериный стиль» они как раз затеяли) – чудь, это предки нескольких народностей сегодняшних. О них есть миф, что при крещении языческого местного населения они ушли под землю, чтобы остаться в прежней вере.
И грех не рассказать о некоем сугубо пермском мифе. Это редкий (очевидно) случай, когда миф (кошмарно впечатляющий) родился и разросся из чьей-то шутки. Прямо в наше время, когда мифы сотворяло разве что правительство страны (про то, как мы отлично все живем и как нам на планете все завидуют). На углу двух улиц высится в Перми десятиэтажный дом (и башенка со шпилем) архитектуры сталинских времен – знаменитая на весь город Башня смерти. Популярный в народе миф гласит, что на этом месте еще во времена Ивана Грозного были пыточные камеры (когда и Перми-то не было!), и что останки замученных тут людей скопились под землей, и что тайные подземные пути отсюда тянутся ужасно далеко, и что даже в стены здания вмурованы тела погибших, и много ужасов иных. В реальности зданию совсем немного лет. Его построили в пятьдесят втором году – и с той поры здесь угнездилось областное управление Министерства внутренних дел. Конечно, у ребят этих вполне дурная репутация, но все-таки почему же корни мифа, столь кошмарного, в седую древность тянутся?
Проста причина и забавна и о силе меткого слова свидетельствует. Как раз в то время, когда появилось здание, весь город (как и вся страна) смотрел фильм «Башня смерти» – по пьесе Шекспира «Ричард Третий». И шутник какой-то Башней смерти окрестил действительно зловещий этот дом. Весьма рискуя, кстати (год пятьдесят второй, заметьте, чистая 58-я за такую шутку). Название, естественно, приклеилось. И стало обрастать мифами.
Мифы и нынче появляются в Перми. Что связано с гордыней, обуявшей патриотов города. Наверно, с той поры еще гордыня завелась, когда отлили тут царь-пушку, весившую не только на сто четыре тонны больше, чем знаменитая московская (каких-то жалких сорок тонн), но еще и стрелявшую, в отличие от столичной неудачницы. Ядрами в тридцать пудов. Ну как тут не зародиться тайной гордыне?
В каком другом городе мелкая речушка, отделяющая старый город от кладбища, называется Стикс?
А на деревьях, спиленных в здешних окрестностях, стоит вся Венеция – это знаменитая лиственница, единственное дерево, которое твердеет в воде.
Ну, словом, много оснований для того, чтобы считалась Пермь хотя бы третьим по России городом, где вполне кипит столичная жизнь.
К тому же множество талантливых людей отсюда вышло. Взять хотя бы Дягилева, который в восемнадцать лет сбежал и более старался Пермь не вспоминать. Попов, что учился в здешней духовной семинарии, опять же – радио он изобрел пускай не первый, но самостоятельно. Писатели Мамин-Сибиряк и Бажов окончили ту же семинарию, а уроженец Перми Михаил Осоргин – выпускник местной гимназии.
И правда, очень многие талантливые люди жили здесь или отсюда в жизнь пускались. Оружейники, к примеру, пушечные мастера, создатели авиационных моторов.
Однако патриотам настоящим мало этого. В одном письме (кажется – Горькому) написал как-то Чехов, что героини его пьесы «Три сестры» могли бы жить в любом провинциальном городе. Ну, например, в Перми, неосторожно пояснил Чехов. И вот уже экскурсоводы резвые показывают дом, где тосковали три сестры. В Москву, в Москву!
А в довершение к полученным впечатлениям приведу доверительную донельзя записку, которую в Перми я получил: «Игорь Миронович, а существует ли всемирный еврейский заговор и как туда возможно записаться?»
Дай Бог этому городу расти и хорошеть. Я очень интересно там пожил.
При подъезде к Челябинску меня охватило странное чувство близости: город этот некогда двумя стежками прошил всю мою биографию. Сюда в самом начале войны переехал завод, на котором работал мой отец, и вся наша семья прожила тут года полтора. Мне было пять лет, и ничего о времени эвакуации я помнить, естественно, не мог.
Кроме одного эпизода – впрочем, он повторялся периодически. Раз в неделю (или в месяц?) отцу выдавали паек, в котором была большая плитка шоколада. Яркая, цветная, невыразимо прекрасная даже внешне. Эту плитку шоколада мама сразу же меняла на буханку хлеба – у одной и той же женщины. А я при маме неотлучно находился, и однажды эта женщина спросила, не горюет ли ребенок, что досталась шоколадка не ему. Мама непривычно резко ей ответила, что нет, нисколько. Мама неправа была, ребенку эту шоколадку было очень жалко всякий раз, иначе он бы не запомнил краткий разговор двух женщин.
А спустя почти сорок лет я провел в Челябинске несколько дней в пересыльной тюрьме – по дороге в сибирский лагерь. После каждых трех дней пути в столыпинском вагоне полагался отдых в какой-нибудь тюрьме, таков был гуманизм начальства, знавшего условия этапа. Мне тюрьма эта запомнилась и внешне – нас туда пешком вводили почему-то, высадив из автозака у ворот, – и нелепой радостью, меня вдруг обуявшей от неожиданной человечности, впервые мною встреченной у надзирателя. Нас вели по длинному коридору явно старого здания, и я по своему дурацкому любопытству спросил у шедшего рядом пожилого тюремщика, когда эту тюрьму построили. И он не цыкнул на меня и не обматерил, а с некоей даже приветливостью ответил:
– В восемнадцатом году. То ли ее красные для белых строили, а то ли белые для красных. – И засмеялся.
Я к нему такую ощутил симпатию и благодарность – вдруг на минуту окунулся в мир нормальный и естественный.
На этот раз меня к тюрьме подвез не автозак, а маленький автобус городского телевидения.
Оператор хищно задвигался, снимая с разных сторон, как я сладостно курю, глядя на тюремное обшарпанное здание.
– Так на отчий дом смотрят, – сказала мне журналистка.
– А я так эту тюрьму и ощущаю, – ответил я вполне искренне.
Мы находились в двух шагах от улицы, названной в честь моего покойного тестя – я, к сожалению, уже его не застал.