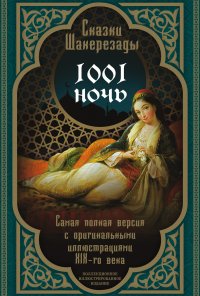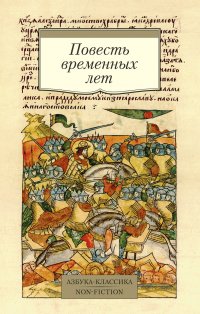Читать онлайн Всё в прошлом. Теория и практика публичной истории бесплатно
- Все книги автора: Сборник
© Новое издательство, 2021
Благодарности
У этой книги непростое прошлое (хотя бывает ли прошлое простым?). Она, как и все мы, прошла через пандемию коронавируса, вследствие чего между ее изначальным замыслом и получением тиража из типографии прошло почти два года. Поэтому мы безмерно благодарны всем участникам этого проекта не только за труд, но и за терпение и веру. Спасибо российскому отделению Фонда им. Фридриха Эберта за возможность претворить нашу идею в жизнь. Спасибо «Новому издательству» и Андрею Курилкину за то же самое, а также за работу над рукописью. Спасибо участницам студии FOX&OWL за чудесные иллюстрации. Наконец, спасибо всем нашим замечательным авторам, которые – несмотря на необходимость проводить бесчисленные часы в зумах и скайпах, усиленно заботиться о родных и близких и при этом успевать справляться с личными трудностями пандемических локдаунов – кропотливо работали над своими главами и терпеливо реагировали на наши редакторские просьбы. Эта книга стала реальностью благодаря вам.
Андрей Завадский, Вера Дубина
Введение
Прошлое – это они. И одновременно мы. Это чужая страна[1] – и вместе с тем малая родина, родные пенаты, домашний очаг.
Что скрывается за этой парадоксальной метафорой?
С одной стороны, прошлое, как и любая чужбина, отличается от настоящего: «Мы можем его исследовать, можем изучить его традиции, языки <…> и убеждения, но никогда не сможем стать его частью»[2]. С другой – прошлое всегда конструируется в настоящем: оно отвечает требованиям этого настоящего, отражая наши представления о самих себе. Прошлое, таким образом, одновременно бесконечно далеко от нас – и запредельно близко.
В 2015 году Дэвид Лоуэнталь, автор книги «Прошлое – чужая страна» (1985), издал переработанную – переосмысленную, переписанную, дополненную – версию своего знакового труда[3]. Сохранив основную мысль изначального издания – о фундаментальной инаковости прошлого, – автор тем не менее отмечает, что наши взаимоотношения с историей в XXI веке изменились. Прошлое и настоящее, прежде разделенные нововременной границей, воссоединились. «Чужая страна прошлого <…> кажется все более и более освоенной», – пишет Лоуэнталь в новой версии книги; прошлое становится все более одомашненным, все сильнее похожим на настоящее[4]. События второй половины XX века – разочарование в установках модерна, развитие мемориальной культуры, усилия по диверсификации нарративов и привлечению внимания к прежде маргинализированным социальным группам – способствовали росту интереса к прошлому и расширению его присутствия в настоящем. Цифровая революция последних десятилетий также сыграла в этом процессе важную роль, сделав прошлое гораздо более доступным: одного-двух кликов достаточно, чтобы извлечь ту или иную историю, тот или иной фрагмент прошлого на «поверхность» современности. Более того, с развитием цифровой культуры активное участие в «преобразовании» прошлого и создании его публичных репрезентаций стали принимать «обычные» люди, пользователи социальных сетей и интернета в целом.
Если прошлого сейчас так много и оно повсюду, почему мы назвали эту книгу «Всё в прошлом», а не «Прошлое во всем»? Дело не только и не столько в том, что фрагменты прошлого окружают нас со всех сторон. Эта книга не о том, что настоящего и будущего больше нет, вокруг лишь прошлое, и все, что нам остается, – смотреть на него сквозь пелену ностальгии. Важнее то, что прошлое играет все более решающую роль в нашем понимании себя. Объяснения настоящего и образы будущего все чаще ищутся сегодня именно в прошлом. Составление генеалогических древ, проработка коллективных и индивидуальных травм, историческая политика – все эти тенденции и феномены указывают на то, что прошлое из чужестранца, из Другого превращается в свое, близкое, родное.
Какую роль в этом процессе играет публичная история (public history)?
Перед авторами проектов в области публичной истории всегда стоит сложная задача – сделать прошлое ближе и понятнее современному человеку, не лишая это прошлое сложности и не отказывая ему в инаковости. Выполнение этой задачи затрудняется разными факторами: коммерциализацией культуры, исторической политикой, распространением социальных сетей, умножением «производителей-потребителей» (prosumers)[5] и пр. К тому же индивидуальные акторы, создающие репрезентации прошлого в публичном пространстве, обладают разным уровнем исторического знания и преследуют разные цели, не всегда отвечающие идеалу баланса между понятностью и сложностью. Однако именно такой баланс остается главной мерой как профессиональных практик публичной истории, так и академических исследований в этой области. Таким образом, публичная история как исследовательское и практическое поле призвана, с одной стороны, приближать прошлое к публике, а с другой – (с)охранять дистанцию между ним и настоящим.
ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ КАК ДИСЦИПЛИНА
Институционализация публичной истории началась в 1970-е годы в США[6].
Однако появление понятия «публичная история», разумеется, не означало «открытия» прошлого в публичном пространстве: практики публичной истории существовали задолго до оформления ее в дисциплину. Хотя профессиональные историки так или иначе участвовали в общественной жизни и выступали публично («У историков всегда была публика»[7]), работа с прошлым велась преимущественно за пределами академических кругов. Профессионалы, работающие в музеях, кинематографе, медиа и т. д., оказывали огромное влияние на бытование прошлого в публичном пространстве. Становление публичной истории как дисциплины связано и с процессами внутри самой академии (историки стремились освоить новые рынки труда, не находя рабочих мест в университетах и пытаясь преодолеть разрыв между академическими и неакадемическими аудиториями[8]), и с настроем молодого поколения, требовавшего обновления общественных устоев и иерархий (феминистское движение, борьба за права сексуальных меньшинств и др.), и с активным изменением общества в целом (борьба за права человека, развитие мемориальной культуры и memory studies, положивших начало осмыслению «трудного» прошлого и появлению новых акторов – например, «свидетелей времени»[9]). Наука и общество менялись – и на волне этих изменений появилась новая дисциплина.
В результате институционализации публичной истории происходит рост, с одной стороны, профессиональных публичных репрезентаций прошлого (за счет распространения специализированных образовательных программ и участия историков в посвященных тому или иному фрагменту прошлого медиапроектах), а с другой – интереса к их осмыслению и анализу. Постепенно публичная история как дисциплина утверждается во всем англоязычном академическом мире – в Канаде, Австралии и Великобритании, а затем и за его пределами. И хотя развитие публичной истории вне Соединенных Штатов имело свои страновые и региональные особенности, можно говорить об успешной интернационализации этого исходно американского феномена[10].
В России начало дисциплинарному оформлению публичной истории положила магистерская программа в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), созданная в 2012 году Верой Дубиной и Андреем Зориным[11]. С тех пор прошло почти десятилетие – и можно подвести некоторые промежуточные итоги этого начинания (то, что среди авторов этой книги восемь выпускников шанинской программы, – несомненно, один из них).
Словосочетание «публичная история» прочно закрепилось в дискурсивной сфере. Редакторы этой книги помнят первые русскоязычные дискуссии об этом понятии: Вера Дубина – как одна из создателей программы по публичной истории в Шанинке, Андрей Завадский – как студент второго набора этой программы. Слово «публичный» казалось тогда не очень благозвучным, и преподаватели Шанинки предпочитали использовать более нейтральное понятие public history. Так, в статье 2014 года, одной из первых о публичной истории в России, историк Ирина Савельева заключила понятие «публичная история» в кавычки[12]. Однако в отличие, например, от немецкого языка, где по-прежнему используется англоязычный термин[13], в русском языке в результате прижился его перевод. Более того, само слово «публичный», кажется, получило вторую жизнь: сегодня можно услышать не только о публичной истории, но и о публичных программах в музеях, публичных лекциях, публичной политике и пр. Переосмысление слова «публичный» вряд ли указывает на какое-то существенное преобразование российской публичной сферы, однако «одомашнивание» понятия «публичная история» вполне свидетельствует о растущем интересе российского общества к прошлому и памяти о нем. Эти процессы отражают также попытки профессионального сообщества и, шире, гражданского общества противостоять политизации истории, инструментализации ее государственной властью.
С другой стороны, институционализация публичной истории носит ограниченный характер. Тогда как в США сегодня насчитывается более 200 университетских образовательных программ по публичной истории[14], в России их раз-два и обчелся: кроме магистерской программы в Шанинке, тематикой public history занимаются в Высшей школе экономики в Москве и Санкт-Петербурге, в Пермском и Казанском университетах, Ярославском педагогическом университете и некоторых других местах. Более того, если американские программы уделяют значительное внимание практической стороне публичной истории – способам, инструментам и методикам создания публичных репрезентаций прошлого, то в России – как и в Европе в целом[15] – преподавание публичной истории носит преимущественно теоретический характер. Результатом такой специфики является ориентация выпускников соответствующих программ не на создание публичных репрезентаций прошлого, а на их исследование. В этом смысле характерно, что «практика» в названии этой книги отсылает прежде всего к примерам анализа бытующего в публичном пространстве прошлого, нежели к способам создания его публичных репрезентаций. При этом задача выдвижения на первый план этой стороны «практичности» публичной истории (а не приемов и инструментов «опубличивания» прошлого) шире, чем просто продемонстрировать начинающим исследователям разные подходы к изучению практик публичной истории. Она заключается еще и в том, чтобы показать возможности работы ученых с общественностью. Мы стремимся обратить внимание на то, что публичная история – это не просто решение цеховых проблем исторической науки, но и множество существующих в медиасреде (в широком смысле) проектов, посвященных прошлому и заслуживающих самого пристального внимания. Такой подход является одновременно и отражением целей, которые вполне осознанно поставили перед собой редакторы, и ограничением данной работы, четко очерчивающим задачи на будущее.
Наконец, важно отметить недостаточность русскоязычной литературы по публичной истории. Тогда как на иностранных (прежде всего английском и немецком) языках статей, монографий и справочников по этой теме множество – и библиографические списки составляющих эту книгу глав тому доказательство, на русском языке, несмотря на растущее число занимающихся этой темой авторов, опубликованы единичные статьи и книги[16]. Наиболее заметным является отсутствие учебника или справочного пособия, которое служило бы введением в публичную историю. Книга «Все в прошлом: теория и практика публичной истории» была задумана с целью восполнить этот пробел. Мы надеемся, что она станет той отправной точкой, с которой любой интересующийся прошлым и его бытованием в общественной среде сможет начать взаимодействие с публичной историей как дисциплиной.
СТРУКТУРА КНИГИ
Построенная по тематическому принципу, эта книга рассказывает о роли прошлого в таких разных сферах человеческой деятельности, как театр и кино, литература и журналистика, современное искусство и компьютерные игры, окружающая среда и музыка. Она призвана быть путеводителем по разнообразному ландшафту существующих проектов и исследований по публичной истории. Профессионалы, занимающиеся театром, краеведы и авторы комиксов редко встречаются на одной конференции – или под одной обложкой. Пространство публичной истории в целом и эта книга в частности предоставляют им такую возможность.
Книга делится на пять тематических разделов: «Жить в прошлом», «Писать о прошлом», «Показывать прошлое», «Играть в прошлое» и «Управлять прошлым», – каждый из которых включает четыре-пять глав. Такая структура довольно условна и ни в коем случае не ставит своей задачей категоризировать бытования прошлого. Скорее, предложенные нами разделы игриво – не претендуя ни на полноту и всеохватность, ни тем более на окончательность и однозначность – указывают на существование разных способов взаимодействия с ним.
Каждая глава рассказывает о роли прошлого в конкретной сфере человеческой деятельности. Ради удобства читателей, которые будут обращаться к этой книге как к справочному пособию, мы решили отказаться от затейливых заголовков и назвали главы по тем сферам деятельности и/или медиа, которым они посвящены. Наши авторы любезно согласились на это предложение, за что – помимо всего прочего – мы им очень благодарны.
Раздел «Жить в прошлом» посвящен фрагментам прошлого в окружающих нас пространствах. Здесь собраны главы об окружающей (Юлия Лайус) и городской средах (Алексей Браточкин), краеведческих практиках (Борис Степанов, Алиса Максимова, Дарья Хлевнюк) и цифровом пространстве (Сет Бернстейн, Анастасия Заплатина).
«Писать о прошлом» рассказывает о некоторых формах письма о прошлом – или писательских практиках, обращающихся к прошлому. Из этого раздела можно узнать, чем отличается историческая проза (Станислав Львовский) от биографии (Вера Дубина), что такое альтернативная история и кто такие «попаданцы» (Мария Галина, Илья Кукулин), в чем особенность рассказа о прошлом детям (Артем Кравченко), а также какую роль в формировании образов прошлого играет журналистика (Елена Рачева, Борис Степанов).
В следующем разделе, который мы – даже с большей долей условности, чем остальные, – назвали «Показывать прошлое», собраны главы, посвященные визуальным репрезентациям прошлого. Здесь помещены главы о музеях (Светлана Еремеева), современном искусстве (Галина Янковская) и фотографии (Виктория Мусвик). Сюда же мы определили главу о посвященных прошлому комиксах (Всеволод Герасимов).
В разделе «Играть в прошлое» акцент сделан на областях человеческой деятельности, для которых особое значение имеют игровой момент и творческий подход, – от театра (Варвара Склез) и кино (Егор Исаев) до исторической реконструкции (Дарья Радченко, Марина Байдуж), видеоигр (Федор Панфилов) и популярной музыки (Александра Колесник).
Раздел «Управлять прошлым» более теоретический, чем остальные: «управлять» в данном случае означает не только «манипулировать», как в случае исторической политики (Илья Калинин), но и «исследовать», как в главе о сравнении публичной истории с memory studies (Андрей Завадский), и «переосмыслять», как в главе о гендере, сексуальности и квир-исследованиях (Катерина Суверина, Влад Струков). В этом же разделе – и вместе с тем обособленно, в виде приложения – размещен текст «Колониальный омлет и его последствия: о публичных историях постколоний социализма» (Сергей Ушакин). Это одновременно и теоретическая глава, обсуждающая возможности и проблемы применения постколониальной теории для осмысления (пост)социалистического прошлого, и статья, на метауровне иллюстрирующая представленный в этой книге подход к анализу публичных репрезентаций прошлого.
Еще раз подчеркнем, что размещение главы о комиксах в разделе «Показывать прошлое» не означает, что в этом жанре нет игровой компоненты. Нахождение главы о современном искусстве в том же разделе также не указывает на то, что оно всегда миметически отражает – показывает – прошлое. Равным образом почти все главы из раздела «Играть в прошлое» могли бы с таким же успехом оказаться в посвященном визуальным репрезентациям разделе «Показывать прошлое». Иными словами, структура этой книги могла бы быть совсем другой, но это не имеет ровно никакого значения. Разделы, которые мы предлагаем, призваны сделать чтение этой книги приятным и увлекательным. Ни больше ни меньше.
Каждая глава состоит из введения и историографической части, отвечающих за «теорию» в названии этой книги, а также обзора, где авторы показывают возможности и способы анализа конкретных практик публичной истории. Кроме того, главы снабжены списками литературы для продвинутого чтения, которые будут полезны читателям, желающим углубиться в конкретную тему.
Публичная история родилась вследствие общественного интереса к переосмыслению прошлого, а также в результате влияния новой социальной истории, вернувшей в науку живого человека. Ее развитие в англоязычном мире, с одной стороны, стало итогом обновления системы координат научного познания, а с другой – способствовало дальнейшему развитию этой системы. Постепенный отказ от застывшего «объективного» и «истинного» знания позволил академическим историкам выйти из своей башни из слоновой кости к людям, а исторической науке – осознать влияние настоящего на методы и структуры производства исторического знания. Мы очень надеемся, что утверждение публичной истории в русскоязычном пространстве будет способствовать подобным переменам и в отечественной науке, все еще запертой в своей обособленной реальности, как языковой, так и институциональной.
Если эта книга станет мостом между активно и успешно развивающимися общественными проектами, посвященными прошлому, и академическим миром, наша задача-максимум будет выполнена. Мы благодарим вас за интерес и желаем приятного – и познавательного – чтения.
Жить в прошлом
Юлия Лайус
Окружающая среда
Дипеш Чакрабарти, один из самых известных историков, работающих в области постколониальных исследований и глобальной экологической истории, в своей недавней публикации подчеркивает новую роль музеев в эпоху антропоцена – конструировать обновленную историю человечества, в которой «естественная» история, история «цивилизаций» и «технологическая» история были бы не просто объединены, но перемешаны[17]. Это утверждение основано на новом понимании истории, которое помещает в центр понятие антропоцена как новой геологической эпохи. В эту эпоху человек, используя созданные им технологии, становится главным источником изменений окружающей среды, в том числе глобального климатического кризиса[18]. Опора на концепцию антропоцена приводит к тому, что «сегодня» человеческой истории оказывается связанным, переплетенным с «сегодня» геологического времени, и это то новое, чего никогда ранее не случалось ни в самой истории человечества, ни в ее описании и репрезентации.
История взаимоотношений человека и природы – экологическая история – может быть написана с двух разных ракурсов. Можно считать человеческую историю особой частью естественной истории, сплетать их вместе. Концепция антропоцена подчеркивает, что сближение, переплетение этих двух «историй» после длительного периода их принципиального разделения особенно важно в условиях экологического кризиса. С другой точки зрения, глубокий методологический смысл имеет расщепление понятия природы на собственно природу и окружающую среду. В этом я опираюсь на работы Сверкера Сорлина и Пола Ворда с их концепцией окружающей среды, в которую под воздействием человека превращается природа. Природа в их понимании находится вне истории, и, как только она попадает под воздействие человека, сплетается с человеческой историей и начинает пониматься исторически, она полностью превращается в окружающую среду[19]. Именно процесс превращения природы при помощи технологий в окружающую среду (process of environing)[20], собственно, и является главным предметом экологической истории.
Природа вне истории представлена в публичном пространстве в первую очередь в естественно-научных музеях: зоологических, геологических, палеонтологических. Основными экспонатами таких музеев являются «объекты природы»: камни, кости, червяки в стеклянных банках, чучела и муляжи. Если они располагаются по отдельности, то их объединением, общим нарративом служит научная классификация или процесс эволюции (в пост-дарвиновские времена это практически совпадающие нарративы). Еще одним объединяющим нарративом может быть география, которая особенно мощно вторгается в те части музея, где природные объекты объединяются в диорамы: животные в естественной среде обитания, окруженные деревьями, камнями, нарисованной водой и небом, то есть вписанные в географический ландшафт. Людей на таких диорамах, как правило, нет, то есть природа представлена в своем так называемом первозданном состоянии. Таким образом музеи транслируют зрителю представление о том, что существует идеальная дикая природа (wilderness), не тронутая человеком и не втянутая им в историю. Парадоксально, но вместе с тем симптоматично то, что для конструирования этого образа нетронутой дикой природы в музеях используются мертвые – как правило, убитые именно человеком – природные объекты: чучела, засушенные растения, муляжи. Традиция такого представления природы насчитывает несколько столетий и передана нам еще кабинетами редкостей раннего Нового времени. Такое представление природы чаще всего встречается в музеях несмотря на то, что еще первоe поколение экологических историков убедительно показало, что дикая природа существует в первую очередь в представлениях людей как социальный конструкт[21]. Такие музеи, несомненно, необходимы для целей научного просвещения, но для экологического просвещения их явно недостаточно.
Новое понимание истории, заложенное в концепции антропоцена, полностью ломает привычную нам классификацию музеев, которую Чакрабарти анализирует на примере музеев Чикаго (города, где он живет и работает): Филдовского музея естественной истории, возникшего в 1893 году в качестве наследия Всемирной Колумбовой выставки, Института искусств и Музея науки и промышленности, организованного в 1930‐х годах по примеру Немецкого музея в Мюнхене[22]. Чакрабарти показывает, что только Институт искусств научился достаточно легко переходить границы между искусствами, технологиями и природой, в то время как в двух других музеях, как и в большинстве им подобных, границы между естественной историей и историей технологий, а также социальной историей до сих пор остаются непроходимыми.
Экологическая история возникла в 1970-е годы, в десятилетие, известноe быстрым ростом экологических движений[23]. Оба направления – и экологическая, и публичная история – в значительной степени выросли из одного корня и были тесно связаны с повесткой сохранения: будь то охрана природы или сохранение исторического наследия и памяти[24]. Оба направления смогли использовать окна возможностей, открывшиеся благодаря принятию важных законов, в первую очередь в США, но затем и в Европе. В США это были National History Preservation Act (1966), National Environmental Policy Act (1970) и Endangered Species Act (1973). Первые профессиональные общества и их журналы также были созданы в одно и то же время и тоже в США: Американское общество экологической истории (American Society for Environmental History, ASEH) – в 1977 году, а Национальный совет по публичной истории (National Council on Public History, NCPH) – в 1979 году.
Призыв одного из основателей экологической истории Дональда Уорстера выйти за стены университетов и архивов на свежий воздух полей, купить кроссовки и не бояться испачкать их в придорожной пыли стал неформальным девизом экологических историков[25], которые с течением времени все охотнее включают в свою методологию изучение на местности (place-based learning), частью которого обязательно становится общение с местными экспертами и публикой[26].
Объединяет оба направления еще и то, что они так или иначе декларируют свою задачу служить человечеству, обеспечивая «пригодное к употреблению прошлое» (usable pasts)[27]. При этом самый полезный вклад, который историки могут внести в практические вопросы современности, – это продвигать сложное, а не редукционное мышление. Они являются экспертами в решении сложных проблем, так как постоянно работают над тем, чтобы понять проблемы, которые имеют не одну причину, и предложить решения, приводящие ко многим непредсказуемым результатам[28]. Самая большая сила, которая есть и у публичных, и у экологических историков, – это способность взять, казалось бы, незыблемый существующий статус-кво и показать, что «это было не всегда так». Они могут взглянуть на настоящее и разоблачить «естественный порядок вещей», показать, насколько он на самом деле «неестественен», насколько он сотворен человеком[29].
Теория
Одна из первых дискуссий об отношениях публичной истории к проблемам окружающей среды была опубликована в 1993 году в журнале NCPH The Public Historian в качестве президентского обращения Мартина Мелози, который был сначала президентом NCPH, а затем президентом ASEH[30]. К этому времени в США основные комиссии и агентства, имеющие отношение к охране природы (The Environmental Protection Agency, National Park Service и другие) и к проблемам загрязнения, в том числе ядерного (Nuclear Regulatory Commission), уже включили в свой штат историков. Исторический отдел был создан и в инженерных войсках США (US Army Corps of Engineers). Также многие историки консультировали частные компании. В своем обращении Мелози предостерегал историков от слишком буквально взятой на себя роли единственных «адвокатов» природы и призывал к укреплению связей между экологическими и публичными историками, которые, по его мнению, еще не достигли продуктивного взаимодействия ни с эмпирической, ни с методологической точки зрения. Но главная проблема заключалась в том, что ни тем ни другим не удавалось в достаточной мере привлечь внимание широкой аудитории. Основной призыв Мелози звучал так: «Давайте сделаем экологическую историю инструментом для того, чтобы ценность истории в целом стала более понятной для публики. Давайте позволим нашей профессии, такой богатой своим содержанием, предложить руководство в понимании сущности отношений человечества с окружающим его физическим миром»[31].
Через десять лет Мелози вместе со следующим президентом NCPH Филипом Скарпино выпустили сборник под названием «Публичная история и окружающая среда»[32]. В нем работа экологических историков в публичной сфере была рассмотрена в рамках следующих направлений: сохранение ландшафтов; менеджмент культурных ресурсов; юридическая поддержка восстановления окружающей среды; музеи, медиа и исторические общества; анализ экологической политики; работа с экологическим движением. Оценивая путь, который обе дисциплины проделали за десять лет, Мелози и Скарпино отметили, что публичная история уступает экологической по глубине и масштабам исследований, но зато гораздо успешнее вовлекает в диалог широкую публику. Они снова подчеркнули, что рассматривают экологическую историю в первую очередь как способ мышления и инструмент, которым должны уметь владеть публичные историки.
В 2004 году NCPH впервые провел объединенную конференцию с ASEH на тему «Пространства культуры и места природы». По ее результатам был опубликован специальный выпуск The Public Historian, заголовок вводной статьи к которому уже содержал несогласие с описанными выше установками. Он выводил экологическую историю в публичное поле как самостоятельного игрока[33]. В статье были заданы «зеркальные» по отношению к заявлениям Мелози вопросы: какие возможности может предложить публичная история экологическим историкам? Как экологические историки могут адаптировать к своим нуждам подходы публичной истории с целью распространения исторических знаний?[34] Статьи, собранные в выпуске, показывали на примерах то, как экологические историки конструктивно вовлекались в политические дебаты и взаимодействие с экспертами и политиками по вопросам использования природных ресурсов и охраны среды. Таким образом, в качестве аудитории публичной экологической истории были показаны другие профессионалы, в первую очередь ученые, инженеры, менеджеры корпораций.
Важнейшим вопросом для функционирования такой публичной истории стала необходимость дистанции историка и сохранения его критической позиции. Так, Уильям Кронон, один из самых известных экологических историков, который в 2012 году стал президентом Американской исторической ассоциации (American Historical Association, AHA), подчеркивал важность использования наработок экологической истории для текущей политики, но предупреждал о том, что историки не могут анализировать прошлое, рассматривая как данность те самые категории, которые должны подвергать критике[35]. Для экологических историков, работавших в корпорациях, основной проблемой стало балансирование между нуждами корпорации и требованиями исторического сообщества к качеству производимого знания. Одним из способов такого балансирования рассматривалось критическое отношение к тем вопросам, которые корпорация и ее публика ставят перед историком, и возможности историка их переформулировать, расширить или, наоборот, сфокусировать, не следуя полностью за вопросами и интересами пусть и профессиональной, но не сведущей в истории аудитории.
Еще одной важной особенностью экологической истории как публичной истории – и даже преимуществом, которое экологические историки смогли принести в эту область, – стала необходимость коллективной работы и особенно вхождение историков в междисциплинарные коллаборации. Эта особенность экологических историков, способных использовать в качестве исторических источников научные данные, расчеты инженеров и собственные полевые наблюдения, неоднократно подчеркивалась отцами-основателями дисциплины[36]. Авторы рассматриваемого выше выпуска The Public Historian отмечают, что представленный подход к взаимодействию экологической и публичной истории не единственно возможный, и отсылают к другим публикациям, например к обзору о месте экологической истории в музеях[37].
В XXI веке дискуссии о наиболее действенном проникновении экологической истории в музеи, с ее возможностью показать исторический контекст экологических проблем и прописать сюжеты непростого движения «от эксплуатации природных ресурсов к устойчивому развитию», становятся важным направлением историографии[38]. Становится очевидным, что нарративы экологической истории, рассказанные средствами музеев, а также показанные в национальных парках, способны содействовать углублению понимания широкой публикой причин, последствий и сложности экологических проблем – и тем самым углублять дискуссии в области экологической политики[39]. Публичные историки, в свою очередь, также все больше стали интересоваться темами, связанными с экологическим просвещением. Они предсказывают, что в том числе в этой связи им все больше придется использовать в своей работе транскультурные и трансграничные темы[40]. Одной из таких центральных тем, несомненно, становится климат[41].
Практики
Проекты в области публичной экологической истории могут быть условно разделены на несколько групп: информационные – подкасты, блоги, энциклопедии; охраняемые ландшафты; музеи и выставки; фильмы и другие медиаформы. В этой главе я фокусируюсь на выставочных и музейных проектах, включая музеи-заповедники и парки; ссылки на многие другие ресурсы в области экологической истории можно найти на портале Центра изучения окружающей среды и общества имени Рейчел Карсон (The Rachel Carson Center for Environment and Society) Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене[42]. На портале находится и постоянно пополняемая интерактивная платформа «Аркадия», где публикуются короткие иллюстрированные тексты, которые рассказывают истории мест и событий, связанные с взаимоотношениями человечества и окружающей среды[43]. Тексты присылают исследователи со всего мира, они проходят рецензирование, есть поисковая система – интерактивная карта и таймлайн. Там же можно посмотреть виртуальные выставки – более длинные нарративы, сопровождающиеся богатым визуальным материалом. Так, автор этой главы принимала участие в создании выставки, которая представляет сравнительную историю отношений между столицами Российской и Австро-Венгерской империй – Санкт-Петербургом и Веной – и реками, протекающими через них, – Невой и Дунаем[44].
В Мюнхене же был реализован один из самых крупных публичных проектов экологического просвещения – выставка «Добро пожаловать в антропоцен: Земля в наших руках», проходившая в Немецком музее в 2014–2016 годах[45]. Несмотря на то что Немецкий музей, основанный в 1903 году, является классическим музеем науки и технологий, он уже в 1992 и 2002 годах организовывал выставки, посвященные экологической тематике[46]. На выставке были показаны последствия и масштабы изменений нашей планеты, вызванных деятельностью человека. При этом выставка не представляла антропоцен исключительно как нарратив упадка, но скорее описывала его как сложную и часто неоднозначную историю разрушения, перестройки и обратной связи между этими процессами. Опираясь на фонды Немецкого музея, выставка иллюстрировала историю индустриальной революции и «великого ускорения», центральные для понимания антропоцена[47]. Были представлены шесть тематических областей, посвященные его ключевым проявлениям: урбанизация, мобильность, питание, эволюция, взаимодействие человека и машин, природа. Сквозным сюжетом выставки стало изменение климата. Заключительная часть экспозиции представляла сценарии будущего, приглашая посетителей участвовать в их создании. Этой цели служила инсталляция в виде цветка, которая постоянно дополнялась записками посетителей. Инсценировать будущее через выставки, кинофильмы, литературу исключительно важно для того, чтобы побуждать людей осмыслить экологический и климатический кризис и начать менять свое поведение. Так, «помещая действие в далекое будущее, автор „заставляет“ рассказчика – выжившего человека или пришельца-инопланетянина – вспомнить или узнать, что произошло, почему люди погибли, почему они не предприняли ничего, когда катастрофу еще можно было предотвратить»[48].
В России противоречия антропоцена внутри музейного пространства были представлены на выставке «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» в Музее современного искусства «Гараж» в 2019 году. Эта выставка, впрочем, совсем не является исторической; эмоциональными средствами искусства она пытается зафиксировать состояние отношений людей с другими видами в окружающей среде, в которую превратилась природа, и показать наше общее неотвратимое будущее. Автор одной из самых глубоких рефлексий этой выставки считает, что, несмотря на отсутствие ярко выраженной связи концепции выставки с идеей ктулуцена Донны Харауэй[49], животные, находящиеся в выставочном пространстве, наводят на мысль именно о ней. Выставка способствует выстраиванию эмоциональных привязанностей к видам. Сосуществование с ними в условиях искусственного пространства может стать благодатной почвой для создания «племени» – объединяющее слово, которое использует Харауэй для описания совместно обитающих мультивидовых сообществ, включающих людей[50].
Музеи всего мира, особенно созданные после 1990 года, стремятся интегрировать экологическую тематику в свои экспозиции и программы. Более старые музеи, придерживающиеся традиционных подходов, медленнее включали темы экологической истории, хотя тенденция в этом направлении набирает обороты во всем мире[51]. Однако в России развитие экологической истории даже как академической дисциплины происходит очень медленно[52], не говоря уже о включении ее тематики в публичное пространство. Многие краеведческие музеи до сих пор воспроизводят советские принципы построения экспозиций[53], которые не приспособлены для трансляции эколого-исторических нарративов. Что было характерно для официального подхода к остаткам краеведения после его разгрома на рубеже 1930 года с точки зрения описания отношений людей и природы? Природа и человеческие история и культура оказывались разграничены, что полностью вписывалось в логику марксизма-ленинизма с четким разделением диалектического и исторического материализма. Так, природа описывалась, с одной стороны, статически, в логике инвентаризации (пример – экспозиция «Животные наших лесов»), с другой стороны, широко использовался утилитарный подход к природе «как к источнику ресурсов и среде, формирующей и меняющей орудия человеческого труда и быта»[54]. Единственными мостиками между природой и культурой оказывались археологические и этнографические экспозиции, что недвусмысленно подчеркивало то, что «близость к природе» возможна только у доисторических людей или «диких» аборигенных народов, которые фактически не имеют истории и являются «частью природы». При этом возникало впечатление, что вся более поздняя история разворачивалась или вне связи с природой, или исключительно в логике ее покорения. При этом нарратив покорения прописывался исключительно с точки зрения людей, главным образом – государства: объектам природы при ее трансформации в окружающую среду никто голоса не давал.
Инструментальный подход к экологической истории унаследовали музеи различных ведомств и предприятий, занимающихся добычей и переработкой природных ресурсов. Они рассказывают убедительные истории того, как люди использовали природные ресурсы, какие технологии они для этого изобретали и использовали, как природа сопротивлялась, но была побеждена и при применении современных технологий превращена в окружающую среду. Мультимедийные музеи, сделанные с применением новых дизайнерских и компьютерных технологий, в философии организации своего экспозиционного пространства так или иначе похожи друг на друга. И это не удивительно, так как более 60 корпоративных музеев и отраслевых выставочных экспозиций по всей России проектировала одна и та же компания[55]. Большинство музеев создавались с чистого листа, но часть, в том числе некоторые музеи, посвященные гидростроительству, были модернизированы без существенного изменения содержания. Так, основной нарратив экспозиции музея Сургутнефтегаза, открытого в 2013 году, – это последовательный рассказ обо всех этапах производственного цикла, от поиска нефти до реализации конечной продукции[56]. Экспозиция сосредоточена на истории поиска нефти, главным образом показывая победы – открытия газовых и нефтяных скважин в Западной Сибири в 1950–1960-е годы. Технологии добычи нефти показаны при помощи дополненной реальности, электрифицированных макетов и схем. Посетителю предлагается поучаствовать в экономической игре: выбрать и приобрести участок и разработать нефтяное месторождение. Одна из задач музея, как она декларируется корпорацией, – это профориентационная работа, но при этом нарратив выстроен так, что показывает, как тяжел труд нефтяника: «Многие считают, что мы нефть там ведрами черпаем, и здесь можно увидеть всю тяжесть труда и как сложно добывается нефть»[57]. Экологические, климатические последствия добычи нефти присутствуют, но, разумеется, не являются центральными.
Еще один корпоративный музей, открытый в Москве в 1998 году, посвящен такому важному для России природному ресурсу, как лес[58]. Лес в музее представлен не только и не столько как ресурс, сколько как особое природное пространство, в значительной мере сакрализованное. Один из основных залов так и называется – «Храм леса». Он оформлен как церковное пространство с картинами леса и чучелами животных и птиц вместо икон и скульптур. Важное место в экспозиции занимает традиционное лесопользование, а современное промышленное использование леса почти не представлено. Основной нарратив – история изучения и охраны лесов, рассказанная идеализированно: лес в России изучали и охраняли, начиная с указов Петра I на протяжении всей последующей истории страны вне зависимости от ее политического устройства и технологического развития.
Интересный пример современной реконструкции краеведческого музея – Музей природы и человека в Ханты-Мансийске[59]. Его экспозиции структурируются шкалами времени – временем биосферы, мифологическим временем коренного населения этих мест и историческим временем, – но связь этих шкал не очевидна: время остается разорванным. В экспозиции есть отсылка к наследию Владимира Вернадского, с идеями которого связана концепция антропоцена. Пространство экспозиции «Ноосфера» устроено как лабиринт с витринами-окнами: «Мир как микросхема», «Электронный город», «Метастазы урбанизации», «Экологические катастрофы». Лабиринт похож на гигантскую молекулу ДНК или мозговую извилину ноосферы. Он неожиданно завершается уходящей в небо ротондой, превращенной в Храм времени, на куполе которой проецируются образы: «Падающая капля, часы, пульс утробы с эмбрионом, поле злаков, работающие нефтяные качалки, взгляд старухи… по стенам и полу ротонды время от времени бродят световые волны и изломы»[60].
Частью музея является и так называемый Археопарк, в котором представлены огромные скульптуры вымерших животных. В качестве причин вымирания некоторых из них указано преследование человеком, а также изменение климата. Однако вымирание рассматривается как процесс, очень далеко отстоящий от нас во времени: нарративной связи с происходящим сейчас «шестым вымиранием»[61] не прослеживается[62].
Из других российских проектов, связанных с вымиранием, интересным событием стала находка на Командорских островах полного скелета морской коровы – вида, полностью съеденного российскими промышленниками еще в XVIII веке. Это вымирание стало первым исторически документированным примером истребления целого вида[63]. Скелет был размещен в здании вертолетного аэропорта на Камчатке, через который проходит поток туристов, что само по себе является отличным примером публичного эколого-исторического проекта. Он снабжен достаточно подробной экспликацией, которая, однако, транслирует внутренне противоречивое послание: с одной стороны, «ученые считают исчезновение этого вида большой трагедией в истории биологии», но с другой – «ценой своей жизни морская корова способствовала освоению Русской Америки российскими мореходами». Таким образом, трагедия оказалась вынесена полностью в естественно-научный контекст. Потеря вида рассматривается как потеря не для человечества и его культуры в целом, а только для узкого круга ученых. C точки же зрения большого нарратива российской истории морская корова – герой, который пожертвовал своей жизнью ради расширения территории отечества, пусть и недолговечного.
Особой формой музея, в котором совместно, хотя и с разной степенью равноправия и взаимодействия, может быть представлена и природа/окружающая среда, и история, является музей-заповедник[64]. Из новых успешных проектов, отражающих взаимодействие ландшафтов и истории, стоит упомянуть музей-заповедник «Царицыно», представляющий собой дворцово-парковый ансамбль с прудами и пейзажным парком. В 1998 году он вошел в состав особо охраняемой природной территории и был существенно перестроен. Но все же ландшафты здесь, хотя и обладают своей собственной ролью и притягательностью, в первую очередь создают пространство для «игры с историей» культуры и быта[65]. Интересным природно-культурным объектом являются фонтаны – сложные технологические системы, создающие эстетический эффект прирученной воды, по воле человека взмывающей в небо[66]. История обращения с водой интересно представлена в музее фонтанного дела в Петергофском музее-заповеднике[67]. При рассмотрении чертежей и артефактов видна уязвимость этой системы, зависящей от природных источников воды и их охраны.
По данным нашего исследования, проведенного в архивах Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, в 1970–1980‐х годах именно природное наследие было наиболее популярной темой как экскурсий, так и выставок. Эта тема была наиболее нейтральной с идеологической точки зрения: о Соловецком лагере рассказывать было еще нельзя, а церковное наследие нужно было представлять исключительно как архитектурное. Новые проекты развития Соловков уделяют мало внимания репрезентации истории отношения людей и природы: посвященный этому раздел музея с 2008 года закрыт. На примере Соловков очень четко можно провести разделение природы, которая воспринимается в своем метафизическом и научном измерениях, и окружающей среды, созданной тяжелым трудом людей разных эпох[68].
Удачные примеры демонстрации истории отношения людей и окружающей среды предлагают национальные парки. Так, территория Кенозерского парка оценивается как эталонная система исторической среды обитания человека, сохраняющая многовековую историю и культуру Русского Севера[69]. При сравнении с Соловками видно, насколько в Кенозерье доминирует нарратив гармонии людей и природы, которая превращена в среду, окружающую культурно-обусловленную доиндустриальную человеческую деятельность, в то время как для Соловков очень важен нарратив страдания и труда, с помощью которого происходит «пересиливание материального». Соловки позиционируются как «место преображения», а не гармонии: островная природа предоставляла очень ограниченные ресурсы для выживания – и в чрезвычайно трудоемком процессе ее трансформации в окружающую среду происходило также преображение человека.
Национальный парк «Берингия», открытый в 2013 году после двух десятилетий обсуждений (и в существенно измененной концепции относительно первых международных проектов), также объединяет в единое целое уникальное природное и историческое наследие[70]. Его особенность – активная работа с местными жителями, главным образом представителями коренных малочисленных народов, история взаимоотношений которых с окружающей средой нуждается в продолжении изучения и представления в публичном пространстве. Это особенно важно в связи с резкими изменениями в образе жизни и культуре, связанными с глобальными изменениями климата[71].
Удивительное проникновение экологической истории в политическую и публичную мы наблюдаем в выставочном проекте «Засушенному верить», созданному сотрудником Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева[72]. История насильственных перемещений узников ГУЛАГа рассказывается языком ботаники. Это, с одной стороны, иллюстрация основ экологической истории – понимания, что перемещения людей в истории всегда сопровождаются перемещением связанных с ними животных и растений, не только домашних, но и диких[73]. Только в случае этого проекта концепция разматывается с противоположного конца, не от людей, а от биологических объектов – приуральских трав, которые выросли за многие сотни километров от их естественного ареала, возле разрушенных бараков материковых командировок Соловецкого лагеря в северной Карелии, были собраны учеными и засушены. Автор проекта Надежда Пантюлина говорит о том, что знала об этом гербарии с детства[74]. Листы гербария позволили дополнить историю узников отсылкой к местам, откуда были доставлены люди. Память об этих людях и о лагерях в целом старательно стиралась, но проросла травами и цветами. Более того, внимание к окружающей среде дало возможность расшифровать связи не только в пространстве, но и во времени: с помощью аэрофотоснимков и дендрохронологического анализа стволов деревьев оказалось возможным восстановить временную последовательность событий, описанных в документах[75]. Одной из задач проекта стало открытие для гуманитариев возможности естественно-научных исследований исторических событий, а для биологов – возможности вывода их объектов в новое семантическое поле человеческой истории. И это делает проект максимально приближенным к концепции антропоцена, с его переплетенностью природы и культуры.
Представленные выше проекты так или иначе используют разные типы нарративов. Наиболее убедительно для целей публичной экологической истории, на мой взгляд, выглядят глобальные и локальные нарративы, находящиеся в классической ориентации Нового времени, заданной этими двумя полюсами; наименее убедительно – национальные, что в целом характерно для экологической истории, которая по своей сути транснациональна и с трудом может быть втиснута в границы отдельных государств. Задачей ближайшего будущего для публичной экологической истории, как и для экологической политики в целом, по всей видимости, станет выбор новых масштабов как для приложения действий, так и для репрезентаций, потому что, как объясняет нам Бруно Латур, «само представление о земле радикально меняется»[76].
Литература
– Place and Nature: Essays in Russian Environmental History / Ed. by D. Moon, N.B. Breyfogle, A. Bekasova. Old Vicarage, Winwick, Cambr.: White Horse Press, 2021.
– Sörlin S., Warde P. Making the Environment Historical – An Introduction // Nature’s End: History and the Environment / Ed. by S. Sorlin, P. Warde. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. P. 1–19.
– Stine J. Public history and the environment // The Oxford Handbook of Public History / Ed. by P. Hamilton, J.B. Gardner. Oxford: Oxford University Press, 2017.
– Латур Б. Где приземлиться? Опыт политической ориентации. СПб.: Издательство ЕУСПб, 2019.
– Харауэй Д., Цзин А. Размышления о плантациоцене // [spectate.ru/plantationocene].
– Чакрабарти Д. Об антропоцене. М.: V-A-C Press. Artguide Edition, 2020.
– Человек и природа: экологическая история: Сборник переводов / Под ред. Д.А. Александрова, Ф.-Й. Брюггемайера, Ю.А. Лайус. СПб.: Алетейя, 2008.
Алексей Браточкин
Городское пространство
В 2017 году онлайн-проект «Yolocaust» израильского художника и писателя Шахака Шапиры стал громким медийным поводом для обсуждения того, как функционируют мемориальные объекты в городской среде. Автор проекта собрал селфи, сделанные на территории Мемориала памяти убитых евреев Европы в Берлине, и заменил изображения мемориала, на фоне которого сделаны снимки, изображениями из нацистских лагерей смерти. Селфи были собраны из социальных сетей – Facebook, Twitter, Tinder, Grindr и других. Название Yolocaust скомбинировано из слова Holocaust и популярного хештега #yolo (You only live once)[77]. Смысл проекта конструировался из сопоставления чудовищных результатов нацистской антисемитской политики и легкомысленных фото, где авторы на фоне мемориала занимаются йогой, загорают, прыгают, едят.
Обсуждение проекта касалось разных тем: влияния селфи-культуры на стратегии поведения и ценности, этических аспектов восприятия травматических событий в городском пространстве и кодекса поведения в местах памяти, морализирования по поводу забвения истории и т. д. Автор Мемориала памяти убитых евреев Европы, архитектор Питер Айзенман, предложил посмотреть на ситуацию иначе, указав на разницу между нацистскими лагерями смерти – местами непосредственных убийств – и мемориалом, под которым нет человеческих останков. С точки зрения Айзенмана, идея мемориала в городской среде заключается в том, чтобы позволить людям разных поколений решать, что им делать в этом месте: «Мемориал – это обычное явление, это не сакральное пространство»[78].
Дискуссии вокруг «Yolocaust» показывают столкновение между замыслом и проектной идеей увековечивания памяти, с одной стороны, и реальностью функционирования и восприятия этого посыла в городе – с другой. Кроме того, эти дискуссии очерчивают проблематику публичной истории в городском пространстве, где могут действовать исследователи и другие эксперты и где мы также сталкиваемся с повседневными стратегиями людей и сообществ и их реакцией (обусловленной разными факторами) на появляющиеся типы, формы и практики репрезентации прошлого. Речь идет о низовых инициативах и активизме, когда люди отстаивают свой взгляд на исторические события и их маркировку в пространстве города.
Один из методов публичной истории как междисциплинарного проекта – «чтение пространства»:
опрашивать можно не только людей, но и культурные ландшафты и города, которые понимаются как тексты, пригодные для дешифровки исторических нарративов. Семиотическое содержание определенной местности при этом выступает исходной точкой для активной рефлексии исторически развитых, взаимодополняющих, напластовывающихся или взаимопроникающих исторических пространств[79].
Публичная история дает возможность совмещать разные перспективы при разговоре о прошлом в городском пространстве: например, перспективу memory studies, в которой «город» предстает феноменом, возникающим из «групповых (коллективных) идентичностей, общих воспоминаний, культур сообществ и локальных историй»[80], и перспективу городской социологии и антропологии, когда мы изучаем то, каким образом у горожан появляется ощущение идентичности, принадлежности к городскому сообществу, а также рефлексия об истории города и истории в городе. Образ городского пространства как палимпсеста напоминает нам о следах истории, теряющихся и стираемых, видимых и спрятанных. Город, будучи сосредоточием публичных и квазипубличных пространств, также представляется местом оспаривания разных моделей идентичности и исторических нарративов, публичного представления голосов разных акторов и сообществ памяти.
Изучение бытования прошлого в современных городах предполагает анализ разных политических, социальных, экономических и культурных контекстов: от исследования функционирования мест памяти и индустрии наследия в коммодифицированном пространстве постиндустриального города до фиксации противоречий, конфликтов и манифестов конкурирующих сообществ памяти и политических акторов в постсоциалистическом городском пространстве, которое часто контролируется авторитарной властью и насыщено монументальными следами прежних идеологий и режимов.
Одна из заметных тенденций последнего времени – выход за рамки привычных форм коммеморации и репрезентации истории и памяти в городском пространстве. Ранее основными такими формами были классические музеи и монументальные памятники, становившиеся частью культурной памяти тех или иных сообществ. Сегодня, под влиянием разных факторов, в том числе партиципаторной культуры, появляются новые формы коммеморации и репрезентации истории в городе. Речь идет о контрмонументах (counter-monuments), применении цифровых технологий, арт-интервенциях и выходе истории «на улицы», за рамки таких институций, как музеи, об изменении роли архитектурных форм, «замещающих» прежние монументальные памятники.
Что такое партиципаторная культура в контексте разговора о публичной истории в городском пространстве? В 2000-е годы идея партиципаторной культуры (или культуры участия, как она называлась изначально) получила широкое распространение благодаря работам теоретика медиа Генри Дженкинса и других исследователей. Дженкинс и его соавторы рассматривали партиципаторную культуру как «культуру с относительно низкими барьерами для художественного самовыражения или гражданского вовлечения (активности)…»[81]. Идея партиципаторной культуры получила широкое распространение в контексте дигитализации и попыток концептуализации изменений, произошедших в ряде обществ. Ее стали использовать для описания разных социальных феноменов, от критики традиционных практик потребления до анализа социальных сетей и медиа.
В разговоре о публичной истории в городском пространстве идея партиципаторной культуры работает в качестве рамки для описания практик участия индивидов и групп в создании исторических нарративов, коммеморации, потреблении истории и т. д. В отличие от спонсируемых государством форм коммеморации и репрезентации, речь идет прежде всего о низовом процессе. В нем тем не менее есть свои ограничения и проблемы: некоторые исследователи опасаются фрагментации исторических нарративов (из-за лоббирования политик идентичностей разных групп), их поляризации в рамках публичной культуры памяти, а также приватизации того, что должно оставаться общим. Тем не менее партиципаторная культура становится важнейшим инструментом идентификации себя в качестве гражданина, соединения индивидуального и коллективного во всех конструкциях, связанных с историей и памятью[82]. Идея партиципаторной культуры перекликается также с крупными проектами так называемого civic engagement (вовлечения граждан) в области публичной истории, ориентированными на репрезентацию культурного и иного разнообразия[83].
Каким именно образом меняются сегодня формы коммеморации и репрезентации истории в городском пространстве? Как обозначалось выше, привычные репрезентации прошлого в виде монументальных памятников уступают место, начиная с 1990-х годов, контрмонументам и арт-интервенциям в публичное пространство. Автор концепции контрмонумента Джеймс Янг описывал немецкие «проблемы», связанные с мемориализацией событий Холокоста: новые памятники должны были демонстрировать не славу нации, а ее «варварство», в результате чего возник вопрос о том, как быть с прежними традициями монументальной мемориализации[84]. Кризис мемориальной традиции привел к появлению новых форм паблик-арта и контрмонументов (памятников, фактически опровергающих самих себя), провоцирующих дискуссии и вовлеченное участие зрителей[85]. С прежним фокусом на «красоту» памятников также было покончено (как можно эстетизировать преступления?)[86].
Трансформации стали подвергаться и такие формы погружения в городскую историю, как обычные или экскурсионные прогулки по городу и его достопримечательностям. Мобильные приложения сделали выбор тематики маршрутов гораздо более обширным. Сама философия «прогулок» сегодня концептуализируется и проговаривается в виде классификаций, связанных с появлением контрмонументов и их дизайном, непохожим на классические мемориалы: 1) «прогулка-путешествие» к медитативному пространству памяти (в виде подъема или снисхождения); 2) «прогулка как трансформирующая встреча», сопровождающая столкновения с памятью и ландшафтом контрастными ощущениями; и 3) прогулка как повседневная практика, когда знаки памяти и истории рассредоточены на обычных маршрутах и вписываются в них[87].
Паблик-арт и граффити давно стали частью городского ландшафта, но лишь недавно начался их анализ как форм публичной истории. Визуальная культура превращается в один из центральных способов репрезентации и анализа истории в городском пространстве[88]. Выставки (вне музеев и галерей), арт-инсталляции, городские маршруты и игры, перформансы стали обычными практиками публичной истории в городе. Изменился также дизайн исследовательских проектов, связанных с публичной историей, антропологией и этнографией города: они стали более ориентированными на партиципацию и фиксацию не только свидетельств, но и реакции зрителей и посетителей на эти проекты. Трансформация роли архитектурных форм отражается, в частности, в постройке зданий для «музеев памяти», ориентированных на рассказ о травматических событиях прошлого; архитектурные формы при этом играют самостоятельную роль в воздействии на зрителя[89].
Во второй части главы представлен обзор отдельных монографий, а также отсылки к идеям и направлениям, показывающим связь публичной истории с городским пространством в качестве междисциплинарного проекта (имеющего отношение к городской антропологии, социологии и т. д.). Третья часть главы посвящена анализу некоторых практик публичной истории в городском пространстве.
Теория
Выстраивание связей между концепцией публичной истории, самим понятием «история» и репрезентациями прошлого в городском пространстве предполагает прежде всего обращение к основам исследовательских оптик, в рамках которых проблематизируются понятия «город» и «городское пространство». Также здесь появляются темы «наследия» (heritage studies), возникает тематика «публичных пространств» и «публичной сферы», играют роль исследования «городской идентичности».
Начиная с 2011 года, после появления программного документа ЮНЕСКО «Рекомендации о городских исторических ландшафтах», термином «исторический городской ландшафт» (historic urban landscape) в рамках heritage studies принято обозначать попытку выстроить парадигму сохранения городского наследия в условиях меняющегося мира и давления на городской ландшафт и городское историческое наследие нескольких факторов, таких как изменение климата, продолжающаяся урбанизация, рыночная эксплуатация и массовый туризм[90]. Судьба «исторических городов» стала рассматриваться в перспективе связи истории и современности в конкретном социально-политическом контексте с целью сохранения наследия для будущего. Новый комплексный подход стал альтернативой политике сохранения отдельных исторических районов в городах. «Подход, ориентированный на исторические городские ландшафты, не ограничивается сохранением физической среды, а сосредоточен на всей совокупности окружающей человека среды во всех ее материальных и нематериальных проявлениях»[91]. Этот подход применяется сегодня в разных регионах мира[92].
Исследования городской идентичности важны в двух измерениях. На макроуровне они демонстрируют механизмы влияния глобализации на облик городов и репрезентации их прошлого; на микроуровне эти исследования объясняют то, как конструируется идентичность горожан и какое место в этом процессе играют история и память. Принято также разделять идентичность города и идентичности горожан, что обусловлено как процессами миграции и мобильности городского населения, так и часто отсутствием связи этого населения с формальной «традицией» и городской историей (за право определять которые также идет дискурсивная борьба)[93].
Исследования публичности и публичной сферы как интердисциплинарный проект важны для понимания связи публичной истории и городского пространства. Предлагаемая антропологом Марком Оже концептуализация «не-мест» – специфических пространств без идентичности и экзистенциального наполнения[94] – перекликается в нашем контексте с тематикой квазипубличных пространств постсоциалистических городов, ранее выполнявших функции репрезентации власти и идеологии и содержащих в себе спорные знаки прежней истории. Речь идет, в частности, о площадях, которые сегодня невозможно перестроить или трансформировать и которые выглядят «непригодными» для социальной жизни, как Октябрьская площадь в Минске. Также разговор о публичности предполагает исследование вовлечения граждан в то, что происходит в пространстве города, в том числе включение их в дискуссии об истории и памяти.
В изданной в 2011 году монографии Елены Трубиной «Город в теории: Опыты осмысления пространства» предлагается ретроспективный обзор существующих социологических (и не только) школ и теорий городских исследований[95]. Для тех, кто интересуется проблематикой публичной истории в городском пространстве, важными будут главы, в которых город и городское пространство описываются с точки зрения исследований городской повседневности, анализа городской политики, власти и социального разнообразия городских общин. Городская повседневность в монографии описывается через метафорику пространства – «повседневность как пространство спонтанности и сопротивления», с отсылками к работам Анри Лефевра и Мишеля де Серто. Антрополог, историк и философ Мишель де Серто (1925–1986) предлагает исследовать практики освоения городского пространства, производства его смыслов обычными людьми в ходе «прогулок» и борьбы, возникающей вокруг этих смыслов. Авторство социолога и философа Анри Лефевра (1901–1991) закреплено за «правом на город» – одной из ключевых концепций, к которым обращаются сегодня в дебатах при обсуждении происходящего в городском пространстве, в том числе с памятью, идентичностью, историей.
«Право на город» показывает нам городское пространство не только как пространство, присвоенное властью или государством, но и как то, на что имеют право обычные горожане. Проблематика agency (возможности горожан к социальному действию и постановке собственных целей) и «права на город» является также важной в дебатах о публичной истории: каким образом мы можем сделать слышимыми «голоса» разных групп? Как дискутировать о разных исторических нарративах и версиях памяти в пространстве города? Кто «имеет право» на репрезентацию?
Влияние «пространственного поворота» (spatial turn) и «новой культурной географии» на городские исследования дает такую оптику взгляда на городское пространство, в которой оно предстает конструктом, своеобразным социальным продуктом практики и воображения различных групп и сил. Разговор о прошлом в городе предполагает также проблематизацию понятия «аутентичность» и дискуссию о попытках лоббирования разных исторических нарративов[96].
Отдельные монографии предлагают яркий набор кейсов и анализ практик публичной истории в городском пространстве. Так, в книге «The Power of Place: Urban Landscapes as Public History» Долорес Хейден переосмысливает понятия гендера, расы и этничности через практический опыт публичной истории в Лос-Анджелесе и историю инициативы «Сила места» – некоммерческой организации, благодаря деятельности которой к истории города (через пешеходные экскурсии, арт-интервенции и скульптуру, литературу) приобщались горожане с разным этническим происхождением[97]. Ее монография является также прекрасным примером анализа функционирования публичной истории на микроуровне городской жизни.
Андреас Хюссен в книге «Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory» с меланхоличной интонацией анализирует отношения между публичной памятью и историей, забыванием и селективной памятью в трех городах, переживших разного рода социальные и культурные травмы, – Берлине (с его историей возведения и падения Берлинской стены), Нью-Йорке (с терактами 11 сентября 2001 года) и Буэнос-Айресе (бывшей столице военной диктатуры в Аргентине). Описывая происходящую с 1980-х годов интенсификацию дискурсов о памяти в контексте глобализации и появления новых медиа, Хюссен показывает (в том числе и на примерах разных городских пространств) напряжение, существующее между травматической памятью и тенденциями ее коммодификации. Он проблематизирует роль, которую теперь играют в городском пространстве памятники, музеи и другие формы коммеморации: действительно ли они побуждают нас думать о том, что было в истории «не так»?[98]
В коллективной монографии «Urban Memory History and Amnesia in the Modern City» представлен междисциплинарный взгляд на память и историю в городском пространстве – память, которая присутствует (или отсутствует) в современном постиндустриальном городском пространстве, репрезентируется при помощи современного искусства, литературы, памятников, зданий и культурных событий. Один из обсуждаемых в книге кейсов – современная ситуация с памятниками в городском пространстве (еще до появления движения «Black Lives Matter»). Памятники, с одной стороны, являются «основными маркерами памяти» в городе, а с другой – иллюстрируют кризис памяти: «Пространство все больше коммерциализируется и приватизируется, чувство демократического участия становится проблематичным, отсутствует консенсус по поводу эстетики памятников, появляется чувство стыда за колониальное прошлое, и военные походы, и другие события прошлого»[99].
Авторы «The Routledge Handbook of Memory and Place» предлагают ознакомиться с новейшими исследованиями взаимосвязей между памятью, пространством («местом») и идентичностью. «В памяти время превращается в место», и все это происходит в сложном политическом и ином локальном и глобальном контекстах. Один из центральных концептов книги – концепт перемещения (displacement), при помощи которого описываются процессы и результаты утраты «места» по политическим или социоэкономическим причинам. Феномен беженства, политические преследования, насильственные депортации являются иллюстрациями «перемещения», утраты физического места, при которой потеря замещается воображением, постоянным эмоциональным присутствием утраченного и/или ностальгической реакцией в качестве защитного механизма. Отдельная история – исчезновение ряда социальных групп (например, индустриальных рабочих), которая также приводит к переформатированию памяти о местах, где раньше обитал ныне «невидимый рабочий класс». Одно из понятий, также часто используемых в книге, – «ландшафт памяти» (memoryscape); оно рассматривается в качестве эпистемологического приема для демонстрации взаимозависимостей «места» и «воспоминания», мифических нарративов и материальности пространства. Этот термин обозначает необходимость рассматривать память и пространство в качестве специфического ассамбляжа, создающего новые значения и смыслы[100].
Отдельная область исследований касается постсоциалистических городов и практик коммеморации в них. Особая специфика постсоциалистического города, с его наследием гомогенного советского планирования и доминированием в публичном пространстве репрезентаций власти и идеологии, заключается в анализе трансформаций, которые переживаются после распада СССР. Национальные идеологии, маркетизация, деколониальные и постколониальные практики и другие факторы создают особую среду для разговоров о памяти и истории, причем не только в городах бывшего СССР, но и в странах и городах бывшего «социалистического лагеря»[101]. Отдельная тема – топонимика в постсоциалистических городах, вызывающая огромное количество споров о смыслах происходящих (или, наоборот, не происходящих) переименований[102].
Практики
СНОС ПАМЯТНИКОВ И «BLACK LIVES MATTER»: ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ?
Реагируя на снос в английском Бристоле активистами движения «Black Lives Matter» в июне 2020 года статуи Эдварда Колстона (филантропа и члена британского парламента в конце XVII – начале XVIII века, чья причастность к работорговле была предметом активных дебатов в городе с 1990-х годов), известный стрит-артист Бэнкси предложил свое видение памятника. Проект Бэнкси представляет собой старый постамент, с которого группа активистов, отлитых в бронзе, канатами снимает статую Колстона. По мнению художника, это должно привести к ситуации, когда «[в]се довольны»[103]. Акция Бэнкси предлагает своеобразный общественный компромисс: если невозможно отказаться от старых монументов полностью, то нужно их хотя бы реконтекстуализировать. Этого добиваются и многие сторонники «Black Lives Matter».
Возникшее в США в 2013 году движение «Black Lives Matter», направленное против расизма и полицейского насилия по отношению к афроамериканцам (пиком движения на данный момент стали глобальные протесты 2020 года после убийства полицейским в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда), усилило обсуждение темы, появившейся еще до начала движения, – темы критического переосмысления колониального прошлого и наследия расизма, выраженных в памятниках и городской топонимике. Движение «Black Lives Matter» дало новые основания для такой рефлексии, стимулировало к действиям низовые активистские группы и привело к широкому обсуждению этой темы в медиа не только в США, но и в других странах (со своей историей расизма и дискриминации).
Общественные дискуссии о памятниках и их колониальных коннотациях имели место и до начала движения «Black Lives Matter». В США речь шла о памятниках героям Конфедерации – союза рабовладельческих штатов, проигравших Гражданскую войну 1860-х годов. Эти памятники вызывали споры на фоне очевидной связи с основаниями структурного расизма. Это же касается и поставленных в Великобритании памятников тем, кто участвовал в колониальной экспансии и организации работорговли. В 2015 году в ЮАР была демонтирована, в результате протестов и появления инициативы «Rhodes Must Fall», статуя Сесиля Родса в университете Кейптауна. Родс, британский империалист, бизнесмен и политик, основатель компании «Де Бирс», был одним из известнейших деятелей колониальной эры XIX века. Статуя была демонтирована с целью «деколонизации образования» в ЮАР. Остальные его статуи и мемориалы подвергались в ЮАР вандализму[104].
Движение «Black Lives Matter» привело к переосмыслению городского ландшафта обычными гражданами и исследователями через призму «расы, права и власти» и в рамках подхода, основанного на идее прав человека. Культурное наследие рассматривается в данном случае как то, что связано с правами человека на свободу вероисповедания, мышления, самовыражения и изучения собственной истории и истории других. В рамках этого подхода возникает и право на дискуссию о спорных объектах, которые для части общества больше не отражают современные ценности[105].
Радикализация споров о памятниках колониальной эпохи и наследии расизма привела также к обсуждению в публичном пространстве ряда аргументов. Одним из них является идея о том, что, уничтожая памятники, мы стираем собственную историю. Однако памятники как таковые не являются историей, это материальное и символическое воплощение «политических конструкций определенных нарративов из прошлого, выражение правящей власти, решившей обозначить [эти нарративы] в том или ином месте»[106]. Эта коммеморация «великих белых мужчин» сегодня воспринимается критически: ставятся вопросы об основаниях идентичностей обществ, которые необходимо обсуждать, «деколонизируя общественные пространства»[107].
«ЛЕНИНОПАД»: КОНКУРИРУЮЩИЕ ПАМЯТИ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке в Москве стал в августе 1991 года одним из символов приближающегося финала СССР и одним из результатов «перестроечной» полемики о государственном насилии в период сталинизма в СССР. Однако сегодня обсуждаются не только восстановление памятника Дзержинскому, но и проблемы установки памятников Сталину и судьбы памятников Ленину. Дискуссии о прошлом и их политическое регулирование продолжаются.
Эти дискуссии в России идут спустя несколько лет после ставшего уже историей в Украине «ленинопада» (так принято обозначать процесс массового демонтажа зимой 2013/14 года памятников Ленину на территории Украины). «Ленинопад» также был подкреплен принятым в 2015 году украинской властью пакетом законов о «декоммунизации». В начале 2021 года в медиа появились сообщения о сносе «последнего памятника Ленину» в Украине, хотя реестра памятников нет, – и пока это невозможно утверждать[108].
Украинский «ленинопад» имеет свой политический контекст – травмирующий контекст событий в Украине 2013–2014 годов. Снос памятников Ленину часто зависел от двух факторов: от действий групп активистов и их настойчивости, а также от позиции, занимаемой жителями того или иного города. При этом позиции жителей были обусловлены тем, как они воспринимали самих себя и историю собственного города. Позиция «против» часто была связана с ностальгической памятью о возможностях, которые предлагала советская «модернизация». По мнению этой части горожан, памятники символизировали не колониальные коннотации, насилие и имперскость, а историю успешного развития того или иного города[109]. В ходе «ленинопада» часто предпринимались попытки инициировать диалог о судьбе памятников, а также происходили культурная и политическая апроприация и «национализация» ряда объектов (например, переодевания памятников Ленину в вышиванки)[110].
В России и Беларуси существование памятников Ленину после распада СССР имело другую динамику. В Беларуси, где когда-то появилась одна из первых в СССР статуй Ленина, эти памятники сохраняются (что обусловлено желанием авторитарного режима контролировать публичные пространства и интерпретации истории), но постепенно изнашиваются: их часто демонтируют не по политическим причинам, а по соображениям безопасности. В период протестов в августе 2020 года демонстранты в Минске несколько дней собирались на бывшей площади Ленина (сейчас площадь Независимости), впервые с 1991 года обклеивая памятник Ленину плакатами против государственного насилия и фальсификации выборов и протестными лозунгами. Что касается России, то, как считают Борис Колоницкий и Мария Мацкевич, в российском обществе нет единства в оценке лидера революции, однако существует консенсус другого рода: большинство, по результатам соцопросов, выступает против демонтажа памятников, а память о Ленине превратилась в так называемую холодную память, следующим этапом которой может быть не разрушение, а эмоциональное отстранение и постепенное забвение[111]. Гораздо больше дискуссий в России вызывают попытки (в том числе реализованные) поставить в наши дни памятник Сталину.
Какие символы новых идентичностей сегодня заполняют городское пространство и как разные акторы пытаются обнаружить новые смыслы мемориальных объектов в городской среде? В 2016–2017 годах в Киеве, на Бессарабской площади, после сноса памятника Ленину прошел ряд арт-интервенций, инициированных фондом «Изоляция» в рамках проекта «Общественный договор», предполагающего организацию диалога между обществом, горожанами, властью и художниками для обсуждения статуса функционирования памятных объектов в городской среде. В частности, в 2016 году мексиканская художница Синтия Гутьеррес создала недельную инсталляцию «Населяя тени» – была построена лестница, ведущая на постамент, с которого убрали статую Ленина. Воспользоваться лестницей мог любой человек, пожелавший постоять на месте Ленина, «в тенях прошлого», чтобы «побыть новой статуей» и увидеть «новые горизонты». Целью проекта были размышления над «идентичностью, навязанной памятью и крахом политических систем»[112]. В 2017 году прошел еще один конкурс проектов, связанных с инициативой фонда «Изоляция». На выбор горожан и жюри были предложены четыре проекта: 1) «Пьедестал» (группа Afterall, Италия) – деревянная конструкция, напоминающая клетку и повторяющая форму пьедестала памятника, положенная горизонтально и подчеркивающая беспомощность пьедестала; 2) «Мне нужен герой» (Милена Вучкович, Сербия) – на пустом постаменте устанавливается мощный прожектор, становящийся особенно заметным ночью. Прожектор вращается, происходит постоянный поиск нового героя, что подчеркивает отсутствие простых решений; 3) «Ритуалы природы» (Иса Каррильо, Мексика) – пьедестал покрывается горшками с розмарином, и эта розмариновая колонна играет терапевтическую функцию, создавая вокруг пространство для сидящих горожан, с которыми проводится особая практика медитации, сфокусированная на дыхании; 4) «Героев не существует» (Микита Шалений, Украина) – вокруг постамента предлагается установить книжные полки и доски, на которых граждане пишут мелом то, что хотят забыть, а углем то, что хотят помнить. Доски собираются на полках как своего рода городской архив мнений и желаний жителей[113].
В том же 2017 году в Москве появился проект, в рамках которого студенты Высшей школы экономики пытались переосмыслить судьбу советских памятников (и роль мемориальных объектов в целом) на примере памятника Дзержинскому, установленного в 1937 году на территории, где сейчас находится учебное заведение. Темы «отбеливания истории», «диалога о прошлом», реконструкции общественных пространств и их «десакрализации» (например, путем снятия памятника с постамента) стали центральными для проектов переосмысления прошлого в рамках воркшопа[114].
Арт-интервенции обозначают круг вопросов, который сегодня возникает вокруг мемориальных объектов в городском пространстве: должны ли эти объекты быть только репрезентацией власти и политики – или их смыслы стоит сместить в сторону создания пространств и возможностей для рефлексии обычного человека по поводу важных для сообщества тем, без навязывания каких-либо доминантных идей? Также ставится вопрос о том, можем ли мы сегодня жить в «постгероическом обществе», не создавая канон мемориальных фигур в духе ХIХ и первой половины ХХ века.
Процесс избавления от символических следов советского прошлого создал ситуацию внезапного появления «пустот» на месте снесенных советских «означающих». Фактически сегодня, спустя 30 лет после распада СССР, возникает новая дискуссия о советском символическом (и не только) наследии в городском пространстве. Эта дискуссия (которая началась с разной интенсивностью в разных частях бывшего СССР) идет на фоне появления специфического культурного и символического ландшафта в городах: там, где советские знаки стараются уничтожить, создаются контрастирующие с ними знаки процессов нациостроительства или же эти новые знаки соседствуют со старыми, создавая эклектику, которая еще нуждается в синхронизации и анализе. Новые символы нациостроительства присутствуют в городской топонимике и репрезентируются через создание монументальных памятников и сооружений. В Беларуси это проявляется в создании памятников правителям периода существования Великого княжества Литовского, в Украине – в появлении памятников тем, кто участвовал в боевых действиях после 2013 года, в России – в попытках «ресталинизации» в городском пространстве (в Новосибирске и других городах), а также в установлении новых монументальных памятников, символизирующих силу старых исторических нарративов (монументальный 25-метровый памятник советскому солдату «Ржевский мемориал»).
Одновременно – как следствие своеобразного процесса децентрализации памяти – возникает множество проектов, связанных с идентичностью отдельных городов и регионов. И здесь спектр новых мемориальных объектов представляет собой памятники и знаки, отсылающие к частной жизни (многочисленные новые городские скульптуры), или же знаки, целью которых становится политическое маркирование пространства, репрезентация событий постсоветской истории и попытки утвердить легитимность нового политического устройства с опорой на прежние нарративы (трансформация памятника Ахмату Кадырову в Грозном в мемориальный комплекс, связанный с победой в Великой Отечественной войне). Еще одно направление активности – смена городской топонимики или попытки обозначения всех перемен, которые с ней случились (в 2015–2016 годах в Минске, в районе Старого города, вывешивались таблички с историческими названиями улиц, чья топонимика менялась на протяжении долгого времени).
ТОПОГРАФИЯ ТРАВМЫ: ОТ БАВАРСКОГО КВАРТАЛА К «ПРОСТРАНСТВУ СИНАГОГ» И «BREST STORIES GUIDE»
Травматические события часто не поддаются репрезентации и поэтому требуют новых способов представления в городском пространстве[115]. Травму также стоит рассматривать не как единичное событие, а как процесс, в ходе которого случившееся признается всеми в качестве травмы и становится частью идентичности и памяти сообществ[116]. Следовательно, память о травме, рассказы о ней и попытки ее репрезентации зависят от социального, политического, культурного и иного контекстов прошлого и настоящего. Репрезентация травматических событий в городском пространстве вызывает множество дискуссий об этике памяти, «подрыве» позитивного образа идентичности сообщества и ретравматизации. Одним из примеров таких масштабных дискуссий являются дебаты, связанные с мемориализацией событий Холокоста.
Погружение в немецкую культуру памяти в городском пространстве для многих связано с посещением Берлина и комплекса мемориалов, связанных с памятью о Холокосте и Второй мировой войне: Мемориала памяти убитых евреев Европы (открыт в 2005 году), Мемориала жертвам национал-социализма народов синти и рома (открыт в 2012-м), Мемориала гомосексуалам – жертвам национал-социализма (открыт в 2008-м) и других. Интересен пример Баварского квартала, отличающегося от перечисленных мемориалов тем, как место памяти о преследовании евреев при национал-социализме интегрировано в городскую повседневность. Баварский квартал в берлинском районе Шёнеберг до прихода к власти нацистов был центром еврейской интеллектуальной жизни (связан с именами Ханны Арендт, Вальтера Беньямина, Альберта Эйнштейна и других). До войны в Шёнеберге проживало около 16 000 евреев (в основном представителей среднего класса), часть из которых жила именно в Баварском квартале. Большинство из них стали жертвами нацистской политики, а сам квартал в начале 1940-х был объявлен «свободным от евреев».
Проект мемориализации этих событий появился в конце 1980-х в результате инициатив местных жителей по изучению локальной истории. В ходе проводившегося в 1993 году конкурса победил проект работающих с общественными пространствами художников Ренаты Стих и Фридера Шнока, который предполагал установку на трехметровых осветительных столбах 80 табличек с надписями, регистрирующими все антисемитские законы и ограничения, принятые с 1933 года и приведшие к массовому уничтожению евреев. На обратной стороне табличек изображены рисунки, показывающие повседневную жизнь еврейского населения, которая стала невозможной при национал-социализме. Постепенно проект дополнился информационными табло и стендами с общей историей квартала (до, во время и после войны) и личными историями его известных жителей, установленными на ближайшей станции метро Bayerischer Platz, а также мультимедиа-экспозицией, размещенной в пространстве обычного кафе, которое часто посещают туристы и жители квартала. В 2017–2018 годах прошла реставрация всех табличек, установленных в 1993 году[117].
Проект Баварского квартала, будучи примером интеграции травматической памяти в городскую повседневность, является также примером проблематизации самого понятия повседневности и ее связи с политическим, социальным и иным контекстом существовавшего с 1933 по 1945 год нацистского режима, примером соединения памяти о прошлом с аутентичным местом и его трансформациями.
Мемориализация Холокоста в странах бывшего СССР имеет свою специфику. Во-первых, события Холокоста на территории нынешних Беларуси, Украины и части России описываются при помощи метафор тотального уничтожения, «Холокоста от пуль» (когда массовые убийства осуществлялись прямо на территории, где проживало еврейское население и куда вывозилось депортированное еврейское население западной части Европы)[118]. Во-вторых, на память о Холокосте влияют и другие обстоятельства: глубоко укоренившаяся традиция политического забвения этой памяти в СССР и процесс размытия еврейской идентичности, уничтожение материальных следов культуры еврейских общин в ходе советизации и Холокоста, а также в послевоенное время. Кроме того, в конце 1980-х – начале 1990-х произошла значительная эмиграция евреев из стран бывшего СССР, что поставило под вопрос возрождение еврейской жизни и сохранение памяти. К этому можно добавить и проблему встраиваемости памяти о Холокосте в национальные проекты стран бывшего СССР.
Одним из интересных проектов мемориализации жертв Холокоста и наследия еврейской культуры в городском пространстве стал проект «Пространство синагог» во Львове[119]. Городская среда Львова имеет долгую историю, частью которой в ХХ веке, до начала Второй мировой войны, была еврейская община (примерно треть населения). Сам город «украинизировался» уже после Второй мировой войны: до этого он был довольно типичным «местом» (городом) в поликультурном пространстве Центральной и Восточной Европы, с проживающими здесь польской, армянской, еврейской, украинской и другими общинами. Еврейская община сталкивалась с антисемитизмом еще во времена межвоенной Польши (1918–1939) и не смогла пережить Холокост в период нацистской оккупации.
Миграции населения после войны и политика памяти в советскую эпоху стали основой для нарратива городской истории Львова, в котором доминировали советские украинцы. Остальные нарративы и истории были вытеснены или забыты[120]. Еврейское материальное и культурное наследие Львова исчезало и разрушалось. В 2008–2010 годах, усилиями внешних и внутренних акторов (представителей религиозных общин и исследователей из Израиля, Украины и других стран), в рамках дебатов о еврейском наследии в городах Центральной и Восточной Европы, появилась идея восстановить облик еврейского Львова. Она кристаллизовалась в проекте «Пространство синагог», целью которого стала реновация пространства в историческом еврейском квартале города, где ранее находились синагога «Золотая роза», Большая городская синагога и Дом учебы Бейт Гамидраш. Все эти здания (как и еврейские жители Львова) были уничтожены нацистами в 1941 году. Открытие «Пространства синагог», созданного по проекту берлинского архитектора Франца Решке, состоялось в 2016 году. Были расчищены и обозначены – там, где это было возможно, – фундаменты синагоги «Золотая роза» (ее остатки законсервировали) и Дома Бейт Гамидраш; появилась инсталляция «Увековечивание» – 39 каменных стел с фотографиями города и прежних жителей Львова, в том числе жителей-евреев, и цитатами их авторства.
Проект предусматривал поиск не только новых способов реставрации и консервации еврейского материального наследия, но и способов репрезентации «того, чего нет» (восстановления городского воображения, в котором присутствуют разные культурные традиции, и визуализации уничтоженного материального наследия). Также этот проект остается «работой в процессе», предполагающей фиксацию того, как новое мемориальное место встраивается в городскую среду и как меняется отношение горожан к этому пространству. «Пространство синагог» – прекрасный пример реализации идеи культуры партиципации: в его планировании и обсуждении принимали участие разные акторы, в том числе представители разных общин и городских инициатив Львова; проект сопровождался изучением мнения горожан и их отношений с новым пространством.
Новые формы памяти возникают в городском пространстве на стыке цифровых технологий и искусства (в частности, практик документального театра). Один из таких проектов начал реализовываться в 2015–2016 годах в белорусском городе Брест. Проект «Brest Stories Guide» представляет собой аудиоспектакль, рассказывающий о Холокосте в Бресте и жизни местной еврейской общины (составлявшей более половины населения города) до начала Второй мировой войны, включая историю довоенного антисемитизма[121]. Проект призван показать историю Бреста, которая оставалась нерассказанной на фоне нарратива о героической обороне Брестской крепости, ставшего центральным для советской истории Бреста, начиная с 1960-х годов. Кроме того, «Brest Stories Guide» предлагает погружение в несоветскую историю Бреста (бывшего частью Второй Речи Посполитой до 1939 года). Инициатором проекта стал брестский театр «Крылы халопа».
Проект включает несколько маршрутов по Бресту, разработанных и представленных в специально созданном мобильном приложении. Маршруты сопровождаются рассказами от имени разных групп (жертв, участников убийств и погромов, свидетелей). Стилистика документального театра, использовавшаяся при записи рассказов, ориентирована не на «эмоциональный аффект», а на медленное, детализированное погружение в прошлое. Маршруты проложены по местности, где уничтожены или перестроены практически все здания, которые могли бы стать материальным фоном для памяти о событиях Холокоста. В результате перед нами возникает своего рода дополненная реальность города, в котором произошла трагедия.
Данный обзор проектов публичной истории в городском пространстве призван показать, что происходит с объектами и практиками, ранее символизировавшими «историю» в городском пространстве: сегодня ставится под вопрос сама суть прежних практик коммеморации и мемориальных объектов. Однако история в городском пространстве предполагает и другие практики и способы репрезентации. Массовые шествия в исторические даты или более камерные ритуалы, граффити, муралы, монументальные памятники и памятные таблички на домах, городские скульптуры, названия кварталов, улиц и остановок транспорта, музеи, информационные стенды, экскурсионные маршруты, памятники архитектуры, мобильные туристические приложения с элементами дополненной реальности, сообщения в медиа с отсылками к локальной истории – все это создает ощущение прошлого в городской среде и повседневности. Но чтобы это все работало, было частью коммуникации и рефлексии горожан, необходимо выполнять несколько условий, в сторону которых разворачиваются сегодня академические исследования, экспертные проекты и активистские инициативы.
С одной стороны, речь идет о появлении низовых инициатив в области публичной истории, в рамках которых осознаются интересы локальных сообществ и частных лиц (например, волонтерские и активистские движения по защите материального и культурного наследия города, петиции об установке памятников или смене названий улиц). С другой стороны, рост числа таких инициатив, их выход за пределы локальных сообществ и влияние на социальную и политическую ситуацию возможны, только если культура партиципации – обращения к разным группам акторов в городском пространстве, признания их права на город в целом и артикуляцию своих историй в частности – также активно развивается. А это, в свою очередь, требует обсуждения и переформатирования ради инклюзии (символической и реальной для разных групп) статуса общественных пространств и пересмотра прежних практик и смыслов коммеморации на уровне всего сообщества.
Литература
– P.S. Ландшафты: оптики городских исследований: Сборник научных трудов / Под ред. Н. Милерюса, Б. Коупа. Вильнюс: ЕГУ, 2008.
– Царицыно: Аттракцион с историей / Под ред. Н. Самутиной, Б. Степанова. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
– Crinson M. Urban Memory: History and Amnesia in the Modern City. London: Routledge, 2005.
– Hayden D. The Power of Place: Urban Landscapes as Public History. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
– Huyssen A. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press, 2003.
– The Routledge Handbook of Memory and Place / Ed. by S. De Nardi, H. Orange, S. High, E. Koskinen-Koivisto. London: Routledge, 2019.
Борис Степанов, Алиса Максимова, Дарья Хлевнюк
Краеведение
Еще недавно краеведение многим представлялось старомодным досугом пенсионеров или пережитком старых практик культурной политики. Однако растущее число краеведческих проектов по всей России, «омолаживание» краеведов и появление краеведческих звезд (таких, как Рустам Рахматуллин в Москве или Михаил Тимофеев в Иванове) опровергают эти стереотипы. Краеведение оказывается формой работы с прошлым, которая помогает решать проблемы в настоящем: искать альтернативы «большой» национальной истории в исследовании истории локальной, вырабатывать язык для рассказа о трудном и ранее замалчиваемом прошлом, решать экономические проблемы региона через туризм или сохранять историческое и природное наследие. Краеведческие проекты все больше отходят от привычных академических и музейных форматов, осваивают новые пространства (например, коммерческие или художественные), становятся фактором социальных изменений.
Понятие «краеведение» обозначает совокупность различных форм активности представителей местного сообщества по изучению своего края и насыщению его культурными значениями. Современное состояние краеведения – лишь очередной виток в его сложной судьбе. Возникновение в XVIII–XIX веках локальных научных обществ как исторического, так и натуралистического профиля создало почву для подъема региональных интеллектуальных инициатив, который случился в 1910–1920-е годы и с которым было связано утверждение представлений о ценности локального знания и «крае» как едином объекте изучения. В конце 1920-х – начале 1930-х годов краеведение как массовое движение было разгромлено в ходе идеологической унификации советской культуры, а концепция краеведения была в редуцированном виде апроприирована советской системой культурного воспроизводства и оказалась встроена в образовательную и музейную практики. Процесс возрождения краеведения, ставший возможным в послесталинский период, вновь усилился в эпоху перестройки. Тогда идеи краеведения стали одним из важнейших импульсов протестной мобилизации и критики советской идеологии[122].
Сегодня краеведение включает как институционализированные структуры (сеть краеведческих музеев и библиотечных проектов, учебных программ в школах и университетах, ассоциаций разного уровня – от районных краеведческих обществ до Союза краеведов России, корпуса краеведческих изданий и т. д.), так и неформальные сообщества любителей истории и низовые проекты. Краеведение отчасти несет отпечаток советских организаций, способов и институтов производства знания и ориентировано на задачи патриотического воспитания. В то же время появляются проекты с иной повесткой, стоящие на критической позиции по отношению к «государственным» идеям патриотизма. Говоря о географическом распространении краеведения, следует понимать, что оно характерно не только для провинции, но и для столиц, где в большей степени связано с развитием градозащитного движения.
Как интеллектуальный проект краеведение определяет себя преимущественно по отношению к конкретному пространственному объекту – краю, который изучается разнообразными методами, причем не только естественно-научными и историческими, но иногда и откровенно псевдонаучными. Определение, которое дает краеведению Большая советская энциклопедия («Краеведение – всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, др. поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем»[123]), характерно в том смысле, что оно подчеркивает не только комплексный характер краеведческого знания, но и фактор локальной укорененности субъекта познания (как писал Сигурд Шмидт, «краеведение – это всегда краелюбие»[124]). Этим обусловлен проблематичный статус краеведческого знания, которое оказывается противопоставлено научному знанию сразу по нескольким осям: как любительское – профессиональному, как почвенное – отвлеченному, как периферийное – центральному, как частное – общему и т. д.[125] Одна часть интеллектуального сообщества воспринимает краеведение как область интеллектуальной периферии, где торжествует непрофессионализм и аккумулируются разного рода мифологические представления. Для другой оно носит позитивный ореол, сочетая ценности «почвенности», «эмпиричности» и вместе с тем комплексности знания. Существуют и попытки придать краеведению более современный академический облик путем переименования его в «регионалистику»[126].
Продуктивность взаимодействия краеведения и публичной истории обусловлена прежде всего тем, что институциональная база краеведения (объекты наследия, местные музеи, архивы, школы и т. д.) в значительной степени совпадает с той системой институтов, деятельность которой обеспечивает публичная история на Западе. Как уже отмечалось выше, эта сфера претерпевает значительные трансформации. Краеведение оказывается вовлечено в развитие туризма, культурного маркетинга и использование наследия как ресурс развития территорий. Локальное прошлое отчасти коммерциализируется: культурные предприниматели находят «бренды» и истории, которые могут быть интересны широким аудиториям. Другой важной тенденцией является развитие различных форм гражданской активности, в том числе инициативы по сохранению наследия и обсуждению трансформации городских пространств, увековечиванию памяти жертв и т. п. Наконец, еще одним фактором выступает новая культура частной памяти, подпитываемая интересом к семейной истории.
Переопределение взаимоотношений между академической наукой и публикой по поводу общего прошлого и исторического наследия делает особенно актуальным изучение традиций создания локального знания в разных обществах, осмысления существующих нарративов и практик. Насущной задачей представляется преодоление геттоизации краеведения, связанной как с замкнутостью официальной науки, так и с культивированием в рамках краеведения архаических моделей производства и представления знания (в частности, представлений о целостности региона или приоритете архаического прошлого). Опыт публичной истории, опирающийся на достижения различных дисциплин (от культурной географии и урбанистики до исследований памяти), мог бы сыграть важную роль в формировании новых перспектив краеведческой (само)рефлексии.
Можно указать на несколько направлений развития такого рода (само) рефлексии. Во-первых, выработка адекватной интерпретации краеведения как формы локального знания, осмысление традиции краеведения в контексте взаимодействия гуманитарных и естественных наук. Во-вторых, фокус на проблематике публичности пространства, множественности действующих в нем акторов, разнообразии смысловых акцентов и контекстов их деятельности, а также интерпретация краеведческих инициатив как культурной активности и важнейшей формы гражданского диалога. В-третьих, осмысление различных контекстов бытования и средств трансляции краеведческого знания – от научных публикаций до постов в интернет-сообществах, от краеведческих музеев до современных арт-проектов. В-четвертых, выявление внутренних противоречий феномена наследия и многообразия его форм, а также способов его освоения. Наконец, в-пятых, расширение диапазона возможностей тематизации местной истории и форм рефлексии актуальных для местного сообщества проблем.
ТЕОРИЯ
Разнообразие форм краеведения отражено и в корпусе литературы, связанной с краеведческой тематикой. Он включает локально-ориентированные исследования любителей и профессионалов, которые в большинстве случаев не выходят за пределы местного сообщества; работы педагогов, сотрудников музеев и библиотек, посвященные краеведческим аспектам деятельности соответствующих институций; исследования по истории соответствующих краеведческих сообществ; наконец, труды разного порядка, претендующие на характеристику краеведения как культурного феномена.
Первый блок текстов составляет собственно краеведческая литература. В отсутствие общероссийского периодического издания по краеведению, проект которого вынашивался в 1990-е годы создателями Союза краеведов России, функцию компаса в море краеведческой литературы выполняют библиографические издания. Наиболее авторитетное из них выпускается Российской национальной библиотекой и имеет преимущественно историческую ориентацию[127]. Другим важным информационным источником выступает краеведческая периодика, выпускаемая региональными сообществами. Корпус этих изданий включает в себя журналы самого разного порядка, от малотиражных сборников до глянцевых изданий, таких как «Московский журнал», «Углече поле» и др.[128] Получить представление об актуальных проблемах краеведения, связанных с деятельностью градозащитных сообществ, позволяет знакомство с общероссийскими порталами соответствующей тематики («Archi.ru», «Архнадзор», «Хранители наследия», «Москва, которой нет», «Тверские своды» и т. д.). Наиболее развитые из этих проектов имеют свои издательские, туристические и просветительские программы, работают в социальных сетях[129]. О состоянии краеведения как университетской дисциплины можно судить по текстам пособий, выпускаемых региональными университетами[130], региональных энциклопедий[131], биобиблиографических справочников[132].
История развития краеведения отражает социальные и политические изменения, происходившие на протяжении последних полутора веков, и во многом определяет особенности современного краеведения как практики и области знания. Поэтому исследования, рассматривающие то, как появилось, развивалось и переопределялось краеведение, дают существенно больше, чем просто исторический материал.
Попытки реконструировать историю краеведения предпринимались еще в 1920-е годы[133], однако устойчивое развитие такого рода исследований началось после реабилитации краеведения в эпоху перестройки. Важное место занимают работы Сигурда Шмидта и участников организованного им в Историко-архивном институте кружка[134]. Сегодня это направление развивается преимущественно благодаря региональным историкам науки, изучающим развитие местных научных сообществ (от статистических комитетов до собственно краеведческих сообществ), возникновение и работу музеев, появление краеведения в учебных планах и создание соответствующих пособий, роль местной прессы в формировании краеведческого знания в конце XIX – начале XX века[135], а также в 1920-е годы, которые с легкой руки Шмидта получили название «золотого века краеведения».
В 2000-е годы эти исследования стали поводом для обсуждения ряда важных вопросов: периодизации формирования краеведения как сферы общественной активности, дисциплины, интеллектуального проекта; соотношения гуманитарной и естественно-научной составляющих в краеведческой работе; соотношения российского краеведения с его западными аналогами[136]. Несмотря на наличие обстоятельных исследований в отдельных регионах, до сих пор не появилось обобщающего труда, посвященного истории российского краеведения. Наиболее систематическим изложением этой истории, по-видимому, остается книга американского историка Эмили Джонсон, в которой прослеживается процесс формирования идеи краеведения в связи с развитием туристической литературы, появления градозащитных сообществ и, в 1920-е годы, собственно краеведческого движения. Название книги – «Как Санкт-Петербург научился исследовать себя: российская идея краеведения» – симптоматично как с точки зрения значимости Петербурга в контексте истории российского краеведения, так и с точки зрения устойчивого представления о краеведении как специфически российском феномене[137]. Весьма ценной следует признать попытку наметить периодизацию краеведения и типологию форм краеведческой работы в книге Виктора Бердинских[138]. Процессы «советизации краеведения» изучены в целом гораздо хуже, однако и здесь есть ряд работ, важных для понимания структуры краеведения в советский период, которая в известной мере воспроизводится и сегодня[139].
Для понимания публичной роли краеведческой деятельности ценность представляет рефлексия о современном состоянии краеведения. Авторы сборников, изданных под эгидой Союза краеведов России и при участии его активных членов, разрабатывают позитивную интерпретацию краеведения, которая претендует на охват различных форм краеведческой активности и направлений ее возможного развития[140]. Однако эти работы в большинстве своем демонстрируют слабую чувствительность к внутренним противоречиям краеведения и текущим условиям его развития. Вместе с тем в 2000-е годы возникает ряд работ, авторы которых дают критический анализ краеведения, указывая на необходимость его перестройки на основе принципов новой региональной и локальной истории[141]. Недостатком этих работ можно считать отсутствие связи с осмыслением конкретной краеведческой практики и сугубо академическую направленность.
В последние десятилетия начинает формироваться корпус эмпирических исследований, связанных с изучением региональной идентичности и функционированием краеведческих институций и сообществ. Исследования региональной идентичности и провинциальной культуры, опирающиеся на традицию изучения локального/городского текста, развиваются в российском литературоведении и фольклористике со второй половины 1990-х годов[142]. Сегодня эти исследования все больше инкорпорируют проблематику современных тенденций формирования образов городов и территорий, связанную с их туристическим освоением, практикой маркетинга мест[143]. Исследованию роли локальных культурных героев в процессе конструирования образов места посвящены работы Павла Куприянова[144]. Анализ роли краеведческих сообществ в формировании российской исторической культуры и, в частности, в осмыслении неудобного прошлого является важной составляющей масштабного исследовательского проекта «Какое прошлое нужно будущему России?»[145]. Современные тенденции развития краеведческих музеев рассматриваются в работах Валентины Титовой, Ольги Труевцевой, Алисы Максимовой и ряде других музееведческих исследований[146]. История формирования и репертуар социального действия градозащитников стали предметом анализа в работе Бориса Гладарева[147]. В статьях Евгения Терентьева и Романа Абрамова исследуются общественные дискуссии вокруг топонимической реформы[148]. Проблематика трансформации сообществ краеведов и любителей истории, в том числе связанная с освоением краеведами интернет-пространства, рассматривается в статьях Ирины Разумовой, Бориса Степанова, Александра Махова, Михаила Агапова и Федора Корандея, Джейн Костлоу[149]. Теме освоения краеведческой тематики современным искусством и создания сайт-специфик-проектов посвящены недавние исследования Алисы Савицкой, Галины Янковской, Михаила Калужского[150].
Наконец, последний блок литературы пока существует в пространстве изучения российского краеведения скорее как перспективный, нежели как актуальный. Представляется, что осмыслению практики краеведческой работы способствовало бы введение в оборот текстов зарубежных исследователей, посвященных исторической культуре и локальной истории. Они могли бы, с одной стороны, способствовать формированию образа «нового краеведения», а также – с другой – проблематизировать его значение. Речь идет о текстах публичных историков (таких, как Долорес Хейден, Дэвид Глассберг или Рой Розенцвейг), историков знания (Селия Эпплгейт), локальных историков (Кэрол Каммен), культурных географов (Сета Лоу, Дон Митчелл) и других исследователей, которые задают координаты рефлексии о традиции краеведения, о способах формирования актуальной исторической повестки и включения знания о прошлом в жизнь региона.
ПРАКТИКИ
Переход краеведения от междисциплинарной области знания в сферу публичной истории пока что исследован довольно мало. Множество новых краеведческих проектов по всей стране показывают, что краеведение работает с бóльшим количеством материалов, чем в предыдущие периоды, и становится ресурсом для решения разнообразных задач. При исследовании краеведческих публичных проектов стоит помнить, что в рамках этих проектов их участники рассказывают истории о прошлом (нарративы), используя разные медиа, а также то, что эти проекты создаются в рамках определенных сообществ и институций и адресованы определенной аудитории.
Первым аспектом краеведческой деятельности является то, о чем и как рассказывает краеведение: нарративы. С одной стороны, краеведческие исследования часто не ставят своей задачей произвести самостоятельный, обособленный нарратив, а скорее вписывают место (город, регион, район) в историю страны – что было здесь