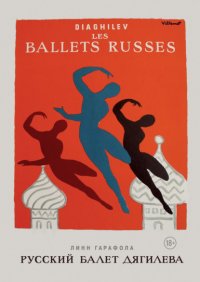
Читать онлайн Русский балет Дягилева бесплатно
- Все книги автора: Линн Гарафола
Lynn Garafola
DIAGHILEV’S BALLETS RUSSES
Перевод с английского Марины Ивониной и Олега Левенкова
На обложке: Афиша, созданная французским художником-графиком Б. Виллемо (1911–1989) к выставке «Дягилев: Русский балет», проходившей в Национальной библиотеке Франции с 17 мая по 29 июля 1979 года.
© Бернар Виллемо, УПРАВИС, 2021
© 1989 by Lynn Garafola
© Ивонина М. Ю., перевод на русский язык, 2021
© Левенков О. Р., наследники, перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021
КоЛибри ®
Предисловие к русскому изданию
Возможность представить читателю русское издание моей книги «Русский балет Дягилева» – большая честь для меня. В 2009 году весь балетный мир отмечал столетие первых выступлений прославленной дягилевской труппы. Концерты, выставки, симпозиумы и спектакли отдавали дань искусству, которое Дягилев воплотил в жизнь, и открытым им талантам. Пусть из балетов, созданных его труппой, ныне продолжают исполняться не более дюжины, дягилевское наследие остается жизнеспособным. Несмотря на то что остальные постановки канули в Лету, разделив судьбу, которой удалось избежать лишь малому числу балетов, идеи, лежащие в их основе, остаются актуальными и художественно плодотворными.
Эти идеи составляли кредо Дягилева – хотя сам он вряд ли использовал бы это слово. Он нес их с собой из Петербурга в Париж, из одной гастрольной поездки в другую; они диктовали его выбор, был ли он юным денди, зачинателем «Мира искусства», или солидным барином, проницательным руководителем Русского балета. С самого начала он верил в то, что высокое искусство обладает силой, достигающей глубины души и способной передать индивидуальные чувства артиста зрителям. С ранних лет он был исключительным энтузиастом, чья любознательность не знала границ. Его жизнь можно представить себе как постоянный поиск, в котором процесс создания искусства занимал, наверное, более важное место, чем художественный результат. Он верил, что искусство – многогранный феномен, оно может принимать бесчисленные формы и звучать разными голосами, – возможно, именно поэтому его хореографы так сильно отличались друг от друга, а приглашенные им художники и композиторы представляли столь разные течения модернизма. Он верил в мастерство, в изысканность и доверял своему вкусу, определяя эстетику каждой стороны Русского балета, какой бы незначительной внешне она ни была. Он жил ради искусства и сделал искусство образом жизни. Притом что форма искусства, которой он посвятил последние двадцать лет своей жизни, была предельно эфемерна, он всегда относился к ней как к делу высшей степени серьезности и необходимости – и этот урок мы должны помнить.
Дягилев был глубоко русским человеком. Его родословная уходит корнями в Центральную Россию, в Пермь и Бикбарду, где находилось летнее имение его семейства. Он вырос на просторах России, в окружении ее лесов, ее народного искусства и обычаев, в эпоху упадка российского дворянства, чьи исчезающие богатства он прославил на грандиозной выставке портретов 1905 года. «Единственный возможный национализм, – писал он в “Основах художественной оценки”, своем раннем эссе, опубликованном в “Мире искусства”, – это бессознательный национализм крови»[1]. И начиная с самого названия – «Русский балет» – созданная Дягилевым труппа была, по крайней мере отчасти, осознанно национальным проектом, пусть даже быстро утратила всякую связь с российским правительством и никогда не выступала в России. Действительно, именно Русский балет и его постановки изменили повсеместно распространенное восприятие балета как французского или итальянского искусства, представив его как искусство преимущественно русское. В годы перед Первой мировой войной никто не прилагал столько усилий к тому, чтобы привлечь зрителя к русскому искусству, как Дягилев. Он познакомил Запад с несколькими русскими операми, начиная с «Бориса Годунова» (который в его антрепризе был поставлен дважды), и обратился к музыке Римского-Корсакова при постановке балетов. Он также явил миру шедевры Стравинского, ставшего его открытием и «первым сыном», в которых Россия предстала в разнообразных обличьях – народной сказки, старинной уличной ярмарки, жестокого скифского обряда. Во время Первой мировой войны он инициировал постановку неопримитивистских балетов с оформлением Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, которые ослепляли публику яркими красками и стилизованными картинами русской народной жизни, прекрасно сочетавшимися с музыкой Римского-Корсакова и Лядова.
После войны путь Дягилева, как и Стравинского, лежал в стороне от России. Но даже в эти годы, когда новый репертуар труппы, казалось, всецело принадлежал Западу, Россия время от времени возникала в нем – приходя чаще всего через воспоминания. Говоря о «Женских хитростях» Чимарозы, которые Дягилев поставил в 1920 году как оперу-балет, он приписывал происхождение этой постановки временам пребывания композитора в России в начале 1790-х. «История увенчивается свадьбой, – объяснял он в интервью лондонскому “Обзерверу”, – и когда дело доходит до женитьбы, то последняя строчка либретто гласит: “А теперь у нас будет русский балет”». Так среди мелодий итальянской оперы появилась «Камаринская», под которую обычно танцевали на русских крестьянских свадьбах[2]. Россия скрыто присутствовала в балете «Зефир и Флора» (1925), современном прочтении античного мифа на музыку «третьего сына» Дягилева Владимира Дукельского, молодого эмигранта, который под псевдонимом Вернон Дюк позже сделал успешную карьеру на Бродвее. Композитор так вспоминал об истоках балета в своих мемуарах «Паспорт в Париж»: «Дягилев сказал мне, что хочет иметь балет, где классика сочеталась бы с русскими мотивами – как он выразился, балетные пачки – с кокошниками. Сергей Павлович… обожал… русскую “классическую” живопись… и особенно крестьянок Венецианова… – их одежду, которая представляла собой нарядное смешение крестьянских головных уборов с представлением русских помещиков об античных одеяниях. У этих помещиков были свои театры… и их излюбленным занятием было наблюдать на сцене своих новых фавориток – Дуняш и Параш, – которые, помимо своего простонародного очарования, приобретали божественные черты Флоры или Психеи»[3]. «Ода» (1928) также была попыткой передать современный взгляд на русское прошлое. Источником вдохновения для этой постановки была ода Ломоносова на восшествие на престол императрицы Елизаветы. В балете киноэффекты и неоновое освещение использовались для изображения упомянутого в оде северного сияния. (По словам композитора этого балета Николая Набокова, двоюродного брата известного писателя, ходили слухи, что Дягилев был «праправнуком одного из внебрачных детей императрицы»[4].) Не было постановки более русской, чем «Свадебка» Стравинского (1923), как утверждал Дягилев, защищая балет от нападок лондонской прессы. «Можно сказать, что “Свадебка” – это неосуществленная мечта Мусоргского. Я уверен, что никакая другая постановка не представляет Россию более полно. Наконец, я сам русский и знаю, что говорю; и возможно, недаром этот балет был посвящен мне». В «Свадебке» была заключена та «человеческая красота», которая «объединяла “Бориса Годунова” с поэзией Шекспира»[5].
Притом что Дягилев был глубоко русским, он являлся величайшим космополитом. В эссе для «Мира искусства», которые он писал в двадцатилетнем возрасте, уже заметен масштаб его мыслей, легко пересекавших границы стран и веков. Еще до 1917 года он стал экспатриантом, который лишь изредка бывал в России, гражданином мира. Он побывал на трех континентах (хотя ненавидел морские путешествия), а домом ему служила бесконечная вереница гостиничных номеров. Его вторым языком был французский, но, если верить Вернону Дюку, он неплохо говорил и по-английски, хотя часто предпочитал притвориться, будто не понимает его. Дягилев обладал энциклопедическими познаниями в музыке и гордился своим знакомством с новыми композиторами и новыми произведениями повсюду, где ему приходилось бывать. Он обожал Италию и питал любовь к Испании, передавая свои чувства через балеты, являвшиеся подлинными вехами его биографии.
Дягилев не любил Соединенные Штаты, но его занимала – и не раз – идея создания американского балета, о чем наиболее ярко свидетельствует его интервью в «Бостон сандей пост». Это было в 1916 году, когда слово «революция» еще не вызывало в воображении картин политического мятежа и насильственной смены режима. «В те дни мы все были революционерами, – говорил он музыкальному критику Олину Доунзу, – когда боролись за дело русского искусства, а сам я лишь чудом избежал того, чтобы участвовать в революции иным способом, чем с помощью живописи и музыки… Мы начали с того, что поставили под вопрос и ниспровергали каждое устоявшееся явление… и мы нашли свою публику» – вот в чем состоял его совет американцам. «Дорогой господин, в Америке полно искусства – зрелого и своеобразного. Единственная проблема – в том, что Америка его не знает… Они пытаются подражать Европе точно так же, как мы в России столько лет упорно копировали ее». Как и все прочие, кто приезжал в Нью-Йорк, Дягилев восхищался жизнью и «бесконечным многообразием красоты» ночного Бродвея[6].
Несмотря на сложное отношение Дягилева к революции, которая сломала жизни и карьеры столь многих дорогих ему людей, он не отказался от идеи художественных преобразований и не стал отождествлять достижения советского искусства с политическим триумфом большевизма. Он по-прежнему оставался бесконечно открытым новому, и в его репертуаре можно обнаружить продолжающуюся связь как с советскими, так и с эмигрировавшими деятелями искусства, порой даже в течение одного сезона. Откуда бы ни происходили идеи, лежащие в основе постановок, больше всего он ценил в них постоянное стремление к эксперименту. Именно это вывело его на путь поиска, который вызвал столько потрясений в узком кругу его художников и придал ему способность преображаться, подобно фениксу, всякий раз после того, как он извлекал лучшее из очередного хореографического периода. Английские критики, такие как первый биограф Дягилева Арнольд Хаскелл, сокрушались по поводу его тяги к экспериментам, обвиняя его в 1920-е годы в «лихорадочной погоне за новизной» и в безнадежных попытках сохранить «контакт с молодым поколением и новыми идеями»[7]. Тем не менее в эстетическом подходе Дягилева видна определенная последовательность, которая опровергает его обвинения в художественном оппортунизме, даже если он временами и был ему свойствен, как это было в случае, когда он заменил оформление для постановки «Ромео и Джульетты» 1926 года, выполненное Кристофером Вудом, на сюрреалистическую живопись Макса Эрнста и Миро – притом что только друзья английского художника могли поставить под сомнение мудрость дягилевского решения. Он был уверен, что искусство в своей основе субъективно и что значение искусства кроется в созвучии взглядов художника и зрителя. Он изложил эту теорию в «Мире искусства», в эссе «Основы художественной оценки», и никогда не отступался от нее. В его защиту свидетельствует то, что тридцатью годами позже молодая англичанка, посетившая лондонскую премьеру «Свадебки», сказала ему, что «хотя она не совсем поняла спектакль, она почувствовала что-то такое, чего не испытывала никогда в жизни»[8].
В том же эссе в Дягилеве проявился и «революционер», который отождествлял свое поколение с теми, «которые бесстрашно боролись против принятых в их время взглядов»[9]. Он придерживался этой позиции нонконформизма до конца жизни. И действительно, последнее из опубликованных им заявлений – письмо редактору «Таймс», вышедшее лишь за месяц до его смерти, – содержало проникновенную защиту недавней премьеры «Блудного сына» Баланчина (1929), обвиненной лондонскими критиками в излишнем атлетизме. «В пластических исканиях Баланчина, – утверждал он, – гораздо менее акробатики, чем в последнем “па-де-де” в “Свадьбе Авроры”»[10]. Дягилев любил парадоксы и остроумные словесные обороты, которые придавали его кредо экспериментатора легкость эпохи джаза. В 1926 году в статье Беверли Николс в газете «Скетч» приводятся два его высказывания: «Величайшая доблесть артиста – в его неверности» и «Артист заканчивается в тот момент, когда он знает, что будет делать в следующий раз»[11]. Такая антисентиментальность и готовность периодически менять свой художественный облик не устраивала его коллег, которые «отживали» век своей полезности и оказывались отторгнуты Дягилевым, исключены из среды, которая была творческим центром их жизней. Но эта готовность двигаться вперед, невзирая на боль и гнев, которые вызывало у других его поведение, была основой психологической маскировки Дягилева и ключом к его последовательным художественным перевоплощениям. Дягилев никогда не оглядывался назад, но всегда нес свое прошлое с собой. Оно было для него хранилищем воспоминаний, отложенных до дня, когда они подскажут ему идеи замечательных новых работ. Его заставляли двигаться вперед эта перспектива и осознание того, что его «искания, кажущиеся сегодня… опасными, станут необходимыми завтра»[12]. Эта убежденность в необходимости «делать работу», как сказали бы сегодняшние танцовщики, более чем любая из его постановок, является для нас значимым наследием Дягилева, и именно поэтому он остается нашим современником уже спустя век после рождения Русского балета.
Апрель 2009Линн Гарафола
От научного редактора
Перевод книги Diaghilev’s Ballets Russes американского исследователя Линн Гарафолы на русский язык стал возможен благодаря ее щедрому разрешению.
В работе над переводом нам с М. Ивониной оказали помощь Елизавета Суриц, Виолетта Майниеце, Олег Брезгин, Александр Ласкин, Карен Хьюитт, Евгения Илюхина, сотрудники Дома С. П. Дягилева – и конечно, на наши многочисленные вопросы отвечала сама автор.
Монография содержит огромное количество названий, которые мы даем в тексте на русском языке с указанием оригинального названия, за исключением тех, которые получили устойчивый перевод в отечественной литературе.
Библиографический список автора приведен без изменений. Процитированные в нашем издании источники, написанные на русском языке или имеющиеся в переводе, указаны в примечаниях. Имена собственные, когда это возможно, приведены в устоявшейся транскрипции.
О. Р. Левенков
Предисловие к американскому изданию
История балета XX века не знала труппы, которая оставила бы в ней столь же глубокий и влиятельный след, как Русский балет Дягилева. Он просуществовал всего двадцать лет – с 1909 по 1929 год, – но за эти два десятилетия успел превратить балет в живое, современное искусство. Русский балет создал первые образцы классики XX века: «Шопениана», «Жар-птица», «Петрушка», «Послеполуденный отдых фавна», «Весна священная», «Парад», «Свадебка», «Лани», «Аполлон Мусагет», «Блудный сын», – которые живут на сцене и по сей день. В этой труппе были взлелеяны выдающиеся хореографы XX столетия Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Бронислава Нижинская и Джордж Баланчин, благодаря творчеству которых Русский балет определял развитие хореографии вплоть до 1970-х годов. Русский балет породил самые выдающиеся в XX веке союзы танца с другими видами искусств: содружества с композиторами – такими, как Игорь Стравинский, Клод Дебюсси, Морис Равель, Сергей Прокофьев; и художниками – такими, как Пабло Пикассо, Наталья Гончарова, Андре Дерэн и Анри Матисс. Из танцовщиков, прошедших школу этой труппы, вышли преподаватели и балетмейстеры, продолжившие ее дело в столицах и провинциальных городках многих стран Запада. И сверх того – как будто всего этого было мало! – труппа воспитала несметное число поклонников балета, предшественников его современной массовой аудитории. Не будь Русского балета, история балета XX века сложилась бы совершенно иначе.
Истоки дягилевской труппы лежат в России – на родине ее первых танцовщиков и всех ее хореографов, как, впрочем, и многих композиторов и художников-декораторов. Тем не менее Русский балет никогда не выступал в России, а с 1909 года вообще не имел со своей страной никаких официальных связей. Труппа была детищем Запада, начиная с названия (она и называлась по-французски – Ballets Russes). Париж стал городом ее рождения, Виши – ее угасания, а между ними ей служили домом подмостки трех континентов. Существование в постоянных странствиях глубоко повлияло на труппу и не раз меняло ее облик. Однако даже в «юные годы» ее работы не были похожи на постановки, преобладавшие в российском репертуаре. В петербургском Мариинском театре в то время господствовали балеты Мариуса Петипа – многоактные произведения, такие как «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка». А в репертуаре Русского балета с момента образования труппы и до 1914 года особое положение занимали одноактные драмы и лирические миниатюры Михаила Фокина – так называемый новый балет, существовавший лишь на периферии официальной танцевальной культуры России.
Таким образом, с самого начала отход от официального балета стал и краеугольным камнем, на котором труппа создала свой неповторимый облик, и ее raison d’être – причиной ее бытия, стоящей за круговертью постоянных преобразований. В репертуаре труппы оставили след многие ипостаси модернизма: символизм, примитивизм, кубизм, футуризм, конструктивизм, неоклассицизм, бесчисленное множество других «измов», сменявших друг друга на творческом горизонте того времени. В течение двадцати лет Русский балет, казалось, был вовлечен в постоянные эксперименты, результатом которых явилось расширение выразительных возможностей балетного театра. Это коснулось всего: сюжета, выбора танцевальной лексики, стиля хореографии, сценического пространства, музыки, оформления сцены, костюмов и даже внешнего вида танцовщиков – на всем отразился поиск новых форм. Идеи, вдохновлявшие эти поиски, часто заимствовались из других видов искусств, не связанных с танцем – живописи, авангардных спектаклей и особенно из «новой драмы», революционизированной такими новаторами сценического мастерства, как режиссеры Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд. Не все из этих экспериментов оказались плодотворными, многие просуществовали не более сезона. Но в целом все они способствовали освобождению балета от бремени XIX столетия.
И тем не менее хореографы Русского балета никогда полностью не порывали с достижениями прошлого. Его наследие почти всегда присутствовало в их творчестве, каким бы новаторским оно ни было. Во все двадцать лет существования труппы основами ее профессионального языка оставались па, комбинации и средства художественного воздействия классического балета. Именно их ежедневно оттачивали артисты в своих танцевальных классах, и именно на них опирались в своем творчестве даже самые радикально настроенные хореографы труппы. Наряду с языком классического танца они заимствовали из прошлого еще одно – идею о том, что источником смысловой наполненности танца является движение. В отличие от многих современников хореографы Русского балета никогда не отвергали самой сути классического танца. Они пытались избавиться лишь от груза условностей, ставших непременной частью классического балета конца XIX века. Подобно многим писателям того времени, стремившимся к выявлению живой литературной традиции, эти хореографы боролись за переосмысление классического наследия, столь необходимого для нового века. Этим самым они подготовили почву для триумфа неоклассицизма середины XX столетия – стиля, впервые появившегося в 1920-е годы.
Но влияние Русского балета ощущалось не единственно в области хореографии. 1920, 1930 и 1940-е годы стали свидетелями рождения многих новых балетных трупп, по большей части позаимствовавших у Русского балета не только вдохновение, но и, по меньшей мере, некоторые черты их облика. Среди них были разнообразные гастролирующие коллективы русского балета, унаследовавшие магическую притягательность и репертуар своего прославленного предшественника и распространившие их по всем частям света. В Англии такими последователями стали Вик-Уэллс Балле (впоследствии Королевский балет Англии), Балле Рамбер и труппа Маркова—Долин – все они основаны ветеранами Русского балета. В США это были Балле Тиэтр (современный Американ Балле Тиэтр), в первые годы существования выступавший главным пропагандистом основных постановок Русского балета, а также Нью-Йорк Сити Балле, чей художественный руководитель Джордж Баланчин был последним собственным хореографом труппы. К этому перечню можно добавить еще несколько трупп, существование которых оказалось не столь продолжительным: Театр танца Брониславы Нижинской, труппа Иды Рубинштейн, Балле Интим Адольфа Больма, а также такие известные коллективы, как Парижская опера и Театр Колон в Буэнос-Айресе, которые с появлением в них выходцев из Русского балета получили новый творческий импульс. То, что сегодня искусство балета процветает и развивается во всех уголках земного шара, – во многом заслуга Русского балета.
На протяжении всего своего существования эта труппа была центром притяжения ярких, талантливых, исключительных личностей. Но одна фигура возвышалась над всеми остальными – Сергей Дягилев, выдающийся импресарио, руководивший Русским балетом с первых дней его возникновения до самой своей смерти в 1929 году, с которой прекратила существование и труппа. Это был человек железной воли и чрезвычайно тонкого вкуса, обладавший энциклопедическими знаниями и страстной любознательностью, – своеобразный Наполеон от искусств – и вместе с этим личность масштабов эпохи Возрождения. Он родился в России в 1872 году и уже к тридцати годам достиг известности. Его часто называли дилетантом – и действительно, в молодые годы он пробовал себя во многих сферах деятельности. Но при всем этом его первые начинания были уже не чем иным, как шагами к возрождению русского искусства, и стали ему прекрасной школой, пригодившейся в будущем.
Отец Дягилева, кадровый военный, видел будущее сына на поприще гражданской службы. Но у самого Дягилева были другие планы, хотя он, следуя воле отца, изучал юриспруденцию в Санкт-Петербурге. Он записался в консерваторию, намереваясь стать композитором. Однако оказалось, что он не настолько одарен, чтобы это намерение могло осуществиться, и Дягилев отказался от этой мысли, даже не предполагая, какое значение для успеха его будущей карьеры будет иметь опыт ученичества в консерватории. С середины 1890-х годов его интересы сосредоточились главным образом на сфере изобразительных искусств. Он занимался критикой и коллекционированием, организовав при этом первую из целой серии выставок, бросавших вызов всеобщему – свойственному времени – увлечению реализмом. Но самым выдающимся его предприятием стал петербургский журнал, который он основал в 1898 году и издавал до конца его существования в 1904 году.
Для России журнал «Мир искусства» был тем же самым, что «Желтая книга»[13] для Англии – глотком свежего воздуха в застойной атмосфере искусства того времени. Главным критерием для «Мира искусства» являлась красота, что принималось в штыки российскими критиками. Журнал поддерживал художников, чье творчество бросало вызов методам и целям главенствующей школы реалистической живописи. С самого начала «Мир искусства» был ориентирован на Запад, в нем публиковались материалы и иллюстрации, которые знакомили русскую общественность с художниками, работавшими в манере символизма и постимпрессионизма. Интересы журнала были чрезвычайно разносторонними. Хотя в первую очередь он был посвящен современному искусству, на его страницах большое внимание уделялось искусству России прошлых веков, и этот интерес к прошлому достиг своей вершины в 1905 году, когда Дягилев организовал грандиозную выставку портретов XVIII века, оказавшуюся его последним крупным проектом в России. Журнал занимался и литературной деятельностью, при этом основное внимание точно так же уделялось всему новому: в нем публиковались произведения известных писателей-символистов и статьи, содержавшие резкую критику казенных художественных заведений страны. К началу 1900-х годов «Мир искусства» был центром обширного движения, способствовавшего переменам практически во всех сферах искусства.
Хотя движущей силой «Мира искусства» был Дягилев, журнал был коллективным творением. Вместе с Дягилевым работали его старые друзья, включая тех, кто впоследствии вошел в состав художественного «ядра» Русского балета. Особое положение среди них занимали художники Александр Бенуа и Лев Бакст, нашедшие свое истинное призвание в качестве театральных художников и положившие начало неповторимому стилю труппы в таких постановках, как «Клеопатра», «Шопениана», «Шехеразада» и «Петрушка». Их дружба с Дягилевым зародилась в начале 1890-х годов и за десятилетие превратилась в тесное профессиональное сотрудничество. Вместе с ним они работали над выпуском «Мира искусства» и вслед за ним перешли в Императорские театры – финансируемую государством структуру, куда в 1899 году Дягилев получил выгодное назначение на пост чиновника по особым поручениям при директоре театров. Их первым начинанием в Императорских театрах – и одновременно первым опытом работы в театре вообще – стала постановка балета «Сильвия». Эта постановка так и не увидела свет, но работа над «Сильвией», в которой принял участие целый ряд художников «Мира искусства», стала опробованием того метода совместного творчества, который будет положен Дягилевым в основу деятельности Русского балета.
Бакст и Бенуа получили затем еще несколько театральных заказов, а Дягилев занимал свою должность всего лишь два года. Его отставка – результат бюрократической интриги, осложненной его собственным своеволием, – означала для него конец гражданской карьеры. Но лишь революция 1905 года, окончательно уничтожившая всякую надежду на преобразование художественной бюрократии в стране, заставила Дягилева обратить свой взгляд за границу. В 1906 году он организовал в Париже огромную выставку русской живописи, а в следующем году – ряд концертов русской музыки. В 1908 году на сцене Парижской оперы он впервые за пределами России показал постановку «Бориса Годунова», а год спустя организовал оперно-балетный сезон, ставший неофициальным дебютом труппы Русский балет.
Исследования, посвященные истории Русского балета, почти всегда начинаются с рассказа о Дягилеве и его друзьях-художниках, сопровождавших его в поездке из Петербурга в Париж. Эта книга также начинается с событий, происходивших в российской столице. Однако открывают ее другие герои, и события излагаются в ней с иной точки зрения. Русский балет был прежде всего танцевальной труппой, и хотя хореография занимала далеко не первое место в дягилевской иерархии искусств, именно она придала всему его проекту неповторимые черты. Михаил Фокин никогда не принадлежал к кругу деятелей «Мира искусства» и до начала подготовки к сезону 1909 года имел лишь шапочное знакомство с большинством представителей этого круга. Более того, с самого начала его творческий путь складывался иначе. Истоком его творчества было не чувство неудовлетворенности реализмом, а осознание того, что балет конца XIX столетия был не способен передать современное понимание красоты и индивидуальное поэтическое видение мира. Раскол в Санкт-Петербургском Императорском балете, инициатором которого были Фокин и те, кто последовал за ним, – вот та естественная отправная точка для книги, где Русский балет рассматривается как прародитель всего современного балета.
Преобразования, начатые Фокиным, были продолжены его преемниками в труппе Дягилева. Вместе с Нижинским балет сделал шаг к модернизму; благодаря Мясину он вступил в союз с футуризмом; с Нижинской он вобрал в себя абстрактный метод конструктивизма; с Баланчиным – слился с неоклассическим идеализмом. При каждом из этих хореографов репертуар труппы менялся, и менялось само видение современности. И тем не менее все они подчинялись требованиям, которыми руководствовался и Фокин, – тому, что балетное искусство должно принимать во внимание мир, в котором оно существует, и выражать индивидуальный взгляд художника на этот мир. Главы, которые составляют первую, вступительную часть книги, посвящены исследованию творчества этих хореографов с точки зрения упомянутых требований, в них представлена попытка проанализировать в каждом случае истоки их творчества и лежащую в его основе идеологию.
Не менее захватывающей, чем повествование об этой художественной революции, является сага о выживании труппы в сложных финансовых условиях. Русский балет был огромным театральным организмом, неким подобием бродячего цирка, объединявшего танцовщиков, музыкантов, композиторов, художников, аккомпаниаторов-репетиторов, гримеров и рекламных агентов. Такой труппе всегда непросто удержаться на плаву, и несколько раз за свою двадцатилетнюю историю она лишь чудом не уходила на дно. В отличие от полностью финансируемых правительством Императорских театров, эта труппа родилась в среде рыночных отношений, и с самых первых дней существования ей приходилось изыскивать деньги. Дягилев выпрашивал и брал в долг, вынужден был торговаться с антрепренерами и распродавать имущество, когда касса была пуста. Часто решения, которые он принимал, были лишь «латанием дыр», компромиссом с обстоятельствами, позволявшим труппе выжить и при этом сохранить лицо. За свою двадцатилетнюю жизнь Русский балет сменил множество обличий. Хотя основным источником существования труппы был балет, в ней было поставлено около двадцати опер. В Лондоне она выступала на подмостках мюзик-холла; в Монте-Карло обосновалась в местном оперном театре. Порой превращалась просто в странствующую труппу, а в иные времена напоминала экспериментальную студию или лабораторию. Сменяющие друг друга обличья касались всех сторон жизни труппы. От этого зависело, кто оплачивал счета и какое жалованье получали танцовщики; этим определялись размеры труппы и география гастролей. Это также влияло на репертуарную политику и на взаимоотношения между создателями спектаклей, на положение танцовщиков и хореографов. Чаще, чем можно себе представить, творческая деятельность Русского балета отражала его статус как сложного экономического предприятия. Этот аспект истории труппы, до сих пор не получавший должного освещения, послужил темой для второй части данной книги.
На протяжении двадцати лет Русский балет привлекал в театр многочисленных зрителей. Никогда еще со времен романтизма 1830-х и 1840-х годов балет не собирал такого огромного количества поклонников. Аудитория была замечательной не только с точки зрения ее численности. До появления Русского балета считалось, что балет – зрелище для детей и стариков. Однако благодаря Дягилеву балет превратился во времяпрепровождение для избранных. На его спектакли приходили люди состоятельные и знаменитые – члены королевских семей и известнейшие люди эпохи, чьи имена постоянно мелькали в светских хрониках того времени. Были среди зрителей и писатели, художники, композиторы и коллекционеры – интеллектуальная и художественная элита, которую до той поры редко привлекали балетные спектакли. Дягилев создавал свою публику и в других кругах общества: так, в послевоенном Лондоне наряду с интеллектуальными сторонниками балета на спектакли приходили и простые люди – завсегдатаи мюзик-холлов. Состав сегодняшней балетной аудитории во многих смыслах был определен Русским балетом.
Зрительская аудитория Дягилева создала широкий культурный контекст для его труппы. Она влияла на ее общественный и – в значительной мере – художественный облик. Во времена, когда реклама делала еще только первые шаги, Русский балет пользовался огромной популярностью в той социальной среде, где формировались вкусы публики. Зрители Дягилева приводили на спектакли своих друзей, нанимали танцовщиков для выступлений на частных вечеринках, надевали на балы-маскарады костюмы в стиле постановок Русского балета. В печати труппу превозносили на все лады, и можно было по пальцам пересчитать те журналы мод и светской хроники, которые игнорировали ее знаменитостей. Интеллектуальные журналы того времени – даже те, которые редко помещали материалы о балете, – также не обходили труппу своим вниманием, хотя тон их статей был несколько иным. Русский балет оказывал влияние на моду, искусство, развлечения. Но и они, в свою очередь, наложили свой отпечаток на труппу – от костюмов танцовщиков до содержания хореографии. В целом в каждый отдельно взятый период облик Русского балета отражал социальный состав его аудитории. Роль различных слоев зрительской аудитории Дягилева в формировании постоянно развивающейся идеологии, лежавшей в основе его деятельности, – тема третьей, заключительной части книги.
Эпоха Русского балета, вероятно, описана подробнее, чем любой другой период в истории танца. Тем не менее мы впервые попытаемся взглянуть на эту труппу в целостности – представить ее искусство, охарактеризовать ее как антрепризу и рассмотреть ее публику. Эта задача не только побудила меня искать ответы на новые вопросы в уже знакомых источниках, но и привела в архивы Парижа, Монте-Карло, Нью-Йорка, Беркли, Сиракуз и Принстона, к которым ранее не обращались исследователи деятельности Дягилева.
В этой книге также впервые пересматриваются основные положения так называемой британской школы историков Русского балета, которая возникла в 1930-е годы. Труды представителей этой школы, и прежде всего Сирила У. Бомонта и Арнольда Хаскелла, заложили основы современного дягилеведения и открыли первоисточники, которые остаются незаменимыми по сей день. Однако с течением времени трактовки, предлагаемые данной школой, не получили развития. В многочисленных работах Ричарда Бакла, ведущего современного исследователя деятельности Дягилева, Русский балет предстает либо как связующее звено в некоей последовательности, ведущей от Русского балета к Королевскому балету Англии, либо как полностью независимая труппа, на которую не влияли ни искусство, ни идеи современной ей эпохи. Бакл вскрыл новые факты, но не сумел дать им соответствующую интерпретацию. Кроме того, он усердно избегал применения новейших подходов в социальной истории, балетной критике и идеологии феминизма, которые оживили американское балетоведение и без которых появление этой книги было бы невозможным.
История, рассказанная ниже, весьма продолжительна, многообразна и населена. Она начинается в России конца XIX века и заканчивается в Западной Европе эпохи джаза. Она включает в себя политические и художественные революции, а также Первую мировую войну. Ее действующими лицами являются мужчины и женщины самых разных кругов общества, разного стиля жизни – такие непохожие друг на друга личности, как леди Кунард, законодательница лондонского высшего света; Эдвард Бернейз, отец современных рекламных технологий; Анатолий Луначарский, советский комиссар просвещения, и Отто Кан, финансировавший армии союзников во время войны. Исполины модернизма – Пикассо, Стравинский, Джойс и Пруст – присутствуют здесь наряду с танцовщиками и хореографами, чьи имена стали легендой. В этой книге представлены и люди, чьи судьбы менее известны, – Василий Киселев, работавший вместе с Фокиным в самом начале его карьеры и отправленный в психиатрическую лечебницу за активное участие в забастовке танцовщиков 1905 года, а также Дорис Фэйтфул, подавшая от имени нескольких танцовщиков жалобу на нищенское жалованье во время одного из турне труппы по Америке. Они тоже появляются на страницах этой книги, вплетая прозу своих жизней в общий ход событий. История Русского балета – это и их история. Она принадлежит им в той же степени, что и самым ярким личностям той эпохи.
Нью-ЙоркМай 1989Л. Г.
I
Искусство
1
«Освободительная эстетика» Михаила Фокина
9 января 1905 года бастующие рабочие с окраин Санкт-Петербурга собрались у Зимнего дворца для подачи царю петиции «от лица всего трудящегося класса России» о прекращении войны с Японией и принятии «мер против гнета капитала над трудом». Главными лозунгами петиции, которые спровоцировали трагедию, вошедшую в историю как «Кровавое воскресенье», были право на самоопределение, свобода личности и осуждение чиновничества[14].
В последовавшие месяцы призывы к гражданской свободе и независимости дошли от рабочих кварталов Петербурга до самых привилегированных культурных учреждений царской России. В феврале произошла забастовка студентов Петербургской консерватории. «Некоторые из требований студентов весьма обоснованны», – писала мать студента консерватории Сергея Прокофьева. И далее:
Они просят, чтобы ежемесячно ставились оперные спектакли с участием студентов: певцов, дирижеров и полного состава оркестра, где студенты играли бы на инструментах, на которых учатся… Они просят библиотеку, повышения уровня академических занятий и вежливого обращения со стороны служебного персонала и преподавателей. Например, говорят, что [Леопольд] Ауэр бьет студентов смычком по голове. Нынешнюю ситуацию можно сравнить с надвигающейся бурей, когда воздух становится тяжелым и трудно дышать[15].
В марте, на гребне волны протеста, Николай Римский-Корсаков, открыто выражавший свои либеральные убеждения в прессе, был уволен с должности директора консерватории, в результате чего ее покинули также Александр Глазунов и Александр Бенуа. Сорок студентов были отчислены, а после того как премьера «Кощея Бессмертного» Римского-Корсакова в театре Веры Комиссаржевской превратилась в политическую демонстрацию, царь запретил постановку в Императорских театрах произведений этого «революционного» композитора[16].
Консерватория стала не единственным учреждением искусства, которое всколыхнули события 1905 года. Осенью забастовка разразилась в Императорском балете. Конечно, на фоне общей революционной панорамы забастовка танцовщиков представляла собой лишь незначительный эпизод. Тем не менее она оказала крайне значительное влияние как на само возникновение Русского балета, так и на его эстетику. В таком виде искусства, где идея приобретает форму лишь в самом исполнителе, подбор состава труппы, соответствующего видению хореографа, выполняет необходимую художественную функцию. Забастовка в Мариинском театре возымела именно такой эффект: она превратила инакомыслящих членов труппы в инициаторов хореографического раскола – и главных действующих лиц Русского балета 1909 года. Бастующие избрали двенадцать делегатов, которые выступили с их требованиями, и по меньшей мере трое из этой дюжины – Михаил Фокин и балерины Анна Павлова и Тамара Карсавина – стали в будущем звездами дягилевской антрепризы. Даже тщательно оберегаемых студентов Петербургского театрального училища коснулись «бесконечные разговоры о забастовках и мятежах», вспоминает учившаяся в те смутные дни балерина Елена Люком. В октябре учащиеся выступили с нешумным протестом, о котором Владимир Теляковский, директор Императорских театров, так записал в своем дневнике: ученики «собрались на совещание без разрешения для обсуждения своих нужд». Одним из присутствовавших на этом необычном митинге, где требовали «улучшить обучение, ввести специальные занятия по гриму, разрешить… старшим учащимся носить собственную обувь и крахмальные воротнички и манжеты под форменной курткой», был Вацлав Нижинский[17].
Забастовка выявила недовольство, усилившееся из-за кризиса в руководстве и художественного упадка, который последовал за золотым веком Императорского балета 1890-х годов (именно в это десятилетие долгая карьера Мариуса Петипа в Мариинском театре достигла своей творческой вершины, и именно тогда появились такие классические постановки, как «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда» и «Лебединое озеро»). Многие из требований бастующих были экономическими: повышение заработка, право голоса в вопросах формирования бюджета, пятидневная рабочая неделя. Но так же как и в консерватории, ключевые разногласия касались вопросов искусства. Танцовщики требовали права на выбор режиссеров – штатных руководителей труппы, которые отвечали бы за репетиции и выступали представителями руководства в повседневных взаимоотношениях с танцовщиками, а также просили о возвращении к своим обязанностям Петипа, его ассистента Александра Ширяева и педагога Альфреда Бекефи, незадолго до этого уволенных из театра по политическим причинам. То, что личность Петипа, который руководил Императорским балетом четыре с лишним десятка лет и придал завершенный облик русскому классическому балету, столь явно фигурировала в дебатах, демонстрирует, до какой степени искусство и политика переплетались в Мариинском театре. Как объясняла Карсавина своей матери, не одобрявшей ее действий, целью танцовщиков было «поднять уровень искусства на должную высоту… Мы намерены потребовать право на самоуправление, право избрать свой комитет, который станет решать… вопросы творчества… намерены покончить с бюрократизмом в организационных делах»[18].
Ключевым для революции 1905 года было слово «свобода». Оно означало принцип личной свободы в общественной, культурной, равно как и экономической, жизни. У танцовщиков и других работников Императорских театров забастовка вызвала чувство сопричастности общим художественным устремлениям, сродни той, что объединяла художников вокруг дягилевского журнала «Мир искусства». «Помните, – обратился режиссер – участник забастовки[19] к своей драматической труппе, когда был опущен занавес в Александринском театре – собрате Мариинского, – мы боремся за почетную свободу. Еще совсем недавно русский актер был рабом»[20]. Утверждение политического единства подразумевало трансформацию художественного и общественного сознания восставших.
Вопреки сказанному в воспоминаниях Карсавиной, жизнь в Императорском балете после событий 1905 года так и не вошла в привычное русло. Для расследования беспорядков была создана комиссия, и, несмотря на официальную амнистию, Петр Михайлов и Валентин Пресняков, возглавлявшие забастовку танцовщиков, были уволены, а еще один из активных ее участников – Василий Киселев – был отправлен в психиатрическую лечебницу. (Очевидно, его пребывание там не оказало долговременного влияния на него как танцовщика, поскольку он, как и Пресняков, принимал участие в постановках первых сезонов Русского балета.) Иосиф Кшесинский, брат Матильды Кшесинской, prima ballerina assoluta Мариинского театра и бывшей возлюбленной царя Николая II, также был уволен за участие в забастовке, хотя, благодаря связям сестры при дворе, смог сохранить пенсию. Даже Павлова, ярчайшая звезда молодого поколения, получила от барона Владимира Фредерикса, всемогущего министра двора, осуществлявшего контроль над Императорскими театрами, предупреждение о последствиях, которые ее ожидают, если она не воздержится от дальнейшего участия в смуте. «Многие принимавшие участие в “бунте” были позднее уволены без особой причины, – вспоминала Бронислава Нижинская, – не получали хороших ролей или очень медленно продвигались по службе»[21]. Эти репрессии, безусловно мягкие по царским меркам, тем не менее усилили раскол между взбунтовавшимися и оставшимися верными руководству.
Дальнейшая поляризация уже расколовшейся труппы подготовила почву для «исхода» талантливых танцовщиков, что фактически привело к оттоку молодого поколения из Императорского балета. Начиная с 1907 года танцовщики Мариинского театра стали все чаще поглядывать за границу в поисках ангажементов. В 1907–1908 годах Адольф Больм и Павлова совершили ряд выездов за рубеж, в том числе на гастроли по Скандинавии, которые завершились в Берлине и повсюду имели оглушительный успех. Больм также стал партнером Лидии Кякшт в ее первом выступлении в Эмпайр Тиэтр в Лондоне в 1908 году, а Карсавина танцевала в столице Англии весной 1909 года, всего за несколько месяцев до парижского дебюта Дягилева. Другие танцовщики левого фланга труппы вскоре последовали за ними: Георгий Кякшт (брат Лидии), Людмила Шоллар и сестры Бекефи выступали в Лондоне в 1909–1910 годах, так же как и Ольга Преображенская, балерина со стажем, танцевавшая в Парижской опере в 1909 году. (Дабы не быть превзойденной, Матильда Кшесинская, первая из традиционалистов, организовала несколько выступлений в Опере, там же, где в 1908 году состоялся показ Дягилевым «Бориса Годунова».)
Зарубежные выступления были привлекательны с точки зрения гонорара, но еще сильнее в них притягивала редкая возможность работать вне условий бюрократии и художественного застоя Императорских театров. Больм писал:
В театрах Петербурга и Москвы много таких, как мы, тех, кто жаждет посвятить свое искусство иным, лучшим целям. Мы беспомощны, потому что руководство нашего театра крайне реакционно. Мы не осмеливаемся открыто критиковать его. Нам даже не позволено выступать с предложениями. Петипа умер. [Он скончался в 1910 году. ] Балетмейстеры по-прежнему используют то, что он создал, но они утратили его дух. После свободы гастролей такая атмосфера вызывает удушье[22].
В этих словах Больм выражает страсть к искусству и веру в его высокое предназначение, которыми были движимы молодые идеалисты Русского балета.
Как и все государственные учреждения, Мариинский театр представлял собой общество в миниатюре, где политика, общественные отношения и художественные задачи были неразрывно связаны. Революционный импульс породил отклик на все эти стороны существования танцовщиков. Он предопределил отношение к «старой классической технике», которую олицетворяли Кшесинская и главный режиссер Императорского балета Николай Сергеев, и к карьеризму, столь характерному для этих хранителей традиций. Он политизировал даже само стремление к новым творческим подходам в искусстве танца и обострил необходимость в групповых творческих усилиях, которая в будущем выразится в создании Фокиным актерского ансамбля. И он же усилил критический настрой по отношению к «приклеившимся к искусству», как Фокин назвал чиновников, которые осуществляли контроль над казной Императорских театров и тем самым вынуждали его самого и его коллег-единомышленников к тому, чтобы искать себе работу за пределами мира бюрократии[23]. Идеалы 1905 года не только изменили ход мысли и стиль поведения молодого поколения танцовщиков Мариинского театра, но и повлияли на образный мир ранней хореографии Фокина. В темах и структуре его первых балетов прослеживались устремления его бастовавших собратьев, слившиеся с утверждением либеральной идеологии.
Становление Михаила Фокина как хореографа совпало по времени с революцией 1905 года и выявило как общественные, так и художественные противоречия, породившие беспорядки в Мариинском. Как и прочие, кто возглавлял забастовки, Фокин был связан с Гребловской школой имени Гоголя, благотворительным учреждением, которое танцовщики основали и поддерживали и которое стало центром собраний левого крыла труппы[24]. Фокин явно противостоял Александру Крупенскому, консервативному главе петербургской конторы Императорских театров, и на шестичасовом митинге 15 октября 1905 года, где бастующие танцовщики и представители администрации вели язвительные дебаты, открыто назвал Сергеева «шпионом дирекции». Сергеев, который позднее, в 1920-х и 1930-х годах, завоевал прочную славу на Западе благодаря постановкам «Жизели», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы», сыграл весьма неприглядную роль в событиях 1905 года. Карикатура того времени, озаглавленная «Плоды балетной забастовки», изображает его машущим петицией танцовщиков над поверженной Ольгой Преображенской, которую сечет розгами скелетообразный экзекутор на глазах у Крупенского и Теляковского[25].
Хотя Фокин не воздерживался от критики Императорского балета в художественном и административном отношении еще до революции, события именно того беспокойного времени побудили его к действиям. В период с февраля 1906 года по март 1909-го он поставил по меньшей мере две дюжины балетов и танцевальных номеров: такая плодотворность удивляет, особенно если учесть, что до этого времени на его счету было лишь три постановки. Практически все без исключения работы осуществлялись не для Мариинского театра, а в более свободной атмосфере выпускных концертов училища и благотворительных вечеров, немалую часть которых хореограф организовал сам. В этих случаях Фокин мог выбирать, с кем ему работать, и мог надеяться на то, что и получил, – «полное взаимопонимание и энтузиазм»[26]. Его первая значительная работа «Виноградная лоза» была создана по предложению коллег-танцовщиков и поставлена в рамках благотворительной акции для Гребловской школы в начале 1906 года. Подобранный Фокиным состав исполнителей состоял почти целиком из мятежников Мариинской труппы: так, вина в спектакле олицетворяли Павлова, Карсавина, Кякшт и жена хореографа Вера Фокина. С участием «представителей левого крыла» проходили все его послереволюционные спектакли, поставленные для профессиональных танцовщиков, – «Умирающий лебедь», «Эвника», «Шопениана» (в ее различных версиях), «Павильон Армиды», «Египетские ночи» и Bal poudré, – причем почти во всех постановках танцевали Павлова и Карсавина. В оригинальной версии «Карнавала», ставшей завершением цикла его собственных постановок, начавшегося с революцией, выступили не только Карсавина, но и трое из возглавлявших забастовку: Альфред Бекефи (также танцевавший в Bal poudré), Александр Ширяев и Василий Киселев.
Особенно близко в те годы Фокин общался с Петром Михайловым. В своих мемуарах хореограф описывает встречу у него дома в конце 1907 года, где собрались Бенуа и другие художники «Мира искусства» и где Михайлов по просьбе Фокина зачитывал бумагу «о необходимости слияния мира художников с балетом, о новом пути, на который вступил балет, о тех возможностях, которые открываются в обновленном балете для работы художников и музыкантов и т. д.». С изложенными взглядами, добавляет Фокин, он был «совершенно согласен»[27]. Существование такого вольнодумного сообщества говорит о безграничной преданности его участников новым идеям. С одной стороны, оно указывает на то, что происхождение фокинского художественного раскола сложным образом переплеталось с политическими событиями 1905 года, с другой – на то, что влиятельное содружество Дягилева уходит корнями в сообщество художников, сформированное этими событиями и появившееся на основе ранних начинаний Фокина. В этой «бодрящей» атмосфере «все чувствовали, – писал хореограф, – что создается новое дело, что рождается новый балет»[28].
Хотя Петипа пользовался огромным уважением в среде танцовщиков Императорского балета, поколение, достигшее зрелости в начале XX века, его художественные достижения уже относило к прошлому. «Постановки, создававшиеся после “Спящей красавицы”, становились все длиннее и длиннее», – вспоминает Карсавина, известнейшая исполнительница спектаклей Фокина, которая, однако, прекрасно владела и репертуаром Петипа:
Сюжет был только нитью, на которую нанизывались многочисленные баллабили. Хотя хореографическое мастерство никогда не изменяло Петипа… он терял из виду… внутреннюю мотивацию танцев… «Синяя Борода» [например] (1896)… содержала несколько танцевальных номеров, весьма слабо связанных с сюжетом. Они представляли собой картины сокровищниц Рауля Синей Бороды в то время, когда их посещала его седьмая жена Изора… В одной из них танцующие ножи, вилки, ложки и тарелки сами по себе оказывались поводом для танцевальной сцены… сводя классический танец к абсурду. На самом деле балет «Синяя Борода» имел все черты рождественской пантомимы или французского ревю…[29]
Сомнения Фокина по поводу художественных традиций Мариинского театра возникли у него еще в начале карьеры профессионального танцовщика:
Когда я играл мимическую роль, то имел вид, соответствующий изображаемой эпохе, но когда танцевал классику, то выглядел как первый танцовщик, то есть «вне времени и вне пространства» <…> я чувствовал, что это нелепо, но такова была традиция. <…> Чем более исторически были точны костюмы у мимистов… <…> тем глупее, мне казалось, выглядели среди них мы, «классики» <…> с розовыми ногами, в коротких юбочках, имеющих вид раскрытого зонтика[30].
В 1904 году, в самый канун революции, Фокин предложил Теляковскому либретто «Дафниса и Хлои». Черновому наброску сценария этого двухактного балета он предпослал вводную заметку, где объяснялись принципы, которые предполагались к соблюдению при постановке. Написанные в форме пожелания, эти принципы представляют собой самую раннюю из художественных деклараций Фокина. Он писал:
Пришло время осуществить эксперимент в постановке греческого балета в духе эллинского века. Балетмейстеры не должны совершать подобной ошибки: ставить танцы для русских крестьян в стиле Людовика XV или… сочинять танцы в манере русского трепака к французскому сюжету. Зачем повторять одну и ту же ошибку, ставя древнегреческие сюжеты: заставлять греков танцевать на французский манер?[31]
Фокинский призыв к аутентичности был как неотъемлемой частью его эстетики, так и средоточием большинства его недовольств, связанных с Императорскими театрами. С самого начала его идеалы представляли собой идеалы натуралиста: искусство должно воплощать расу, момент и среду – как в известном высказывании Тэна, – а не твердо следовать классическим установлениям:
Поскольку жизнь в разные эпохи различна и различны жесты людей, то танец, отображающий жизнь, должен варьироваться. Египтянин времен фараонов совершенно не похож на маркиза восемнадцатого столетия. Пламенный испанец и флегматичный житель Севера не только говорят на разных языках, но и используют различные жесты, которые никто не изобретал, но которые породила сама жизнь[32].
В наши дни натурализм утратил былую популярность, и зачастую мы говорим об этом наукообразном отпрыске реализма с пренебрежением. Однако в свое время натурализм являлся живительным течением, которое стремительно относило художника к реальному миру трущоб, шахт, публичных домов и бульварных театров, сообщая ему эмпирические методы ученого и внушая, что искусство есть средство социальных преобразований. Хотя Фокин остерегался заходить слишком глубоко, с ранних лет его пытливый ум вырывался далеко за пределы Театральной улицы. В каникулы он каждый день совершал походы в Эрмитаж и срисовывал статуи и картины из его богатейшей коллекции. В период кризиса, наступившего после его дебюта как танцовщика, он вдоль и поперек исходил Петербург, посещая уроки живописи, изучая анатомию, рисование углем и маслом, и проводил много времени, погрузившись в книги по искусству. «Мне надо было много учиться, чтобы попасть в Академию, – писал он позднее, – что отныне стало моей мечтой»[33].
Кроме живописи, его помыслами владели музыка и путешествия. Он ездил по разным уголкам России, удаленным от Петербурга, и за границу. В первую свою поездку, выехав из столицы в вагоне третьего класса, он посетил Москву, Нижний Новгород, увидел Волгу, Каспийское море и Кавказ; во второй раз побывал на землях Древней Руси – в Киеве, в Крыму; следующее путешествие привело его в Будапешт, Вену, в Италию. Увиденное там оживило истории, хранившиеся в его памяти. Казалось, что у могучей Волги стоит Стенька Разин, готовый бросить в волны свою возлюбленную персидскую княжну, а в Бахчисарае «фантастическое, царственное великолепие» «Тысячи и одной ночи» смешивалось с пушкинскими строками. Сокровищами Венеции, Флоренции, Рима, Помпеев Фокин «наслаждался, упивался и в то же время приходил в отчаяние», что его мозг «не успевает ни полностью воспринять, ни удержать в памяти все виденное»[34]. Везде, где бы он ни был, он встречал танцевальные образы. С Кавказа привез воспоминание о легкой, гордой походке черкесов; из Италии – множество открыток и репродукций картин, изображающих танец, которые положили начало его богатой коллекции ритуальных и фольклорных материалов.
Вернувшись домой, Фокин стал сотрудничать с музыкальными кружками, которые стремились удовлетворить возросший в обществе интерес к русской народной музыке. Он играл на мандоле с профессионалами из Мариинского театра и на балалайке на концертах для заводских рабочих, а также выступал вместе с ансамблями, исполнявшими русскую фольклорную музыку на народных инструментах. В ходе этого, как он выразился сам, «дилетантского музицирования» он научился обращаться с партитурами и даже сочинять – в степени, достаточной для того, чтобы оркестровать целые произведения для своих выступлений. Это не только научило Фокина глубже понимать музыку, но и хорошо дало понять, какое воздействие может оказывать музыка на слушателей. Когда изысканная публика была до слез растрогана песней волжских бурлаков «Эй, ухнем!», это поразило его силой, с какой живое искусство может воздействовать непосредственно на чувства. Он нашел в этом подтверждение тезиса Толстого о том, что сущностью всякого истинного искусства является «передача чувства, заражение им зрителя»[35]. До сих пор он представлял это лишь теоретически, но теперь этот тезис стал частью его художественного кредо, как, впрочем, и другое высказывание Толстого: искусство принадлежит широким массам, а не «узкому кругу балетоманов», которые посещают Мариинский театр. Это убеждение еще больше окрепло после чтения Фокиным политической литературы – Петра Кропоткина, Михаила Бакунина, Августа Бебеля и Фердинанда Лассаля, с трудами которых его познакомили сосланные из России социалисты, встреченные им в Швейцарии[36].
Все это наложило глубокий отпечаток на мировоззрение Фокина. С самого начала хореографической карьеры его работы были наполнены острым чувством истории. Он был убежден, что сюжет, период и стиль в балете должны соответствовать времени и месту сценического действия, что акту творчества должны сопутствовать эмпирические наблюдения и исследования, что выразительность рождается из соответствия изображения и реальности. Под эгидой истории Фокин и начал свое наступление на балетные условности.
Со времен романтизма реализму в балете принадлежало заслуженное место, однако он существовал скорее как дополнение к классическим традициям, в рамках двойственности, отличавшей все грани постромантического стиля. Двойственность эта выражалась в структуре изложения сюжета (мимические сцены – эпизоды чистого танца), в танцевальной манере («характерный» или народный танец – академический танец), в стилистике жестов (пантомимные – символические), в костюмах (исторически точные костюмы – балетные пачки), даже в обуви танцовщиков (сапоги и мягкая обувь – пуанты). Все эти проявления двойственности, впервые оформившиеся в систему в 1830-х годах, с течением века становились все более условными. Для Фокина они были проклятием.
Вместо двойственности Фокин добивался полного единства выразительных средств. Перед ним открывались две перспективы: либо обойтись без реализма, либо отойти от классики. Как показала практика, в большинстве случаев он выбирал второй путь. Но даже в работах, выполненных в классическом стиле – «Шопениане» с ее ранними версиями, «Прелюдах» и «Эросе», – он включал хореографический материал в исторический контекст. Как красноречиво выразился Андрей Левинсон, «обостренная чувствительность»[37] Фокина указывала ему на то, что классика состоит не в создании вневременных образов, но в воссоздании стиля, ассоциирующегося с романтической эпохой, раем первозданной чистоты для хореографа. Более поздние приобретения века – виртуозность, акробатика, игра на публику – виделись ему причиной художественного упадка в балете.
Если реализм выступил фундаментом здания фокинской поэтики, то этнография обеспечила его строительным материалом. В работах Петипа характерные танцы придавали хореографии живую плоть, наделяли ее историческими особенностями, а свойственная им телесная динамика и интенсивность эмоций были весьма созвучны представлениям Фокина. К концу столетия тем не менее стилизация стала подрывать как полнокровность народных танцев, так и их подлинную близость к фольклорным истокам. Александр Ширяев писал:
Будучи последователем классического балета, Петипа пришел к характерному танцу именно от него, а не от народных танцев. Сарацинский танец в Раймонде основан на классических движениях pas de basque и ballonnée, испанский панадерос в том же балете – также на pas de basque, индийский танец в Баядерке – на grand battement и так далее… Какими бы внешне блестящими и впечатляющими ни были характерные танцы Петипа, более справедливо рассматривать их как вариации классического танца на народные темы, а не как действительно народные танцы, даже в чисто театральном смысле[38].
Часто использовались пуанты и прыжковая техника классического танца (обычно это касалось китайского, японского и других «экзотических» стилей). Временами черты одного национального танца встречались в другом, особенно частым было смешивание испанских и итальянских форм. Несмотря на то что венгерские и польские танцы достигли «высокого сценического развития», отражая, в частности, наличие в Императорской труппе танцовщиков этих национальностей, другие, писал Фокин, «исказились до неузнаваемости»[39]. К рубежу веков характерный танец представлял собой лишь прикрытые нарядными одеждами национальные стереотипы.
Фокин восстановил жизнеспособность различных «диалектов» танца, которые, казалось, зачахли. Основываясь на живых образцах, он создал то, что получило наименование genre nouveau[40], форму, независимую от академической традиции и связанную исключительно с национальными и этническими стилями танца[41]. В период между 1906 и 1918-м – годом, когда он покинул Мариинский и окончательно обосновался на Западе, – Фокин также часто обращался к этому неиссякающему источнику. В «Виноградной лозе» Мария Петипа, чтобы показать дух венгерского вина, танцевала жгучий чардаш. В 1906 году появились также две постановки в испанском стиле – «Севильяна» и «Испанский танец», премьера которых прошла вместе с «Виноградной лозой». В 1907 году он впервые использовал в работе материалы, собранные в поездках. Хотя «Эвника» была поставлена в античном стиле, винный мех из овечьей шкуры, вдохновивший Фокина на идею танца с бурдюками, представлял собой предмет домашнего быта на Кавказе. В том же году он поставил первую версию «Шопенианы», grand ballet в миниатюре, в котором две классические композиции – Ноктюрн и Вальс – шли в обрамлении сцен характерного танца. Балет открывался блестящим Полонезом, бальным танцем, созданным, как писал Фокин, «в период расцвета польской шляхты»[42]. Третья картина – Мазурка Шопена – представляла собой свадьбу в польской деревне. Пятой и завершающей сценой была Тарантелла, где Фокин стремился «передать подлинный характер народных плясок», которые он «изучил особенно на острове Капри»[43]. Хотя Тарантелла была (как и другие характерные танцы) исключена год спустя из последующей, классической версии балета, ее постановка ознаменовала собой новый этап фокинского подхода к фольклорному материалу. Впервые он экспериментировал, «оглядываясь на танцы народа среди природы»[44], определяя свой идеал как симфонию, созданную из живых форм. Вновь и вновь Фокин совершенствовал свой метод. При постановке «Тамары» для Русского балета в 1912 году он создавал неистовые, бурные танцы для этой грузинской легенды на основе своих кавказских воспоминаний. Балет «Стенька Разин», премьера которого состоялась на благотворительном концерте в Мариинском театре в 1915 году, начинался картиной на берегах Волги, напоминавшей о первом путешествии Фокина по Центральной России. На следующий год все в том же Мариинском театре он представил публике «Арагонскую хоту», сюиту из испанских танцев, на которую его вдохновила поездка в Андалузию в 1914 году. В этой постановке он приложил все усилия не только к тому, чтобы воспроизвести ритм, па и характерные черты иберийских танцев, но и к тому, чтобы передать «веселье и радость, так свойственные подлинной народной пляске»[45].
Над этими балетами Фокин работал прежде всего как этнограф, применяя натуралистические методы для изучения ныне живущих народов. Имея дело с прошлым, он вел точно такие же исследования, тщательно разыскивая в библиотеках и музеях следы ушедших цивилизаций. Замысел «Дафниса и Хлои» возник из античного романа Лонга, замысел «Эвники» – из либретто, написанного по роману Генрика Сенкевича «Камо грядеши?»; «Шопениана» и «Карнавал» были вдохновлены эпизодами из жизни композиторов, их написавших[46]. Однако литература была лишь отправной точкой: в Танце трех египтянок из «Эвники» Фокин старался скопировать профильные положения и угловатость линий с древних фресок и барельефов. Он одел трио в облегающие туники и парики, соответствующие эпохе, велел покрыть тело темной краской и с помощью грима удлинить глаза для сходства с египетскими изображениями. Этот танец стал предшественником балета «Египетские ночи», поставленного в 1908 году и включенного под названием «Клеопатра» в парижский репертуар Русского балета год спустя. Профильные положения и плоские ладони сохранялись теперь на протяжении всего балета, а эффект угловатости пластики стал преобладать в расположении групп. В ходе постановки Фокин погрузился в изучение Древнего Египта и в свободное время забегал в Эрмитаж, где окружал себя посвященными Египту книгами. На постановку Танца со змеей, который он создал для Павловой, его вдохновила репродукция, найденная во время блужданий по музею. Для балета «Синий бог», поставленного для Русского балета в 1912 году, он занимался схожими исследованиями. В угловатых положениях рук и ног, ладонях, обращенных кверху, и согнутых пальцах танцовщиков отразилось влияние на Фокина индусской скульптуры.
Временами, однако, воображение заменяло в его методе «археологию». «Шехеразада», которая потрясла Париж в 1910-м, была полностью ориентальной фантазией. «Танцовщица с босыми ногами, – писал он позже, – танцующая главным образом руками и корпусом… как это было далеко от балетного Востока того времени!»[47] В равной степени созданными воображением были и «Половецкие пляски», поставленные для оперы Бородина «Князь Игорь» и показанные Дягилевым в 1909 году. При их подготовке Фокин оказался в затруднении. Его исследования ни к чему не привели: о древнем племени половцев достоверно ничего не было известно. После долгих размышлений и сомнений он начал сочинять: «Я верил, что если половцы танцевали и не так, то под оркестр Бородина они должны танцевать именно так»[48]. Фокин несколько преувеличил вклад своего воображения: его «Половецкие пляски» имели значительное сходство с созданным ранее дивертисментом в хореографии Льва Иванова, долгое время работавшего ассистентом балетмейстера у Петипа. (Николай Рерих, создававший оформление для постановки, в свою очередь столкнулся с проблемой поиска необычного стиля одежды: в его эскизах смешивались характерные черты якутских и киргизских национальных костюмов.)
Genre nouveau отличался от характерных танцев как верностью историческим источникам, так и яркой эмоциональностью. Но не только это отделяло его от предшественников. Неотъемлемым от фокинского этнографического метода было признание разнообразия народов и многоликости их культур – вера в то, что плюрализм будет править в лучшем из возможных миров. В противоположность этому, русский балет XIX столетия обладал одновременно имперским и империалистическим видением. В нем нашли законченное театральное выражение идея обширной и разрастающейся Российской империи и поддерживавшая ее идеология панславизма. Одной из постановок, которую Александр Бенуа в детстве смотрел «с неостывающим интересом», была «Роксана, краса Черногории». Впервые исполненная в 1878 году – лишь месяцы спустя после того, как русская армия освободила Черногорию от ненавистных турок, – она была «ознаменованием увлечения русского общества идеей освобождения славян на Балканах»[49]. Другой популярный балет, «Конек-Горбунок», противопоставлял русского крестьянина, ставшего царем, омерзительному распутному хану. Поставленный в 1864 году, когда генерал Черняев начал наступление на ханство в Туркестане, балет заканчивался грандиозным националистическим финалом. «В глубине сцены, – вспоминал Бенуа, – появлялся новгородский памятник тысячелетия России, а перед ним на сцене дефилировал марш из народностей, составляющих население Российского государства и пришедших поклониться Дураку, ставшему их властелином. Тут были и казаки, и карелы, и персы, и татары, и малороссы, и самоеды»[50]. Фокинский genre nouveau содержал собственный политический подтекст: это становится ясным из той яростной критики, которая появилась в 1911 году в реакционной газете «Новое время». Статья М. О. Меньшикова обличала Фокина как еврея (кем он в действительности не был) – а следовательно, как художника, которому чужда исконная российская культура. В качестве свидетельства автор привел постановку «Половецких плясок», где прославлялись варварские половцы, а не русские христианские воины[51].
До встречи с Александром Бенуа в 1907 году Фокин редко общался со своими будущими сотрудниками. Несмотря на это, родство между их произведениями было заметным. Хотя «краеугольным камнем “Мира искусства”» стал в общих чертах оформившийся символизм[52], художники, собравшиеся вокруг журнала, в своей программе провозглашали выход за пределы чистого эстетизма. Действительно, пусть даже они отрицали утилитаризм художников-реалистов, известных как передвижники, в творчестве дягилевских художников довоенной поры обнаруживалось влияние прежней школы: оно проявлялось в их очарованности национальными мотивами и в стремлении изображать сюжеты в их детальном соответствии месту и времени.
Как и Фокин, многие художники вступили в пору зрелости во время подъема неонационалистских настроений, охвативших Россию в конце столетия. Практически всех затронуло стремление оживить исконные формы искусства, а многие участвовали в объединениях художников, основанных Саввой Мамонтовым в Абрамцеве и княгиней Марией Тенишевой в Талашкине. Там возникли мастерские прикладных искусств в духе британского движения Arts and Crafts (Искусства и ремесла), где производились мебель, вышивка, игрушки и другие изделия русских народных промыслов, продававшиеся в Москве и Санкт-Петербурге. Обоим объединениям принадлежали обширные коллекции народного и древнеславянского искусства, уникальные собрания, вдохновлявшие художников на изучение легендарного и исторического прошлого. И в обоих сообществах художники, не удовлетворенные ограниченностью академического искусства, нашли себе конгениальное окружение, общество равновеликих единомышленников, совместно с которыми они могли вести исследования и творить.
Княгиня Тенишева, представительница Петербурга, ранее других установила отношения с будущими художниками дягилевского круга. В 1895–1899 годах Бенуа служил в качестве куратора ее коллекции живописи и графики, в то время как Иван Билибин начиная с 1898 года обучался в ее художественной студии под руководством Ильи Репина, величайшего из живущих представителей русского реализма. После 1893 года, когда она приобрела в собственность Талашкино, поместье стало местом летних встреч различных групп художников и интеллектуалов: среди тех, кто посещал Талашкино в 1890-е годы, были Федор Шаляпин, Александр Головин, Константин Коровин, Николай Рерих и Дмитрий Стеллецкий – все они впоследствии принимали участие в дягилевской театральной антрепризе. Более того, в 1898 и 1899 годах княгиня оказывала финансовую поддержку изданию «Мира искусства».
Вклад Тенишевой в предысторию Русского балета был значительным, но деятельность Мамонтова в этом смысле оказалась гораздо важнее: в оперной труппе, выросшей из любительских постановок в Абрамцеве в 1870-х и начале 1880-х, исследователи усматривают музыкальный и художественный прообраз первоначальных Русских сезонов Дягилева. В 1896–1899 годах Московская частная русская опера (так Мамонтов переименовал «Русскую частную оперу Кроткова», основанную им в 1885 году) стала центром провозглашения национализма в оперном искусстве: за этот недолгий период здесь были поставлены не менее одиннадцати произведений русских композиторов. Репертуар включал в себя оперы «Орлеанская дева» Чайковского, «Жизнь за царя» Глинки, «Юдифь» Александра Серова, «Аскольдова могила» Алексея Верстовского, однако в большинстве своем он состоял из произведений руководителя объединения «Могучая кучка»[53]. Николай Римский-Корсаков действительно занимал главенствующее положение в мамонтовской труппе – не только в Москве, где дирекция труппы располагалась в театре Солодовникова, как раз напротив Большого театра (один из примеров того, как географическое расположение оказывается символом положения художественного), но и в Санкт-Петербурге, куда труппа часто наносила визиты. В эти годы было представлено пять работ Римского-Корсакова: «Иван Грозный» («Псковитянка»), «Садко», «Снегурочка», «Майская ночь», «Моцарт и Сальери», – а также его редакции опер Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина». Все оперы, за исключением «Снегурочки» и «Моцарта и Сальери», были впоследствии показаны Дягилевым, так же как и отдельные сцены из «Юдифи»[54]. Даже расширяя репертуар, Дягилев придерживался направления, заданного Мамонтовым. Так, наряду с «Русланом и Людмилой» Глинки, «отца русской оперы», был поставлен и «Князь Игорь» Бородина, также принадлежавшего к «Могучей кучке». Представляя публике Стравинского с его первым балетом «Жар-птица», написанным в 1910 году, Дягилев видел его в роли наследника неонационалистской короны Римского-Корсакова.
Музыка, однако, не была единственной сферой, в которой политика Мамонтова оказалась своеобразным прецедентом для Русского балета. Художники собирались в Абрамцеве на протяжении более двадцати лет, и с самого начала Мамонтов ориентировал их таланты на театральное дело. Цикл опер, поставленный его труппой в конце 1890-х годов, представлял целую плеяду художников из числа будущих сотрудников Дягилева. Крупнейшими из них были Константин Коровин, главный театральный художник Мамонтова, Александр Головин, Валентин Серов[55]. Подобно передвижникам, они избрали предметом своего искусства темы русской жизни и российского прошлого. Но, в отличие от предшественников-реалистов, они окружили этот материал аурой красоты, столь чуждой утилитаристскому духу прошлого поколения. Открытые западным веяниям, они использовали новые приемы, наполняли композиции движением и воплощали сюжеты с виртуозной техникой живописи и богатством цвета. В период с 1896 и до 1899 года, когда Мамонтов оказался под следствием по обвинению в растрате, его студия создала декорации и костюмы для более десятка опер. Несмотря на то что работы числились за отдельными художниками – Коровин был автором «Садко», Серов – «Юдифи», Михаил Врубель – «Моцарта и Сальери», – в действительности они были плодом совместного творчества. Речь идет не только об интенсивном взаимном обмене идеями: часто некоторые художники выступали как в качестве авторов эскизов (к примеру, Врубель создал костюм морской царевны для «Садко»), так и в роли мастеров, писавших декорации: позднее их стали отдельно обозначать в афишах. Такой метод совместной работы, как и практику использования художников-станковистов вместо профессиональных декораторов, Дягилев стал применять с первых дней.
Кроме того что работа Коровина, Головина и Серова предопределила подход Дягилева к технической стороне постановки, она также привнесла в его антрепризу русский дух. В 1908–1910 годах эти трое подготовили декорации, а в некоторых случаях и костюмы, для спектаклей «Борис Годунов» (Головин), «Пир» (Коровин), «Юдифь» (Серов), «Иван Грозный» (Головин), «Руслан и Людмила» (Коровин), «Ориенталии» (Коровин) и «Жар-птица» (Головин). В 1911 году Серов также создал просцениумный занавес в духе персидских миниатюр, который сопровождал увертюру Римского-Корсакова к «Шехеразаде», а двумя годами позже Головин оформил возобновление «Ивана Грозного». Все эти усилия были логическим продолжением неонационалистских настроений, шедших из Абрамцева, и стали точкой сближения со сходно мыслящими художниками из Петербурга – Билибиным, Стеллецким, Рерихом, Бакстом и Бенуа, – также участвовавшими в некоторых из постановок. Тем не менее «русскость» с самого начала не поддавалась строгому определению: она имела оттенок ориентализма, который был общим знаменателем для России и Востока в понимании Парижа. Даже в Абрамцеве между национальным материалом и экзотикой проходила очень тонкая грань. Действительно, для самых разных художников России конца XIX века Россия и Восток представлялись в воображении чем-то сходным. Для империи, через которую тянулась Транссибирская железная дорога и на чьей земле были Бухара, среднеазиатский священный город мусульман, Бахчисарай и Одесса, «иным» в культурном отношении был скорее не Восток, а Запад. Формирование представления о России как исторически и этнически незападной стране, ставшее ключевым элементом в идеологии довоенной дягилевской антрепризы, было еще одним из проявлений наследия Мамонтова[56].
Для Льва Бакста и Александра Бенуа, ведущих творческих фигур у Дягилева в предвоенный период, приверженность русской национальной тематике не была первостепенной. Они отвергали славянское наполнение неонационализма, сохраняя присущий ему эмпирический и исторический метод.
В случае с Бакстом его связь с передвижниками очевидна. Она возникла в середине 1880-х годов, когда, будучи студентом Петербургской академии художеств, он познакомился с Михаилом Нестеровым, Виктором Васнецовым и Валентином Серовым, художниками круга Абрамцева. Серов, который некоторое время учился в академии у Репина, стал близким другом Бакста. Работы последнего, выполненные в конце 1880-х – начале 1890-х, с такими названиями, как «Пьяный факельщик» («Бредущий с похорон»), «Отчаяние» («Самоубийца»), «Супруги» («Мезальянс»), продолжали передвижническую традицию верности социальной правде, совмещая в себе реалистическое изображение действительности с интересом к наиболее мрачным ее сторонам. В 1890-е годы Бакст постепенно отходил от этой эстетики. В этом, в частности, проявилось его знание новых тенденций в живописи, приобретенное в Париже, куда он часто ездил и где периодически жил до 1899 года. Не меньшее значение имел его возросший интерес к природе. Как Фокин несколько позднее, Бакст в это переходное для него десятилетие покинул студию, рисуя пейзажи с натуры, делая наброски сцен деревенской жизни или запечатлевая изменяющиеся картины неба, а также написал первые из целой серии замечательных портретов. В 1897 году, застав свою возлюбленную в объятиях другого, он уехал в Северную Африку, и это путешествие обозначило для него начало увлечения Ближним Востоком, колыбелью ориентализма, столь ярко представленного в его работах для Русского балета. Поездка десять лет спустя в Грецию и знакомство с греческой, арабской и тюркской культурами произвели на него столь же неизгладимое впечатление.
Тем не менее, как и у Фокина, в основе бакстовского воображения лежал интеллектуальный акт – историческая реконструкция времени и места. Задолго до того как он получил свой первый заказ у Дягилева, он применил свои энциклопедические знания об искусстве прошлого при создании более чем полудюжины постановок, главным образом в Императорских театрах. Работая над «Сердцем маркизы» (1902), своим первым театральным опытом, и «Феей кукол» (1903), он вдохновлялся европейскими стилями XIX века, в частности немецким стилем бидермейер, к которому обратился также в «Карнавале» (1910), «Видении Розы» (1911) и «Бабочках» (1914). При постановке «Ипполита» (1902), «Эдипа в Колоне» (1904) и «Антигоны» (1904), аттических трагедий или пьес на их основе, он не стал дополнять современные костюмы греческими деталями, что было тогда распространено в театральной практике, а вместо этого предложил реконструировать классические древнегреческие костюмы, как делал и позже – в балетах «Нарцисс» (1911), «Дафнис и Хлоя» (1912), «Послеполуденный отдых фавна» (1912). Его костюмы для «Саломеи» (1908) в исполнении Иды Рубинштейн были созданы в восточном духе, предвосхищая экзотику «Клеопатры» (1909), «Шехеразады» (1910), «Тамары» (1912) и «Легенды об Иосифе (1914). Как отмечал Чарльз Майер, в основе всех этих постановок лежали глубокие знания из разных сфер художественной культуры, обогащенные и личными наблюдениями – как те, которые художник приобрел в 1912 году за несколько недель пребывания на Кавказе, когда готовился к постановке «Тамары»[57]. Такое углубленное погружение в историю диктовалось не теоретическими устремлениями. Для Бакста, как и для Фокина, изображение реальности в свете вновь обретенного знания, а не в духе общепринятых условностей было актом нововведения и освобождения. Натурализм, очищенный от его прогрессистской идеологии, был шагом вперед, способом увидеть нечто радикально новое. Как и другие художники с периферии Европы, Бакст открыл для себя подлинную реальность намного позже, чем представители парижского центра.
Что касается Александра Бенуа, то он руководствовался в творчестве сходными убеждениями. Однако истоки стремления Бенуа, сына Петербурга и внука Парижа, к аутентичности лежали в более глубоком прошлом. В центре его одержимости прошлым были три исторических момента: grand siècle[58] Версаля, воплощение французской цивилизации эпохи классицизма; Петербург времен Петра, истинно римская экспансия на болотистые северные земли, осуществленная актом колоссальной воли; и готическая Центральная Европа, выписанная в сказках Гофмана. Для Бенуа искусство представляло собой акт, посредством которого настоящее осознает необходимость оживления прошлого. Он с маниакальным усердием рисовал Версаль и Петербург, словно мог, воссоздавая их памятники, воскресить породившие их цивилизации – но понимал, что картины, выражающие тоску по этим цивилизациям, лишь свидетельствуют об их гибели. Уже в самых первых театральных работах Бенуа прослеживается влияние его серьезных увлечений. В «Мести Купидона», поставленной в Эрмитажном театре одноактной опере, где Бенуа дебютировал в качестве театрального художника, он опирался на свое убедительное знание XVIII века. В показанной в 1903 году Мариинским театром «Гибели богов» он обращался к средневековому космосу вагнеровской древнегерманской мифологии. А когда в 1907 году Николай Дризен и Николай Евреинов выразили желание воссоздать театральные формы Средневековья и испанского золотого века, именно Бенуа выступал в качестве художественного и исторического консультанта их Старинного театра. В его трудах – как научных, так и публицистических, – равно как и в томах его выдающихся воспоминаний, память выступает объектом глубокого поклонения. Обрисованные в деталях события прошлого отправляют читателя в путешествие назад во времени. Весьма типично то, что журнал, который Бенуа издавал в 1907–1916 годах, носил почти прустовское название – «Старые годы»[59].
Бенуа, будучи пассеистом, нашел в лице романтика Фокина идеального товарища по работе. Хореограф писал об их первой встрече осенью 1907 года, которая привела в итоге к созданию «Павильона Армиды»:
Мы говорили о том, что нас обоих волнует, увлекает. Ушли в волшебный мир, в сады очаровательной Армиды. С первой встречи обозначилось то взаимопонимание, которое привело к стольким художественным радостям, к стольким победам.
Бенуа повел меня на мост под самый потолок. Голова кружилась и от высоты, и от радости. Под ногами у меня расстилалась декорация – роскошный павильон Армиды. Счастливый момент![60]
«Павильон Армиды» с оформлением в стиле рококо был по сердцу художнику. Он бесконечно суетился над костюмами а-ля Людовик XIV, подолгу подбирая цвета для тесьмы или кружевные вставки: успех работы в его понимании был неразрывно связан с воссозданием исторического колорита. Менее чем через четыре месяца Фокин и Бенуа работали вместе над постановкой Bal poudré, пантомимой в стиле арлекинады XVII века. За «Шопенианой» 1909 года, вызвавшей у них равный эмоциональный подъем, в 1911-м последовал «Петрушка», их четвертая совместная работа – и вторая постановка на тему комедии дель арте. Наполненные прустовскими деталями, оба балета в поисках утраченной чистоты взывали к прошлому: первый – посредством романтических литографий, второй – через призму воспоминаний. Как и Бакст, Бенуа видел в верности образам эпохи способ передачи эмоциональной и поэтической правды.
Защита Фокиным сценического реализма оказалась глубоко созвучной историческим устремлениям художников круга «Мира искусства». Более того, она, безусловно, ставила его работу в один ряд с новаторскими начинаниями в драматическом театре, и прежде всего с реформами Константина Станиславского в Московском Художественном театре. В «Русском театре от Империи до Советов» Марк Слоним говорит об «археологически-историческом реализме», ставшем известным благодаря прославленной труппе Станиславского, «одной из наиболее важных тенденций» из тех, что способствовали изменениям в русской театральной жизни начала XX столетия:
Станиславский применял один и тот же метод исследования и реконструкции во всех исторических пьесах, будь то «Венецианский купец» или «Юлий Цезарь». При постановке последней он поехал вместе с актерами в Рим и позже воссоздал на московской сцене узкие улочки, Форум и живописную южную толпу города Цезаря. Такое же путешествие труппа совершила на Кипр, когда готовилась к постановке «Отелло». Чтобы публика могла осознать, насколько серьезной была подготовительная работа, показ новых спектаклей сопровождался соответствующими выставками. Так, зрители, пришедшие на «Юлия Цезаря», могли ознакомиться в фойе с русскими переводами Шекспира и увидеть подлинные предметы римской эпохи – монеты, оружие, а также картины и гравюры[61].
Как и Фокин, Станиславский рассматривал стиль как создание исторической иллюзии, основанной на прямом наблюдении реальности, совмещенном с исторической реконструкцией.
Первый петербургский сезон Московского Художественного театра, основанного в 1898 году, состоялся тремя годами позже. Фокин был среди публики[62]. Таким образом, он открыл для себя ранние постановки Станиславского именно в ту пору, когда происходило его художественное становление и когда ему нужно было, по его собственному убеждению, искать новые способы творческой самореализации. Семья Фокина также была связана с театром. Его брат Владимир стал известным актером; другой брат, Александр, организовал Троицкий театр миниатюр (в котором его жена, солистка Мариинского театра Александра Федорова, появлялась как прима-балерина)[63]. Хотя Фокин не упоминает об этом, эпохальные постановки Станиславским пьес Ибсена и Чехова определенно оставили след в его юношеском воображении. Свойственные им артистизм и убедительное воспроизведение времени и места, должно быть, внушили ему представление о будущих возможностях, о той силе воздействия, которой может обладать искусство в его высшей форме. Эти постановки продемонстрировали образцы стилистического единства, построения драматического действия и психологической достоверности, нашедших отражение в раннем творчестве Фокина.
Между труппой Дягилева и Московским Художественным театром существовало множество связей, о которых редко упоминают в исследованиях по истории Русского балета.
Бенуа «любил наш театр, знал его», – писал Владимир Немирович-Данченко, вместе со Станиславским основавший знаменитую труппу. В 1909 году, на высшей точке сотрудничества с Дягилевым, Бенуа вступил в тесный союз со Станиславским, став художником и сорежиссером его театра. Он сыграл заметную роль в полемике, которая разразилась в 1910 году вокруг постановки «Братьев Карамазовых» Немировича-Данченко, и, по распоряжению Станиславского, участвовал в составлении открытого ответного письма наиболее суровому критику пьесы – Максиму Горькому. Два года спустя Бенуа присоединился к труппе не только в качестве художника, но и – в ряде случаев – сопостановщика[64].
Другой фигурой на пересечении интересов этих двух трупп был Александр Санин, покинувший Художественный театр в 1902 году. Санин был штатным режиссером Александринского театра и стал одним из первых, кто в Императорских театрах признал талант Фокина. В 1905 году, увидев балет «Ацис и Галатея», он попросил хореографа поставить танец шутов для драмы Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного», но эта просьба была отклонена Александром Крупенским: тот сказал Санину, что «не имеет права помимо конторы выбирать себе сотрудников»[65]. Санин в гневе покинул Александринский театр. Тем не менее в 1908 году Дягилев пригласил его руководить постановкой «Бориса Годунова», а еще через год – ставить для Парижа оперы «Иван Грозный», «Руслан и Людмила», «Юдифь», «Князь Игорь». В 1913 и 1914 годах, вновь обратившись к постановке опер, Дягилев снова позвал Санина, который подготовил спектакли «Борис Годунов», «Хованщина» и «Соловей» (последний вместе с Бенуа)[66].
Еще одним человеком на пересечении был Савва Мамонтов, чья жажда деятельности после возвращения из долговой тюрьмы – в отличие от его состояния – нисколько не уменьшилась. В 1905 году он объединил свои силы со Станиславским, став содиректором Театра-Студии, экспериментальной труппы, существовавшей при Московском Художественном театре. Под руководством Мамонтова к сотрудничеству с театром были привлечены художники, приверженные новым направлениям, – в частности, Николай Сапунов и Сергей Судейкин, ученики Коровина и Серова, присоединившихся к кругу мирискусников. В 1906 году Дягилев пригласил Судейкина в Париж в связи с организованной им в Осеннем салоне выставкой русской живописи. Через семь лет Судейкин оформил спектакль «Трагедия Саломеи» для Русского балета. Еще одним художником, близким к кругу мирискусников, который работал для труппы Дягилева после сотрудничества со Станиславским, был Мстислав Добужинский. В 1906 году он оформил «Горе от ума» для Художественного театра, а тремя годами позднее в постановке «Месяц в деревне» обратился к стилю бидермейер, который столь успешно будет использован Бакстом год спустя в постановке «Карнавала». (Влияние это не было полностью односторонним: так, Станиславский перенес действие пьесы Герхарта Гауптмана «Шлюк и Яу», поставленной в Театре-Студии в 1905 году, из средневековой Силезии во времена париков Людовика XIV – после того как посетил великолепную выставку портретов XVIII века, организованную Дягилевым в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге[67].)
Воздействие Художественного театра распространилось и на балет. В Большом театре влияние Станиславского имело значительные последствия, и началось оно почти одновременно с созданием Художественного театра в 1898 году – в тот год, когда из Мариинского театра пришел характерный танцовщик и подающий надежды хореограф Александр Горский. Возобновление им «Дон Кихота» в 1900 году было «не менее чем революционной реформой в балете», как писала историк балета Наталья Рославлева:
Влияние Художественного театра было особенно заметным в первом акте старого балета Минкуса. Вместо застывших линий кордебалета там появилась живая толпа людей, которые двигались и смеялись, продавая свои товары на базарной площади. Вместо традиционно-условных костюмов появились настоящие испанские платья[68].
Горский сформировал целое созвездие танцовщиков-актеров: Михаил Мордкин, Федор Козлов, Александр Волинин, Лаврентий Новиков, – все они впоследствии танцевали у Дягилева. Его открытием стала Софья Федорова, непревзойденная в главной роли половецкой девушки у Фокина. Станиславский, в свою очередь, приглашал Мордкина, чтобы тот обучал его актеров выразительной пластике.
Наряду со сценическим реализмом работа Фокина воплощала еще один принцип Художественного театра: отношение к ансамблю как к живому коллективу. «Новый балет… идет вперед, – говорил он в письме в лондонский “Таймс” в 1914 году, – от выразительности лица к выразительности всего тела, от выразительности индивидуального тела к выразительности группы тел и выразительности массового танца всей толпы»[69]. Слово «толпа» здесь – ключ к пониманию его формального метода и освободительного видения, пронизывавшего его работу. Устранив диагональные и прямоугольные построения, типичные для Петипа, Фокин превратил кордебалет в то, что критик Валериан Светлов назвал «собирательным артистом, проникнутым идеей и стилем постановки, живущим внутри ее и в ней взаимодействующим»[70]. В балетах Петипа кордебалет служил окружением балерины, помещая ее в рамки столь же четкие, как этикет Императорского двора; она так же всецело руководила сценой, как царь – подданными. Вокруг нее, в порядке возрастания значимости, располагались танцовщики менее высоких рангов: корифеи – группами по восемь человек; деми-корифеи – по четверо; деми-солисты – в парах; солистки и первые танцовщицы – в менее крупных ролях. В ирреальных сценах-видениях из «Баядерки» или «Спящей красавицы» расположение танцовщиков на сцене отражало существовавшую в Мариинском театре служебную иерархию.
В противовес этому, Фокин отменил всевозможные привилегии и внешние проявления рангов. В его работах балерина перестала существовать обособленно и стала сливаться со своим новым, демократизированным окружением. Даже в «Шопениане», напоминавшей о классических структурах «Жизели» и «Лебединого озера», он объединял солистов и ансамбль, позволяя солистам лишь временами – и недолго – проявлять себя на сцене индивидуально. В то же время он разбил имперские прямолинейные массовые построения Петипа, заменив их небольшими асимметричными группами, которые, перемещаясь, образовывали постоянно изменяющиеся узоры. Отмена градаций, произведенная Фокиным, имела, таким образом, два следствия: свергнув с престола королеву в «пчелином улье» Петипа, он наделил человеческими чертами «трутней», которые существовали вокруг нее.
Фокинский «освобожденный» ансамбль появился в его работах довольно рано и затем часто возникал вновь. В «Виноградной лозе» завсегдатаи кабачка и вина, которые они пили, появлялись в едином танце в финальной вакхической сцене. Эта концовка, вариант традиционной коды, стала прототипом той бешеной, бесшабашной толпы, которая бросала в восторженную дрожь зрителей довоенных фокинских постановок. По поводу «шокирующей брутальности» «Шехеразады» Арнольд Беннетт писал:
Ужас. В ошеломляющем великолепии Русского балета публика видела евнухов за работой, с турецкими ятаганами в руках. За безумной оргией последовало варварское наказание, ужасное и отталкивающее; безусловно, это был один из кровавейших эпизодов, когда-либо показанных на западной сцене. Евнухи в бешенстве преследовали хрупких и прекрасных одалисок; в одно мгновение сераль был полон телами зарубленных девушек, лежащими в самых уродливых позах смерти. И затем наступала тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием палачей[71].
Толпа притягивала Фокина как средство противостояния сценической и социальной иерархии балета. Привлекали его и свойственная толпе изменчивость, заложенная в ней склонность к жестокости, выходящая за пределы эмоциональность, способность толпы к совместным действиям и чувствам. «В каждом почти балете М. М. Фокина, – писал Андрей Левинсон, – есть момент, когда все участвующие, без различия их предшествующей хореографической роли, берутся за руки и образуют длинную цепь… которая свертывается в концентрические круги и несется в темпах, все более ускоряющихся»[72]. Смерть Амуна в «Клеопатре» происходит в ходе жестокой оргии, где толпа превращается в единую извивающуюся массу. Разгул, предшествующий финальной бойне в «Шехеразаде», происходит в той же конвульсивной форме. Левинсон пишет:
И начинается тайный пир. Высоко держа над головами блюда с нагроможденными плодами, вбегают… огибая сцену широкой дугой, пестрые индусские юноши-слуги, за ними, одна за другой, непрерывной цепью следуют розовые альмеи в темно-красных чадрах, за ними зеленые – и вскоре вся сцена охвачена вихрем всеобщего хоровода, сплетающегося во все мыслимые фигуры, точно извилистая геральдическая змея[73].
В картинах стихии, необузданной, внезапным хаосом обрушивающейся на размеренную жизнь общества, Левинсон усматривает определенный подтекст этих конвульсивных оргий, которые лишь в редких случаях имеют эротический смысл. Фокинская толпа воспроизводит пароксизмы самой революции: буйство вырвавшихся на свободу масс, опьянение кровью, триумф инстинкта над разумом, освобождение индивида через коллективное действие. В отличие от Левинсона, который с недоверием относился к любым изменениям, Фокин приветствовал борьбу старого и нового: революция разрушила многое, но многое и создала. Наследие 1905 года, таким образом, не сводилось к рождению Фокина как хореографа или формированию группы его художественных последователей. Оно определило самую ткань его работ. Основываясь на принципе сценического реализма, прославленного Московским Художественным театром, он показал живую толпу как срез политической жизни общества: дух 1905 года продолжал существовать на сцене.
То, насколько Фокин был обязан Станиславскому, заметнее всего в «Петрушке» – возможно, его лучшей работе для Русского балета. В этой постановке он изобразил масленичные гулянья в Петербурге 1830-х годов со всем богатством деталей и верностью эталону прославленной толпы Станиславского в Художественном театре. Создавая это живое социальное единство, Фокин прежде всего стремился сделать незаметным участие постановщика:
Я хотел, чтобы все танцующие на масленичном гулянье танцевали весело, свободно, как будто никто им танцев не сочинял и не ставил, как будто они сами от избытка чувств и веселья пускаются в пляс, кому как бог на душу положит. Словом, чтобы ничего и не намекало на существование балетмейстера[74].
Фокин работал со своим материалом, как импрессионист, смешивая тональности движения, затем задерживал взгляд зрителя на неожиданном прыжке или жесте, который почти сразу же растворялся в общей массе. Описание Левинсоном четвертой картины передает сменяющийся поток образов, которые делают толпу столь живой и убедительной для русского зрителя 1911 года:
Тем временем на площади клубится праздничный угар, плывут, разводя руками и помавая ладонями, раскрасавицы «кормилицы» в сарафанах и кокошниках, лихо стучат каблуками ямщики в цветных поддевках, с галунами на шляпах, несутся вприсядку бойкие парнишки, ряженые со страшными рожами вмешиваются в толпу, между тем как барыни, сопровождаемые статными офицерами в треуголках и шинелях и франтами в бекешах, брезгливо рассматривают в лорнеты грубые увеселения простонародья[75].
Натурализм простирался далеко за пределы того, как Фокин распоряжался массами на сцене. Его живая толпа была прежде всего собранием личностей – кучеров, цыган, уличных торговцев, кормилиц, шарманщиков, скоморохов, – которые выходили на сцену со своими биографиями и полно очерченной индивидуальностью. Партитура «Петрушки» – второго произведения, написанного Стравинским для Русского балета, – содержала темы для десятков характеров. Костюмы Бенуа соответствовали этому музыкальному разнообразию. Он прилежно изучил моду 1830–1840-х годов, создав более сотни костюмов представителей разных социальных слоев. Его декорации были также полны реалистических деталей: карусель, прилавки с пряниками, стол с кипящим самоваром… На репетициях Фокин работал вместе с Бенуа, который подсказал ему множество реалистических деталей, благодаря которым толпа не выглядела безликой массой, а представляла собой собрание разноликих персонажей.
Подобная индивидуализация, неотъемлемая часть фокинского метода, наводит на мысль о другой параллели со Станиславским, чей театр славился как реалистической игрой актеров, так и своим ансамблем. Фокин устранил то, что Осип Мандельштам назвал «смородинными улыбками балерин» и «растительным послушанием кордебалета»[76]. Он придал человеческие, индивидуальные черты каждому из танцовщиков, превращая его в актера и назначая ему свою роль в обширной драме. В отличие от своих последователей, представителей неоклассической хореографии, Фокин был уверен, что движения сами по себе не передают сюжет. Он чувствовал, что движение выразительно лишь в той степени, в какой оно схватывает эмоциональную и психологическую правду и близко к естественности. В своем письме 1914 года в «Таймс» он назвал вторым «правилом» нового балета необходимость драматической обоснованности танца и мимики – одно из фундаментальных положений теории актерской игры Станиславского. В отличие от пантомимы, у Фокина «жизненные жесты» рук представляли собой «не замены слова, а дополнения к слову», продолжение естественных жестов, которые позволяют «услышать» то, что не было произнесено вслух. В то же самое время, распространяя понятие жестикуляции на любое движение, Фокин провозглашал «мимику всего тела»: «Человек может и должен быть выразительным весь, с ног до головы»[77].
Драматический реализм предполагал новый подход к изображению характера. Заботясь о содержании прежде, чем о форме, он ставил смысл выше метафор движения; воспроизводя характер, реализм предпочитал народные говоры кодифицированному языку научных кругов. В «Петрушке» психологическая сторона определяла пластическую образность: наивный и бесхитростный герой, интроверт, предстает «невыворотным», завернутым вовнутрь; ярко размалеванный Арап, экстраверт, – «выворотным»; Балерина, кокетливая пустоголовая Коломбина, вышагивает на пуантах, как механическая кукла. Актерская игра также отражала новую «мимику», и нет ничего удивительного в том, что фокинские танцовщики наполняли балеты той же самой жизненной силой, которую их коллеги из Художественного театра привносили в постановки Ибсена и Чехова. Из всех танцовщиков, работавших с Фокиным, его идеалу наиболее соответствовала Павлова. Она говорила критику Валериану Светлову:
За рубежом говорили, что в моем танце было «что-то оригинальное». Единственное, что я делала, – это пыталась подчинять движения тела психологическому замыслу: техническую сторону танца – я имею в виду танец per se[78] – я постаралась окутать духом поэзии, очарование которой могло бы завуалировать механику движений. Когда я танцую, я часто импровизирую, особенно когда роль увлекает и вдохновляет меня. Я беру из хореографической палитры любую краску, которая соответствует ходу моего воображения, и стараюсь довести любую мелочь до совершенства. Только так я могу создать впечатление, которое зрителю покажется новым. Насколько я знаю, в этом единственный секрет моего искусства[79].
Безусловно, натурализм был лишь одним из средств в арсенале Фокина, направленном против балетного театра XIX века. Но по целому ряду причин он занимает в нем почетное место. Будучи центральным принципом фокинской реформы, натурализм открывал классическому танцу широкий простор для смелых экспериментов. В то же время он создавал близость между балетом и бунтарскими движениями в драме, музыке и живописи. Наконец, он обозначил веху той либеральной позиции, которую Фокин считал близкой ему по духу и стимулирующей воображение.
Несмотря на это, с самого начала натурализм находился в связи с эстетикой, которая во всей остальной Европе шла ему на смену. Символизм поздно пришел в Россию, и еще позже – в российский театр. Позднее всего он пришел в балет. Однако каким бы поздним ни было его появление, оно оказало определяющее и устойчивое влияние на творчество Фокина. Символизм предлагал широкий спектр идей: темы мятущейся личности и комедии дель арте, возрождение интереса к синтезу искусств, акцент на субъективное восприятие художника; культ красоты, увлечение эротизмом, мироощущение в духе метафизики идеализма. Провозглашенные модернизмом, эти идеи рубежа веков связывали творчество Фокина с течениями в других видах искусства, которые стремились скорее преобразить реальность, чем описать ее буквально, и с экспериментами его последователей в хореографии, которые позднее завершили модернистскую революцию, инициированную им, и даже вышли за ее рамки. Наконец, символизм Фокина подготовил идеологическую почву: он выдвинул идеал индивидуализма, выступивший антитезисом общественно-групповому тезису натурализма.
Как уже было сказано, Фокин до 1907 года не имел тесных контактов с «Миром искусства». Конечно, он знал о его существовании и посетил некоторые из его выставок; по его собственному свидетельству, одноименный журнал также был ему знаком. Однако мирискусники принадлежали к другой сфере – к элите, к которой он не принадлежал ни по своему социальному статусу, ни по роду занятий. В своих мемуарах Фокин описывает первое знакомство – если можно так сказать – с Дягилевым:
Когда я только начинал свою карьеру танцора, Дягилев был чиновником особых поручений при директоре Императорских театров… Я видел Дягилева… стоящим в антракте среди группы чиновников, спиной к занавесу. Я знал, что в дирекции всегда есть молодые люди из хороших фамилий, которые сразу обходят сотни служащих в конторе чиновников и попадают на самые верхи театральной организации. Гоголь назвал этих чиновников ужасным, но метким словом «приклеиши»… этот человек казался мне принадлежащим к чиновникам, которые так много распоряжаются в театре и так много портят в балете… я с ним, кажется, ни одним словом тогда не обменивался и лишь раскланивался, как со всеми служащими в дирекции[80].
Хотя прямое влияние, должно быть, исключено, Фокин основывался в работе на идеях, ставших популярными благодаря «Миру искусства» и другим символистским журналам. Кто заронил их семена во взгляды Фокина – это другая, более загадочная история; можно предположить – по отсутствию точных упоминаний в его мемуарах, – что это происходило бессистемно и само собой: в беседах с друзьями, во впечатлениях от спектаклей «новой драмы», в отрывочном и неупорядоченном чтении. Каким бы случайным ни было его знание символизма, к 1907 году фокинские воззрения в общих чертах были сходны с воззрениями «Мира искусства». «Мы сразу тогда и спелись», – высказывался Бенуа о первой встрече с хореографом по поводу постановки «Павильона Армиды». «Он не менее, чем я, желал уберечь балет от дешевых влияний и дать своему искусству новые права на жизнь»[81].
«Мир искусства», основанный в 1898 году Дягилевым, который был издателем в течение всех шести лет его существования, занимал в России такое же место, как «Стьюдио» в Англии и «Ревю Бланш» во Франции: журнал ставил своей целью обращение образованной публики в эстетику символизма. «Программа, – замечает Джоан Росс Акочелла, – была ясно изложена с самого начала в написанных Дягилевым четырех полемических эссе, которые стали главным содержанием двух первых выпусков»[82]. В них Дягилев сформулировал свое кредо: вера в независимость и субъективность искусства; преклонение перед красотой и уверенность в ее связи с раскрытием индивидуальности художника; видение искусства как акта коммуникации между личностью художника и личностью зрителя. Щедро иллюстрированный, «Мир искусства» представил русским читателям «полную и разнообразную коллекцию» работ западных художников-символистов – представителей французской школы, движения английских эстетиков, художественной школы Глазго, австрийского Сецессиона, немецкой школы символистов, включая «Новых идеалистов» и графиков югендштиля, ар-нуво. Как и у любого журнала, у «Мира искусства» были свои фавориты: Обри Бердслей, Морис Дени и, прежде всего, Джеймс Уистлер, чьи работы украшали страницы журнала и часто становились темами эссе и заметок в разделе «Хроники искусства»[83]. Опубликованная в журнале в 1902 году статья Валерия Брюсова «Ненужная правда» распространила критику реализма и на театр. Действительно, это эссе, написанное главой молодого поколения символистов и автором одной из первых символистских пьес на русском языке («Земля», 1904), стало поворотным моментом в истории русского театра, поскольку представляло собой бескомпромиссную атаку – первую в своем роде – на методы и достижения Московского Художественного театра.
Брюсов провозглашал:
Театру пора перестать подделывать действительность. Предмет искусства – душа художника, его чувствование, его воззрение; она и есть содержание художественного произведения; его фабула, его идея – это форма; образы, краски, звуки – материал… Артист на сцене то же, что скульптор перед глыбой глины: он должен воплотить в осязательной форме такое же содержание, как скульптор – порывы своей души, ее чувствования… Помочь актеру раскрыть свою душу перед зрителями – вот единственное назначение театра[84].
Сходство с позицией Дягилева очевидно.
Символизм витал в воздухе еще с 1890-х, однако постановки символистских пьес в России относятся к новому веку. В 1903 году в Севастополе Всеволод Мейерхольд, недавно покинувший Художественный театр, поставил пьесу Мориса Метерлинка «Непрошенная». Год спустя в Москве Станиславский показал постановку этой и еще двух пьес бельгийского символиста: вечер дал критикам право говорить то, что утверждал и сам Метерлинк, – что его пьесы несценичны[85]. В 1905 году в ответ на вызов, брошенный «новой драмой», Станиславский основал Театр-Студию с Брюсовым, возглавившим «литературное бюро», и Мейерхольдом в качестве режиссера. Это предприятие, просуществовавшее менее полугода и так никогда и не открывшее своих дверей публике, оказалось неудачным. Тем не менее оно принесло свои дивиденды: при постановке метерлинковской «Смерти Тентажиля» и «Шлюка и Яу» Гауптмана Мейерхольд вышел на принцип стилизации, легший в основу его будущих спектаклей и ставший разрешением символистской головоломки. Эдвард Браун пишет:
Уроки, полученные в Театре-Студии, дали Мейерхольду тот опыт, который был необходим для достижения его будущего успеха в Петербурге и который привел к установлению новой традиции в русском театре – традиции, которой был привержен сам Московский Художественный театр и которую он вскоре продолжил серией спектаклей, апогеем которой стал «Гамлет» в постановке Гордона Крэга[86].
Перед нами не стоит задача проанализировать огромный вклад Мейерхольда в утверждение символизма в актерской игре и режиссуре. Важно то, что театральный символизм в России возник напрямую от натурализма, что это произошло всего за три или четыре года и что эти годы совпали со временем рождения Фокина как хореографа. Иными словами, он начал ставить танцы именно в тот момент, когда два противоположных течения, символизм и натурализм, начали сходиться, когда символизм, казалось, пришел на смену своему предшественнику в ходе естественного процесса развития. Немирович-Данченко однажды заметил, что Чехов «отточил свой реализм до такой степени, что тот стал символическим»[87]. Так и Фокин, очарованный реальностью, тонко видоизменял природные формы: в плоть реализма он вдохнул свою индивидуальность. В его представлениях символизм и натурализм находились не в противоборстве, а в родстве.
Точно так же, как натурализм дал обобщение целому ряду идей об устройстве общества, символизм в творчестве Фокина занял территорию, относящуюся к индивидуальности. Самоценность взгляда автора, конечно, была главным принципом символизма наряду с независимой позицией художника; столь же дорогой символизму была тема Пьеро, поэта, отвергнутого и обманутого обществом мещан. Но интерес Фокина к индивидуальному выходил за рамки формального метода: его уважение к танцовщикам как сотворцам, его повышенное внимание к их индивидуальным эмоциям, его «освобожденная» техника и столь же «освобожденное» отношение к телу танцовщика отражают видение, истоки которого лежат в социальной реальности. Это видение, выступающее одновременно за равноправие и против авторитаризма, полностью определяло все стороны жизни Фокина: его столкновения с бюрократией Мариинского театра, товарищескую атмосферу его первых постановок, его восхищение Айседорой Дункан, его либеральные воззрения. В то же время оно отражало и наличие за его спиной группы сторонников – учеников, партнеров, друзей, – которые верили в него и примыкали к нему вначале как к политическому единомышленнику, затем как к художественному лидеру. Внутри этой группы он обнаружил проявления, родственные многим сторонам его личности, а также нашел соратников по борьбе, пронизывавшей его творчество до самых последних дней, – борьбе между утверждением личностью ее индивидуального права быть и отрицанием этого права обществом.
Это противоречие яснее всего отразилось в сольных номерах, созданных Фокиным в 1905–1911 годах для его величайших исполнителей: «Умирающем лебеде» (1907), поставленном для Павловой, сцене выхода Карсавиной в «Жар-птице» (1910) и в монологе Петрушки (1911), исполненном Нижинским. Все три номера, будучи размышлениями об индивидуальности, представляют собой трагедию осведомленности; в каждом из них исполнитель приходит к осознанию конечности и беспомощности человеческого бытия. Образцовым в этом отношении был «Умирающий лебедь»: выраженное в нем чувство оказалось настолько универсальным, что неизменно вызывало рукоплескания публики в течение всех двадцати шести лет, пока Павлова исполняла его.
Сирил Бомонт, наблюдавший его множество раз, писал:
Никто из тех, кто не видел этот танец, не может представить себе, какое впечатление он производит на умы и сердца зрителей: трогательный трепет рук, медленное оседание тела, печальный взгляд и финальная поза, когда все замирает, вызывают столь глубокое и переполняющее чувство, что проходит некоторое время, прежде чем зритель становится способен выразить свой восторг посредством аплодисментов[88].
Фокинская балерина отнюдь не была первым «птичьим» персонажем, погибавшим на сцене. Однако, в отличие от Одетты в «Лебедином озере», она умирает в полном осознании собственной агонии, она ощущает постепенное угасание жизни, приближение к грани смерти. Хотя она и подчиняется судьбе, но не сдается ей; содрогания ее крыльев утверждают жизнь; они выражают некий безнадежный протест.
Соло Карсавиной в «Жар-птице» построено на сходной дихотомии, на противопоставлении борьбы и существования взаперти. Впрочем, балет имеет политический подтекст: как и опера Римского-Корсакова «Кощей Бессмертный», он представляет собой сказку о наказанной тирании. В образе Ивана-царевича Фокин превращает традиционного принца-охотника в дарителя героине не столько свободы, сколько несвободы. Весь балет в целом, по существу, построен вокруг конфликта свободы и власти, причем последняя воплощена не только в образе Ивана – будущего царя, но и в образе ужасного Кощея, свергнутого с престола народом, состоящим из заколдованных царевен, болибошек, туземцев, «вооруженных» золотым пером Жар-птицы. На свободе Жар-птица блещет силой существа, живущего во всей полноте; в неволе она выступает проявлением беспомощности индивидуальности самой по себе. Эти две ее ипостаси олицетворяют драматические события 1905 года – взлет надежд и их стремительное падение, порывы, так никогда и не осуществившиеся.
В «Петрушке», наоборот, Фокина интересует личность как социальный и психологический феномен. Вновь его протагонист взят из коллекции балетных персонажей, и вновь он интерпретирует его как экзистенциального героя. Как и другие «страдальцы» Фокина, Петрушка приходит к осознанию трагедии своей несвободы: он понимает, что его человеческая душа никогда не вырвется из клетки кукольного тела и никогда не освободится из подчинения Фокуснику под взглядом окружающей толпы; что любовь, терзающая его сердце, обречена, подобно его мужскому естеству, существовать лишь в виде бессильного желания – сколько бы он ни бился о стены клетки и ни «умерщвлял свою плоть» в знак протеста. В современной балету критике Бенуа утверждал, что «трагическая направленность» балета происходит от «самого столкновения одинокой души Петрушки с душой толпы. Вся роль [Нижинского] состояла в том, чтобы передать пафос угнетенной личности и ее беспомощные попытки сохранить свое счастье и достоинство»[89].
Петрушка, смесь Панча и Пьеро, обращался напрямую к поколению, воспитанному на ярмарочных представлениях и поэтизированных картинах комедии дель арте. Символизм высоко ценил последнюю, как и «Мир искусства» – судя по таким картинам, как «Итальянская комедия» Бенуа или «Арлекин и дама», одно из полотен Константина Сомова, изображавшим сцены с участием Арлекина и Коломбины[90]. Тем не менее большее значение для балета имело возвращение этой темы на драматическую сцену.
«Балаганчик» Александра Блока был не первой встречей Мейерхольда с материалом комедии дель арте. (В 1903 году в провинциальном Херсоне он ставил малоизвестную мелодраму Франца фон Шентана «Акробаты».) Но именно этот спектакль оставил яркий след в театральной истории. Его премьера в театре Веры Комиссаржевской вызвала бурную реакцию у публики: по словам свидетелей, «возгласы одобрения тонули в пронзительном свисте и гневных криках»[91]. «Балаганчик» предвосхитил внутреннюю драму «Петрушки» в нескольких смыслах: в образах, взятых из комедийного арсенала; в любовном треугольнике, где за сердце Коломбины бьются Арлекин и Пьеро; в противопоставлении наивности и коварства, истинной любви и притворства, поэтической проникновенности и поверхностной эмоциональности. Более того, в отношении хореографии пьеса и балет обнаруживают теснейшее сходство. Режиссура Мейерхольда «свела» персонажей к «типичным для них жестам»: Пьеро всякий раз вздыхал и взмахивал руками почти так же, как пять лет спустя будет делать Петрушка. Как кукла Нижинского, Пьеро в исполнении Мейерхольда представлял собой фигуру, граничащую с гротеском. Угловатый, язвительный и вместе с тем вызывающий глубокое сочувствие, он «не имел ничего общего, – писал один критик, – с привычными фальшиво-приторными и жалостливыми Пьеро»[92].
Фокина, должно быть, привела в восхищение игра Мейерхольда: не случайно он пригласил его в 1910 году на роль Пьеро в «Карнавале». (В своих воспоминаниях Фокин называет участие режиссера «неожиданным», и это звучит довольно странно, учитывая то, что Фокин пользовался полной свободой в выборе и приглашении исполнителей. Безусловно, энтузиазм танцовщиков по поводу постановки сильно возрос. Бронислава Нижинская писала: «“Дягилевцы-фокинисты” заволновались: все мечтали участвовать в новом балете»[93].)«Карнавал» был многим обязан «Балаганчику». Как и в пьесе Блока, там смешивались элементы комедии и реальности: среди персонажей традиционной арлекинады появлялись и гости в карнавальных масках. В обоих спектаклях преобладал иронический тон, и в обоих случаях сцена была затянута синими драпировками. Премьера прошла в ходе бала, организованного журналом «Сатирикон». В финальном танце исполнители смешивались с публикой, что весьма соответствовало известному мейерхольдовскому высказыванию того времени – «разбить рампу». (В возобновлении пьесы Блока 1908 года у Мейерхольда «Автор» озвучивал свои протесты из публики, а годом раньше в постановке «Победы смерти» исполнители в прологе выходили из глубины зрительного зала.) В довершение всего, обе постановки объединял образ Пьеро, одинокого мечтателя, который воплощал трагедию поэта среди мещанской толпы. «Стилизованные жесты» Мейерхольда, писала одна из актрис – участниц первой постановки, «были внушены ему музыкальными понятиями о создании образов; они были красноречивы, потому что… их подсказывал внутренний ритм роли»[94]. Внутренний ритм был характерен и для мейерхольдовской игры в «Карнавале».
Нижинская, выступавшая в этой роли, вспоминала:
Бесшумно преследовал Пьеро улетавшую от него бабочку. Прячась, он перебегал от одного дивана к другому, украдкой выглядывая то оттуда, то отсюда, потом неожиданно кидался за мной, я убегала со сцены, и он терял меня из виду. Пьеро казалось, что бабочка где-то на земле, он накрывал ее шапочкой и, размахивая руками, прыгал от радости. Затем ложился на пол рядом с шапочкой и осторожно, чтобы не помять нежные крылья бабочки, приподнимал ее край. Подрагивание рук Мейерхольда прекрасно передавало трепетание бабочки под шапочкой. Он был весь в волнении, ему так не терпелось близко взглянуть на это прекрасное и недоступное создание. Когда же Пьеро обнаруживал, что бабочка исчезла, что ее нет под шапочкой, взгляд его был полон такого душераздирающего разочарования, такого отчаяния! Он грустно надевал шапочку, натягивал ее на лоб, а затем, повеся голову и безвольно болтая длинными белыми руками, медленно большими шагами пересекал авансцену и исчезал[95].
На вопрос о влиянии Мейерхольда на Фокина не так легко ответить. Прежде всего, сведений об этом довольно мало. Потом, существует «прометеевский» миф, который породил сам Фокин: если верить его мемуарам, заслуга создания «нового балета» принадлежит ему одному. Однако то, что Мейерхольд и Фокин сотрудничали, – документально зафиксированный факт. Кроме «Карнавала», они вместе работали над «Саломеей» Оскара Уайльда, показанной в 1908 году в Михайловском театре, над постановкой «Орфея и Эвридики» Глюка в Мариинском театре в 1911 году и «Пизанеллой» Габриеле Д’Аннунцио, поставленной в Париже в 1913 году для Иды Рубинштейн. Более того, после 1908 года, когда Мейерхольд стал штатным режиссером Императорских театров, они с Фокиным существовали в одном и том же артистическом окружении, что давало им возможность наблюдать за достижениями друг друга. Есть основания предположить, что Фокин знал о частных постановках Мейерхольда, его камерных работах, чаще всего экспериментального толка, которые он создавал вне стен Императорских театров. Одной из них, показанной в конце 1908 года в театре при одном из актерских клубов Петербурга, был фольклорный фарс Петра Потемкина «Петрушка». Оформленный Добужинским и Билибиным, этот спектакль наверняка обратил на себя внимание Фокина – если и не напрямую, то через Бенуа, который не только лично знал Билибина и Добужинского, но и был автором критических отзывов на ряд постановок Мейерхольда тех лет[96].
В мемуарах Фокина упоминание о Мейерхольде встречается лишь однажды. Знаменательно, что хореограф говорит о нем лишь в связи с постановкой «Карнавала» и подчеркивает только его мастерство как мима, упоминая о том, что именно «Карнавал» посвятил режиссера-новатора в тайны ритмического движения[97]. Как нам известно, это не соответствует истине и в данном контексте выглядит совершенно неоправданным – как будто Фокин после долгих лет затаенной злобы наконец нашел способ уменьшить заслуги Мейерхольда. Источником этой злобы стала, надо полагать, постановка «Орфея и Эвридики» – необычный эксперимент, над которым они работали совместно, пытаясь преобразовать сцену в динамичную, многогранную конструкцию. Чтобы избежать дисгармонии между хором и кордебалетом, было принято решение – кто его предложил, мы, возможно, так и не узнаем – смешать их, отдав всю получившуюся массу под руководство Фокина. В письме Сирилу Бомонту, опубликованному в русском издании его мемуаров, он писал:
Я задумал так, при поднятии занавеса вся сцена покрыта недвижными телами. Группы в самых неестественных позах, как бы замерев в судороге, в ужасной адской муке облепили высокие скалы и свешивались в пропасти… Во время пения хора… вся эта масса тел делала одно медленное движение, один страшный коллективный жест. Будто одно невероятных размеров чудовище, до которого дотронулись, зловеще поднимается. Один жест во всю длинную фразу хора. Потом вся масса, застыв на несколько минут в новой группе, так же медленно начинает съеживаться, потом переползать. Все, изображающие теней, вся балетная труппа, весь хор мужской и женский и вся театральная школа, и сотни статистов – все это ползло, меняясь местами… Конечно, никто бы из публики не мог понять, где начинается балет, где кончается хор[98].
Фокин поставил еще несколько сцен или участвовал в их постановке, и в программке он, как и Мейерхольд, был обозначен как режиссер. Тем не менее он считал, что Мейерхольд преуменьшил степень его участия, и позднее Фокин чуть ли не утверждал, что являлся постановщиком практически всей оперы. Их разногласия стали достоянием прессы, и хотя после премьеры страсти немного поутихли, самолюбие Фокина было глубоко уязвлено. Однако куда более тяжелым для него стало прекращение сотрудничества с Мейерхольдом. (При постановке «Пизанеллы» для Иды Рубинштейн они работали вместе постольку, поскольку оба были приглашены, но это не было творческим союзом.) Разрыв с Мейерхольдом был злополучным вдвойне: Фокин в единый миг потерял своего союзника в кругах Мариинского театра и утратил тот экспериментаторский импульс, который в скором времени мог бы положить начало модернизму. Спустя менее полугода он понес еще одну, столь же болезненную, утрату. Покинув Русский балет, он расстался с балетной семьей, которая питала его хореографию с 1905 года. Около 1912 года наиболее плодотворный период в его карьере окончился.
В экзистенциальных героях Фокина нашла отражение одна из граней его понимания личности – хрупкость индивидуальной свободы и трагедия ее утраты. Другие роли прославляли иных героев: свободолюбивых личностей, живущих вне правил, принятых в обществе. Эти раскрепощенные герои – большей частью экзотические и обычно мужского пола – облекали мечту о свободе во плоть человеческих возможностей. Они превозносили силу людей, которые живут по своим инстинктам, реализуя свою истинную сущность и преступая рамки внешних приличий. Образцом такого героя был Золотой раб из «Шехеразады», станцованный Нижинским: первобытный человек, в образе которого, начиная с его появления на сцене и до последнего смертельного спазма, ярко воплощалась идея полностью освобожденной индивидуальности и ее неизбежного конфликта с обществом. Ныне «Шехеразада» кажется верхом балетной манерности. Шах, заподозрив любимую жену в неверности, уезжает из дому, чтобы испытать ее; возвращаясь, он застает гарем в разгаре оргии, а Зобеиду – в объятиях ее Золотого раба. Сверкают ятаганы – и вот уже занавес падает, закрывая сцену, полную трупов. Со времен Фокина секс уже вышел за пределы сераля. Но в 1910 году он все еще представлял собой запретный плод. Изображение вожделения и недозволенных отношений в «Шехеразаде» лишь отчасти говорило о страсти, рушащей супружеские узы. Гораздо важнее было, насколько взрывным оказался этот акт, который возвращал его участникам то, чего их лишал Шах, – свободу, тела и собственные личности любовников. Не менее смелым было изображение мужественности в лице исполнителя главной роли. Золотой раб скорее силой добивался своей госпожи, чем ухаживал за ней, скорее выставлял, чем прятал свое тело, в большей степени высвобождал свою физическую удаль, чем обуздывал ее. Фокинский первобытный раб был воплощением секса и делал на сцене то, что респектабельные джентльмены могли делать только в своих фантазиях.
Заглавная роль в «Видении Розы», также исполненная Нижинским, была построена вокруг подобной же темы: стремления мужчины, пренебрегающего устоями, недозволенно завладеть недоступной женщиной. Впрочем, в этой постановке тема секса была смягчена, идеализирована, приведена к романтике. Сераль превратился в будуар, гаремная жена – в незамужнюю дочь, агрессивный сластолюбец – в женоподобное существо в розовых лепестках. Как и в «Шехеразаде», двигателем действия служит вторжение. Как описывал Сирил Бомонт,
от его волшебного прикосновения [девушка] поднимается с кресла, чтобы соединиться с духом розы в постоянно ускоряющемся нежном вальсе. Ее высокие прыжки так грациозны, что кажется, будто и она оставила свою земную плоть. Они вместе взлетают в неподвижном воздухе, приведенные в движение магическим прикосновением его руки[99].
Девушкам из хороших семей не был позволителен легкий флирт, что делало их еще более привлекательными для эротических фантазий. Таким же недозволенным для мужчин, исключая сферу их фантазий, было явно женоподобное поведение. Мужчины, должно быть, вступали в интимные отношения, но скрывали это; в салонах и гостиных они придерживались гетеросексуальности в стиле одежды и в манерах. Нижинский открыто не следовал ни тому ни другому. Мужественный по силе своих прыжков и женственный в изящных движениях рук, он распространял вокруг себя флюиды эротического своеобразия; казался живым воплощением третьего пола, ураническим наслаждением от высвобождения своей истинной сущности.
Индивидуализм как сила, преступающая законы, был темой других мужских ролей, в частности некоторых ролей, исполненных Адольфом Больмом. Великолепный характерный танцовщик, среди мужской части довоенной труппы Дягилева уступавший по таланту только Нижинскому, Больм на сцене был воплощением стихии; его выступления наводили на мысль о звере, живущем в глубине человеческой личности, варваре, так и не прирученном цивилизацией. В постановке «Тамары» его танец обольщения в роли пленного Князя блистал силой и страстью. Бомонт писал:
Он подпрыгивает вверх, делает резкие рывки головой и так сгибает ноги под собой, что с каждым прыжком его тело становится изогнутым, как натянутый лук. Он прыгает выше и выше, его ноги топают, изгибаются и поворачиваются, все быстрее и быстрее, под бешеный стук барабанов. Царица с удовлетворением ловит его лихорадочный взгляд, наблюдает его неистовые движения. Она присоединяется к танцу, и их губы сливаются в страстном поцелуе[100].
За сценой царица и пленник совокупляются; на сцене она вонзает кинжал в его сердце. Как и в «Шехеразаде», утверждение свободы посредством запретного соития приводит к смерти.
Только «Половецкие пляски», первый балет Фокина, созданный под покровительством Дягилева, представляют собой иной случай. Там правит добродетель первобытного мужчины (в исполнении Больма), вождя половцев, и его воинов, приумножающих присущие ему героизм и волю к сопротивлению. Как и Нижинский, Больм совершал прыжки, рассеивая группы, обрамляющие сцену. «Все его существо, – пишет Бомонт, – пульсирует в наивысший момент его дикого ликования. Он постоянно кружится, прыгает вверх, вращается в воздухе и приземляется в гущу танцовщиков. Его брови изогнуты, голова запрокинута, из широко открытого рта разносится хриплый, задыхающийся вопль триумфа»[101]. В конце балета это ликование становится коллективным: ряды воинов пересекают друг друга, сотрясая воздух прыжками, землю – луками, распаляя дух хриплыми возгласами до тех пор, пока тела на сцене не превращаются в единую клокочущую живую массу. Обозреватель газеты «Ле Тан» писал в 1909 году:
Был момент, когда весь зал, увлеченный неистовством танцев восточных рабов и половецких воинов в конце «Князя Игоря», был готов встать и схватиться за оружие. Энергичная музыка, лучники, пламенные, дикие и жестокие, вся эта человеческая смесь, мелькание оружия, рук и разноцветных костюмов, казалось, на миг вскружили головы парижской публике, ошеломленной лихорадочным и безумным движением[102].
Хотя драматический реализм был излюбленным принципом Фокина, его освобожденным героям была чужда психология. С начала и до конца они оставались одними и теми же – полностью реализованными существами, чьи роли обозначали психическое пространство, где подсознание выходило из своих границ и торжествовало. Визуально это пространство тоже было обозначено, отгорожено от более широкого игрового пространства сцены, словно небольшой театр индивидуальной фантазии: в «Шехеразаде» Золотой раб внезапно появлялся из закрытых дверей в глубине сцены; в «Видении Розы» герой влетал сквозь окно будуара; в оригинальной версии «Карнавала» действующие лица входили через складки занавеса, окружавшего сцену. Во многих балетах Бакст разместил на сцене массивные вертикали – колонны (в «Клеопатре»), храмы на скале (в «Синем боге»), деревья (в «Дафнисе и Хлое»), – которые создавали одновременно и изоляцию, и тягостную атмосферу драмы. Широкий занавес, протянутый из верхнего угла сцены в «Шехеразаде», служил тому же воздействию – как и крутые, направленные вверх диагонали в «Тамаре», сходившиеся в вершине монументального треугольника. Во всех этих балетах окружение, подобно огромной руке, нависает над попирающими устои главными героями. Если массивные и всеокружающие формы Бакста символизировали общество, враждебное личным стремлениям человека, то его пространства, манящие обещанием тайных наслаждений, и его цвета – теплые, яркие, интенсивные – увеличивали эмоциональность внутренней драмы. Бакст «использовал цвета символически, – писал один из критиков, – чтобы передать эмоции или вызвать желаемую реакцию у публики»[103]. Он делал это сознательно: как художники и поэты-символисты, он искал способ соединения чувственных впечатлений с эмоциональными состояниями и мысленными образами. Бакст писал в 1915 году:
Я часто замечал, что в каждом цвете спектра существуют градации, которые иногда выражают открытость и непорочность, иногда – чувственность и даже грубость, порой гордость, порой отчаяние. Это можно почувствовать и передать публике с помощью эффекта различных оттенков. Именно это я пытался сделать в «Шехеразаде». Напротив мрачного зеленого я поместил синий цвет, полный отчаяния, – это может казаться парадоксальным. Есть оттенки красного, которые убивают, и оттенки красного, которые выражают торжество… Художник, который знает, как это использовать, и дирижер оркестра, который может привести все это в движение одним взмахом палочки, не перемешивая оттенки… может создать у зрителя точно такое чувство, какое он желает вызвать[104].
Как и Фокин, Бакст героизировал персонажа двумя путями: преувеличивая чувство, приписанное его личности, и демонстрируя его неподчинение рамкам социального окружения. Как визуально, так и хореографически это утверждение индивидуальности достигало эпических высот.
Фокин никогда не отказывался от языка балета. Но его эстетика освобождения требовала значительных изменений техники, которая отрабатывалась в классах Мариинского театра. Техника эта, в которой мягкость французской школы соединялась с бескомпромиссной виртуозностью итальянской, представляла собой самую суть искусства Петипа; ее особенности происходили из его хореографической практики и, в свою очередь, вдохновляли эту практику. К 1900 году эта связь прервалась. Поскольку созидательные силы Петипа пошли на спад, техника Императорских театров застыла на этапе его ранних шедевров: она превратилась в академический язык балета, который не терпел отступлений от своих законов. Синтаксис и лексика, бывшие для Петипа лишь средствами, стали теперь целями – в большей степени границами выразительности, чем инструментами ее создания.
С самого начала Фокин вел борьбу против академичности, от которой балет задыхался. Он сражался во имя красоты, веря, что танец – не демонстрация превосходного исполнения, а искусство поэтических образов. В 1904 году он писал:
Великая, выдающаяся особенность нового балета в том, что вместо акробатических трюков, призванных вызывать аплодисменты, и формальных выходов и пауз, нужных лишь для создания эффекта, должно быть только одно – стремление к красоте. В ритме телодвижений балет может найти способ выразить идеи, чувства, эмоции. Танец так же соотносится с жестикуляцией, как поэзия – с прозой. Танец – это поэзия движения[105].
Во имя поэзии Фокин освободил балет от обязательного требования виртуозности и от традиций, которые поддерживали это требование. Он преобразовал па-де-де, которое у Петипа имело фиксированную форму – адажио, сольные вариации и коду – в дуэт, гибкий по форме и предназначению. Отвергнув структуру Петипа, он покончил с вариациями, которые так часто служили демонстрацией хореографического мастерства; использовал па новыми и необычными способами, а также значительно дополнил устоявшийся канон поддержек. Более того, он сделал отношения партнеров подчеркнуто эмоциональными, превратив формальные соединения танцующих у Петипа в реалистичные встречи людей. В отличие от кавалера XIX века, стоявшего за балериной и на уровне талии удерживавшего ее в равновесии, танцовщики у Фокина выходили из тени своих партнерш, поддерживая их в различных контактных точках. За исключением нескольких обычных подъемов, отношение партнерства в «Шопениане» сконцентрировано в руках и кистях: первые создают образ единения пары, вторые способствуют выражению взаимного доверия. Хотя партнеры почти все время физически соприкасаются друг с другом, они остаются тем не менее на расстоянии вытянутой руки; будучи самостоятельными личностями, они стремятся друг к другу в добровольном порыве. В «Видении Розы» Фокин полностью отказался от поддержки за талию: там, в мире сновидения, тела касаются друг друга легко, как крылья бабочки. Вновь руки берут на себя бо́льшую часть веса; задействуются запястья – например, в arabesque penchée, когда партнеры соприкасаются в первый раз; при подъемах руки исчезают на уровне подмышек, будто отказываясь от своей роли в воплощении желания балерины взлететь. Если Фокин в той или иной мере использовал талию – как это было в «Жар-птице», – он превращал ее в точку манипуляции, символ попадания в ловушку. Иван-царевич стоит за своей добычей, дерзко схватив ее; она извивается, наклоняется, вертится, тянется к его рукам, надеясь отдалиться от него, чтобы они оказались в разных пространствах – каждый в своем. Противопоставляя старый и новый принципы построения дуэта, Фокин обнаруживал идеологические предпосылки каждого из них.
Нельзя сказать, чтобы Фокин полностью избегал бравурного танца. Однако он использовал его элементы скупо и нешаблонно, пытаясь любыми способами избежать того, чтобы он стал поводом для аплодисментов. Он отказался от последовательных повторов. В мужских соло из «Видения Розы» и «Шопенианы» единственное антраша заменяло серии из четырех, восьми или даже шестнадцати, какие Петипа обычно использовал в вариациях. В то же время Фокин включил бравурные па в контекст танцевальных номеров. Как в «Видении Розы», так и в «Карнавале» многочисленные пируэты и grands jetés – традиционные па мужского бравурного танца – пульсируют в череде движений: они начинаются с минимальных препарасьонов и заканчиваются в коротком плие; ни одна пауза или поза не прерывает движение фразы – и не дает публике повода разразиться аплодисментами. Отвращение Фокина к виртуозным стереотипам, переходящее в пародию, было основной темой «Петрушки», и главный удар при этом был обрушен на женский бравурный танец. Роль Балерины, по сути, символизировала то, что он презирал сильнее всего: склонность к техническим фокусам (ее вариация состояла в основном из острых échappés и мелких прыжков на пуантах, passés relevés и быстрых фуэте) и к бессмысленной демонстративности, а заодно и более мелкие огрехи: затянутые препарасьоны, нарочитую выворотность, руки венчиком, рваную фразировку – все, чего он не допускал в своей «правильной» хореографии. В «Петрушке» была и вторая пародия на балерину – Уличная танцовщица, девчонка-сорванец, исполнявшая трюки для участников карнавальных гуляний. В своих «Ранних воспоминаниях» Бронислава Нижинская, исполнявшая эту роль, прямо говорит о том, что объектом пародии была не кто иная, как Кшесинская, prima ballerina assoluta Мариинского театра, фаворитка великого князя и заклятый враг Фокина и «нового балета»:
– Ну, что же мне для вас поставить, Бронислава Фоминична? Уличная танцовщица-акробатка. Вы знаете какие-нибудь трюки? Умеете делать шпагат или быстро крутиться на одной ноге, высоко подняв другую?
Я ответила шутя:
– Михаил Михайлович, если вам требуется что-нибудь акробатическое, я станцую балеринскую часть коды из «Талисмана».
И я проделала все кабриоли и relevés на пальцах так, как их исполняла Матильда Кшесинская под громовые аплодисменты петербургских балетоманов.
– Замечательно. Именно то, что нужно, – смеясь, сказал Фокин[106].
Антиакадемичность Фокина замечательно просматривалась в том, как он использовал корпус и руки: первый был освобожден от корсета вертикальности, вторые – от смирительной рубашки округлых форм. Его целью в обоих случаях было повышение выразительности тела путем расширения его контуров, увеличения его пластичности и трехмерности его нахождения в пространстве. Эти реформы оказались революционными. Менее чем за десяток лет он изменил облик танцовщицы и заново создал ее тело. Несмотря на то что танец, особенно балетный, требует устойчивости и ловкости, подобающих гимнасту, танцовщицы XIX века постоянно затягивали себе талии. Такие педагоги, как Энрико Чекетти (который периодически вел балетный класс в труппе Дягилева в 1920-е годы), выступали за необходимость шнуровки, объясняя это тем, что корсет поддерживает спину, но были, очевидно, и другие, еще менее преодолимые причины. Одной из них была мода: до Первой мировой войны самые элегантные дамы носили корсеты. Другая причина крылась в самой балетной технике: при наклонах корпус редко отклонялся от вертикальной линии; подвижность была сконцентрирована в ногах.
Фокин, наоборот, в работе действовал смело и раскованно. Его «мимика всего тела» требовала от корпуса такой же гибкости и выразительности, как и от конечностей. Избавив женщин от корсетов, он дал свободу и талии, и спине; отказавшись от строгого следования вертикали, провозгласил красоту изогнутых линий. Фокинские перегибы назад и наклоны вперед, рывки в стороны и повороты в талии превращали тело в способную к расширению спираль. В сфере эмоций он также осваивал неизведанные территории. В то время как в «Шехеразаде» гибкость сидящих альмей была пронизана чувственностью, в «Нарциссе» вакханки взлетали с высоко поднятым коленом в экстатической пляске. Как и глубокий изгиб назад, этот скачок стал фирменным знаком Фокина, который он использовал в нескольких балетах. Эти два движения были связаны между собой: в серии хореографических набросков к «Синему богу», воспроизведенных в русском издании воспоминаний Фокина, обнаженная женская фигура выгибается назад, наклоняется вперед в скачке и затем пускается в бег с запрокинутой назад головой – это выражение ликующего, дикого динамизма[107]. Отбросив закругленные и прямоугольные формы академического стиля, Фокин использовал руки танцующего, чтобы увеличить размах его движения, открыть верхнюю часть тела и усилить общее впечатление импровизационности. «Руки, – говорил он одному из американских учеников много лет спустя, – это не рисунки на стене, а горизонты»[108]. Фокин позволил рукам танцовщика широко раскрыться наружу и над головой, позади него и впереди; он использовал руки несимметрично – не для того, чтобы обрамлять тело, но для того, чтобы придать его форме трехмерность, сделать его округлым, а не плоским. Кроме того, он настаивал, чтобы руки производили естественное впечатление, чтобы они, как зеркало души, раскрывали самую глубину чувств танцовщика и передавали эти личные эмоции зрителю.
Не меньше, чем хореография, освобождению тела служили костюмы. Как и Фокин, Бакст стремился сделать свободными спину и живот. Он одевал женщин в туники и восточные шаровары, в мягкие ниспадающие одеяния, которые высвобождали торс из сдавливающего лифа балетной пачки. В его костюмах оставались обнаженными необычные участки тела: в «Клеопатре» был виден пупок, в «Шехеразаде» – нижняя часть позвоночника; в некоторых балетах ноги выглядывали из разреза на юбке. (Груди, которые свободно выставлялись из туники на некоторых эскизах, на сцене всегда были благопристойно прикрыты.) Ноги были вдвойне обнажены, так как в экзотических и «греческих» балетах танцовщики часто выступали без трико, открывая взору публики живую плоть ноги и ее форму. Пачка, конечно, также приоткрывала тело – руки и плечи выше лифа, колени и низ ног ниже многослойной юбки. Кроме низа, впрочем, все открытые части костюма выглядели пристойно, сродни вырезам у вечернего туалета: затянутая талия и пышная юбка скрывали среднюю часть тела. Бакст обладал даром скрывать ее очень искусно, что и привлекало к ней внимание. Созданные им гаремные шаровары подчеркивали линию ягодиц, тот же эффект создавали и полотнища туники, сшитые высоко на бедрах. Силуэт «песочных часов», характерный для Belle Époque[109], уступил место естественному, ничем не стесненному телу. Свободные движения тела, таким образом, лишь увеличивали впечатление обнаженности и естественности. В отличие от пачки, которая либо стесняла тело, либо подлетала по его окружности, костюм, придуманный Бакстом, совершал движения вместе с телом, делая эти движения струящимися, свободными и широкими. Если силуэт танцовщицы Императорских театров напоминал вертикальную фигуру, заключенную в круг, то ее преемница у Фокина олицетворяла саму идею движения.
Не менее неортодоксальные костюмы Бакст создавал для мужчин. У танцовщиков также были открыты некоторые части тела. Однако, как и у балерин, тело приоткрывалось лишь избирательно и всегда пристойным образом; мужчина – герой балета соблюдал условности. На ногах у него было облегающее трико, бедра были целомудренно прикрыты театрализованным вариантом светского наряда. В императорских балетах, оформленных в античном стиле, плечи и ключицы были закрыты туниками: женщины могли оставлять их открытыми, мужчины – никогда. Бакст же придерживался удивительной свободы в создании костюмов для танцовщика, делая их либо явно открытыми, либо явно женскими. В заглавной роли «Видения Розы» Нижинский выступал в облегающем костюме, расшитом лепестками, в роли Золотого раба в «Шехеразаде» – в наряде танцующей гурии. Костюмы для балетов «Нарцисс» и «Синий бог» – с укороченной юбкой, четко обозначенной талией, выставленными напоказ ключицами и плечами – не слишком соответствовали традиционному представлению о мужественности. Даже Больм, «настоящий мужчина» в составе труппы, в роли Даркона в «Дафнисе и Хлое» выходил в свободно ниспадающей тунике, окутывавшей тело атмосферой «естественной» женственности.
В том, что Бакст «одел» столько балетов той поры в костюмы, на которые его вдохновили греческие одеяния, можно усмотреть влияние танцовщицы, упомянутой нами лишь вскользь, несмотря на то что она стала вдохновительницей создания «нового балета». Айседора Дункан впервые выступала в Петербурге в декабре 1904 года. Она вновь приезжала в начале следующего года, затем в декабре 1907-го и в апреле 1909-го – эти визиты совпадали по времени с первыми хореографическими начинаниями Фокина. Ее дебют был значительным событием: в престижном зале Дворянского собрания сидели сливки петербургского художественного и высшего общества. Два ее выступления (первая программа целиком состояла из произведений Шопена, вторая носила название «Танцевальные идиллии») имели «невероятный успех и были признаны среди танцовщиков и любителей танца сенсационными, эпохальными событиями»[110]. Как и плеяда звезд Мариинского театра, «Мир искусства» явился на ее концерт в полном составе; Бенуа высказался о ней в печати. Фокин, со своей стороны, был покорен. Дягилев, позже утверждавший, что эти двое посещали ее концерты вместе, писал, что «Фокин не на шутку увлекся ею, и влияние Дункан было изначальной основой всего его творчества»[111]. Это утверждение Дягилева стоит рассматривать скептически – и не только потому, что оно было высказано в личной переписке спустя двадцать лет после самого факта, но также потому, что к 1926 году он стал считать Фокина вышедшим из моды хореографом. (То, что спрос со стороны критиков и публики заставил его именно тогда возобновить несколько фокинских балетов, в том числе «Жар-птицу», должно быть, обострило его язвительный тон.)
Тем не менее самая суть его утверждения была верна. Фокин был поражен, и даже в самые тяжелые дни 1930-х, когда горечь помутила его рассудок, Дункан оставалась яркой звездой его юности. Как сказано в гимне шейкеров[112], «быть простым – это дар», и хотя Дункан выросла в богемной и феминистской атмосфере Сан-Франциско, природа наделила ее этой шейкеровской добродетелью, которая стала, в свою очередь, ее даром Фокину. В редкостный момент осознания ее влияния он писал:
Дункан напоминала о красоте естественных движений… [она] доказала нам, что все примитивные, обычные, естественные движения – простой шаг, бег, поворот на обеих ногах, небольшой прыжок на одной ноге – намного лучше, чем все богатства балетной техники, если в угоду этой технике нужно пожертвовать грацией, выразительностью и красотой[113].
Все эти движения появились в хореографии Фокина. В «Шопениане» и «Видении Розы» они преобразовали словарь классического танца, облегчили его фактуру и четче очертили контуры. В других балетах они проявились как характерные особенности почерка, которые то и дело фиксировались фотографами того времени. В иных постановках они стали основой, на которой Фокин выстраивал целые танцы. В «Жар-птице» девичий двор Царевны окружает влюбленных ритмичным ходом; в «Половецких плясках» пленные девушки движутся по сцене с трепетным скольжением. Фокин долгое время осуждал акробатические трюки, поставленные для того, чтобы сорвать аплодисменты публики. За этими негативными отзывами стояла возвышенная простота Дункан, открывавшая ему взгляд на то, что могло бы быть; в ее танце он видел все богатство хореографических возможностей.