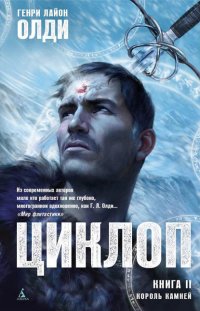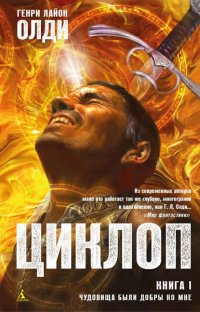
Читать онлайн Чудовища были добры ко мне бесплатно
- Все книги автора: Генри Лайон Олди
Пролог
Он ненавидел эту лестницу.
Циклоп шел медленно, считая каждый шаг. Щербатые ступени потешались над ним. Словно орда нищих попрошаек, уложенных внахлест на бесконечный пандус, разинула рты в хохоте – да так и окаменела. Не слишком удачное сравнение, да. Циклоп был мало склонен к риторике базарного поэта, торгующего своей болтовней в кабаках: пять монет за сонет, а нет денег, так налейте кружку вина. Другое дело, что двадцать лет жизни бок о бок с Красоткой скажутся даже на дубовом чурбане. Сам не заметишь, как начнешь ронять перлы красноречия.
«Перлы, – подумал он. – Ну и словечко…»
На стенах копошились светляки. Мерцали слабыми, зеленоватыми огоньками. Светляков было много, их россыпи напоминали остатки ковра, в прошлом – богатого, яркого, но с годами превратившегося в драные лохмотья. Трепеща усиками, орда перемещалась вниз, к ступеням, и даже на ступени, пожирая тень Циклопа. На лестнице сделалось светлее, огни разгорелись от сытости. Стал слышен тихий скрежет жвал – так меч покидает ножны, окованные по краю металлом. От звука кости начинали мерзко вибрировать, и затылок ломило. Я устроил им пир, думал Циклоп, стараясь держать поднос ровнее. Здесь уже давно, кроме меня, никто не ходит. Трижды в день, если не чаще, я кормлю их моей темнотой. В остальное время светляки сидят на голодном пайке, довольствуясь тенями перил, а то и своими собственными. О да, моя тьма – лакомство. Сколько ни ешь, ее меньше не станет.
На подносе дышала ароматным паром чашка жирного бульона. Сверху, в желтых промоинах, плавали три ломтика моркови, тонкие, как лепестки розы. Перстень Газаль-руза, вспомнил Циклоп. Маслянистое, тусклое золото. Морковный турмалин, в оправе из паучьих лапок. Красотка настраивала этот перстень, как музыкант – лютню. Подкручивала колки-невидимки, брала беззвучные аккорды, вслушиваясь в тишину, ловя мельчайшую, недоступную грубому уху фальшь. Турмалин менял цвет, подергиваясь по краям болотной кромкой. Для морковки – гниль. Для камня в перстне Газаль-руза – естественное состояние, дарующее силу. За этим маг и пришел, за это платил.
– Скупердяй, – вслух сказал Циклоп. – Мог бы и накинуть…
Рядом с чашкой на керамическом блюдце лежала половина вареного цыпленка. Пригодится, если у Красотки сегодня есть зубы. Если нет, на еще одном блюдце лежала другая половина цыпленка, освобожденная от костей и хрящиков, перемолотая в кашицу. Кубок с горячим вином, сдобренным пряностями. Сталкиваясь краями, посуда звякала в такт шагам. Чашка, два блюдца, кубок, на четвертый этаж, и не разлить, не обронить. Когда-то он, дурень набитый, завидовал волшебникам, чьи башни гордо высились над городами. Семь этажей. Десять. У Газаль-руза – дюжина. Против нашей четверки – жалкой, достойной насмешки…
Сейчас Циклоп радовался ничтожеству башни Красотки.
«Циклоп? – обрадовался мясник, когда он пришел в лавку за цыплятами. – Хошь в лоб?» Не обращая внимания, Циклоп сделал заказ. Да, и говяжьей вырезки тоже. И баранью ногу. «А правда, – не унимался мясник, ловко управляясь с ножом, – что если дать тебе в лоб, мир перевернется?» Правда, кивнул Циклоп. «А если попробовать?» Валяй, согласился Циклоп. Мир перевернется, и твоя лавка рухнет в ад. Демоны возликуют. Они поставят тебя на разделку грешников. Мясник загоготал. «Я им разделаю! – лавка содрогалась от воплей. – Грудинка шлюхи! Рулька скряги! Огузок мужеложца…» Здоровенный детина, похожий на матерого вепря, по прихоти богов вставшего на дыбы, честный муж и заботливый отец уймы сопляков, мясник обладал уникальным чувством юмора. Шутку про мир и лоб он повторял при каждом визите Циклопа, год за годом, и всякий раз смеялся, как впервые. Сунуть кулачищем – да хоть пальцем! – Циклопу в лоб, скрытый широкой повязкой из кожи, мясник никогда не пытался. Напротив, если Циклоп отвечал хоть парой слов, шутник сбрасывал цену и давал все самое свежее.
– И в долг, пожалуй, даст…
Светляки дожрали тень до самых каблуков. Скрежет утих, сменившись шелестом. Циклоп остановился. Площадка, за которой через два пролета начинался последний, четвертый этаж, служила ему местом отдыха. Узкое окно, похожее на бойницу, он изучил до мелочей. Царапины на кипарисовом подоконнике. Белила откосов содраны по краям. За окном кипела метель. Зима удалась ветреной, снежной. Белые хлопья метались в неистовстве пляски, превращая мрак в кипящее молоко. Слипались в причудливые фигуры, вскидывались до небес, чтобы мигом позже рассыпаться колючей крупой. Гул бурана складывался в мелодию, сводящую с ума путников, застигнутых вне дома. Умостив поднос на подоконник, Циклоп высунул руку наружу. Ладонь обожгло холодом, пальцам стало мокро. Он подождал, пока рука не замерзнет окончательно, затем приложил ладонь ко лбу. Даже через кожаную повязку зима пробралась внутрь. Приятно, вздохнул Циклоп. Газаль-руз, конечно, тот еще жмот, но окна – его работа. Красотка, более известная в городе как Инес ди Сальваре, так не смогла бы. Даже когда была в силе… Рамы нет, стекол нет, ставни отсутствуют – дыра дырой, а в башню проникает лишь свежий воздух. Строго в меру, не выстуживая жилье. Поначалу голуби и летучие мыши разбивались насмерть, упорствуя в желании залететь в проем. Вскоре привыкли, оставили дурную затею. Впрочем, если кто из обитателей башни захочет выпрыгнуть наружу, сведя счеты с жизнью – скачи без забот, путь свободен.
«У Газаль-руза тоже есть чувство юмора, – подумал Циклоп. – Мясник узнал бы, сдох бы от зависти.»
Остаток пути он преодолел быстрым шагом.
В спальне Красотки царил сумрак. Единственная свеча, укрепленная в розетке бронзового шандала, старалась, как могла. Воск стекал жирными слезами, пламя трепетало на кончике фитиля. Но один, известное дело, в поле не воин. Красотка лежала, забившись под одеяло. Она бы, наверное, спустила и балдахин, сумей Инес дотянуться до шнурка.
– Бульон, – весело объявил Циклоп. – Лучший в мире…
Веселья не получилось. Он вообще плохо справлялся со своим голосом.
– Оставь на тумбочке, – донеслось из-под одеяла. – Уходи, дурак.
– Я оставлю, – в первую очередь Циклоп оставил потуги казаться бодрячком. – И уйду. И ты не прикоснешься к еде. Потом я вернусь, принесу свежее, оставлю, уйду, и так по кругу. Нет уж, дорогая. Лучше я сам покормлю тебя. И вынесу ночную вазу. Там есть, что выносить?
– Есть, – мрачно доложила Красотка. – Днем я слезла на пол. И даже забралась потом обратно. Подвиг, да? Все подвиги, мальчик мой, совершаются одинаково: тебе нужно, и выбора нет…
Поднос лег на тумбочку. Забрав ночную вазу, Циклоп вышел из спальни, вернулся на площадку, где любовался метелью, выплеснул нечистоты в окно, мало заботясь о последствиях – еще один подарок Газаль-руза – и побрел обратно. Красотка сегодня не в духе. А когда она была в духе? Хорошо хоть, сходила по нужде. Надо будет принести лохань, натаскать теплой воды и обмыть ее. Позже, когда она поест. Бульона Красотка выпьет, хоть горы рухнут, хоть реки повернут вспять. И подогретого вина. «Ты осла переупрямишь, – злилась Красотка. – Ты утес башкой прошибешь. Сукин ты сын, гранитный лоб…» Он кивал и держал ложку с едой у ее рта. Если, конечно, в тот момент у нее был рот.
– Сейчас есть, – сказал Циклоп, задержавшись перед дверью. – Разговаривает. Значит, есть…
Вышло двусмысленно. Раз есть рот, значит, будем есть.
Зайдя во второй раз, он услышал то, что пропустил мимо ушей при первом появлении – музыку. Из темно-фиолетового кристалла звучал клавесин, опираясь на басовитое гудение «гидры»: водяного органа. Острые, легкие всплески – дождь, летний грибной дождь плясал на обманчивой поверхности омута. Зима снаружи злилась, не в силах добраться до призрака лета. Красотка слушала музыку, как иной дышит. Отними – умрет. Когда Инес ди Сальваре еще была здорова, в башне вечно толклись свирельщики, лютнисты, флейтисты, лирники; на втором этаже, в зале, стояли клавикорды из красного дерева, похожие на гроб. Если музыканты не приходили, Красотка пользовалась кристаллами, сберегающими звук: сердолики из Партени, сегентаррские топазы, дымчатые или голубые, аметисты Высокого Серпола – фиолетовые «сумерки», вроде того, что звучал сейчас. Музыка, вспомнил Циклоп. Музыка, и Красотка над очередным жезлом или перстнем, принесенным ей в починку. Это помогает, говорила она. Я четче вижу связи. Чую скрытую мощь; знаю, как ее высвободить. Вот, смотри: пальцы Красотки порхали над жезлом, украшенным бирюзой с рубинами, и камни начинали светиться, меняя оттенки, выстраиваясь наилучшим сочетанием.
«Я смотрел, – с грустью кивнул Циклоп. – Поначалу смотрел. Позже начал помогать. Музыка? Нет, ерунда. Я не нуждался в звуке или тишине. Просто там, где сельский дуралей чешет затылок, я тер лоб. Мне хватало…»
– Корми, – позволила Красотка. – Чтоб тебя…
В углу висел рукомойник. Циклоп вернул вазу под кровать, ополоснул руки и присел с подносом у ложа. Прямо на пол – ему, долговязому, так было удобнее. Приспустив одеяло до подбородка, Красотка следила за кормильцем. Метаморфозы почти не затронули ее головы. На вид лет сорок – сорок пять, тонкие черты, копна рыжих волос. Местами блестит седина. И рот на месте. Единственная часть лица, которая возникала и исчезала, не сообразуясь с какими-нибудь очевидными ритмами.
– Подвинься, – велел Циклоп. – Ближе. Сумеешь?
– Да уж не сдохла еще…
Одеяло улетело за кровать. Красотка вряд ли желала этого; просто тело скверно подчинялось ей. Увидев это тело, кто угодно сбежал бы из спальни, во всю глотку призывая на помощь; кто угодно, только не Циклоп. Насмотрелся, привык. Казалось, шутник-мясник взял части, принадлежащие вроде бы человеку, и сложил в заковыристую головоломку. Руки, растущие из лопаток, на манер ощипанных крыльев. Ноги коленями внутрь. Правая начинается выше левой, сразу от нижних ребер. Вдоль бедра выросла жесткая щетина. Грудь клином, по-птичьи. Таз выгнут арфой. Под кожей спины торчат позвонки странной формы. Луковицы храмовых куполов, кулаки бойцов; горные пики, изгрызенные ветром… Пальцы, длинные и суставчатые, находятся в беспрерывном движении. За ритмом следить опасно – уснешь. Голова чересчур тяжела для тонкой, хрящеватой шеи. Из плеч растет, пожалуй, стебель заморской травы, грозя обломиться в любой миг.
Жук? Зверь? Морская тварь из пучин?
– Чудовище, – подсказала Красотка.
Она читала его мысли, как открытую книгу.
– Чудовища всегда были добры ко мне, – улыбнулся Циклоп. – Пей бульон…
И взялся за чашку.
Она выпила бульон. И вино. И цыплячью кашицу съела. Циклоп втихомолку беспокоился: он отвык от такой покорности. Чаще приходилось уламывать до последнего. Биться за каждый кусок и глоток, как солдаты сражаются за родную землю. Нет, про себя сказал он. Я не дам тебе умереть от голода и жажды. Я переупрямлю осла и пробью башкой утес. Ты сделала человека из хищного, бестолкового звереныша. Из мальчика ты сделала юношу, а потом мужчину; ты дала мне приют, тепло в метель, покой в бурю – волшебство, равного которому я не знаю. И я продлю твои дни, надеясь на чудо. Чудеса – твоя вотчина, Красотка. Вот и старайся, живи…
– Курятина осталась? – спросила она.
– На костях. Я тебе разберу…
– Разбери, порадуй старуху. Только чуть-чуть…
О да, она читала его мысли, как книгу.
Пока он возился с цыпленком, отслаивая мясо от тонких, хрупких косточек, разделяя его на волокна, Красотка пыталась устроиться поудобнее. То и дело она стонала – еле слышно, сдерживая себя. Метаморфозы не прекращались ни на миг, но временами они затихали. Так волк прячется в засаде, чтобы выскочить в самый неожиданный момент – повалить, вцепиться клыками в глотку. Краем глаза Циклоп видел спину Красотки. Позвонки, пугающие разнообразием, смещались в невозможные для человека стороны. Часть плеча расплавилась, как медь в тигле, а когда восстановилась – плечо сделалось раздвоенным и остроконечным, будто колпак шута. Шея сократилась: стебель травы налился соком, разбух сытой пиявкой.
– Тебя покормить?
– Дай сюда. Я сама…
Циклоп отошел к окну, не желая видеть, как она станет есть сама. Снаружи ярилась вьюга. Мир сжался в белом, хрустящем кулаке. Съежился до размеров слабо освещенной спальни, отрицая все остальное. Бешеный кисель, молочная пена. Где-то там прятался Тер-Тесет: дома, улицы, площади. И дальше – Сегентарра, Шаннуран… Разум соглашался, но чувства отказывались верить. Нет ничего, кроме двоих людей, которые давным-давно не вполне люди. Скоро исчезнем и мы, думал Циклоп. Кулак сожмется до конца, и я отдохну.
– Я натаскаю воды. Будем мыться.
– Позже, – заупрямилась Красотка. Чистюля до мозга костей, она мылась при любом удобном случае, пока могла это делать без посторонней помощи. Когда же метаморфозы зашли слишком далеко, чистюля превратилась в замарашку. – Здесь слишком холодно.
– Врешь.
– Холодно.
Врешь, одними губами повторил он.
– Не спорь со мной! Ты смотрел перстень Газаль-руза?
– Да.
Турмалин, оправленный в золото, остался в прошлом. Речь шла о другом перстне. Дерево, прочней стали, выгнутое троицей змеиных колец. В пасти змеи – нешлифованный гранат. О кольцах Злого Газаля ходили легенды. Меряя землю из конца в конец, он привозил драгоценности со всех краев света. Отыскивал добычу в мертвых пирамидах, проникал в руины храмов, затерянных в джунглях. Это было опасно даже для сильного мага, но игра стоила свеч. Находки впоследствии доводилось подгонять под Газаль-руза – Красотка выполнила уйму его заказов. Циклоп дивился, как можно шевелить руками, обремененными грудой металла и камней. Кое-кто, разделив удивление Циклопа, проверял охотника за перстнями на прочность, и отправлялся в преисподнюю – до скончания веков помнить, каким шустрым бывает Злой Газаль в миг опасности.
– Справишься?
– Да.
– Когда сделаешь, принеси мне. На всякий случай.
– Не доверяешь?
– Принеси. Хочу поверить, что еще жива.
– Жива! – заорали из угла. – Жив-жив-ва!
На жердочке, в клетке из прутьев, сидела Дура – сипуха Красотки. Охристо-рыжие крылья, казалось, выточил резчик из пейзажной яшмы. А небрежный владелец статуэтки – ах, я такой неловкий! – засыпал оперение Дуры жарким пеплом. Белоснежная грудка, лицевой венчик тоже белый, в форме сердечка. Под глазами – перышки цвета ржавчины. Хорошо знакомый с попугайскими манерами сипухи, Циклоп остался равнодушен к птичьим воплям.
– Жив-жив-ва!
– Спасибо, – шепнула Красотка. – Спасибо, дурочка…
– Дур-ра!
– Дай ей цыпленка…
Взяв кусочек мяса, Циклоп бросил его в клетку. Дура есть не спешила. Она склонила голову влево, затем вправо, как если бы чего-то ждала. Циклоп подошел ближе. Лицевой венчик Дуры потемнел, изменился. На Циклопа смотрел он сам – маленький, хищный, крылатый. Обычно сипуха без труда копировала черты его лица. Сегодня же она поступила иначе: лицевой венчик превратился в зеркало, отразив Циклопа. Отражение вышло сомнительным, с искажением перспективы. Впрочем, Циклоп и раньше не числил себя в красавцах. Резкие морщины, похожие на ножевые порезы. Нос чуть свернут набок. Сухие губы плотно сжаты. Щеки запали, скулы торчат двумя буграми. Лоб от бровей до корней волос скрыт кожаной повязкой. Была в лице Циклопа странная несообразность – чужой человек долго вглядывался, пытаясь догадаться, что здесь не так, и в конце отводил взгляд, сообразив, что негоже пялиться на собеседника.
– Цып-цып-ля! – выкрикнула сипуха.
Птицы рождаются из яиц. Дура родилась из табакерки. Яшмовая табакерка стояла между двумя жезлами, отданными в настройку, когда Красотка доверила завершение работы Циклопу. Помнится, он вгляделся, сдвинув повязку вверх, ощутил привычное жжение в центре лба… Когда жезлы перестали вибрировать, табакерка больно клюнула Циклопа в щеку. «Поздравляю!» – рассмеялась Красотка. Протянула руку, и новорожденная сипуха вспрыгнула ей на запястье. Циклоп еще долго размышлял, остался ли в Дуре табак. Учитывая остальные таланты сипухи, это было бы сущим пустяком.
– Цып-цып… – птица замолчала, нахохлилась. – Кто здесь?
– К нам гости, – сказал Циклоп. – Дура не ошибается.
– В метель? Надо вовсе лишиться ума…
– Я спущусь, встречу. А после будем мыться.
На выходе из спальни ему захотелось оглянуться. Он не сделал этого, сам не зная, почему, и до конца жизни очень жалел о своей сдержанности. Все чудилось: он стоит на пороге, еще скорее здесь, чем там, и Красотка глядит ему в спину, тайным женским чутьем догадываясь, что сейчас произойдет, и готовясь к неизбежному. А он, болван, выскакивает прочь и бежит вниз по лестнице, которую ненавидит, от женщины, которую любит.
Ступени.
Как мальчишка, он прыгал через две сразу.
Стук дверного молотка раздался, едва Циклоп выбежал в холл. Нервный, раздраженный стук. Впору поверить, что гость не явился только что, а колотит в дверь с утра. Заказчик? Нашел время…
– Открываю!
Лязгнул засов. Заскрипели петли, которые давно следовало бы смазать. Холод ворвался в башню. Обхватил могучими ручищами, прижал к ледяной груди. Вдали, радуясь, хохотал буран. Громоздил сугроб на сугроб, тряс косматой сединой. Смерчи гуляли вокруг четырехэтажного строения, шатались хмельными забулдыгами. Поземка ринулась под ноги, лизнула щиколотки Циклопа. Он не сдвинулся с места. Во тьме, перед входом маячила высокая фигура, укрытая тьмой и снегом, будто карнавальным костюмом. Гость, как и Циклоп, оставался неподвижен – гвоздь, вбитый в хоровод метели.
– Кто здесь?
– Я, Симон.
За дверью стоял Симон Остихарос, один из клиентов Красотки. Плащ на бобровом меху тяжко обвис под грузом налипшего снега. Обвисли и поля войлочной шляпы. Симон втянул голову в плечи, словно черепаха – в панцирь. Изо рта вырывались клубы пара. Всем весом он налегал на длинный, изогнутый на конце посох, более напоминавший пастушью клюку. Руки мага были без перчаток. Что вынудило Симона в такую погоду бросить собственную башню и отправиться в неблизкий путь, оставалось загадкой.
– Впустишь? – спросил старик.
Циклоп посторонился, давая магу войти. Закрыл дверь, вернул засов на прежнее место. Снаружи гремел разочарованный вой – зима упустила добычу. Тысяча волков сетовала на злодейку-судьбу. Тысяча волков умоляла о добыче, в чьих жилах течет теплая кровь. Циклопу даже захотелось ринуться прочь – подальше от гостя, во вьюжную круговерть, и сгинуть там, утешив волчью тоску.
Странное желание, подумал он.
Долгое время Симон молчал, глядя на Циклопа. С плаща, с полей шляпы текло – в тепле снег быстро превращался в воду. А может, сказывалась природа Симона, прозванного меж магами Пламенным. Будучи в игривом расположении духа, Красотка утверждала, что на старце хорошо жарить яичницу.
– Хочешь сделать заказ? – спросил Циклоп.
Симон не ответил.
– Перстень? Жезл? Камень в навершии посоха?
Гость онемел. В глубине его глаз тлели крохотные огоньки.
– Браслет? Диадема?
– Ты, – ответил Симон. – Мой заказ – ты.
И добавил сварливо:
– Ты не пригласишь меня в кабинет?
– Я не продаюсь, – ответил Циклоп. – Следуй за мной.
В кабинете он дождался, пока Симон повесит шляпу на оленьи рога, укрепленные поверх дверного косяка, и бросит плащ на кресло. Обивка промокнет, но это пустяки. Зато огни во взгляде Пламенного – пустяками их назвал бы лишь безумец. «В чем дело? – лихорадочно соображал Циклоп. – Мы плохо выполнили какую-то работу? Нет, Симон давненько не прибегал к нашим услугам. Если что, уже всплыло бы. Я его обидел? Когда? Чем?! Неужели он шутит? Скорее дно морское встанет выше гор, а мясник забудет про мой лоб, нежели зануда Остихарос прибегнет к шуткам…»
– Они молчат, – хрипло бросил Симон, усаживаясь в свободное кресло. Посох лежал у него на коленях. – Годы идут, а они молчат. Маги, подобные мне. Еще бы! Заказы выполняются, как раньше, и хоть солнце угасни! А я такой старый… Я еще помню, что значит дружба. Долг, любовь… Где Красотка, Циклоп? Что ты сделал с ней?
– Она наверху. Плохо себя чувствует.
– Отведи меня к ней.
– Инес никого не принимает.
– А если я хочу сделать заказ? Лично?!
– Говори со мной. Я приму твой заказ, и передам Инес.
Маг протянул озябшую руку к камину. Дрова, лежавшие за решеткой, вспыхнули. Слабый дымок потянулся вверх. В кабинете запахло благовониями: так горит сандал. Вздохнув с удовлетворением, старик взял с изящного столика кружку, где плескался остывший чай. Солдатскую, оловянную кружку – Циклоп вечно бил хрупкую посуду Красотки, и предпочитал что-нибудь понадежнее. Над кружкой начал куриться пар, чай быстро закипел. Старик отхлебнул кипятка, затем еще раз. Серая кожа на руке Симона потемнела, приобрела зернистую фактуру, став похожей на гранит – выветренный, в трещинах и разводах. Циклоп знал: почему. Старый маг дорого заплатил за победу над Шебубом Мгновенным, отродьем Сатт-Шеола – шесть лет, минувших после схватки, победитель надеялся самостоятельно избавить свою руку от демонских эманаций, мало-помалу обращавших плоть в гранит, и сдался лишь на седьмом году, осознав близость смерти. Спас его Циклоп, равной мерой распределив лишний камень по всему телу Симона, и тем продлив жизнь старику. Лечение Циклоп повторял каждые два года, иначе убийственная эманация Шебуба опять скапливалась в руке. Симон, конечно же, помнит, кому он обязан исцелением. Сделает ли это мага благодарным? Удержит от опрометчивых поступков?
Вряд ли.
– Однажды ты спас меня. Не знаю, как, но спас, – маг сгорбился. Голос его звучал еле слышно. Так трещит дерево в ночном лесу, и треск тонет в буране. – Мне бы не хотелось убивать тебя. Сейчас я поднимусь к Красотке, и ты не станешь мне препятствовать.
– Инес не принимает, – повторил Циклоп.
– Ты упрям. Твоим лбом можно прошибать скалы.
– Вы с Инес очень похожи. Вам, и еще одному мяснику не дает покоя мой лоб.
– Какому еще мяснику?
– Забудь. Подать тебе горячего вина?
– Я поднимусь к ней в любом случае. С твоего разрешения, или через твой труп. Видишь ли, я полагаю, что Инес мертва. Что ты убил ее, и теперь принимаешь наши заказы, прикрываясь ее именем. Всем наплевать, кроме меня. Что ж, я привык к одиночеству.
– Инес жива.
– Если она жива, ты поработил ее. Нашел способ, извернулся. Держишь взаперти. Возможно, даже заточил ее душу в кристалле. Пользуешься ее репутацией, как вор – чужим добром.
– Это не так.
– Пусть она сама подтвердит мне, что я ошибаюсь. Я долго медлил, Циклоп. Мне стыдно за каждый миг промедления. Ты был любовником Красотки? Не лги мне! Конечно же, был. Я тоже – так давно, что это кажется сном. Если бы ты знал, сколько ей лет на самом деле… Я иду наверх, а ты жди здесь. Или беги, если чувствуешь за собой вину. Метель скроет твои следы. Когда я вернусь, будет поздно бежать.
– Ты никуда не пойдешь.
– Надеешься остановить меня? Плохо же ты знаешь Пламенного…
– Плохо, – согласился Циклоп. – Но у меня есть одно преимущество.
– Молодость?
Симон улыбнулся. Видно было, как мало он ценит чужую молодость.
– Я о другом, – сказал Циклоп. – Ты меня не знаешь вовсе.
– Двадцать лет ты живешь здесь. Я видел тебя сотню раз.
– Видеть и знать – разные вещи. Ты видел меня и раньше, прежде чем я объявился у Красотки. Забыл, Пламенный? Ясное дело, забыл. Хочешь выяснить, что ты еще забыл?
Маг встал. В глазницах Симона полыхал костер. Встал и Циклоп – в дверях кабинета. Повязка на его лбу почернела, сморщилась. Миг, и кожаная лента вспыхнула, сгорая дотла. Пепел осыпался на щеки и подбородок, делая Циклопа братом-близнецом сипухи. Только Дура сидела в клетке, а Циклоп был на свободе. Матовый камень в центре лба проснулся, наливаясь млечным сиянием. Полная луна, ведьмин манок; радужный опал в розетке из лепестков живой плоти. Ни один рубин или сапфир не мог похвастать лучшей оправой. Под кожей от камня во все стороны тянулись жилы – синие, вздувшиеся от напряжения. Черви, змеи; часть их собралась у висков в неприятные жгуты.
Освещенное камнем-луной, морщинистое лицо Циклопа – убежище теней – сделалось юным, и оттого ужасным.
– Испытываешь меня? – рассмеялся маг.
Хохот Симона – голос вьюги – наполнил кабинет.
– Меня? Симона Остихароса?!
– Ты останешься здесь, – прохрипел Циклоп.
Он уже чуял все необходимое – так зверь чует ароматы леса, так музыкант слышит звучание оркестра. Известняк башенных стен. Гранит облицовки. Ломовой плитняк фундамента. Мрамор статуй на втором этаже. Бриллианты, изумруды, аметисты в перстнях и жезлах, оставленных для настройки. Нефритовое панно в зале для приемов. Лалы и багрово-красные гранаты – цепочка капель земной крови, утопленная в навершии Симонова посоха. Камни, камни, камни. Даже левая рука Остихароса, в которой камня было больше, чем хотелось бы магу, вплела свое пение в общий хор. Глаз во лбу пульсировал, как маяк, готовый в мгновение ока созвать к берегу эскадру кораблей – и бросить их на врага.
– Прочь!
Циклоп остался на месте. Третий его глаз потемнел, налился тревожным багрянцем. Отсветы далекого пожара исказили черты лица Циклопа – не юноша, но мальчик, похожий на голодную крысу. Кабинет поглотила тишина, лишь трещали дрова в камине. И в этой тишине, готовой в любой миг смениться грохотом катастрофы, оба мужчины услышали, как кто-то скребется в закрытую дверь. Звук был слабый, болезненный. Первым опомнился Циклоп. Забыв о Симоне, об опасности, исходящей от взбешенного мага, он рванул дверь на себя – и упал на колени, боясь прикоснуться к тому, что вползало в кабинет.
– Ты, – прошептала Красотка. – Помоги…
И Симону, собрав последние силы:
– Я жива. Он не виноват.
Она ошиблась. Она уже не была живой. Лестница, которую так ненавидел Циклоп, добила Красотку. Каким чудом женщина, ставшая чудовищем, исковерканная и давно забывшая, что значит двигаться по-человечески, спустилась вниз по щербатым ступеням – и думать не хотелось. Циклоп отнес ее, всю в кровоподтеках и ссадинах, на диван, ткнулся лбом, пряча грозное сияние, в живот Красотки – и тихонько завыл. Он не знал, что буран стих, что снежные волки захлопнули пасти и поджали хвосты, что метель улеглась в сугробы, и один-единственный Циклоп воет сейчас в кулаке зимы, над трупом, способным испугать самого отчаянного храбреца.
Могла ли Инес ди Сальваре желать лучшей погребальной песни?
* * *
– Мы ее похороним, – много позже сказал Циклоп.
– Да, – кивнул Симон.
– Сегодня. Сию минуту.
За стеной расхохоталась воспрявшая было вьюга. И онемела, когда Пламенный согласился без споров:
– Да.
– Я расскажу тебе все. Теперь можно.
– О да, – сказал Симон Остихарос в третий раз. – Теперь, я вижу, можно.
Глава первая
Изменник, который мечтал стать грузчиком
1
Янтарный туман укутал его в кокон из мягчайшего, невесомого пуха. Туман искрился, как снег на солнце. От огоньков-блесток все тело слегка покалывало. Было щекотно и приятно. Да, наверное, приятно. Он не мог подобрать другого слова. Кокон покачивался, словно колыбель или рыбачья лодка, унося Танни… В море? В небо? В таинственные страны, что лежат за Громовым океаном?
Сквозь туман и щекотные искорки проступили смутные тени. Танни вгляделся – и задохнулся от восторга. Он летел! Летел над холмистой равниной, а внизу гуляли радужные сполохи. Высокие травы колыхались под теплыми поцелуями ветра. Цветы, клонясь друг к другу, блестели морским перламутром. Казалось, это дышит сама земля. Дышит, шевелится…
Ой, они и вправду движутся!
Земля собралась складками лохматой шубы. Бугры-исполины, с подножия до вершины заросшие цветной шерстью, обступили Танни со всех сторон. Один из склонов треснул ближе к макушке, трава-шерсть расступилась, и на мальчика в упор уставился огромный глаз-изумруд со смоляным провалом зрачка в середине. Лопнул второй склон, третий… Глаза-камни смотрели на Танни. Рубины и аметисты, опалы и ониксы мерцали, беседуя между собой и оценивая добычу.
Они живые, живые!
Холмы-одноглазы плавно меняли очертания. Истекали складками мохнатых шкур, выпячивали наружу шишковатые вздутия; из них выстреливали ростки, диковинные и жуткие – лапы? руки? клешни? И все это в полной, абсолютной тишине. Уши Танни наглухо залили воском. Сердце – зверек, пойманный в западню – отчаянно билось в клетке ребер: не убежать, не спрятаться!
Ближайший отросток устремился к янтарному кокону. Аспидно-черный глаз глядел прямо в душу Танни. Мальчик замер, как кролик перед змеей, не в силах пошевелиться. В глубине гагатовой пропасти мерцала россыпь золота – искры, похожие на звезды. Бездна засасывала жертву в себя, Танни падал, замирая от сладкого ужаса…
Щупальце проникло в кокон и коснулось мальчика.
Черная бездна схлопнулась.
Муха в паутине, он задергался, закричал, но пух-янтарь набился в рот, глуша крик в зародыше. Танни лишь разевал рот, как выброшенная на берег рыба. Мгновения текли, свиваясь в скользкую удавку, в чешуйчатое тело змеи. Но удавка медлила сдавить горло, а змея не спешила жалить. Вокруг царила безвидная тьма. Неужели возврата нет?! Где золотые огоньки-звезды, где искрящийся омут, куда он падал? Все сгинуло. Лишь щупальце никуда не исчезло. Вместо того, чтобы схватить Танни, сжать в скользких объятиях и утащить в пасть холма, оно лежало на лбу мальчика. Узкая прохладная ладонь успокаивала, ободряла, вселяла надежду…
* * *
– Доброе утро, Танни.
Он медлил открыть глаза. Танни узнал и голос, и ладонь. Госпожа Эльза приходила к нему каждый день, по три-четыре раза. Самая лучшая девушка на свете! Ну да, она старше Танни. Он – простой парень из портового квартала, а она – настоящая сивилла! Ну и что? Он все равно ей скажет, что она – лучшая на свете! Обязательно скажет. Только не сейчас. Вот поправится, и когда будет уходить…
Танни замер под одеялом, боясь шевельнуться. Он всегда замирал, когда Эльза по утрам касалась ладонью его лба, мечтая, чтобы прикосновение длилось вечно.
– Ты уже проснулся. Хватит притворяться.
В голосе сивиллы прятался смех. Прохладная ладошка исчезла. Танни со вздохом открыл глаза. Оба: здоровый, правый, и левый, что больше не видел. Пришлось моргнуть разок-другой, чтобы комната перестала расплываться. Смотреть одним глазом было непривычно. В первые дни Танни то и дело промахивался мимо ложки или кружки с целебным отваром, не соразмеряя расстояния. Позже дело пошло на лад.
Ничего, скоро он привыкнет.
– Доброе утро, госпожа.
Сивилла разрешила звать ее просто «Эльзой». Танни день за днем собирался с духом, но так и не отважился на этот подвиг.
– Опять «янтарь» снился? – участливо спросила Эльза.
В голосе ее больше не было смеха. Танни загляделся на девушку. Мягкий, невозможно правильный овал лица; едва заметный пушок – как на нежной кожице персика – на щеках, чуть тронутых румянцем. Губы, созданные для улыбок и поцелуев. Густые волосы цвета спелой пшеницы перехвачены на лбу лентой с золотым тиснением. А какие у нее глаза! А какие… Танни опустил взгляд ниже, зарделся, что маков цвет, и наконец вспомнил: ему задали вопрос.
– Ага! Сначала – будто я лечу. А вокруг туман…
– Жидкий янтарь?
– Да. Потом – холмы с глазами. Лезут, щупальца тянут…
Ужас бултыхнулся в животе ледяным комом, но сразу растаял. Это был только сон! Все хорошо, все просто чудесно! А скоро будет еще лучше – когда он встанет на ноги и начнет меняться.
– Такие сны всем снятся. Их навевает Янтарный грот.
– Я помню. Вы говорили, госпожа. Я изменюсь, и сны уйдут.
– Так и будет. Я принесла тебе завтрак.
– Каша? Здорово!
– Ну-ка, сумеешь встать? Я помогу.
– Спасибо, госпожа. Не надо, я сам.
Танни очень хотелось ощутить прикосновение Эльзы. Нет, нельзя. Он – мужчина. А скоро станет мужчиной-силачом. Уж до стола-то он сам дойдет! Тайком ощупав бедра, Танни убедился, что полотняные штаны, выданные ему хмурой бабкой-сиделкой, никуда не делись – и, резким движением сбросив одеяло, сел на лежанке. Голова закружилась, но Танни не подал виду. Спустил ноги на пол, сунул забинтованные ступни в широкие «топтуны» из войлока. Со второй попытки ему это удалось. Накинув на плечи тулупчик, кисло пахнущий овчиной – им Танни укрывался поверх одеяла – мальчик в сотый раз удивился: «Как Эльза не мерзнет? Горячая, должно быть…» В каморке госпитального барака, по счастью, отдельной, гуляли сквозняки. Жаровенка в углу воевала с ними без особого успеха. Мало кто соглашался на размен зимой. Это считалось дурной приметой. Но отец Танни сражался за каждый грош, и зимняя скидка перевесила суеверие.
– Хочешь, я возьму тебя под руку?
– Нет, – буркнул Танни, едва сдержав вожделенное «хочу!»: – Что я, маленький?
Маленький или большой, вставал он с превеликой осторожностью, держась за стену. Шершавое дерево под ладонью – не загнать бы занозу! Голова кружилась, в единственном глазе на миг потемнело. Накатила дурнота. Не отнимая рук от стены, он сделал шаг. Противно заныли пальцы на ногах. Пальцев у него больше не было, но он до сих пор чувствовал их. Пока мальчик лежал, отсутствующие пальцы не болели, только чесались.
Иногда Танни казалось, что он даже шевелит ими.
Ходить без пальцев было трудно. Танни качало, как дерево в бурю. Приходилось ковылять раскорякой, ступая на пятки. Грохнешься на пол перед сивиллой – стыдоба! Мужчина, называется… Ничего, он справится. Лекарь обещал, что со временем и Танни притерпится, и походка наладится. Второй шаг… третий… Ухватившись за край стола, крепко сбитого из неструганых досок, Танни опустился на табурет. Выдохнул с облегчением. Получилось! Вчера он, помнится, упал. Но после, когда Эльза ушла, заставил себя проделать путь от лежанки к столу и обратно десять раз. Пока не уверился, что больше не упадет.
– Молодец, – улыбнулась сивилла. В ее улыбке дремали мир и покой. – Ты быстро идешь на поправку. Три-четыре дня, и отец заберет тебя домой. Ладно, завтракай. Днем я еще загляну.
– Когда?
– Пока не знаю. Не скучай!
Скрипнула дверь. Была сивилла – и нет ее. Танни снова вздохнул. Сможет ли он когда-нибудь двигаться так же легко? Конечно, со временем он привыкнет ходить беспалым. А еще ему обещали сделать особые башмаки. Вчера приходил сапожник, бородач разбойного вида. Снимал мерку – как с благородного. Гордись, говорил. Тебе, сопляку, обувь по ноге делают, на заказ! Уходя, подмигнул: «Надейся, парень! Старый Шуан не подведет. Такую обувку тебе сварганим – горным козлом скакать будешь!» Танни едва сдержался, чтобы не показать сапожнику кукиш. Грузчику горным козлом скакать ни к чему. Вот равновесие держать – это да. Отец говорит: сила – хорошо, но без верного баланса в нашем деле – каюк.
Каша была вкуснющая, с салом и морковью. Хлеб – белый, воздушный, только из печи. Как у господ! Не зря отец кучу денег за размен отвалил. Семь лет копил… Вот отвар целебный – дрянь редкостная! Горький, и воняет… Надо пить, велел себе Танни. Иначе лишнюю седьмицу в госпитале проваляешься. Тут, правда, кормят на убой, и Эльза, опять же…
Но лучше уж поскорее домой!
* * *
С раннего детства Танни знал, кем станет, когда вырастет. Грузчиком в порту, как отец. Впрочем, временами он, как все мальчишки, хотел стать моряком. Завербоваться в армию и дослужиться до сотника. Пойти в ученики к королевскому магу Амброзу Держидерево. Да мало ли! Но Танни был парнем рассудительным. И безоговорочно верил отцу, который объяснил: не каждый корабль возвращается домой. Гибель в пучинах Громового океана, или от лихого удара пиратской сабли – скверная участь. А за солдатами смерть приходит еще чаще. Об ученичестве у королевского мага вообще забудь. Слыхал, небось, сколько народу к Амброзу в науку просится? И что, многих он взял за десять лет? Ни одного! Думаешь, тебе повезет?
Держи карман шире!
Отец был прав. Грезя о приключениях и дальних странах, битвах и колдовстве, Танни в глубине души знал: это мечты. Пустые мечты. Он станет грузчиком. Тоже, кстати, неплохо. Вон отец какой сильный! Да, стражнику платят больше, а про чародея и говорить нечего! Зато грузчики в море не тонут, и на войне их не убивают, и колдовскими молниями не жгут. Работы в порту – навалом. Верный кусок хлеба и кружка пива.
О том, что Танни уготована особая судьба, отец сообщил сыну два года назад. Для начала спросил:
– Знаешь, кто такие изменники?
– Ага! – радостно кивнул Танни. Отец с ним беседовал редко, и каждый раз был на вес золота. – Калеки! Которые лучше здоровых! Их в Янтарный грот водят. А потом что-нибудь отрезают. И они… – мальчишке не хватало слов. – Они меняются. Кто сильнее делается, кто ловчее, кто еще чего. Как Марк-ювелир!
Марк-ювелир был в городе человеком известным. Сам король заказывал у него украшения для супруги и фавориток. Двор же в очередь выстраивался за побрякушками.
– Верно говоришь, – согласился отец. – Особенно насчет силы. Силы человеку проще добавить, чем зоркости глаз или чуткости пальцев. И стоит дешевле, я узнавал. Мы с мамой уже давно деньги откладываем. Еще пару лет, и соберем тебе на размен.
– Мне?! На размен?!
– Хочешь сильнее меня стать?
– Хочу!
– А зарабатывать втрое-вчетверо против моего?
– Х-хочу… – промямлил Танни, заподозрив подвох.
– Ты не просто грузчиком станешь. Ты станешь самым сильным, самым лучшим! И денег получишь – кучу! Я всегда мечтал, чтоб тебе лучше моего жилось. Богаче, счастливей! Мы с твоей мамой мечтали… – отцу не хватало слов. Он обнял сына за плечи: – А теперь у нас есть Янтарный грот! Есть сивиллы! Теперь – сбудется. Обязательно сбудется!
Отец погрозил тяжелым кулаком неведомо кому. Он смеялся, но по отцовскому лицу текли слезы. У Танни ёкнуло сердце. Почему отец плачет?
– А что… – горло на миг перехватило. Мальчик с трудом проглотил застрявший в глотке комок. – Что мне отрежут? Чтоб я стал сильным?
Лицо отца потемнело, застыло. Казалось, грубые черты Якоба-грузчика вытесали топором из мореного дуба.
– Что-нибудь. Не очень нужное.
– Что?!
Отец глядел в сторону.
– Я спрашивал, но сивиллы не сказали. Это мы в Янтарном гроте узнаем, когда тебя туда приведут. Может, ухо. Или пальцы на ноге. Ты, главное, не бойся! У грузчика руки-ноги должны быть на месте! Иначе как работать? Сивиллы понятливые, лишку не оттяпают. Страшно? Ну да, страшно. Если б можно было без этого, одним колдовством… Не кисни, парень! Отрежут какую-нибудь ерунду, все заживет. Зато силы привалит – на пятерых! Ямлака видел? Эдма-бугая? Оливера? Вот где силища! Аж завидки берут… Они все через Янтарный грот прошли. Ха! Зарабатывают – каждый за четверых! Мы ж с мамой для тебя…
Ямлак, Эдм и Оливер трудились, как и отец, в порту. Танни слышал от старших ребят, что они – изменники, но значения по молодости лет не придал. Он вспомнил кряжистую, могучую фигуру Ямлака. Человек-гора! Спина и плечи грузчика бугрились чудовищными узлами мышц, словно под кожу напихали прибрежных валунов. Точно, у Ямлака правого уха нет. И хромает он: чуть-чуть, еле заметно. Рожа страшенная… Если Танни так изуродуют – лучше не надо! Эдм-бугай и впрямь похож на быка, только без рогов. Во рту половины зубов недостает. В драке выбили? Или это после размена? Еще шрам на шее – жуткий, словно Эдму хотели голову отрезать, да передумали.
Нет уж, Танни себе голову резать не даст! Даже если она на месте останется.
Зато Оливер вполне человек. Жилистый, свитый из канатов. Руки – клещи. Монеты на спор в трубочку скручивает, будто весенние листики. Потом раскручивает, как было. Вцепится в тюк, в пять раз больше самого Оливера, как муравей в добычу – и тащит, волочит. Все у него, вроде, на месте. Лысый, правда, и бровей нет, и бороды. Голос тоненький, свирельный. Вот если Танни станет, как Оливер, тогда да! На такое любой согласится…
Отец продолжал говорить, убеждать. Слова скользили мимо ушей. Танни лишь время от времени кивал невпопад.
– Я ж для тебя… Мы с мамой…
Танни кивал.
– Разбогатеешь, свое дело откроешь…
На город спускалась ночь.
– Ну что, рад? – Отец поднялся, громко хрустнув коленями. – Я б и сам с легкой душой. Поздно мне, брат. Пусть хоть тебе судьба улыбнется. Пошли спать, богатырь?
Ночью мама плакала. Тихо-тихо.
Думала, мужчины не слышат.
2
Покончив с кашей, Танни начисто выскоблил миску корочкой хлеба. Наслаждаясь каждым кусочком, съел морковь, которую выловил и оставил напоследок. Затем, прежним манером – держась за стену и стараясь ступать на пятки – дошкандыбал до каменного ведра с водой. Жадно выхлебал целую кружку, заливая желчную горечь отвара. В каморке барака, которую он занимал – подумать только: у него есть своя комната! – чуть-чуть потеплело. Прежде, чем будить Танни, сивилла подкинула дров в погасшую к утру печурку, сложенную из пористого туфа, и заново раздула огонь. Теперь печка – пузатая, как купец Гидеон – будет довольно гудеть до обеда. Утренний озноб бежал с позором, а скоро тут станет совсем жарко. Живут же люди! Дров жгут – сколько захотят…
Делать было нечего. Умостившись на табурете, Танни принялся смотреть в окошко. Окно было с настоящим стеклом. Да еще, небось, колдовство наложено. Не бывает таких прозрачных стекол! Эльза сказала: так нужно, чтобы люди быстрее поправлялись и правильно менялись. И отвар для этого, и стекло. Бруски базальтовые под потолком, все в рунах. Это сколько ж знать надо, чтоб чары творить? За десять жизней не выучишь! А он еще хотел к королевскому магу в науку…
Нет уж! Наша дорога – в грузчики.
За окном кружились мохнатые белые мухи. Они рождались из воздуха, из таинственной паузы между вдохом и выдохом, и тихо ложились на землю, укрывая ее пушистым одеялом. В завораживающем танце снежинок чернели срубы соседних бараков, укрытые пухлыми шапками. Снег придавил госпитальные постройки к земле, подступил снизу и сверху, грозясь погрести под собой жалкие творения людских рук. Танни улыбнулся. Он любил снег. А когда его выпадало много – и вовсе счастье. Жаль, сейчас на улицу не выберешься. Набрать бы полные пригоршни морозного пуха, слепить упругий снежок, запустить в ворону, вышагивающую по целине с важностью бургомистра…
Теперь ему будет не до забав. Он уже взрослый. Работник. Танни и раньше не сидел без дела: помогал матери по хозяйству, бегал в порт, крутился в ожидании возле швартующихся кораблей. Отнесешь чью-нибудь поклажу на постоялый двор – заработаешь монету. В семье каждый медяк – не лишний. Но это было так, баловство. Участвовать в настоящей разгрузке ему запрещал отец. Спину, мол, сорвешь! И, ухмыляясь, напоминал два правила грузчика: ничего не брать пальцами и ничего не поднимать руками. В детстве Танни сгорал от изумления: как так можно? Ведь берут пальцами! И поднимают руками… Отец хохотал, поправляя малыша: берут руками, поднимают спиной. Со временем, глядя, как трудятся грузчики, Танни догадался, что хотел сказать ему отец на самом деле. Теперь он станет работать по-настоящему. Скрип сходен, «гуляющих» под ногами, запахи моря, смолы и дегтя, острых пряностей и ворвани; крики чаек над головой… А ты большой, ты силач – сильнее всех! Ты взваливаешь на спину тюк величиной с гору, или дубовый брус размером с колокольню. Товарищи смотрят на тебя с молчаливым уважением. Если подначивают, то без злобы. У тебя кулачищи с пивную кружку. Если таким приложиться к уху обидчика…
Драться Танни не любил, но время от времени приходилось. А когда он станет главным силачом – кто ж его задирать осмелится? Нет, отец правильно придумал насчет размена. Глаза и пальцев на ногах было, конечно, жаль. Но даже сопляки, кто ходит без штанов, с голым задом, понимают: за все надо платить. Бывает, платишь деньгами, а бывает и по-разному.
Хотя Хильде, например, ничего не отрезали.
Эх, Хильда, сбитые коленки…
* * *
…круговерть, метель, буран – пурга из лепестков, белых и розовых. Налетчик-ветер коварно проникает в сад, срывая одежды с красоток-вишен. И, не в силах удержать добычу, обсыпает весенним, шелковым снегом Танни и Хильду с головы до ног.
– Тили-тили-тесто, жених и невеста! – вопит Юсик-звоночек. Вредный малявка, он всегда орет им в спины. – Не сойти вам с места!
Хильда и Танни хохочут. Их давно дразнят «женихом и невестой». Они привыкли. Дочь зеленщика Хьюго на полтора года старше Танни, но, как ни странно, не чурается водить компанию с мальчишкой младше себя – да и с его приятелями тоже. С другими девчонками ей скучно. Она резвее Танни лазит по деревьям, таская яблоки из чужих садов, может с первого взгляда отличить лигурийский барк от даотхийской баркентины, а норхольмский драккар – от ригийской галеры, и удит рыбу в сто раз лучше рыжего хвастуна Джеронимо. А еще она красавица. У нее вечно содраны коленки. И нос облуплен от солнца. Самая лучшая девчонка на свете! Танни не обижается на «тили-тили тесто», и даже чуточку гордится.
Они стоят в тени стены. Шершавый песчаник теплый, почти горячий – солнце прогрело камень насквозь. Хильда больше не смеется. Кусает губы, сделавшись непривычно серьезной.
– Знаешь, Танни… Меня завтра в Янтарный грот ведут.
– Зачем?
– На размен.
– Ух ты! – вырывается у Танни.
Танни тоже предстоит размен. Не скоро, через год. Вспоминая об этом, он всякий раз ощущает холодок в груди. А тут надо же! – девчонка, а говорит о размене спокойно, и совсем не боится. Танни глядит на хмурую подругу, и восхищение бесстрашной Хильдой, радость за нее куда-то исчезают. Так прячутся бродячие шавки при виде бойцового кобеля.
– Кого из тебя сделать хотят?
– Невесту. Чтоб замуж, и детей рожать.
Хильда, потупившись, смотрит в землю. Теребит нефритовый кулон, подарок отца. Кулон она носит на шнурке витой кожи. Сейчас шнурок порвется, и Хильда зашвырнет темно-зеленого козленка за три моря.
– Тебе ж рано – замуж! И рожать…
– Отец сказал, я после размена повзрослею.
Танни хочет спросить, что Хильде отрежут, чтоб она стала взрослой. И не решается. Она, небось, и сама не знает. Ее в грот еще не отвели. Вместо этого он с замиранием сердца бросается в другой омут:
– За кого замуж?
– Отец сказал: за Мозеса. Сына торговца вином. А я не хочу! – отчаянно кричит Хильда. – Не хочу в грот! Не хочу за Мозеса! Он толстый! У него прыщ на носу! И изо рта воняет… Я… я, наверно, из дома убегу…
Крик угас. Теперь Хильда шепчет едва слышно:
– Только ты не говори никому!
– Могила!
Весь вечер, до самой ночи, Танни ждет Хильду возле ее дома, с дорожной котомкой на плече. Они бегут вместе. Нет, не бегут. Танни стоит, мнется с ноги на ногу, и уходит в полночь, не дождавшись. Он даже не видит, как утром родители ведут понурую Хильду в Янтарный грот.
Ее держат за руки: крепко-крепко.
В следующий раз Танни встретит Хильду через месяц, в лавке зеленщика Хьюго. Отец послал его за петрушкой и укропом. Хильда – взрослая. Очень-очень. Словно за месяц прожила лет пять, а то и больше. Девчонка с содранными коленками? Нет, девица на выданье. Бедра заметно раздались, грудь налилась соком, туго натянув ткань нового, ярко-желтого платья. Застежки из яшмы еле сдерживают напор пышной плоти. У Хильды колечко на пальце, с лиловым камешком. У Хильды сережки в ушах. И двигается Хильда плавно, медленно, как во сне.
– Привет, Хильда!
Она поворачивает голову. Смотрит на Танни, не узнавая. Но ведь это она теперь – изменница! Он-то остался прежним. Почему же…
– Это я, Танни! Ты что, забыла?
Хильда моргает: раз, другой.
– Танни? Танни… Да, я помню.
– Это же я…
– Мы вместе играли. Привет, Танни.
И молчит, глядя сквозь него, в стену. Таким взглядом не отличить драккар от галеры. А уж барк от баркентины – и подавно. Для такого взгляда, пожалуй, Танни и лишайный кот под забором – все едино.
– Что с тобой сделали?
Разговорить Хильду – проще разгрузить торговый бриг. Каждое слово приходится тащить клещами, повторяя вопросы по десять раз. Да, была в Янтарном гроте. У сивилл. Да, размен. Нет, ничего не отрезали. Вставляли в глаз медную штуку. В уголок глаза. Длинную и тонкую. Забыла слово. Проволоку? Спицу? Наверное. Больно? Не помню. Кажется, да. Давали пить сладкое, чтоб не болело. И горькое давали пить. Целый день спала. Сны? Нет. Не помню, о чем. Проснулась. Привели домой. Глаз? Глаз видит. Скоро у меня свадьба…
– Мозес! – при слове «свадьба» Хильда улыбается. Хлопает в ладоши: – Хочу замуж. Раньше? Не хотела? Дура была…
В лавке объявляется жердяй Хьюго, отец Хильды. Пялится на Танни, супит брови. Словно в грудь кулаком толкает. Готов отдать даром хоть петрушку, хоть укроп. Лишь бы непрошенный гость сгинул. «Чтоб тебя ведьмы сожрали!» – читается на лице зеленщика. Купив, что велено, Танни спешит распрощаться.
– Пока, Хильда! Увидимся!
– Пока, Танни.
Они не увидятся больше. В конце месяца Хильда выйдет замуж за жирного Мозеса. Понесет с первой ночи, и в положенный срок родит мальчика – легко, без лишних мук. Повитухи скажут: «Выплюнула!» Сын – здоровый крепыш. Вскоре после родов Хильда забеременеет вновь. Танни, прячась за дверью, подслушивает, как об этом говорят отец с матерью. «Носит на зависть… Мужнина семья от счастья лопается… и по хозяйству… Ну, дура. Так ведь молчит! Языкатые мужьям всю плешь насквозь…»
«Я не девчонка! – каждую ночь, засыпая, твердит себе Танни, как заклинание. – Мне замуж не надо! И рожать – тоже. Я стану сильным! Могучим! Буду много зарабатывать. Разбогатею. Дом куплю – большой, на целых пять комнат! Чтоб всем места хватило: и отцу с матерью, и…»
А сам думает: как оно, в Янтарном гроте? Что ему отрежут?!
Больно, небось, когда режут…
3
Белые мухи завершили танец. Вот последние из роя опустились на землю – и, повинуясь беззвучному сигналу, облака в небе расползлись древней ветошью. Лохмотья истаяли, как по волшебству. В прореху ударило солнце. Снег заискрился мириадами серебряных блесток – смотреть больно. Левый глаз Танни ослеп, но слезы выступили из обоих. Мальчик проморгался. Снег расчертили голубые тени от голых, черных деревьев; резко обозначились протоптанные тропинки. Открылась дверь соседнего барака. Эльза? В полушубке нараспашку, с непокрытой головой – лишь лента удерживает тяжесть густых волос – сивилла плыла по снежному морю, вздымая из-под сапожек искрящиеся буруны.
Танни аж залюбовался.
Впервые он увидел сивиллу восемь дней назад. А казалось, знает Эльзу всю свою жизнь, с колыбели. «Банальность, – хмыкнул бы человек, умудренный опытом. – Так думали до тебя бессчетные тысячи влюбленных юнцов! Поэты извели на перья стаи гусей; живописцы исписали тьму полотен, и все о любви. Малыш, ты смешон…» И ты смешон, ответил бы ему Танни. Тебе только кажется, что ты мудр и остроумен. Плевать я хотел на чужую мудрость и чужой опыт. Забери себе орду поэтов и живописцев. Для меня это – впервые! Хильда? Нет, Хильда не в счет. Хотя ее я и впрямь знал с детства. Но ведь я тогда еще не встретил Эльзу!
* * *
…отец ведет его через госпитальный поселок. Танни страшно. Он очень старается не подать виду. Все уже решено. Он согласился, он все понимает. Отец год за годом копил деньги на размен. Поздно идти на попятный. А сердце глухо бухает в груди тяжелой плотницкой киянкой. А сердце замирает пугливым мышонком. А сердце норовит удрать в пятки и там остаться. Эй, сердце! Угомонись! Танни стыдится своего страха, но ничего не может с собой поделать.
Они подходят к каменному дому в центре поселка. Дверь открывается им навстречу. На пороге возникает – Она. Сивилла что-то говорит, но Танни не слышит. Он смотрит на сивиллу, как умирающий от жажды пьет воду. Восхищение? восторг? обожание? Танни не в состоянии назвать по имени овладевшее им чувство. Так он, наверное, любовался бы богиней, сошедшей с небес.
Ему – тринадцать. Как и любой парень его возраста, Танни не раз подсматривал за портовыми шлюхами. Не гнушаясь относительным покоем закоулков, грязных и вонючих, девицы на скорую руку ублажали морячков, вернувшихся из дальнего плаванья. Морячки пыхтели и старались по-быстрому наверстать месяцы, проведенные на борту. Вопли и насмешки сопляков, таящихся за углом, не смущали изголодавшихся по женскому теплу мужчин. Напротив, кое-кто из морских волков даже начинал просвещать зрителей, демонстрируя выходку за выходкой. Танни прекрасно знает, что и куда надо вставлять, откуда у людей берутся дети, и что находится у девок под одеждой. Но это совсем другое. И Эльза – другая. Она не имеет отношения к грязным шуточкам. Танни немеет и глохнет. Страх исчезает без следа. Танни готов на все. Пусть режут, что хотят. Да хоть голову – если сивилла рядом, ему все нипочем!
Дорога к Янтарному гроту не откладывается в его памяти. Весь путь Танни смотрит на Эльзу. Впитывает звук ее голоса, когда сивилла обращается к нему или к отцу. Слов он не слышит, смысла не понимает. Сивилле приходится по два-три раза повторять вопросы, чтобы до мальчика дошла суть. Он сгорает от стыда. Но сивилла терпелива. Эльза улыбается Танни, и ни разу не повышает на него голос. Разве есть на земле другая такая женщина?!
В гроте к Танни возвращается ясность рассудка. Они входят туда вдвоем. Отец ждет снаружи. Вокруг – искрящиеся наплывы. В темно-желтой, медовой глубине дробится, мерцает и переливается пламя свечей. Грот целиком из янтаря. Пол, по которому боязно ступать, стены, золотистые «сосульки» – одни свисают с потолка, другие вздымаются навстречу; гигантские, поменьше, и совсем крохотные, словно драгоценные иглы…
Грот уходит дальше, в глубь горы. Нет, туда им с сивиллой не надо. Госпожа Эльза велит ему сесть прямо на гладкий пол. Раздувает жаровню – там, небось, прячется чародейская искра, потому что угли разгораются в считанные мгновения. Эльза устанавливает жаровню на бронзовый треножник, бросает в огонь пахучие травы и снадобья. Садится перед жаровней; вдыхает дым, велев Танни молчать и ждать. Пряный дым навевает дремоту. Веки тяжелеют. В голове все блаженно плывет, как от вина. Вино Танни, случалось, тайком пробовал с друзьями. Знает, что почем. Не маленький. Глаза закрываются, веки слипаются намертво. В гроте он впервые видит сон, который станет преследовать Танни после размена. Янтарный кокон несет мальчика вдаль, укачивая в материнских объятиях. Внизу простирается равнина с мохнатыми, переливающимися радугой холмами. Холмы подступают ближе, окружая Танни. У них распахиваются каменные глаза. Растут лапы, клешни, щупальца; тянутся к добыче…
– Прочь!
Он приходит в себя. На лбу покоится ладонь сивиллы – успокаивая, утешая. Ладонь возвращает к жизни, гонит кошмар прочь.
– Грот сказал мне, что мальчика можно разменять, – говорит Эльза, когда они выходят к отцу, изнывающему от ожидания. – Пальцы на ногах. Еще левый глаз. Радуйтесь, глаз вылущивать не придется. Он просто перестанет видеть.
– А нельзя только пальцы? – с робостью интересуется отец. – Или только глаз?
– Извините, нельзя.
– А…
– Здесь не базар. Здесь не торгуются.
В госпитале Танни поят отваром – горький станут давать позже, а сейчас дают медвяно-приторный. Отвар пахнет миндалем, полынью и дымом. Танни не понимает, спит он или бодрствует. В левый глаз ему чем-то капают. Он ждет медной спицы, и радуется, сообразив, что спицы не будет. Глаз слегка печет. Танни быстро перестает обращать на это внимание. Когда лекарь отрезает пальцы, боли почти нет. Словно режут кого-то другого. Другому, наверное, больно, другой криком кричит… Танни сочувствует бедняге: вяло, сквозь дрему. И засыпает по-настоящему.
Чтобы проснуться в бараке для изменников.
Он проводил взглядом Эльзу. Она шла – плыла! – вдоль барачной стены. В стене, сложенной из грубых, плохо ошкуренных бревен, через каждые пять шагов были дощатые двери. За ними располагались такие же каморки, как у Танни. Интересно, сколько в поселке народу? Размен стоил дорого, в зависимости от запросов, но от желающих все равно не было отбою. Правда, большей частью люди приходили летом или осенью. Кое-кто, прослышав о чудодейственном гроте, приезжал к сивиллам за сотни лиг. Эльза, миновав семь дверей, нырнула в восьмую. Говорят, сивилл здесь целая дюжина. Работы хватает всем. Впрочем, назвать «работой» то, что творилось в Янтарном гроте и в госпитале, у Танни язык не поворачивался. Работа – мешки в порту таскать. Или сапоги тачать.
А чудеса творить – это разве работа?
Небо нахмурилось. Безымянный, угрюмый бог, засучив рукава, взял портновскую иглу с дратвой – и принялся деловито зашивать прорехи в тучах. Солнце поблекло, выцвело; скрылось за пеленой облаков. Снег медлил. И сивилла медлила выйти из барака. Танни заерзал на табурете. Здоровенная кружка отвара, да еще кружка воды… Мочевой пузырь напоминал о себе с настойчивостью нищего попрошайки. Нужный горшок, накрытый крышкой – у лежанки, в двух шагах. Но вдруг госпожа Эльза выйдет как раз тогда, когда его не будет у окна? Естество, однако, победило. Был Танни влюблен, или нет, но нужда – она и есть нужда, и сердечная страсть ей не указ. Как мог быстро, мальчик доковылял до горшка. А когда отжурчал и зашкандыбал обратно – услыхал вдалеке неясный шум. Море? Далековато отсюда до моря. Ветер? Ерунда, возразили неподвижные ветви деревьев. Голоса? Точно, голоса! Вроде как толпа – идет-топочет, гомонит, шумит…
Похоже, уйма народу!
Шум приближался, делался громче. Танни встал и охнул, скривившись от боли – отрезанные пальцы еще не зажили до конца. Накатив волной, боль медленно угасла. Танни прижался щекой к холодному стеклу, пытаясь увидеть, что творится в той стороне, откуда надвигался шум. Стекло запотело от дыхания, мальчику пришлось протереть его ладонью.
– А-а-а-а!
Истошный, отчаянный, полный ужаса и смертной муки вопль на миг перекрыл глухой гомон толпы; наотмашь ударил по ушам.
Оборвался.
4
В королевских покоях царило лето.
Чувствуя, как на лбу выступает частый бисер пота, а подмышки становятся липкими, король Фернандес с трудом дотащился до кресла. Бархат и дуб со скрипом приняли августейшую задницу. «Натопили, – вполголоса ворчал король. – Добро пожаловать в печь…» Внизу, почти неслышимый здесь, бушевал пир. Собаки дрались за кости, жонглеры ловили булавы, а благородные рыцари, пьяные до остервенения, считались обидами. Затем они мирились, щипали грудастых служанок – и снова принимались ссориться. Кое-кто даже потащился во двор, на снежок, чтобы всласть помахать мечом, да упал на полпути и заснул в опилках.
– Зря я столько выпил, – вслух сказал король. – Ноги не ходят…
Ноги и впрямь сделались ватными. Встать из кресла – подвиг. Позвать камердинера? Пусть разденет и уложит спать? Ну его в ад, решил король. Здесь посплю. Едва он сел, охнув с облегчением – ступни исчезли, и щиколотки, и голени до колен. Фернандес хихикнул. Встать – и поплыть к дверям по воздуху, как привидение.
То-то смеху будет…
За окном еле слышно дышала зима. Звук был низкий, дребезжащий; временами он круто поднимался вверх, чтобы спустя мгновение упасть обратно. Королю даже показалось, что в покоях вместе с ним находится Амброз, личный маг его величества. Амброз, когда молчал, вечно держал во рту какую-то стальную загогулину и дергал пальцем язычок. Загогулина ныла, раздражая присутствующих. Фернандес все хотел запретить магу его дурачество, да откладывал на потом. Иди знай, зачем чародею вечное нытье! Запретишь, он и уйдет со двора…
– Ваше величество?
В дверях стоял принц Ринальдо. Стройный, высокий, в роскошном камзоле. Утеха дам и гроза мужей. Славный малыш, подумал король. Я сделал Терезе роскошное дитя. Жаль, Тереза не дожила…
– Отец? – затворив за собой дверь, принц улыбнулся. – С вами все в порядке?
Король посмотрел на сына – и все понял.
«Рановато, – подумал он. – А впрочем… Что, лучше, когда это случается поздно? Когда у тебя выпали все зубы? Когда брюхо принимает лишь овсяную кашицу, жидкую, как душа советника? Мальчик вырос, стал совсем большой…»
– Как? – спросил Фернандес.
Принц Ринальдо раскланялся, будто лицедей в балагане.
– На пиру? – настаивал Фернандес. – Я ел то же, что и все. Мой виночерпий отпивал из моего кубка. Маринованные сливы? Их подали только мне…
Улыбка принца стала шире.
– Кто? – уточнил король.
– Шут, – признался Ринальдо. – Ваш милый дружок Попрыгун. Помните, он изображал вашу собаку. Грызся с псами за объедки. Вы как раз изволили кушать свиной окорок, ваше величество. Попрыгун облизывал ваши жирные пальцы. Вы хохотали. А потом продолжили трудиться над окороком. Вы всегда едите руками, отец. Мать пыталась привить вам хорошие манеры, но не преуспела.
Принц развел руками и исправился:
– Вы всегда ели руками. Я имею в виду, при жизни. Яд был во рту шута. На его языке. Это снадобье действует не сразу. Мои люди еще успели вывести беднягу из зала. Мир его колпаку…
– Верный Попрыгун, – король вздохнул. – Он был со мной в изгнании. Не отходил ни на шаг. Стирал мои подштанники. Веселил в часы уныния. Как тебе удалось подбить его на грязное дело? Мне казалось, он скорее даст разрубить себя на тысячу частей…
Онемение, сжевав колени, взялось за ляжки.
– Вы и не представляете, ваше величество, как легко поддается уговорам человек, у которого две юные дочери! Старшая, кстати, скоро выйдет замуж. Сразу после траура по вам, отец. Муж знатен и пригож, всем на зависть. Младшая, карлица, отправится в обитель, к святым сестрам. Попрыгун бесился от одной мысли, что она стала шутихой. А вы, помнится, настаивали. Вас смешила ее походка.
– Значит, яд? Я убил твоего деда на поединке. Мы дрались топорами.
– Вы – великий воин. С топором в руках у меня не было никаких шансов. Вы нашинковали бы меня, как капусту, и поставили кваситься в бочонке, с клюквой. Ваш отец, а мой дед был таким же. Кстати, всегда хотел спросить… Как умер мой прадед, Эвенбер IV? Тоже от топора?
– Твой прадед утонул. Купался за мысом Бурь…
– Утонул? Я полагаю, в шторм?
– Меня там не было. Но люди говорили о чудесной, безветренной погоде.
– Как же ему это удалось?
– Трудно выплыть, если тебя придерживают снизу за ноги. Знаешь, сколько времени может пробыть под водой опытный ныряльщик? Охотник за жемчугом? Твой дед нанял троих, чтоб наверняка.
– Минуту? – предположил принц. – Две?
Фернандес расхохотался.
– Больше?
– Неважно. Главное, что твой прадед стал утопленником. На его саркофаге изображены раковины-жемчужницы. Что ты велишь изобразить на моем саркофаге?
– А что бы вы хотели, отец? Я весь внимание.
– Кусок окорока в жирных руках. И шутовской колпак.
– Будет исполнено, – кивнул Ринальдо.
– Ты не боишься, что я кликну охрану? У меня еще достанет сил…
– Ваш начальник охраны ждет в коридоре. Он не войдет без моего приказа.
Нельзя сказать, что это удивило Фернандеса. Если уж Попрыгун…
– У шута были две дочери. Что нашлось для уговоров у моего честного Харальда?
– Вы сами сказали, отец. Честь. Если бы я просто хотел занять ваше место на троне, Харальд стал бы первым моим врагом. Он бился с вами плечом к плечу. Трижды был ранен, закрывая вас от неприятеля. Но вы перешли межу, и Харальд склонился к моим речам.
– Какую межу? Я мало плачу телохранителям?
– В этом ваша суть. Деньги, топор, окорок. Остального вы не замечаете.
– Зато ты глазаст. Говори, я еще способен тебя выслушать.
– Почему вы не уничтожили Янтарный грот, отец? Сразу, как только вам донесли о находке сивилл? Или позже, когда стало ясно, что грот делает с людьми? Это ведь так несложно! Послать землекопов: копнуть там, подрыть здесь… И завалить проклятую дыру на веки вечные!
– Зачем?
«Он сумасшедший! – мелькнула мысль. – Жаль оставлять трон безумцу…» Дышать становилось все труднее. В глазах заплясали радужные пятна. Вялыми руками Фернандес начал расстегивать крючки камзола на животе. На это сил хватило. Вся жизнь сосредоточилась в простых движениях: нащупать крючок, вытащить из петли. Если расстегнуть все, станет легче. Нет, не станет. Ладно, для похорон все равно переоденут.
– Во что вы превратили город, отец? Говорят, с возрастом люди становятся дальнозоркими. Вас же одолела близорукость! Знаете, на что вы посягнули, разрешив существование Янтарного грота?
– На что же?
– На слово «калека»! Известна ли вам сила этого слова? Оно ободряет тех, кто здоров. Голодные, нищие, безвестные – люди видят калеку, и понимают, что им есть, за что благодарить судьбу. Что они лучше! Кидая милостыньку безногому, одаряя грошиком увечного, мы не покупаем милость богов. Мы покупаем чувство самоуважения. Дорогой товар по дешевой цене! Вы же отняли гордость у здорового человека. Взамен вы подарили ему унижение.
– Кому? Что ты мелешь!
– Беднякам, у кого нет денег на Янтарный грот; богачам, чьи годы не позволяют воспользоваться Янтарным гротом. Мало того, вы отняли славу у человека мастеровитого. Ваши телохранители завидуют Слепцу Йошке. Незрячий, он нашинкует пятерых гвардейцев раньше, чем они схватятся за мечи. Ваши советники слышать не желают о Сэмюеле Глухаре. Сэм ничего не забывает. Он сводит концы с концами стократ ловчей умелой швеи. Как признать свое ничтожество в сравнении с глухим уродом? Обычный человек стал считать себя калекой, ваше величество. Мы в начале пути, ведущего в пропасть.
– Ты преувеличиваешь.
– В городе полно изменников. Они отбивают хлеб у ваших верноподданных. Если не остановить это, мир перевернется. Вам пора умереть, отец. А для меня пришло время исправить ваши ошибки.
– Каким образом?
Принц встал у окна. Метель улеглась, ночь полыхала серебром. Дворец стоял на холме, моря отсюда видно не было. Зато хорошо просматривался берег реки, закованной в ледяную броню. Голые, черные от холода ивы – старухи-нищенки – мерзли на кручах. Лед отсвечивал синевой, как добрый клинок. На том берегу начиналось поле – чистый лист, готовый к любым письменам. Зайцы и вороны, одинокий всадник… «Пишите, что хотите, друзья мои, – подумал король. – Поземка сгладит. Прощайте, ждите лета…»
– В полночь объявят, что вы умерли от несварения, отец. Вы объелись сливами. Или вы предпочитаете заворот кишок? Еще до возглашения соответствующего указа в городе станет известно, что я, Ринальдо III, всем сердцем ненавижу богомерзких сивилл, уродующих человеческий облик. Что я проклял Янтарный грот, порождение демонов. И что я обожаю моих милых горожан. Лавочники уже выкатили на улицы бочки с вином. В трущобах уйма горячих голов. Отребье пьет без меры. Верные человечки уже нашептывают им верные слова. Утром они бросят хмельную толпу на обитель сивилл, а там и на Янтарный грот. В городе начнется резня: ножи найдут изменников. За день их количество резко уменьшится. Полагаю, вместе с изменниками зарежут сотню-другую невинных калек. Да хоть тысячу! Калеки, ясное дело, станут кричать, что ни при чем, что не бывали в гроте… Глупцы! Кто захочет разбираться: да или нет. Разграбят полсотни зажиточных домишек. Дюжину сожгут. Это пустяки, отец! Когда я велю, солдаты наведут порядок. Кое-кого вздернут для острастки. Изменники будут объявлены вне закона. Их имущество перейдет в казну. Десятая часть – доносчикам. Янтарный грот уничтожат, и жизнь войдет в привычную колею. Я хочу править людьми, какими они были при наших предках. Если существует загробная жизнь, ты увидишь возрождение Тер-Тесета – и признаешь, что я прав.
– Хорошо, – речь давалась с трудом. Онемение колыхалось под сердцем, грозя прервать дыхание. – Если я увижу твою правоту, я явлюсь из пекла и засвидетельствую это. Осталось последнее, сын мой…
– Что, ваше величество?
Онемение превратилось в бесчувственность. Волна плеснула вверх, темным холодом ударила в голову. Кресло разрослось, мертвой хваткой вцепляясь в жертву. Так обвивают добычу щупальца осьминога. Гроб, подумал король. Бархат и дуб. Ну, конечно же, гроб. И все-таки я еще здесь. Фернандес I, прозванный в народе Великолепным, собрал остаток сил и заревел во всю глотку – так, как ревел над телом своего отца, разрубленного топором от шеи до паха:
– Король умер! Да здравствует король!
Ему чудилось: рев сотрясает небо и землю. На деле же Фернандес лишь беззвучно разевал рот. Впрочем, крик или шепот – это напряжение убило его величество быстрей, чем медлительный яд.
5
Танни отшатнулся от окна. Его трясло, на лбу выступила испарина. Жуткий крик до сих пор стоял в ушах. Что происходит? Не иначе, кого-то убили! Здесь, в обители сивилл?! Не может быть! «Может, – мрачно возразил здравый смысл. – Что, если началась война? Или с гор спустилась разбойничья ватага?»
Зловещий ропот толпы надвигался. Из окна по-прежнему ничего не было видно. От этого делалось еще страшнее. Сидеть и ждать – хуже некуда. Надо бежать! «Ну да, – хмыкнул здравый смысл, тот еще сукин сын. – Бегун из тебя аховый. Помоги Митра на ногах устоять…» Тогда – хотя бы выбраться наружу. Увидеть, что в поселке творится. Спрятаться…
Куда?
Куда-нибудь! В снег зарыться! Переждать…
Шапки у Танни не было. Башмаков – тоже. Только войлочные «топтуны». Возле кровати, на сучке, нарочно оставленном в стене, висела драная кацавейка. Натянув ее, а поверх – овчинный тулупчик, Танни заковылял к двери, хватаясь за стену, и первым делом поймал занозу в ладонь. Зашипел от злости и прикусил язык. Краем зрячего глаза мальчик уловил за окном какое-то движение. По снежной целине, не разбирая дороги, к бараку бежал здоровенный дядька. В руках – тяжелая оглобля, подмышкой – кое-как скатанный ковер. Лицо перекошено от наплыва чувств, волосы стоят дыбом, кожух нараспашку…
Миг, и Танни узнал своего отца.
Снаружи заскрипел снег. Дверь распахнулась, едва не слетев с петель. Весь в клубах морозного пара, отец ворвался в барак.
– Папа! Что там…
– Некогда! Ложись, быстро!
Бросив оглоблю, отец одним движением раскатал по полу ковер.
– Давай, помогу. Не сюда, на угол. Вот так…
Комната, сойдя с ума, стремительно крутнулась – и исчезла. Отец быстро закатал Танни в ковер, подоткнул края. Сделалось темно. В нос набилась пыль, дыхание прервалось. Мальчик отчаянно чихнул.
– Тихо! Я тебя вынесу.
– Папа…
– Молчи! Молчи, ради всех богов и Предвечной Матери!
Танни, дрожа от страха, притих. Отец вскинул его на плечо. Вновь заскрипел снег. В пыльное узилище проникла струйка воздуха – зимнего, студеного. Край ковра слегка отогнулся. Дышать стало легче. При каждом торопливом шаге отца Танни немилосердно встряхивало, но он терпел без звука. Если отец сказал: «Молчи!» – он будет молчать.
Отец знает, что делает.
Надвинулся гул голосов. Снова раздался крик – кричала женщина.
– Папа! Эльза, сивилла! Спаси ее!
– Заткнись! – страшно прорычал отец над самым ухом. И, понизив голос, зашептал едва слышно: – Молчи, сынок! Молчи! Убежала твоя Эльза, ничего с ней не сделают! Нам бы самим ноги унести… Ты, главное, молчи, прошу тебя!..
И отец взревел так, что у Танни даже сквозь ковер заложило уши:
– Бей погань! Бей изменников!
– Бей! – радостно подхватили рядом.
– Бей уродов!
– Смерть ведьмам!
– Жги!
Вокруг орали, смеялись. Что-то трещало, грюкало. Женский крик затих. В ковер просочился запах гари. Танни едва не закашлялся. Сердце так грохотало в груди, что мальчик был уверен: его слышно в городе. Молчи, не молчи… Госпожа Эльза! Отец просто хочет его успокоить! Он не знает, что с сивиллой. Светлая Иштар, помоги, защити! Пусть Эльза спасется! Ведь это не она кричала. Точно, не она! Другая…
– В грот! Все в Янтарный грот!
– Разнесем гадское логово!
– Спалим!
– В грот!
– В грот! – подхватил отец. – Бегом, парни!
Скрип снега, топот ног, крики…
Похоже, отец потихоньку отстал от толпы и теперь шел в другую сторону. Танни не сообразил, в какой момент вопли начали удаляться. Он не видел разгромленного, горящего госпиталя. И хорошо, что не видел. Снег, еще утром девственно-чистый, истоптала сотня ног. Белое покрывало зимы пятнали отвратительные проплешины: гарь, кровь… Полыхали бараки. Натужно чадил масляной копотью, отказываясь разгореться как следует, каменный дом в центре поселка. Искалеченный, разоренный, с дверьми, сорванными с петель, с выбитыми окнами, дом сопротивлялся до последнего – если не озверевшей толпе, то хотя бы огню. На ступеньках у дверей лежал труп женщины: глаза выколоты, живот вспорот. В сугробах, в дверях бараков, на протоптанных дорожках скорчились другие тела. Сивиллы, изменники… Тем, кого прикончили сразу, размозжив череп молодецким ударом, повезло. Остальные умирали скверным образом. Неходячие сгорели заживо в бараках. Поселок опустел. Мертвецы, огонь и смрадный дым. Опьянев от крови и безнаказанности, толпа валила к Янтарному гроту – довершить начатое.
И лишь один человек, укрывшись от погромщиков в лощине, спешил сейчас к городу, время от времени поправляя на плече тяжелый ковер. Уж если жечь и громить – почему бы заодно не поживиться? Невелика добыча – ковер, но какая есть. Кто раньше подсуетился – тот и прихватил чего получше. Не возвращаться же домой с пустыми руками?
В городе буйствовали мародеры. Отец Танни очень надеялся, что человек с ковром на плече не вызовет у них лишних вопросов. Сегодня он впервые благодарил судьбу за то, что стал грузчиком.
Иначе не донес бы.
6
– …молчи и слушай. Понял? Ты как там?
Танни не ответил. Лишь громко шморгнул носом, давая отцу знать: с ним все в порядке, не задохнулся. Скрип снега под ногами. Тяжкое дыхание отца. Больше – ничего. Они остались одни.
– Наш король умер.
Танни беззвучно ахнул. Ему казалось, что король вечный.
– Объявили – сливами объелся. Желудок не сварил. А я так думаю: отравили его, короля нашего. Сыночек любимый и отравил. Только ты молчи, понял! Молчи. Я говорить буду, пока тут пусто.
Противореча собственным словам, отец на долгое время умолк. Скрип-скрип, скрип-скрип. Кар-р-р! – ворона. Далеко, еле слышно…
– Теперь у нас королем Ринальдо. Ринальдо Третий, значит. Новое величество еще с ночи, вместо чтоб траур по батюшке объявить, велел в город бочки с вином выкатить. Пей, рванина, задарма! И глашатая возле каждой бочки поставил…
Отец снова замолчал, переводя дух.
– Он, король Ринальдо, лишает своего покровительства богомерзких сивилл! Не по нутру ему, что гнусные бабы людей калечат. А калеки те у здоровых хлеб отнимают. Не будет королевской милости и этого… благоволения сивиллам и изменникам. А будет благоволение людям честным, работящим и богобоязненным. Тут люди честные и богобоязненные уже все сами раскумекали. Королевские бочонки очень ума прибавляют. «Бей сивилл! Бей изменников! Не дадим у себя хлеб отбирать! Король за нас!» Короче, началось…
Скрип-скрип, скрип-скрип…
– Я и сам на шармачка выпил. Чего уж там? Потому не сразу и смекнул, к чему дело идет. А как смекнул, бегом к тебе. Ковер по дороге прихватил… Хватило ума, хвала Митре! Там дом громили, говорят, главного по размену. Вроде как не сивиллы, а он тут всем заправлял. Правда, нет – кто теперь узнает? Я ковер и взял. Все тащили, ну и я… Мне ж он позарез нужен был! – в жизни не бравший чужого, отец виновато оправдывался перед сыном. – Иначе я б тебя не вынес. Обоих порешили бы. А ковер… Что ковер? Все тянут, никому дела нет. Вот до дому доберемся, спрячем тебя… Пересидишь, пока не уляжется. Ты молчи. Молчи, главное! Я что? Ковер, вот, добыл, домой несу, знать не знаю ни про каких изменников… Понял?
Танни снова шмыгнул носом: понял, мол.
– Молчи, брат. Тогда заживем. Город скоро.
Спереди, оттуда, куда спешил отец, надвинулся и окреп многоголосый хор. Тысячеглавое чудище топталось, слепо тычась в городские стены, как в ограду узилища; пьяно бормотало, всхрапывало – и все говорило, говорило о непонятном само с собой.
* * *
На потного, умаявшегося здоровяка с ковром на плече никто не обратил внимания. Безумный взгляд, распатланная шевелюра, винный перегар изо рта. Сегодня таких в городе – считай, собьешься. «Потерпи, сынок, – шептал отец, когда рядом не было людей. – Скоро дома будем…» Он добрался до окраины портового района, когда путь перегородила очередная, разгоряченная вином толпа. Отец на миг остановился в нерешительности – может, свернуть в переулок, обойти? Этот миг его и погубил.
– Эй, богатырь! – окликнул грузчика ражий детина. Лихо сбил на ухо суконную шапку: – Чего тащишь?
Десятки взглядов уперлись в отца Танни.
– Ковер себе добыл. Ослеп, что ли?
– Бросай этот хлам! Айда с нами!
– Изменников бить!
– Так побили уже всех, вроде…
– Ха! Их знаешь, сколько!
– Попрятались, отродья!
– Найдем!
– Бросай, давай!
– Да я домой…
– А с чего это у тебя ковер поперек себя шире? – вдруг прищурился детина. – Что прячешь, богатырь?
– Твое какое дело? Ковер, и ковер.
– А в ковре?
– Бабу умыкнул?
– Изменницу!
– Сам отпялить вздумал?
– Делись, скряга!
– Нет там никакой бабы!
– А ну, покажь!
Толпа загудела. Детина ухватился за край ковра, потянул к себе.
– Не трожь!
– А то что? – осклабился детина. – Насмерть зацелуешь?
Ответ не заставил себя ждать. С ковром на плече, без ковра, силы отцу Танни было не занимать. Кулак-молот вбил детине ухмылку в глотку – вместе с зубами и брызнувшей кровью. Детина рухнул наземь. Оглушенный, как бык на бойне, он лежал, раскинув руки, и не подавал признаков жизни. Рот – кровавая дыра, нижняя челюсть вывернута…
Край ковра, старательно подоткнутый отцом, распахнулся. Взору погромщиков открылись забинтованные ступни Танни.
– Изменник! – взвизгнул кто-то.
– Оба – изменники!
– Бей!
Однако толпа медлила: участь поверженного детины мало кого прельщала.
– Беги, Танни! Беги!
Пыльная мгла закружилась, Танни ощутил, что катится по земле. В лицо, ослепив, ударил свет. У щеки возник припорошенный снегом, мерзлый булыжник. Выше – часть стены с растрескавшейся штукатуркой.
– Беги!!!
Бежать Танни не мог. Он пополз – сжав зубы и плача от бессилия, от проснувшейся боли в отрезанных пальцах. Позади орали, ухали, хекали. Отец держался до последнего, как тот упрямый дом в поселке. Дарил сыну призрачный шанс: уползти, забиться в щель, спрятаться, пересидеть… На самом деле у Танни не было шансов. Ни огрызочка. Но он все равно полз, обдирая в кровь озябшие ладони. Время остановилось. Он не оглядывался, он ничего не видел впереди, отвоевывая у мостовой жалкие пяди – крохотные кусочки жизни. Дорогу загородил труп. Мертвец лежал лицом вниз; из затылка торчал кованый костыль. Зрение вернулось; Танни заорал, откатился в сторону. Попытался встать, хватаясь за стену руками, уже не чувствующими боли. С третьей попытки это ему удалось. Позади торжествующе взревела толпа. Был отец, и весь кончился. Да и сыну осталось жить – раз-два, и хватит.
– Эй, сучёныш! Далеко собрался?!
Со скоростью черепахи Танни ковылял прочь. Переставить ногу, ступая на пятку. Еще раз, с другой ноги. Продвинуть руки на локоть дальше. Поймать равновесие. Снова переставить ногу. Весь мир, весь краткий остаток существования сосредоточился для мальчика в этих простых, но таких важных действиях.
– Ну ты скороход!
– Ножки не держат?
– Лови, ублюдок!
– Н-на!
В стену ударил камень. Второй – острый обломок, пущенный умелой рукой – без жалости врезался Танни в ухо. Голова взорвалась черной, оглушающей болью. Ноги подкосились, мальчик упал, не успев выставить руки. Лязгнули зубы, что-то отвратительно хрустнуло. Рот наполнился горячим и соленым вперемешку с какими-то камешками. По щеке и шее текло: липкое, теплое. Ухо дергало калеными щипцами. Голова гудела, перед единственным глазом плясали огненные звезды. Танни снова пополз, больше не пытаясь встать. Рядом в землю били камни; один угодил мальчику в бедро. Танни дернулся, но не остановился.
– Ползи, змееныш!
– Спорим, с трех камней уложу?
– Хрен тебе! Он живучий…
Зрение прояснилось. Танни увидел башмаки. Крепкие, хотя и ношеные башмаки из воловьей кожи. Пряжки – серебро; толстая, тройная подошва. В таких можно сотню лиг отмахать – и хоть бы хны. Вот какие башмаки, оказывается, носит смерть. Ну да, ей ходить много доводится…
Мальчик зажмурился, ожидая удара. Нет, смерть медлила. Тогда он открыл глаза и с усилием сел. Над ним возвышался старик. Лицо – в складках и морщинах, похожих на ножевые порезы. Неправильное лицо. Казалось, его слепили из двух разных половинок. Морщины справа были не такие, как слева. Из пещер-ноздрей вырывался пар, словно там прятался дракон, готовясь извергнуть сноп пламени. Лоб старика закрывала кожаная повязка, поверх которой была надвинута шляпа с широкими полями. От мороза старика спасал кожух – длинный, до пят; на плече висела дорожная сумка.
– Живой? – равнодушно спросил старик.
И раздвоился.
Второй старец выглядел древнее развалин замка Трех Лун. Он опирался на пастушью клюку. Шляпу высоченный дедуган держал в свободной руке. И как он себе лысину не отморозит? С неба вновь начало сыпать. Налетая порывами, ветер швырял в людей колючую белую крупу. Снежинки таяли на лету и испарялись без остатка, не достигая блестящей лысины старца. Обрывки мыслей бестолковой сворой метались в голове Танни. Голова раскалывалась от боли, в ушах нарастал звон. Старики, развалины замка, волшебная лысина – что угодно, не важно! Рассудок защищался, как мог, отгораживаясь от единственного, что сейчас имело значение. Жизнь и смерть. Краткая жизнь и скорая смерть. Взгляд, вторя беготне мыслей, метался от одного старика к другому. Мальчик ничуть не удивился, когда в какой-то миг стариков стало трое. Третий соткался из снежной завирюхи и без слов встал рядом. Худой, хмурый, в плаще с капюшоном, надетом поверх куртки из оленьей шкуры. На поясе – узкий меч, за поясом – три кинжала разной длины.
Старики молчали, перегородив улицу.
В двадцати шагах от них грозно ворчала толпа.
– Эй, чего встали?
– Проваливайте!
– Сами ублюдка добейте! Разрешаем!
Старики молчали.
– Защитнички!
– Песок сыплется!
– Валите, пока мы добрые!
– Не то мы вас за компанию…
Ропот толпы придвинулся, заполнив улицу. Глаза самого древнего из старцев вдруг сделались пронзительно, невозможно голубыми. Воздух вокруг него задрожал, потек зыбким маревом, как над дорогой в летний день. На Танни отчетливо пахнуло жаром. Кожаная повязка на лбу другого старика задымилась, вспыхнула – и осыпалась наземь хлопьями черного пепла. Во лбу человека мерцал, сверкая пурпурными сполохами, огромный карбункул, по краям оплетенный сетью вздувшихся жил, словно щупальцами спрута.
Третий старик извлек из ножен меч.
– Бей! – крикнули из толпы.
Камень устремился в полет. Булыжник несся в лицо древнейшему из старцев. Ослепительная вспышка зарницей высветила серые стены домов – и Танни наконец провалился в спасительное небытие.
Глава вторая
Сивилла Янтарного грота
1.
Цепочка следов тянулась по белому савану снега, словно грубый изнаночный шов. То и дело сивилла оглядывалась на бегу, с ужасом понимая: следы не спрячешь. Они выдадут Эльзу с головой. Разве что озверевшая толпа, увлеченная погромом, не обратит внимания на одинокую стежку. Шаткая, страшная надежда: купить себе жизнь ценой чужих смертей. «Что я могла сделать? – спросила Эльза себя. И ответила с обреченностью загнанного зверя: – Ничего…» Ей просто повезло: она увидела погромщиков раньше, чем они ее. Замерла, окаменела, глядя, как распинают на снегу сестру Оливию. Гогочут, срывая с жертвы одежду, спешат подмять, навалиться, торопят друг друга, и холод насильникам не помеха… «Приступ, – отстраненно думала она, следя за Оливией. – Сейчас у меня начнется припадок.» Нет, приступ медлил. Оцепенение разжало пальцы-клещи; дрожа всем телом, Эльза отшатнулась за угол барака. Бросилась прочь, не разбирая дороги. Позади кричала Оливия – хрипло, бессмысленно. Крик бил в спину, толкал вперед и вперед. Когда он смолк, Эльза из последних сил ускорила бег, по колено проваливаясь в рыхлый снег.
В бараках остались люди. Живые. Еще живые. Надо было как-то предупредить их. Но горло свело спазмом. Сивилле едва удавалось протолкнуть в легкие порцию морозного воздуха. Она не виновата! И не вернется, хоть разверзнись твердь под ногами. Обитатели бараков наверняка слышали крик Оливии. Возможно, кто-то сумел спастись…
Тяжело дыша, Эльза остановилась. Обернулась, согнувшись в пояснице и упираясь руками в бедра. Колотье под ребрами усилилось, причиняя боль. Госпиталь скрылся из глаз. Лишь над складками зимней шубы, укрывшей землю, вздымались в небо грязные хвосты дыма. Уходили в вышину, вливались в хмурую серость туч – низких, равнодушных. Словно в одночасье вернулись Древние Времена, когда, если верить сказаниям, людей приносили в жертву сотнями. Жирный дым бесконечных гекатомб надолго скрывал солнце от взоров оставшихся в живых.
Людей – если убийц и насильников можно назвать «людьми» – видно не было. Погони – тоже. Неужели удалось уйти? Сивилла замерла, прислушиваясь.
– …ро-о-от! – долетел от госпиталя нестройный рев.
– …тарны!..
И, уже отчетливее:
– …в грот!
Они идут в Янтарный грот! Оглядевшись, Эльза поняла: ноги несут ее туда же. К чудесной пещере, дарившей сивиллам видения, а калекам – новые, небывалые возможности.
След! Теперь погромщики точно увидят ее след!
Правее, в стороне от невидимого отсюда Янтарного грота, карабкались ввысь уступы базальтовых утесов. Темнели мрачной грядой, резко контрастируя с вселенской белизной, затопившей мир. Не в силах удержаться на гладком камне, снег с шелестом стекал по исполинским ступеням каскадами пушистого водопада. Нет снега – нет следа. Добраться до скал, затеряться в каменных лабиринтах…
Там ее не найдут.
Она достигла подножия скал в тот момент, когда орда погромщиков вывалила на пологий гребень холма. Снег лишал Эльзу шансов на спасение. Лишь слепой не заметит муху в миске сметаны! Но Митра сегодня был в духе: она успела. Забилась в ближайшую расщелину, замерла, желая слиться с мерзлой громадой. Томительное ожидание сомкнулось над Эльзой, как вода над утопленницей. Многоглавый дракон в раздумьях топтался на холме. Качнулся, рыкнул – и двинулся прежним путем, к гроту.
Сивилла перевела дух. Минутой позже она принялась неумело карабкаться вверх по расщелине, цепляясь за стылые края трещин. Замерзшие пальцы едва слушались; левую ногу свела судорога. Пришлось ждать, пока ногу отпустит, скорчившись на крохотном уступе. Эльза прижалась к скале всем телом, боясь упасть. Будь подъем круче – непременно сорвалась бы. Вскоре она выбралась на другой уступ, широкий и плоский. На краю громоздились угловатые валуны – словно кто-то нарочно выстроил примитивную стену, намереваясь держать здесь оборону. Скорее всего, так оно и было. Кто и когда соорудил это странное укрепление, оставалось загадкой, и разгадка интересовала Эльзу в последнюю очередь.
На четвереньках подобравшись к краю, сивилла осторожно выглянула из-за стены.
Толпа преодолела узкий каменный «мост» через ущелье. Люди стояли у черного зева – входа в Янтарный грот. Один за другим вспыхивали факелы. Подбадривая друг друга криками, погромщики редкой цепочкой начали втягиваться внутрь. Тьма озарилась охристыми бликами. Глухо звучали голоса, дробясь отголосками эха. Они долетали даже сюда, на другую сторону ущелья. Отсветы пламени то угасали, то разгорались ярче, голоса превратились в утробный гул, несущийся из недр пещеры. Казалось, заговорил сам грот. Часть погромщиков топталась снаружи, не решаясь войти под своды. Их дружки задерживались.
Что они делают в гроте?
Пытаются уничтожить святыню?!
В ответ на немой вопрос сивиллы из грота раздался протяжный, трубный вопль. Ни человек, ни зверь не могли издать подобного звука. Так, наверное, возопил бы от боли и гнева оживший камень! У женщины перехватило дыхание. Погромщики тоже замерли; попятились, вжав головы в плечи…
Отсветы факелов замигали. Провал входа ослепительно вспыхнул, из недр горы извергся поток янтарного пламени. Нет, не пламени – чистого, яростного света! Впору было поверить, что в пещере взошло солнце. Наклонный столб света, похожий на рухнувшую колонну, уперся в уступ, на котором притаилась Эльза. Сивиллу обдало жаром, как из раскаленной печи. Темно-медовые лучи пронзили тело. Женщина ощутила себя сделанной из стекла: прозрачной и хрупкой до звона.
А потом она раздвоилась.
Одна Эльза по-прежнему пряталась на уступе, выглядывая из-за рукотворной стены. Другая же чудом оказалась внутри Янтарного грота. У второй Эльзы были тысячи глаз и ушей, и еще какие-то, неведомые доселе, органы чувств. Подобные изменения, только слабее, она переживала в дивных видениях, что навевал грот. Всем телом – кожей, мышцами и сухожилиями, костями и внутренностями – она ощущала движение, пространство вокруг себя, тончайшие вибрации живого и неживого, и того, что колебалось на тонкой грани между ними. Она видела, слышала, чуяла, как мечутся в ужасе человеческие тела. Погромщики с отчаянием смертников, бегущих с эшафота, стремились к выходу, прочь из ловушки, в которую сами себя загнали. Впрочем, тела их уже не были до конца человеческими. Они плавились, подобно разогретому на огне воску; текли, стремительно меняясь. Рты, распяленные в крике, раскрывались зубастыми бутонами влажной плоти; руки выворачивались под безумными углами, покрывались змеиной чешуей, обретали гибкость щупалец; ноги в мгновение ока обрастали клочковатой шерстью – колени выгибались назад, кожу башмаков разрывали кривые когти…
Несчастные бежали, ковыляли, ползли, спеша покинуть коварный грот. Мало кому было суждено добраться до выхода. Одни мухами увязли в предательском янтаре, податливом и клейком, как мед. Другие спотыкались, падали и бессильно барахтались на полу. Искаженные конечности больше не держали людей. Хрупкие кости ломались под весом тела, а мышцы лишь конвульсивно сокращались, выйдя из повиновения. Грот сиял мириадами свечей. Грот гудел рассерженным пчелиным роем, и каждая пчела была размером с быка. На полу чадили факелы. Погромщикам удалось кое-где расплавить янтарь, покрывавший стены пещеры, покорежить его кирками и молотами, сломать дюжину сталактитов и сталагмитов. «Он заращивает раны, – сивилла думала о гроте, как о живом существе. – Он защищается…» Мало-помалу гул, исходивший из недр горы, начал затихать, медовое свечение – меркнуть. В какой-то миг сивилла испугалась: что, если она навеки останется раздвоенной?! Тело замрет на краю уступа, а бесплотная тень будет обречена до скончания веков обретаться в глубинах Янтарного грота, среди впаянных в камень монстров, когда-то звавшихся людьми?
Впрочем, были ли они людьми до того, как их тела изменились?
Ее услышали, вновь сделав единой. Эльза моргнула, приходя в себя. Цельность не принесла успокоения. От сивиллы осталась лишь жалкая часть, нелепый обрубок: полуслепой, оглохший, бесчувственный. Свет, льющийся из грота, стремительно гас. Жар исчез; вернулся мороз, злорадно швырнул в лицо горсть ледяных иголок. Из грота выползали жуткие, исковерканные существа. Те, кому посчастливилось добраться до выхода, гибли под ударами дубин и топоров своих недавних товарищей, ждущих снаружи.
– Сдохни, тварь! Сдохни!
– Это я, Нед! Помоги…
– Умри, отродье!
– Не надо…
– Бей!
– Гляди, вон еще лезут…
– Проклятое место!
– Бежим отсюда!
– Помогите…
Уцелевшие погромщики, толкая друг друга, бросились через скальный мост – прочь от пещеры, где люди превращаются в богомерзких страшилищ. Кого-то сбили с ног, бедняга полетел вниз. Истошный крик бился о стены глубокого ущелья. Удара о камни никто не услышал – просто крик вдруг оборвался. Вскоре у грота не осталось никого. Лишь копошились в снегу двое-трое недобитых уродцев, что-то смутно двигалось внутри пещеры, да один из изувеченных с упрямством насекомого полз по мосту, загребая снег руками-клешнями и короткими ногами, ступни которых превратились в ласты, черные и кожистые…
Сивилла привалилась спиной к изгрызенной ветром стене. Тебя не станут искать, сказала она себе. Сюда не сунутся после рассказов уцелевших. Ты спаслась. Ты даже видела кару, постигшую убийц. Довольна? Теперь со спокойной душой замерзни здесь, среди камней и снега. Эльзой овладела апатия. Сестер убили; изменников убили тоже. В чем их вина? В том, что хотели жить хоть капельку лучше? Что пожертвовали ради этого собственным телом – единственным, с чем любой человек приходит в мир? Все, кого знала Эльза, кто заменял ей семью, были мертвы. Госпиталь разорен и сожжен. Янтарный грот сделался смертельно опасен. В город ей хода нет. Бежать? В Сегентарру, Равию, Трипитаку… Без еды, без денег, по бездорожью. Ночевать под открытым небом, в то время, как морозы лутуют…
Далеко ли уйдешь?
А даже если выживешь – что ты будешь делать в Равии или Кхалосе? Без Янтарного грота ты – никто. Много ли умеешь, Эльза? За больными ходить? Телом торговать, пока молодая? Не лучше ли замерзнуть в скалах? Или войти в грот, умолить: переделай! Перевари! Преврати в тварь безмозглую, вмуруй в янтарь…
По щеке потекла слеза. Жаркая в первый миг, она быстро остывала. Эльза разозлилась. На себя, на свою слабость, на мир, проклятый сверху донизу. Дура! Тебе что, неясно дали понять: твой час еще не пробил! Для чего светлая Иштар хранила тебя, неблагодарная? Чтобы ты легла и замерзла? Сивилла поднялась, отряхнула снег. Первым делом надо найти убежище. Развести огонь, перевести дух. Вернуться в разоренный госпиталь? Вряд ли в поселке задержался кто-то из погромщиков. В госпитале удастся найти еду, запастись теплой одеждой…
От одной мысли о возвращении на пепелище живот сводило мучительной судорогой. Эльза притопнула, желая согреться; огляделась по сторонам. Она прекрасно понимала, что тянет время, не в силах решиться. Увидеть обезображенные трупы сестер, не имея возможности достойно их похоронить? Оставить воронам на расклев, собрать все ценное – и уйти прочь, перечеркнув былую жизнь?
К этому она была не готова.
Взгляд раз за разом возвращался к странной угольной тени, едва различимой на черноте базальтовой стены. Тень почти сливалась с камнем. Но камень отблескивал в рассеянном свете дня, а тень была аспидно-матовой. Эльза шагнула ближе. Перед ней открылся узкий провал, ведущий вглубь скалы. Вход располагался строго напротив Янтарного грота, по другую сторону ущелья. Увидеть его снизу было невозможно. У меня нет ни факела, ни огнива, подумала Эльза. Что, если в скале прячется червь-людоед? О существах из подгорного мира ходят сотни мрачных легенд. С другой стороны… Не ты ли хотела лечь и умереть? Передернув плечами, Эльза решительно шагнула в темноту. Будь, что будет! Светлая Иштар защитит ее. А если нет, и она станет пищей для пещерного чудища…
Значит, такова ее судьба.
2.
Поначалу свет, тусклый и серый, позволял различать дорогу. Потом узкий ход свернул влево, и зрение сделалось бесполезным. Сивилла двигалась на ощупь, пробуя ногой пол, чтобы не оступиться в пропасть, и ведя ладонью по сухой, на диво гладкой стене. Содрогаясь от страха, Эльза вся сжималась в комок: сейчас в руку вопьется жало ядовитой гадины! Время от времени она замирала и вслушивалась, затаив дыхание. Тишина: мертвая, абсолютная. Как будто Эльза уже умерла. Мрак чернильным воском залепил уши, гася звуки. От беззвучия на сивиллу мало-помалу снизошло удивительное спокойствие. Она будет идти, пока хватит сил. Или пока не придет…
Куда-нибудь.
Вскоре тьма принялась рождать зрительные фантомы. Искры и огоньки сплетались в тусклые узоры, чтобы расточиться без следа. Стоило моргнуть, и наваждение исчезало; мрак пещеры вновь обретал однородность. Но спустя дюжину ударов сердца фантомы возвращались. Один был настырным: едва заметный блик, робкий намек. Эльза моргала, но упрямец не пропадал, а, напротив, становился ярче и отчетливей. Сивилла едва удержалась, чтобы не броситься вперед, как умалишенная. Не хватало еще свернуть себе шею на последних шагах.
Вдруг это ловушка для торопыг?
Глаза привыкли к темноте. Теперь хватало малой толики света, чтобы видеть неровности пола и плавный изгиб стены. Еще немного, и ход кончился, выведя Эльзу в зал правильной формы. Она словно оказалась под куполом подгорного храма. Ровный круг пола – добрых сто шагов от стены до стены. Над головой – каменный свод, весь в известковых потеках и наростах. В вышине сочилась тусклой мутью троица отверстий – «световых колодцев». Попади сюда Эльза при других обстоятельствах, она бы тихо ахнула от восторга, пораженная открывшейся ей картиной. «Бороды» и наплывы под куполом переливались бирюзой и аквамарином, палевым жемчугом и перламутром, охрой и лимонной желтизной. Нерукотворные пилястры, «гребенки» и «щетки» из драгоценных игл, известковые «соломинки» и монументальные сталактиты образовывали ансамбли, при виде которых любой зодчий удавился бы от зависти. С пола навстречу им тянулись заросли сталагмитов. Дальше, как на постаменте, возвышалась полированная временем громада – чудище выгибало спину и скалило пасть, где сверкали острые зубы кристаллов.
Звон капели и журчание подземного ручья звучали под сводами зала органной музыкой, вплетая живой трепет в безмолвно застывшую симфонию камня.
Увы, измученной сивилле было не до красот. В зале оказалось теплее, чем снаружи. Эльза почувствовала, что вспотела. Она уловила легкий ток воздуха – не сквозняк, готовый выстудить тебя до костей, а медленное движение, несущее свежесть. Убежище? По крайней мере, здесь не свирепствует мороз, и есть вода.
Заново, теперь уже внимательно, Эльза осмотрела зал. Вспомнились наставления старшей сестры: «Изгоните мысли. Изгоните желания и ожидания, надежды и страхи. Уподобьтесь озеру в тихую погоду, когда малейшая рябь не тревожит его поверхность. Не ищите, не вглядывайтесь, не ждите. Смотрите – и отражайте. Откройте разум, как дверь; позвольте завтрашнему дню войти…» Так сивилл учили видеть будущее, скрытое во мраке. Мрак грядущего, мрак подземелий… Мысли угасли. Боль ушла. Страх сбежал. Ожидания расточились. Надежды истаяли утренним туманом. Сивилла повернула голову, зная, что поступает единственно верным образом – и увидела.
В пасти чудища лежал чужеродный предмет.
Чтоб дотянуться до футляра из тисненой кожи, ей пришлось встать на цыпочки. Эльза едва не поранилась об острые клыки монстра – кристаллы аметиста. Страж пещеры не желал расставаться с добычей. Нога поехала по скользкому «постаменту», и сивилла чуть не свалилась на частокол сталагмитов. Со второй попытки ей все же удалось завладеть футляром. Эльза осторожно сползла с постамента и встала в центре зала, под отверстиями в куполе. Полой полушубка отерла влагу – и с замиранием сердца взялась за бронзовые застежки, инкрустированные янтарем. Два щелчка слились в один. Футляр раскрылся. Внутри покоился свиток пергамента – залитый воском, перевязанный витым шнурком с печатью синего сургуча. Оттиск на печати был знакомым: глаз с вертикальным зрачком, в обрамлении змей. Печать госпиталя, дарованная сивиллам королем Фернандесом. Без колебаний Эльза сломала печать и развернула пергамент. Несмотря на воск, свиток пострадал от влаги. Края строк расплылись фиолетовыми разводами, но прочесть написанное было можно.
«Если ты читаешь эти строки, сестра, значит, мое видение сбылось. Госпиталь разорен и сожжен, сестры убиты. Надеюсь, ты уцелела не одна. Сколько бы вас ни было – вознесите благодарственную молитву Иштар за чудесное избавление.
Это было последнее пророчество, которое подарил мне священный дым. Огонь и смерть, и сестра-беглянка находит убежище здесь. Я не видела твоего лица. Не знала имени. Я даже не знала, когда это случится. Сколько отмерила нам Иштар? Год? Десять лет? Век?! Наш разум слаб. Он не всегда в силах верно истолковать картины грядущего. Я всей душой надеялась, что это видение – из таких, ошибочно понятых. Но когда в ущелье случился обвал, навсегда похоронив под грудой камней источник священного дыма… Я надеюсь до сих пор. Я слаба и ничтожна.
Я скрыла это от сестер: есть вещи, которые не предотвратить. Я отыскала пещеру, явленную мне в грезах. Пережди безумие смуты, сестра, а затем покинь эти края. Я верю, Иштар не случайно выбрала тебя. Здесь ты найдешь теплую одежду, крепкую обувь, еду, воду и дрова для костра. Лучины, свечи, огниво, трут; запас целебных снадобий… Еще я оставила малую толику денег, чтобы ты не нуждалась в дороге. Встань в центре зала, лицом к каменному стражу, в пасти которого ты нашла этот свиток. Переведи взгляд на четверть круга влево. У стены, под желтой «головой дракона», ты найдешь мое наследство.
Да хранит тебя светлая Иштар!
Корделия, старшая сестра обители.»
Ниже стояла дата. Десять лет назад. Год спустя после того, как источник священного дыма был погребен под обвалом.
Этот же обвал обнажил вход в Янтарный грот.
3.
В трех дубовых, окованных позеленевшей медью ларях – их Эльза нашла в указанном месте – хранилось целое богатство. Все, что нужно, и даже сверх того. Вопреки всему старшая сестра надеялась, что уцелевших окажется больше.
Часть продуктов была безнадежно испорчена. В муке копошились жирные белесые червяки с черными головками. От ячной крупы осталась прогорклая труха – тут постарались вездесущие жучки-долгоносики. Часть сухарей сожрали крысы, или кто здесь водился. Зато сушеные лещи сохранились отлично, задубев на манер ригийских мумий. С трудом разломив рыбину, Эльза убедилась, что внутри нет ни личинок, ни черной гнили. Пах лещ так, что рот сразу наполнился слюной. Еще кое-какая провизия уцелела в коробках из серебряного сплава, запаянных оловом. Эльза слышала, что такие коробки берут с собой путешественники, отправляясь за море. Нашелся чугунный котелок, и миски. Вскоре нехитрое варево булькало на костре. Прежде, чем приступить к трапезе, Эльза вознесла молитву Иштар. Благодарила за избавление, молилась за погибших сестер. В особенности – за старшую сестру Корделию. Пусть их души обретут вечную радость в Небесных чертогах!
Ела она аккуратно, как в обители. Очень хотелось наброситься на еду голодной волчицей, давясь, обжигаясь и чавкая. Но ее учили сохранять достоинство в любых обстоятельствах. Достоинство – для себя, а не для окружающих. Поев, Эльза вымыла посуду в ручье, как смогла плотно закупорила вскрытые коробки. В одном из ларей обнаружились три одеяла из верблюжьей шерсти, покрытые джамадийскими орнаментами: черно-красные ромбы, цветы и птицы на «песочном» фоне. Отыскав местечко посуше, сивилла постелила два одеяла, укрылась третьим…
* * *
Дар прорезался у Эльзы в шесть лет.
Точнее, в шесть ее начала трепать падучая, и родители отвели дочь к лекарю. Лекарь в деревне пользовался уважением. Он исцелял запор и золотуху, чесотку и лишаи, вправлял мослы и мазал раны вонючим снадобьем. Но чем лечить девчонку, которая может ни с того ни с сего грохнуться в лужу и дико завыть, выгибаясь дугой, закатывая глаза и захлебываясь пенной слюной?
Признаться в собственном невежестве – удар по репутации.
– Три части козьего молока на одну часть крепкого отвара чабреца. Две ложки липового меда. Подогреть и давать по одной кружке три раза в день…
Лекарь рассудил, что вреда от снадобья уж точно не будет. И поначалу оказался прав. Кружка, выпитая на завтрак, пошла хорошо. Эльзе даже понравилось. Обеденную кружку она извергла обратно, едва встав из-за стола. Вместе с вкуснющей кашей, которую перед этим наворачивала за обе щеки. Было обидно до слез. А поздним вечером девочку скрутил жесточайший приступ, едва она сделала два глотка из третьей кружки.
– Все ясно! – важно изрек целитель. – Порча, а то и сглаз. Это, уважаемые, не по моей части. Обращайтесь к колдуну.
– Что ж сразу не сказал?! – возопили родители, обуянные праведным гневом. – Дитё от твоей дряни чуть не окочурилось!
Лекарь воздел палец к небесам:
– Проверку учинял. Теперь точно вижу: к колдуну!
Своего колдуна в деревне не водилось. Пришлось ехать в город. Колдун, по-городскому маг, жил на окраине, в башне о пяти этажах. Такой высокой постройки Эльза в жизни не видела, и разинула рот от изумления. А потом принялась хихикать: кривоватая башня напоминала растущую из земли свиную ногу, увенчанную раздвоенным копытом. Сходство усиливала моховая щетина, которой башня обросла аж до третьего этажа.
Маг был не старый, но вид имел затрапезный. Лиловая мантия, вся в жирных пятнах, больше смахивала на засаленный халат. Грязные волосы свалялись в колтуны, падая на плечи неопрятными сосульками. Мятая кожа, мешки под глазами… Он все время что-то жевал, говорил невнятно, смотрел мимо. В какой-то момент взгляд его остановился на Эльзе – и вцепился двумя рыболовными крючками. Лицо мага отвердело. Он подобрался, как кот при виде мыши. Голос зазвучал жестко и властно, отдаваясь под сводами башни гулким эхом.
– Она говорит во время приступов?
Он обращался к отцу, но смотрел на Эльзу.
– Нет, господин. Только воет волчицей. Страшно так…
– Совсем ничего?
Отец лишь покачал головой.
– А после приступов долго в себя приходит?
– Ох, долго, господин! Бывает, целый день пластом лежит. Спит, бредит…
– Бредит? – маг потер руки, как пьяница в предвкушении доброй выпивки. – И в бреду разговаривает, верно?
– Верно, – закивал отец. – Болтает, пигалица.
– И что же она в бреду… м-м-м… болтает?
– Да что ж может дитё сущеглупое в бреду нести? Ерунду всякую…
– Это уж я сам разберусь! – отрезал маг. – Давай, вспоминай. Если, конечно, хочешь дочери помочь.
– Да я… сразу и не упомнишь… – растерялся отец. – Про огонь бормотала… Плакала! Горит, мол, бегите…
– Пожара в округе после этого не было?
Отец наморщил лоб, вспоминая.
– Был! Точно, был! Через седьмицу у Джока-строгаля сарай ночью занялся. Жарища стояла, вот оно и полыхнуло. А тут ветер… Пять дворов выгорело. У Джока меньшие, близняшки, в дыму задохлись…
– Замечательно!
Отец вытаращился на колдуна.
– Это я не о пожаре, любезный, – исправился маг. – Детей жалко, спору нет. Я о другом, не бери в голову. Что еще твоя дочь в бреду говорила?
– Да я мало что слышал, господин. С ней жена больше… А, вот! Заглянул раз, а она как вскочит! И ко мне. Вцепилась – не оторвешь! Верещит: «Не езжай, папка, на ярманку! Зарежут тебя!» Я гляжу, а глаза у нее закрыты. Меня аж жуть пробрала. «Спи, – говорю, – доця! Не поеду я никуда…» Она брык на солому, и спит дальше.
– На ярмарку собирался? А?
– Раздумывал, – отец почесал в затылке. – Рожь плохо уродилась, поросенки тощие… Торговать нечем, самим бы хватило. Яблоки, разве что. Я сидру надавил, думал, пригодится. А тут дожди зарядили, жена расхворалась…
– А соседи поехали?
– Ну…
– Вернулись? С выручкой?
– Куда там! На обратном пути лихих людей встретили. Дядьку Сыча насмерть зарезали, выручку всю забрали… – отец говорил все медленней и медленней. Умолк, поднял глаза на колдуна: – Это что ж выходит? Ведьма в семье?!
– Твоя дочь – прорицательница. Видит грядущее.
У отца отвисла челюсть. Он смотрел на мага в заляпанной жиром мантии, как на вестника богов. Маг же поглядел на гостя, как на вонючего зверька, в чьей норе отыскался алмаз величиной с кулак.
– И что теперь?
– В науку отдавать надо. Иначе дар ее убьет.
– Да где ж такой страсти учат?!
– Есть места. Или ты своей дочери враг?
– А денег много запросят? Мы люди скромные…
– Не надо денег. Сивиллы таких, как твоя Эльза, по всему свету ищут. Считай, повезло тебе. Собирай дочь в дорогу и через три дня привози ко мне. Я сам доставлю ее к сивиллам.
Маг присел на корточки, взял Эльзу за плечи. Изо рта мага несло кислой капустой. Пегая щетина покрывала щеки, обвисшие, как брыли у пса. Девочка хихикнула. Маг кивнул, словно услышал правильный ответ. И впервые за весь разговор обратился к Эльзе:
– Поедешь учиться на сивиллу?
– Если я останусь дома, я умру? – спросила Эльза.
– Да. И очень скоро.
– Тогда поеду. Я хочу жить долго-долго! Всегда!
4.
Дорога в обитель Эльзе запомнилась смутно. Повозка тащилась по колдобинам, подпрыгивала на ухабах. Мимо плыли рощи и поля, деревни, похожие, как близнецы. Возница покрикивал на костлявую лошадь. Та и ухом не вела. Маг молчал, Эльза ела, что давали, и много спала. Приступ с ней случился только один раз. Когда девочка очнулась – на нее смотрели внимательные, немигающие глаза мага. Что он хотел высмотреть в ней? Этого Эльза никогда не узнала. Как и того, чем расплатились с магом сивиллы за новую сестру. Деньгами? Вряд ли. Обитель не была богатой.
Предсказаниями?
Дни сливались в серую маету. Девочка уверилась, что они будут ехать целую вечность. Огорчило ли это Эльзу? – нет. По родителям она не скучала. Но всему приходит конец, и дороги – не исключение. Настало утро, когда они въехали в огромный город, и в Эльзе вспыхнул интерес. Она завертела головой, пытаясь увидеть все-все вокруг. Голова закружилась. Но девочка все равно продолжала таращиться по сторонам. Всюду был сплошной камень: стены – из камня, дома – из камня, ступеньки лестниц – из камня… Даже улица была вымощена булыжником, по которому отчаянно грохотали колеса повозки. Мимо проезжали другие повозки и всадники, по улицам валили толпы народа. В глазах рябило от пестрых камзолов и кафтанов, шляп с перьями и без; плащи и накидки, ботфорты и башмаки, лосины и панталоны… А усатые стражники с алебардами, в сверкающих кирасах и шлемах? А женщины в роскошных платьях, с вышитыми на них цветами и птицами, с кружевами и оборками – сами похожие на диковинных птиц? И снова – камни, россыпи камней. Они блестели, сверкали, таинственно мерцали – янтарь пуговиц, нефрит застежек, полированный змеевик и яшма пряжек, гранаты и топазы перстней, агаты и сердолики ожерелий…
Увы, в городе они не задержались. До обители сивилл, оказывается, было уже рукой подать. По городским меркам обитель выглядела скромно: каменный дом в два этажа, ряд бараков из бревен, хозяйственные пристройки. Дальше начинались горы, и по склонам ползли седые пряди тумана.
Навстречу гостям вышли женщины. В строгих платьях без излишеств; широкие, складчатые пелерины спадали до локтей. У каждой сивиллы на лбу была повязана синяя лента с золотым тиснением, перехватывающая волосы. Эти ленты заворожили Эльзу. Ни на что другое она уже не могла смотреть. В душе девочки зрел жизненно важный вопрос. Наконец, собравшись с духом, она спросила:
– А мне такую ленту тоже дадут?
– Конечно! – рассмеялась старшая из сивилл.
Ее смех Эльзе понравился: он был совсем не обидный. И улыбка понравилась. А больше всего понравился ответ.
– Тогда я у вас останусь, – кивнула девочка.
* * *
Все сивиллы были взрослые. Даже Катрина – ей было целых двенадцать лет! Катрина звала Эльзу малявкой и головастиком, и играть с ней не желала. За исключением этой вредины, в обители Эльзу никто не обижал. Кормили тут вкусно, лучше, чем дома! Странное дело – Эльза по-прежнему ни капельки не скучала по родителям, но трижды на день вспоминала старшего брата Игана, хоть тот и любил втихаря отпустить сестре щелбан.
Сложнее всего оказалось привыкнуть к ежедневным занятиям. Мучение начиналось после завтрака, длилось до обеда, а потом еще чуть-чуть. И учили-то чепухе на постном масле! Эльза кипела от злости: как можно сидеть сиднем, зажмурившись – и не заснуть? А видеть сердцем? Вспоминать животом? Ни о чем не думать, ничего не хотеть? Это покойник в гробу без мыслей лежит…
– Не хочу! – спорила девочка с наставницами. – Не хочу быть покойницей!
Вот представлять себе всякие узоры, как они сплетаются в диковинные картины, Эльзе нравилось. И слушать ветер она любила. Когда же ее стали учить грамоте и счету, она заупрямилась: это еще что за дичь? Грамота девочкам ни к чему!
– Глупым девочкам ни к чему, – разъяснила старшая сестра Корделия. – А ты станешь сивиллой. Как же ты прочтешь грядущее в священном дыму, если не в силах прочесть обычный свиток? Все сивиллы умеют читать и писать.
– Все-все?! Даже Катрина?!
– Даже Катрина, – улыбнулась старшая сестра.
Ну, если даже эта задавака Катрина выучилась…
– Ладно! – кивнула Эльза. – Буду грамотной!
В обители ей выделили отдельную комнату, которая называлась «кельей». Убирать в келье надо было самой, но к домашним хлопотам Эльза привыкла. Это ей – раз плюнуть, хоть старшая сестра и говорит, что так выражаться нехорошо. Она ведь не собирается взаправду плеваться? Вот и славно. Зато спит она теперь не на лавке, а на кровати со спинкой и ножками! С тюфяком, простынями, одеялом из верблюжьей шерсти и подушкой, набитой гусиным пухом! Еще в келье стоял сундук для одежды – с окованными медью углами, с крышкой, где по дереву были выжжены птички с хохолками. А еще табурет, и бронзовый подсвечник на три свечи…
Красота!
Кроме странных наук, Эльзу учили шить, вязать, стряпать. Обещали позже, когда она подрастет, научить ухаживать за больными. Сейчас же главное – укротить припадки, которые у сивилл звались Даром.
– А иначе я умру, – понимающе кивала девочка.
Способность видеть будущее представлялась ей хорьком по имени Дар. Такой залезет в курятник, всех передушит. И Эльзу-курочку. Если, конечно, она не отрастит себе клюв и когти, как у пестрого ястреба. Старшая сестра только вздыхала в ответ. Значит – правда.
Умирать не хотелось. Эльза старалась изо всех сил.
– Ты слишком стараешься, – сказала как-то старшая сестра. – Угомонись.
Через год приступы сделались заметно реже. И в себя Эльза приходила быстрее. Когда она открывала глаза, рядом неизменно оказывалась одна из сестер.
– Вспомни, что ты видела, – требовала сестра. Без жалости била по щекам: – Не спи, вспоминай! Дар владеет тобой, а должно быть наоборот…
Накатывала дурнота. Ломило виски, кружилась голова; к горлу подступал кислый комок. Эльзу тошнило, она бегала в кусты шиповника: блевать. Девочка дышала на особый манер, как ее учили сестры, вглядывалась во тьму, прислушивалась к шепоту за спиной. Что здесь? Кто здесь? Смутные картины, слова, звуки…
Позже старшая сестра велела послать письмо родителям. Те, мол, будут рады весточке от дочери.
– Они читать не умеют!
– В деревне есть грамотные?
– Енох Колченогий. Он в войске писарем служил.
– Вот он письмо и прочтет.
Ответ, написанный дядькой Енохом, пришел нескоро. Отец с матерью живы-здоровы, Иган работает в поле; урожай хороший, Чернуха на днях отелилась бычком. Перед сном Эльза тихонько поплакала, вспомнив дом. Тоска явилась без спросу, взяла за горло. Вот бы снова увидеть маму с папой, и драчливого Игана, и дядьку Еноха, и подругу Марту…
Наутро ее скрутил жесточайший приступ.
Очнувшись, она помнила все. Обрывистый берег речки Покатихи. Толпа мальчишек – каких мальчишек? молодых парней! – с гиканьем сигает в воду. Плеск, хохот, брызги до небес. Над рекой стоит семицветная радуга. Иган – мускулистый, рослый, жениться пора! – ныряет «щучкой» с обрыва. Река смыкается над ним. Несет зеленые, в золотых бликах, воды к далекому морю. Парни на берегу замирают, превратившись в сопляков, испуганных до икоты.
Ждут. Долго.
Пока не гаснет радуга.
Эльза очнулась в холодном поту. Когда?! Сейчас весна, а в видении было лето. Новое, написанное в спешке письмо отправилось в родную деревню. Оставалось лишь ждать. Как те парни на берегу…
Миновала весна. Лето выдалось жарким. Зной, пыль, духота. Трава вокруг обители выгорела. Да что трава! – само небо выцвело, как платье, стираное в семи щелоках. В такую жару одно спасение – в речку бултыхнуться. С обрыва… Дни тянулись стадом коров, бредущих на водопой. Эльза вся извелась. Сивиллы знали о письме. Глядели с сочувствием. Даже вредина-Катрина больше не дразнилась. В прошлый раз ответ пришел через полгода. Значит, три месяца в одну сторону. Когда она отправила письмо? Когда Иган пойдет на речку? Мысли путались. Перед глазами плавали огненные круги. Должно быть, от жары…
Ответ пришел осенью. Иган утонул, разбив голову о корягу на дне. Весточка от сестры-провидицы опоздала на два дня.
Эльза не плакала. Просто впала в оцепенение. Делала, что велят. На занятиях молчала, уставясь в одну точку. Могло создаться впечатление, что уроки отрешения наконец-то пошли девочке впрок. Вечером в ее келью вошла старшая сестра Корделия. Присела на кровать:
– Не кори себя, дитя. Ты сделала все, что могла.
– Тогда зачем? Зачем все это?!
Эльза горько разрыдалась, уткнувшись в подушку, сделавшуюся мокрой и горячей. Корделия гладила девочку по волосам. Голос старшей сестры звучал в такт движениям ее руки. Слова отпечатывались в душе Эльзы, словно оттиски с досок мастера-гравюрьера.
– Мы не выбирали судьбу, дитя. Нас выбрали без нашего согласия. Скажешь, это проклятие? Я не стану с тобой спорить. Скажешь, лучше умереть? Может, и так. Жизнь жестока, лишь смерть благоволит к каждому. Но если хотя бы раз, единственный раз тебе позволят…
С ней было то же самое, поняла Эльза. Кто-то из близких Корделии погиб. Старшая сестра предвидела его смерть, но не сумела спасти. Девочка утерла слезы. Крепко-крепко обняла женщину, заменившую Эльзе мать.
– Я укрощу свой Дар, – сказала она. – Я его в бараний рог скручу.
5.
Как ни больно об этом говорить, известие о гибели брата пошло Эльзе на пользу. Она научилась долго сидеть, не шевелясь, свободная от чувств и желаний, мыслей и надежд. Узоры складывались в завораживающие картины, а голоса птиц-невидимок сливались в дивные мелодии. Она видела сердцем, вспоминала животом, готовила целебные отвары и училась перевязывать раны. Осень сменялась зимой, весна – летом. Дни проносились мимо, как искры падучих звезд. В положенный срок у Эльзы пошли женские крови. Она не испугалась. Сестры заблаговременно предупредили ее. К крови она привыкла: уже год, как Эльза помогала сестрам в госпитале при обители. Какая разница – своя кровь, или чужая? Если б еще не ноющая боль внизу живота, что мешала сосредоточиться…
Приступы скручивали Эльзу раз в месяц. Очнувшись, она помнила все. Впрочем, люди и места в видениях являлись незнакомые. Слушая ее рассказы, сестры тоже не могли понять, где и с кем должно произойти увиденное. С приходом лунных очищений приступы участились. После них девушка лежала пластом, с трудом поднимаясь, чтобы справить нужду.
– Больше ждать нельзя, – с порога заявила старшая сестра, входя в ее келью. – Иначе Дар сожжет тебя.
– Вы знаете, что делать?! – с надеждой спросила Эльза.
– Все сестры знают. Тебе нужно лишиться девственности.
Эльза онемела.
– Иного способа нет. Среди сивилл не бывает девиц. Это чуточку больно и не всегда приятно… – Корделия замялась. – Во всяком случае, по первому разу. Хотя кое-кому из сестер понравилось.
Эльза зарделась утренней зарей. Она вспомнила, как сестра Катрина исчезала на ночь, возвращаясь под утро. Корделия наверняка знала о побегах Катрины, но не препятствовала.
– Я сделала расчеты. Скоро у тебя будут подходящие дни.
– Подходящие для чего?
– Ты хочешь зачать ребенка?
– Нет!
– Вот и не задавай глупых вопросов.
Эльзу отвели в особую комнату. У стены стояла широченная – хоть вчетвером спи! – кровать. Сестры велели Эльзе раздеться, лечь на кровать лицом вверх и ждать. Нагая, как при рождении, девушка смотрела в потолок. Потолок был расписан узорами – нет, причудливыми сплетениями тел! – и Эльза с опозданием сообразила, что творится на потолке. Сперва она зажмурилась. Но время шло, и глаза открылись сами собой. Мужчины и женщины над ней творили немыслимое. Неужели люди могут так изворачиваться! Глаза любовников сияли, на лицах застыло выражение восторга. Наверное, художник нарочно так нарисовал, а на самом деле…
Она и не поняла, что приступ уже начался. Такой припадок с ней случился впервые. Спокойный, дружелюбный; неотличимый от обычного бодрствования. Созерцание ли стыдных картин, аромат ли благовоний, горящих на жаровенке – так или иначе, Эльза видела будущее на шаг вперед. Свое собственное будущее. Сейчас ее охватит странный, волнующий трепет. Повинуясь, трепет явился. Сейчас она захочет, чтобы все случилось поскорей, избавив ее от муки ожидания. Желание пришло. Вот-вот очертания комнаты, дрожа в зыбком свете лампад, поплывут у нее перед глазами… Комната вздрогнула. По углам заколебались тени, сгущаясь и расточаясь. Когда одна из теней отделилась от стены и направилась к кровати, Эльза ничуть не удивилась, и даже хихикнула.
Она знала об этом прежде, чем тень сделала первый шаг.
Темно-зеленый балахон, расписанный серебряными узорами, закрывал мужчину с головой. Лишь пара дырок для глаз; и еще одна, гораздо ниже. Сильные ладони скользнули по бедрам Эльзы; и опять, уже в действительности. Зная все заранее, переживая каждое событие два раза, Эльза расслабилась, как советовали сестры. Краткая вспышка боли – дважды. Размеренное движение двоилось; предвиденье с легкой задержкой отражалось в сиюминутности. Жаркая волна растворила боль и стыд, и остатки страха; и растворила вновь, на самом деле. Девушка услышала, как она кричит, и закричала.
Сейчас заснешь, предупредил Дар.
Хорошо, улыбнулась она.
* * *
Когда она очнулась, комната была пустой. Сон? Красные пятна на простыне быстро убедили Эльзу в обратном. «Ты вела себя, как похотливое животное! – бранился стыд, но вяло, без страсти. – Ты кричала от вожделения! Позор! Знай об этом мать с отцом…» Отстань, рассмеялась Эльза. «Ты отдалась быку в балахоне! Сука в течке! Блудная девка…»
Да ну тебя, отмахнулась Эльза.
Изыди.
– Ты укротила свой Дар, – скажет ей через месяц старшая сестра Корделия. – Завтра тебя отведут в храм, и ты вдохнешь священный дым.
На следующий день, рано утром, в горах прогрохочет обвал. Обломки храма рухнут на дно ущелья. Источник священного дыма будет погребен под завалами исполинских камней. Хорошо, что сивилл в этот момент не было в храме.
Обошлось без жертв.
* * *
Растерянные женщины сгрудились у обрыва, опасаясь подходить близко к краю. Часть скалистого склона исчезла вместе с храмом. От базальтовой перемычки, соединявшей края ущелья, остался лишь узкий мост. На другой стороне чернела зловещая дыра, открывая вход в недра горы.
Раньше этой дыры не было.
Но главное – ни единой струйки священного дыма, дарившего сивиллам осознанность пророческих видений, не поднималось больше со дна ущелья. Привычная жизнь рухнула в тартарары. Сивиллы жили предсказаниями. Это был источник их существования. В обитель приезжали издалека; сам король, бывало, прибегал к услугам сестер. Приношений хватало с лихвой, включая содержание госпиталя для бедняков. Но одна лишь утрата доходов не повергла бы сивилл в смятение и трепет. Обвал похоронил цель и смысл их бытия. Священный дым позволял вызывать грезы целенаправленно, прозревать будущее просителя.
А что теперь?
Никто из сестер не знал, что делать дальше.
Они пытались. До одури дышали дымом лавра, бросали в жаровню травы и корешки, от запаха которых теряли сознание. Одурманенные, начинали безумно хохотать; сестер рвало черной желчью… Иногда удавалось что-то узреть – смутно, на грани видимости. Поток просителей быстро иссяк. Многие уходили в ярости, сыпля проклятиями. Сбережения таяли льдинкой на солнце. Самим сестрам накопленного хватило бы на два-три года – если затянуть пояса. Но как бросить госпиталь на произвол судьбы? Как выгнать больных и увечных? К счастью, его величество Фернандес, прослышав о беде, постигшей сестер, расщедрился – выделил для госпиталя содержание из казны. Видать, вспомнил былые услуги обители. Или просто выпил кувшин хорошего вина. Содержание оказалось скромным, но сивиллы не уставали возносить молитвы за великодушного государя. Впрочем, королевская милость не вернула им священный дым.
В обители воцарилось уныние.
Тот, кто вкусил от плода прозрения, будет жаждать вкусить от него снова и снова. Да, ради помощи людям. Ради предотвращения бед. Но в глубине души сестры знали: прозрение нужно им ради него самого. Ради неповторимых ощущений, которые оно дарит сивилле – в отличие от припадков, даже обузданных. Если бы сестрам сказали, что похожие чувства испытывает человек, пристрастившийся к маковой настойке, они бы возмутились. Что общего между низменным пороком – и божественным даром?
Абсолютно ничего общего!
Потянулась бесконечная череда дней, похожих один на другой, как кочки в болоте. Утренний обход. Миазмы тел, пота и гноя. Перевязки, примочки. Вынос отхожих горшков и ведер. Приготовление снадобий. Скудная трапеза в угрюмом молчании. Компрессы, кровопускания. И вот однажды…
– Там! Там такое чудо!
Катрина, запыхавшись, ворвалась в обитель. Глаза ее сияли восторгом. Спустя семь месяцев после злополучного обвала Катрина наконец отважилась войти в грот, открывшийся на другой стороне ущелья.
– Чудо!
Запасшись факелами, семеро из дюжины сивилл отправились смотреть на чудо. Идти хотели все, но пятерым сестрам по жребию пришлось остаться в обители. Янтарный грот расцвел мириадами бликов, вспыхнул, заискрился медовым золотом, встречая гостей.
– Светлая Иштар!
– Какая красота!
– Смотрите! Рисунки…
Рисунки были нанесены на стену пещеры. Их выдавили в янтаре, как оттиски или клейма. Холмы с глазами, различной формы, большие и маленькие – все они, тем не менее, имели между собой нечто общее. Кроме холмов-одноглазов, изображались и другие твари – странные, умилительные и жуткие. Лапы, щупальца, крылья; клешни, руки и копыта. Твари летали, бегали, ползали, плавали. Встречались и фигурки людей, но они терялись меж прочих изображений. Старшая сестра Корделия поднесла факел ближе, коснулась рукой стены. Рисунок засветился, и это не был отблеск факела! Послышался тихий гул, стена завибрировала. Старшая сестра в страхе отдернула руку. Гул затих; погас и рисунок.
– Что это было?!
– Не знаю. Я ощутила тепло. И легкое покалывание.
– Это древняя магия!
– Осторожно, сестры! – Корделия быстро пришла в себя. – Мало ли, какие чары здесь скрыты?
Грот вел в недра горы. Гладкий пол отражал огни факелов. Женщины углубились шагов на сто, когда шедшая впереди Катрина остановилась:
– Тут еще знаки…
Не дожидаясь остальных, она шагнула ближе. Огонь высветил янтарное панно, испещренное рядами символов. Эльза взглянула на них краем глаза, и у нее помутилось в голове. Она чудом удержалась на ногах. С остальными сестрами происходило то же самое.
– Не смотрите! Отвернитесь! – закричала старшая сестра.
Катрину вынесли на руках. Всю дорогу до обители несчастная была без сознания, и очнулась лишь на следующий день. Поначалу Катрина никого не узнавала, безумно таращилась по сторонам и лепетала невнятицу. Вскоре она начала оживать. О случившемся в пещере молчала, хоть режь ее ножом. Едва открывала рот, как бедняжку прошибал ледяной пот. Распросы прекратили. Старшая сестра Корделия отправилась в город, желая сообщить о находке королевскому магу Амброзу. Известие маг воспринял со всей серьезностью, и немедленно отправился в грот в сопровождении Корделии. Эльзу не взяли, хотя она очень просилась – и девушка тайком увязалась следом. Скорее всего, ее заметили, но гнать не стали.
Маг и старшая сестра остановились у панно.
– Это магия? – донеслось до Эльзы.
– В некотором смысле, – туманно ответил Амброз. – Это письмена Ушедших. На них нельзя смотреть. И вообще, если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше…
Он осекся и закашлялся.
– Уходим, – заключил маг, прочистив горло. – Больше мне тут делать нечего.
На обратном пути Амброз осмотрел Катрину.
– Ей повезло. За месяц оправится, – обнадежил он.
* * *
Катрина полностью оправилась, как и обещал маг. Казалось бы, теперь ее в Янтарный грот и женихом не заманишь. Каково же было изумление Эльзы, когда Катрина, прихватив факел, не таясь направилась в сторону пещеры. Изумилась не только Эльза. Старшая сестра Корделия загородила дорогу:
– Далеко собралась?
– В грот.
– Зачем?
– Помните, вы учили нас слушать ветер?
Корделия заколебалась. И шагнула в сторону, уступая Катрине. Та вернулась в обитель под утро. Живая и здоровая, но чрезвычайно задумчивая. Отмалчивалась, глухая к вопросам сестер. Теперь каждые два-три дня она уходила на ночь в Янтарный грот. А вскоре потребовала, чтобы в грот доставили больного мальчика по имени Марк. У Марка почернели ступни обеих ног, и омертвение распространялось выше. Сестры смотрели на Катрину с удивлением. Чем поможет Марку янтарь пещеры? Но Катрина была настойчива, как никогда. В конце концов старшая сестра сдалась.
Марку, решила Корделия, уже вряд ли что-то повредит.
* * *
Угли, рдеющие в жаровне, света давали мало. Багровые отблески в глубинах янтаря походили на глаза хищных тварей. Против обыкновения, отражения не дробились. Из каждой стены, и с потолка тоже, за женщинами наблюдало по одному горящему глазу. Марка уложили на гладкий пол. Катрина велела сестрам сесть поодаль и не мешать. Ее послушались без возражений – такая уверенная сила звучала в голосе молодой сивиллы. Сама Катрина без суеты, едва ли не торжественно опустилась в позу для сосредоточения. Вскоре руки ее пришли в движение. На жаровню упали сушеные листья лавра. Вспыхнули, окутавшись терпким дымом. За лавром последовали соцветия спиреи, корешки дудника, порошок мускатного ореха… Создавалось впечатление, что Катрина бросает на угли первые попавшиеся травы, находя их в сумке на ощупь и наугад. Но сивиллы чуяли: сестра знает, что делает.
– Марк станет знаменитым мастером! – заявила Катрина, вставая. – Надо отрезать ему ноги на два пальца ниже колен. Посылайте в город за лекарем! Через три дня мы снова принесем Марка сюда.
К вечеру Марк стал безногим калекой.
Второй поход в грот прошел буднично. Жаровню Катрина разжигать не стала. Марка опять уложили на пол, и сивилла уселась рядом. Спустя час Марка отнесли обратно в госпиталь. Поправлялся он на удивление быстро. Когда Марк уже сидел на кровати, Катрина где-то раздобыла инструменты резчика и всучила их калеке, вместе с дюжиной ясеневых чурбачков.
– Давай! – велела она.
Поначалу из-под резца вышла полная ерунда. Но в скором времени чурбачки начали превращаться в людей и животных. Статуэтки были украшены дивными узорами, местами столь тонкими, что не сразу и разглядишь. Марк попросил принести ему медной проволоки – дерево надоело безногому – и продолжил работу. К концу месяца Катрина привела в госпиталь ювелира Йохана Ларнета, хорошо известного в Тер-Тесете. Взглянув на труды мальчика, Йохан стал наведываться в госпиталь каждый день. Приносил инструменты и заготовки, подолгу сидел с Марком, объясняя и показывая; молча наблюдал, как калека работает с металлом или полирует самоцветы. Когда Марк окончательно выздоровел, ювелир приехал на повозке и забрал его с собой.
– Волшебные пальцы! – сказал Йохан, обычно скупой на похвалу. – И глаз острее моего. За такого помощника никаких денег не жалко…
Марк был первым. За ним последовали другие. Предвидя вопросы сестер, Катрина пообещала научить сивилл прозревать условия размена, и слово сдержала. Жизнь вновь обрела смысл.
6.
…костер догорел. Лишь горсть угольков просвечивала сквозь сизый пепел. Пригревшись под теплым одеялом, Эльза соскальзывала в сон. Воспоминания сидели рядом, вздыхая. Отобрав у сивилл священный дым, насмешница-судьба подарила им взамен Янтарный грот. Что сестры потеряли? Что приобрели? Эльзе не довелось вдохнуть священного дыма, ей не с чем было сравнивать. Она знала лишь грезы янтаря, определяющие размен. В каком-то смысле сивиллы продолжали видеть будущее: будущее людей, пожелавших стать изменниками. В обитель потянулись здоровые горожане, умоляя даровать им силу, ловкость, верный глаз или плодоносное чрево. Разумеется, за достойное вознаграждение. То, что кроме денег, заказчикам – вернее, их детям, потому что грот не менял взрослых – придется расстаться с куском собственной плоти, никого не смущало. «Овчинка стоит выделки!» – полагали они, и были по-своему правы.
До сегодняшнего дня.
На грани сна и яви Эльзе пришло в голову, что она тоже прошла своеобразный размен. Лишившись девственности, укротила капризный Дар. Она – изменница, как и все ее сестры. Помогать больным, что обречены стать калеками, начать новую жизнь – занятие достойное. Но калечить здоровых, пусть по их же просьбе? Извращать человеческую природу в угоду жажде наживы? Что это – милосердие или святотатство?
Возможно, обитель постигла жестокая, но заслуженная кара?
Спи, шепнула гора. Сквозь отверстия в своде пещеры тихо падали снежинки. Кружились в токах теплого воздуха, поднимающихся снизу; таяли на лету, не коснувшись лица спящей женщины.
Глава третья
Волк из Сегентарры
1.
Снег хрустел под ногами. Молоток колотил в дверь. Дверь гудела колоколом. Никто не отзывался. Эхо подхватывало звук ударов и, как зверь – добычу, тащило прочь, через пустыри. Ветер гнался за эхом, свистя по-разбойничьи.
– Никого нет, – сказал толстый.
– Постучи еще, – предложил тощий. – А вдруг?
– Глупости. Пошли, обойдем башню.
Тощий и толстый потащились в обход башни Красотки. Оба мерзли, кутаясь в плащи. Тощий накинул капюшон, отороченный лисьим мехом. Толстый, развязав шнурок, опустил вниз уши лохматой шапки. Уши болтались, придавая толстому сходство с унылым, престарелым ослом. Шерстяные чулки обоих быстро промокли. Толстяк чихнул и с раздражением покосился на спутника.
– Это все ты, – сказал он. – Ты меня уговорил.
– Я, – согласился тощий. – Я и мертвого уговорю.
– А я, дурак, послушался…
Толстяк подумал и добавил:
– Мертвого я и сам уговорю.
Ноги до колен проваливались в сырой, ноздреватый снег. Каждый шаг – движение маятника, отмеряющего время. Делящего жизнь на «до» и «после». Со дня смерти Красотки прошла неделя. До гибели короля Фернандеса, положившей конец Янтарной обители и начало – волне погромов, оставалось три дня. Сейчас же его величество, знать не зная про яд, укрытый во рту любимого шута, предавался разврату в обществе трех фавориток. Мужская сила короля была предметом зависти всего дворянства. В услугах придворного мага, способного сделать мягкое твердым, он не нуждался. Поэтому маг Амброз, прозванный за глаза Держидеревом, в данный момент был совершенно свободен – в том числе свободен прогуливаться по морозцу у башни Инес ди Сальваре, спрятав лицо в капюшон. Легкий на ногу, с мальчишеской живостью нрава, он тайком ухмылялся, поглядывая на толстяка Вазака. Одышка, дурная кровь, колыхание телес. Говорящая свинья. Вот что бывает, когда пышки. И пончики. И булочки с корицей.
– Зачем ты позвал меня? – хрюкнул Вазак.
– В свидетели, – откликнулся невозмутимый Амброз. – Если что, ты подтвердишь.
– Если что?
– Давным-давно никто из нас не видел Красотку. Все сношения с ней, – Амброз хихикнул, словно недоросль, впервые сказавший похабщину, и с удовольствием повторил: – Все сношения с ней производились через Циклопа. Ты не предполагал, что Красотка мертва?
– Ну, предполагал.
– И я. И многие другие. Но только Симон явился проверить это лично.
– Откуда ты знаешь?
– Ласточка на хвосте принесла. Старый упрямец пришел сюда, в буран и метель. На следующий день его видели в городе. Вместе с Циклопом. Что из этого следует?
– Из этого следует, что я должен был остаться дома.
– Циклоп покинул башню. После визита Симона. Живой и, как мне доложили, здоровый. Будь он виновен в смерти Красотки, или будь он ее тюремщиком – Симон прикончил бы его. Значит, Инес жива, и сама может о себе позаботиться. Или мертва, но по естественной причине. И тогда заботиться о ней ни к чему. Я хочу знать правду.
Споткнувшись, Вазак расхохотался:
– Боишься, что некому будет настраивать твои амулеты?
– Красотка, – спокойно ответил Амброз, – была чудесной настройщицей. Я восхищался ее талантом. Если в последние годы работу делал Циклоп… Я – придворный маг его величества, друг мой. Я рассчитываю пребывать в этом качестве долго и счастливо. Что для этого надо?
– Обладать силой, – предположил Вазак.
– Мало.
– Быть интриганом?
– Теплее. Но интриг недостаточно.
– Потакать королю?
– Надо знать все о таких, как я. Знать доподлинно. И использовать в нужный момент. Как рыцарь использует меч – не задумываясь, без колебаний.
– И не боясь крови?
– И не боясь крови.
Вазак остановился. Натянул шапку на брови, завязал шнурок ушей под подбородком – тройным, висячим. Щеки его в обрамлении меховой «бороды» были пунцовыми. Усы обледенели, на кончике носа висела капля. Это было бы смешно, когда б не глаза Вазака. Две черные маслины, выпуклые по-жабьи. Такие черные, что на ум приходила грозовая ночь: тьма, и вспышки зарниц вдалеке.
– Обо мне ты тоже знаешь все? – хмуро спросил он.
– Все, – ободрил толстяка Амброз. – Потому и звал с собой.
– Думаешь, если мы что-то обнаружим, я сохраню тайну?
– Ни в коем случае. Ты сразу же доложишь о тайне своему учителю, Талелу Черному. Меня это вполне устраивает. Идем, друг мой. Не стоит так много говорить зимой, во время ходьбы. Можно простудить горло.
Некоторое время они шли молча. Амброз сунул в рот варган, с которым не расставался, и на ходу дергал за язычок инструмента. Гнусавая, однообразная мелодия раздражала Вазака хуже зубной боли. Он через шаг зыркал на спутника, но помалкивал. Вскоре маги остановились: стены башни в этом месте как бы заворачивались внутрь, на манер створок раковины, образуя подобие дворика. Две чахлые яблони; скамейка, заметенная порошей. Мертвый по зиме цветничок, огороженный резным палисадом. Фонтан – стоя в пустом бассейне, голая нимфа наклоняла к земле кувшин. Нимфа мерзла. Нимфу пожалел бы даже королевский палач. Метель, и та смилостивилась, накинула бедняжке на плечи пушистую шаль.
– Здесь, – внезапно сказал Вазак. – Где-то здесь.
– Я не зря взял тебя с собой, – спрятав варган в карман, Амброз улыбнулся. Хитрые лучики разбежались к вискам мага от уголков глаз. Так охотник радуется нюху любимой суки. – Ты – мастер брать гиблый след. Значит, здесь? Не подскажешь ли, где именно?
Вазак ринулся вперед, разбрасывая снег. Все было забыто: усталость, одышка, раздражение. Дикий кабан пер по целине – рухни небо, кабан останется безразличен. Когда ученики Талела, жреца Сета-Разрушителя, ощущали близость смерти, они пьянели. Любая смерть – вчерашняя, сегодняшняя, завтрашняя – приводила их на грань экстаза. Тут крылась опасность – перспектива собственной гибели опьяняла Талеловых учеников не хуже любой другой. Наверное, поэтому никто из молодых не превзошел Талела Черного. И уж тем паче никто Талела не пережил.
Приплясывая на месте, чтобы ноги не мерзли, Амброз смотрел, как Вазак кружит по дворику. Толстяк обнюхал нимфу, пнул скамейку; зачем-то сломал доску палисада. И наконец замер под левой яблоней: запыхавшийся, счастливый.
– Вот, – он ткнул пальцем себе под ноги. – Могила.
– Свежая? – уточнил Амброз.
– Свежачок. Семь дней; может, восемь.
– Покажи.
– А копнуть не хочешь? – хмыкнул Вазак. – Лопатой? Заступом?
– Не хочу.
– А придется…
– Открой, – повторил Амброз, и сбросил капюшон.
Волна густых волос упала на плечи. Волосы развевались, как если бы в лицо Амброза дул ветер. Черты мага высохли, налились древесной твердостью. Казалось, таинственный резчик высек это лицо из стальника – редкого кустарника, о чьи ветки щербится лезвие топора. Руки Амброз держал поднятыми, ладонями вверх. Рукава кафтана упали до локтей, и было видно, что руки мага также изменились. Пальцы – сучки. Ногти – темные капли смолы. Кожа на предплечьях – кора, изрезанная морщинами. На ладонях во множестве набухали бородавки – почки, готовые проклюнуться свежими листьями или побегами. Ветер усилился, волна кудрей взмыла птичьим крылом. Для тех, кто знал, за что Амброза прозвали Держидеревом, это был ясный знак.
– Я пошутил, – быстро сказал Вазак. – Насчет лопаты.
– А насчет заступа?
– Тоже. Я открою.
– Вот и славно. Я жду.
Капюшон вернулся на прежнее место. Рукава упали к запястьям. Одеревенелость – так называл это сам Амброз, и те свидетели, кому удалось остаться в живых – быстро покидала мага. Желая поторопить возвращение Амброза в естественное состояние, Вазак упал на колени. Бормоча невнятицу, он зачерпнул горсть снега и начал перетирать снег в пальцах. Вопреки ожиданиям, снежинки не таяли. Вскоре толстяк держал целую пригоршню синеватого, как кожа покойника, песка. Песок ворочался, вспухал неприятными пузырями. Выкрикнув: «Нар'гха! О нар'гха!..», Вазак набил себе полный рот песка. Потекли синие, дурно пахнущие слюни. Толстяк жевал, давился, мотал головой – и наконец выплюнул длинную, искрящуюся ленту. Она без остатка всосалась в сугроб под яблоней, и сугроб почернел, становясь могильным холмиком. Миг, и холм растекся по земле, наливаясь стеклянным блеском. Стало видно, что лежит под рукотворным окном, локтей на пять-шесть вглубь. Тело, похороненное без гроба, было завернуто в саван. На саван пошла занавеска или покрывало с кровати. Вазак захрипел, и в том месте, где пряталось лицо покойницы, саван расползся гнилыми нитями.
– Красотка, – кивнул Амброз. – Никаких сомнений.
– Рыжая…
Слюни все еще текли изо рта Вазака. Он наклонился вперед, словно хотел схватить покойницу в объятья – и отшатнулся, крича от испуга. Саван зашевелился. Казалось, Инес ди Сальваре намеревается встать из-под мерзлой земли. Треснула ткань, наружу высунулась кость, плотно обтянутая кожей – часть плеча, или ребро. Кожу густо покрывала рыжеватая щетина. Тело ворочолась, принимая самые странные очертания. Скованная землей, тугой от холода, вот уже неделю как мертвая, Красотка продолжала мучиться метаморфозами – не осознавая угасшим рассудком, что творится с плотью. Так, если верить лекарям, у обычных людей после смерти продолжают расти ногти и волосы.