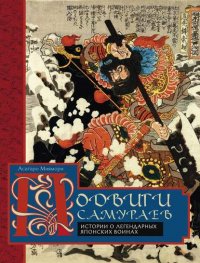
Читать онлайн Подвиги самураев. Истории о легендарных японских воинах бесплатно
- Все книги автора: Асатаро Миямори
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2018
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2018
Предисловие
Предлагаемые вниманию любезного читателя предания о рыцарях древней Японии, назвавшихся самураями, по большому счету основаны на исторических фактах. Они дошли до нас благодаря традиционным легендам, передававшимся из уст в уста уличными сказителями – ко даней, вечерами развлекавшими свою многочисленную благодарную аудиторию балладами и историческими новеллами, прежде всего посвященными подвигам благородных самураев. Накопились к тому же многочисленные японские книги и журналы, посвященные сословию самураев, вызывающие острый интерес у читателей, в особенности у молодых людей.
Справедливости ради отметим, что сословие самураев ушло в прошлое вместе с феодализмом; но, к всеобщей радости или грусти, носителями истинного самурайского духа по большому счету остаются сами японцы. На протяжении второй половины XX столетия представители европейской цивилизации века коренным образом изменили японское общество, и опять же на счастье или на беду. В политических и социальных атрибутах, в манерах и привычках, в изобразительном искусстве и литературе японцы утратили многие свои характерные черты. Но все-таки можно с полной уверенностью сказать, что ощущения, побуждения и моральные принципы самураев в известной мере сохраняются в основе японской натуры, на подсознательном уровне мышления японцев. Нынешних японцев можно назвать по складу ума практически космополитами, зато на эмоциональном уровне они остаются все теми же самыми самураями.
Главный персонаж одноименного повествования неподкупный Кюсуке к сословию самураев не принадлежал, зато следовал благородным принципам этого сословия. Этим обосновывается включение рассказа о нем в эту книгу.
Унго-Дзендзи
Вьюга разыгралась не на шутку.
Насколько хватало глаз, все вокруг покрывало толстое одеяло серебристого снега. Холмы и долины, деревья и поля сплошь выглядели целомудренно белыми.
Не обращая ни малейшего внимания на лютый холод, воцарившийся снаружи, Дате Масамуне решительно вышел на улицу полюбоваться красотой пейзажа. Сопровождаемый соответственно своему положению свитой, он направился к беседке, сооруженной на пологом холмике во внутренней территории замка, откуда открывался самый широкий обзор, охватывающий все его небольшое феодальное поместье в пригороде О саки.
Масамуне предстояло прославиться на поприще почтовой связи, услуге, оказываемой им своему государству, и в конечном счете стать одним из виднейших даймё Японии времен правления первого японского сёгуна Токугава Иэясу. Однако на текущий момент Осака числилась его единственной вотчиной, а доход не превышал ста тысяч коку[1] риса в год.
– Какой чарующий вид! Что еще можно сравнить с заснеженным пейзажем?! – восхищенно восклицал он, стоя на площадке беседки и восторженно озирая поражающие воображение девственной чистотой просторы своего имения. – Говорят, что снег служит предзнаменованием плодородного года. Тучный урожай всегда вызывает радость у народа, а в стране утверждается всеобщий мир и процветание!
Пока его светлость таким манером выражал свой восторг, носильщик сандалий при хозяине, которого звали Макабе Хеисиро по месту рождения, то есть по названию деревни Макабе в провинции Хитати, хотя фамилия тогда считалась для него непозволительной роскошью, так как был он представителем третьего сословия, или простолюдином, ждал распоряжений снаружи беседки. Он аккуратно поставил на пол обувь своего хозяина, и теперь ему оставалось только ждать момента, когда в них снова возникнет необходимость. Тогда он должен приладить их на ноги своего господина. Все это время Хеисиро наблюдал за тем, как снежинки падали и постепенно толстым слоем покрывали поверхность ценного предмета его заботы. Он суетливо смахивал их рукавом своего кафтана, но снежинки непрерывно садились на тэта (башмаки с деревянной подошвой), снова и снова покрывавшиеся ледяными звездочками.
«Напрасный труд, – подумал он. – Его светлость считает ниже собственного достоинства даже в самую холодную погоду надевать таби (носки), так как полагает их свидетельством изнеженности. Если он засунет босые ноги в промокшие холодные тэта, то обязательно простудится. Я должен сохранить их для него теплыми и сухими».
Тут наш добросовестный малый по велению своего простодушного сердца подобрал тяжелые деревянные башмаки, прижал их к груди под верхней одеждой и продолжил терпеливое ожидание.
– Его светлость идет!
Хеисиро едва успел поставить тэта прямо на просторную каменную ступеньку у входа на веранду, как раздвижные створки двери разъехались в стороны. В проеме показалась фигура молодого властного Масамуне.
Он сунул ступни в стоящие перед ним тэта. Как же так? Его ждала теплая обувь! И это в такую студеную погоду?! Само собой напрашивалось единственное объяснение такому чуду. Похоже, ленивый паршивец, служивший у него носильщиком обуви, приспособил их для сидения. То есть слуга осрамил своим плебейским задом благородные башмаки своего высокочтимого господина! Вот уж на самом деле нетерпимая наглость босяка!
Вошедший в раж от якобы нанесенного оскорбления дворянин схватил обидчика за шею у самого затылка, яростно встряхнул наглеца и сквозь зубы прорычал:
– Ах, негодяй! Как посмел ты осквернить мои тэта, водрузив на них свой тощий зад! Не успел я отвернуться, как ты нанес мне тягчайшее оскорбление! Получай же, злодей…
Масамуне скинул один башмак, подхватил его и ударил им несчастного слугу точно промеж глаз. Хеисиро от удара зашатался и рухнул как подкошенный, кровь из раны хлынула на заснеженную землю. Швырнув второй башмак в распростертую перед ним жертву, господин гордо направился в замок; он остался босым, так как пребывал в слишком большом гневе, чтобы дожидаться, пока принесут новую пару тэта.
Никто не задержался, чтобы позаботиться о Хеисиро. Никого не интересовало, что случилось с ним дальше. А он некоторое время продолжал лежать в том положении, в каком рухнул на землю после удара хозяина, но наконец из-за холода к нему вернулось сознание, и добросовестный слуга медленно, с большим трудом поднялся на ноги.
Он подобрал башмак, которым его приголубил разъяренный, не разобравшийся в деле господин, и, заливаясь слезами вперемешку с кровью, некоторое время задумчиво взирал на предмет обуви, так сказать, двойного назначения. Затем, постепенно осознав несправедливость своего господина, юноша скрипнул зубами от собственного бессилия.
– И все-таки вы, разлюбезный Масамуне, оказались надменной тварью, – пробормотал юноша, – расплата за ваш поступок не заставит себя ждать! Оковы между нами как господином и вассалом заклепаны навсегда. Я был одним из самых преданных ваших скромных слуг, а теперь мне не знать покоя до тех пор, пока я в полной мере не отплачу за ваше жестокое обращение!
Хеисиро, снова засунув пару хозяйских башмаков под одежду, хотя и с совершенно иным намерением, начал спуск с холма по противоположной от замка стороне, мучительно при этом прихрамывая.
С того самого времени этим человеком владела одна только мысль: найти повод для достойного заслуженного воздаяния высокомерному дворянину, покаравшему Хеисиро за его же заботу.
Но даже при всей бедности Масамуне принадлежал к сословию даймё, тогда как Хеисиро оставался простым смердом. Мысль о покушении на жизнь Масамуне пришлось оставить, так как господина постоянно охраняла многочисленная стража. Даже во время сна. Притом что изрядной силой природа его не обделила. Приходилось рассчитывать на непростые и весьма изощренные способы отмщения. Ему пришлось долго и упорно ломать голову над своим замыслом. Получалось так, что только два человека более высокого положения, чем вспыльчивый даймё, могли повлиять на его статус по собственному усмотрению – император и сегун. Но как человеку с положением в обществе уровня Хеисиро втереться в доверие кого-то из таких блистательных персонажей, чтобы возвести клевету на Масамуне и настроить их против него? Сама эта мысль выглядела несуразной! Правда, ему пришлось жить в эпоху войн, и доблестные свершения на поле брани обещали стремительное продвижение по службе у императора; человеку с копьем в крепкой руке и на доброй лошади открывались просторы для достижения самых немыслимых высот. Но перспектива храброго воина Хеисиро не светила, да и силы в руках ему откровенно недоставало. С глубоким вздохом сожаления ему пришлось признаться самому себе в том, что на пути ратника исполнение таких честолюбивых намерений для него практически невозможно.
И тут его посетила весьма удачная мысль. Он вспомнил о том, что стать жрецом способен любой человек вне зависимости от его положения в обществе или заслуг перед ним и что перед служителями культа открываются практически бескрайние перспективы для деятельности. На этом поприще практически не существовало преград для выходца из самых низких слоев народа и самого слабого телом. Ученый жрец, заслуживший репутацию святого, мог получить доступ ко двору, а там ему оставалось всего лишь попасть на глаза самого императора!
Вот как раз то, что требуется для достойной мести!
Хеисиро решил обратиться в жрецы и с этим намерением поспешил в Киото, где поступил на службу в храм Унгодзи, что находится в Хигасияма, в качестве причетника.
Но служба причетника оказалась далеко не из самых простых занятий. Прежде чем его причислят к духовенству, ему предстояло пройти через все положенные испытания схимой, самоотречением и епитимией. Кроме того, ему приходилось рвать жилы на услужении тем, кто числился над ним, заставлявшим его выполнять самую черную работу. Хеисиро в тот период его жизни приходилось нелегко. Человек ординарный на его месте пошел бы на попятную и сдался. Но не таков был наш Хеисиро. Ни разу ему даже мысль не приходила о том, чтобы отказаться от поставленной перед собой цели. Он настроился на преодоление любых жизненных испытаний и человеческих унижений, но в конечном счете решил добиться намеченного результата. Тем не менее как простого смертного человека его иногда практически полностью покидали жизненные и душевные силы. Подчас его нервы напрягались, казалось бы, до последнего предела. В такие моменты он смотрел на свое отражение в зеркале с глубоким шрамом на лбу и доставал из тайника тот самый садовый башмак со словами, адресованными самому себе:
– Мужайся! Вспомни о Масамуне! За ним еще должок.
После этого возвращались телесные силы и душевное спокойствие, а также появлялась готовность трудиться дальше и переносить все тяготы.
Мало-помалу Хеисиро заслужил благосклонность своих начальников, да и в постижении искусства духовника его успехи заметили все. По большому счету он решил так, что ускорить свое продвижение по службе следует попытаться с помощью перехода в другой монастырь, а самым крупным заведением по освоению священного учения в Японии и знаменитым тогда считался храм Энряку-дзи на горе Хиейдзан. Хеисиро подал прошение о приеме в этот монастырь. Его с радостью приняли в его братию.
Двадцать лет спустя Дзёбен (так теперь звали Хеисиро, взявшего себе такое имя с присвоением сана жреца) получил известность своей эрудицией и строгим следованием всем обычаям японской жизни, а также проявлением предельного благочестия. Но всего этого ему было мало. Он оставался еще очень далеко до того положения в своих кругах, при котором ему можно было бы рассчитывать на аудиенцию у императора. Требовалось карабкаться гораздо выше. Соответственно целью ставилось завоевание мировой известности.
Итак, он решил отправиться в Китай, справедливо считавшийся тогда источником всевозможных знаний и доступной мудрости. Китайцы обещали ему передать все знания о буддистской вере, которые он как раз собирался приобрести. Как только представилась такая возможность, Дзёбен покинул родной берег и в скором времени оказался в среде незнакомого ему народа. На территории Поднебесной он провел десять лет. На протяжении всего этого времени посещал знаменитые храмы, где черпал мудрость из многочисленных источников. Наконец слава о нашем японском путешественнике дошла до китайского императора, обрадовавшегося возможности предоставить ему аудиенцию, после которой щедро удостоил его новым жреческим титулом, звучащим по-японски как Иссан-Касё-Даидзэндзи. Все обернулось так, что Дзёбен покинул родину человеком, признанным в своих добродетелях и духовных свершениях, а вернулся с чужбины персонажем, считающимся в Японии чуть ли не богоподобным.
После своего возвращения Иссан-Касё-Даидзэндзи поселился в монастыре Унго-дзи города Киото, где возложил на себя обет послушания. На протяжении нескольких лет о Масамуне он ничего не слышал, и ему очень хотелось узнать, что же случилось за все это время с его бывшим господином. Его неприятно удивило известие о том, что объект его ненависти тоже весьма возвысился в их мире, что теперь как основателя замка Сендай его считали одним из влиятельнейших деятелей страны. Мало того что он занимал высокий пост при дворе: как предводитель даймё северо-востока страны Масамуне пользовался большим почетом даже у сёгуна. Такое открытие вызвало у нашего героя не просто раздражение, а кое-что посильнее. Дзэндзи осознал, что ему придется ждать своего шанса и действовать весьма осмотрительно. Одно неверное движение теперь могло свести на нет все плоды его тяжких трудов, которым он посвятил долгие годы.
Но, в конце-то концов, ему нельзя было затягивать свое ожидание благоприятного случая.
На императора напала хворь, и недуг его оказался настолько серьезным, что умений самых премудрых лекарей на его обуздание не хватало. Высшие сановники императорского семейства собрались на тайный совет по поводу своих дальнейших действий и пришли к заключению о том, что рассчитывать им остается только лишь на обращение за содействием к Небесам, так как на земные средства у них надежды не остается.
Кто у них числился жрецом с непреклонной силой воли, располагающим достаточной мудростью, чтобы ему можно было доверить настолько важную миссию?
Одно только имя пришло всем на ум. И оно прозвучало так: Иссан-Касё-Даидзэндзи!
Тут же этого святого старца со всей возможной оперативностью доставили во дворец императора, где приказали самым старательным образом обратиться к силам небесным с мольбой о восстановлении здоровья августейшего больного.
На целых семь дней и ночей Дзэндзи удалился от всего мира и заперся в чертоге Синего Дракона. Семь дней и семь ночей он отказывался от пищи и молился ради сохранения драгоценной жизни своего императора. И его молитвы дошли до кого следует. К концу недельного затворничества жреца император почувствовал себя намного лучше, а восстановление его сил происходило настолько стремительно, что через очень короткий срок все поводы для беспокойства о его жизни остались далеко позади.
Признательность его величества поистине не знала границ. Дзэндзи удостоился многочисленных знаков императорской благодарности, и как следствие все сановники и вельможи устроили соревнование в демонстрации своей любезности к любимчику императора. Его назначили по европейскому чину екклезиархом храма Унго-дзи и присвоили еще один титул – Унго-Даидзэндзи.
«Воплощение в действительность моего страстного желания становится все более возможным! – думал наш жрец, торжествуя в глубине души. – Остается только дождаться благовидного предлога для обвинения Масамуне в государственной измене».
Но прошло тридцать с лишним лет с тех пор, как скромный носильщик сандалий Хеисиро Макабе поклялся отомстить даймё Дате Масамуне за нанесенную им обиду. И все это время он упорно занимался изучением священных рукописей, отдавался ночным бдениям, жил впроголодь и занимался медитацией. Хеисиро заслужил звание великого жреца Унго-Даидзэндзи. Нрав его изменился до неузнаваемости, хотя он этого совсем не заметил. Рассудок жреца очистился от всего суетного и теперь утратил способность к восприятию такого грубого и жалкого чувства, как желание мести. Теперь, когда он располагал всей полнотой власти, ему больше не хотелось воплотить его в жизнь.
– Ненавидеть или пытаться уязвить себе подобное существо – ниже достоинства того, кто достиг духовного сана, – сказал он себе. – Бурные порывы страсти тревожат только тех, кто заплутал в лабиринте светского бездуховного мира. Когда у человека открывается духовное зрение, для него не существует ни востока, ни запада, ни севера, ни юга – такие вещи он видит всего лишь как наваждение. Я вынашивал обиду на господина своего Дате больше тридцати лет, и, ведомый единственной целью мести, маячившей перед глазами, дошел в трудах до моего нынешнего положения в обществе. Но если бы господин мой Дате в свое время не обошелся со мной жестоко, как тогда сложилась бы моя жизнь? Скорее всего, мне суждено было остаться все тем же носильщиком сандалий по имени Хеисиро до конца своих дней. Но мой бессердечный господин позволил себе ударить меня садовым башмаком, даже не позаботившись о том, чтобы выяснить, заслужил ли я такого жестокого обращения?! Во мне же воспламенилась праведная злость, и я поклялся отомстить обидчику. Моя решимость покарать его послужила приобщению меня к жречеству, упорной учебе, помогла перенести все лишения и способствовала моему становлению в качестве одного из влиятельнейших жрецов в империи, перед которым почтительно склоняют головы даже князья и вельможи. Если взглянуть на дело в его истинном свете, получается так, что всем я обязан именно господину Дате. В былинные времена Шакьямуни, отвернувшийся от земной славы, взошел на гору Дантоку и там принял послушание перед святым Арарой. Притом что он оставался принцем, Шакьямуни выполнял все черные работы по поручению своего господина, который бил своего послушника палкой за малейшее прегрешение. «Как же все это унизительно, – думал августейший неофит, – что мне, родившемуся ради восшествия на престол, приходится терпеть дурное обращение со стороны стоящего гораздо ниже по положению в обществе практически простолюдина». Но Шакьямуни относился к людям, отличавшимся упорным нравом. Чем большим унижениям он подвергался, тем упорнее отдавался изучению духовной литературы. Поэтому в тридцать с небольшим лет от роду он уже усвоил все, что мог передать ему наставник. С тех пор он начал миссионерскую деятельность по просвещению народа, еще не знавшего одной из величайших религий мира. Можно с полным на то основанием утверждать, что Шакьямуни добился успеха во многом, если не во всем, благодаря своему наставнику, требовавшему от своего послушника неукоснительного выполнения всех заданий. Совсем не претендуя на сравнение моей скромной персоны с прославленным в веках основателем буддизма, я тем не менее не могу отрицать того факта, что беседка на территории замка Осаки послужила мне горой Дантоку, а старый садовый башмак стал для меня хворостиной святого Арары. Получается так, что не ненависть в душе я должен носить к Масамуне, а выразить ему глубочайшую признательность за его безрассудный поступок, легший в основание моего нынешнего процветания.
Таким образом, наш добрый жрец оставил свою заветную мысль об отмщении, и на место ненависти пришло более стоящее ощущение. Теперь он смотрел на орошенный его же кровью тэта с большим почтением, ставил перед ним букеты цветов и возжигал фимиам, а также денно и нощно усердно молился за дарование его прежнему господину Дате Масамуне долгих лет жизни и всяческих благ.
А что же за это время случилось с самим Масамуне?
Как уже сообщалось раньше, он заслужил больших почестей и числился предводителем во многих советах дворян своей страны. Но к шестидесяти трем годам он утомился от общественной жизни и удалился от нее, чтобы провести остаток жизни в своем замке Сендай. Здесь, чтобы занять себя каким-то полезным делом, он затеял восстановление знаменитого храма Дзуйган-дзи, расположенного в Мацусима неподалеку от его замка, который на протяжении длительного периода междоусобиц пришел в упадок и представлял собой к тому времени полные развалины. Масамуне взялся за возвращение его зданию былой роскоши архитектуры, а когда ему удалось справиться с поставленной перед собой задачей, наступило время подыскать для него достойного жреца, обладающего глубокими знаниями и признанными добродетелями, кому не грех было бы поручить заботу о восстановленном храме.
Собрав своих самых доверенных слуг, он обратился к ним со следующими словами:
– Как вы все знаете, я восстановил здание и убранство храма Дзуйган-дзи, расположеного поблизости от нас, но он все еще стоит без смотрителя. Я хочу поручить его заботам духовно богатого и грамотного человека, способного продолжить его древние традиции как колыбели благочестия. Скажите мне, кто сегодня считается величайшим жрецом Японии?
– Нынешним величайшим жрецом числится высокий жрец монастыря Унго-дзи, что в Киото, по имени Унго-Дзендзи, – поступил единодушный ответ.
Итак, Масамуне решил предложить свободное место смотрителя своего храма преподобному Унго-Дзендзи. Но поскольку жрец, на которого возлагались большие надежды, пользовался большой популярностью при дворе, а также доверием самого императора, требовалось сначала обратиться с челобитной к его величеству, и потом только начинать переговоры Дзэндзи. Масамуне подал свое составленное соответствующим образом прошение, но больше рассчитывал на доброе отношение к себе со стороны верховного правителя страны. Император, сохранивший теплую привязанность к своему состарившемуся вельможе, с легким сердцем пошел ему навстречу. И вот получилось так, что Унго-Дзендзи назначили главным смотрителем храма Дзуйган-дзи, расположенного в живописной районе Мацусима.
На седьмой день после назначения главного смотрителя Дзуйган-дзи Масамуне нанес официальный визит в этот храм, чтобы лично познакомиться с вновь прибывшим жрецом. Его проводили в личную комнату для гостей Дзэндзи, в которой на тот момент не было ни души. В специальной нише его внимание сразу же привлек вид старого садового башмака тэта, помещенного на ценный постамент искусной и дорогостоящей работы.
«Какой знаменитый персонаж носил этот башмак?! – удивленно подумал про себя Масамуне. – Но украшение помещения таким убогим предметом в ожидании даймё моего высокого положения в обществе совершенно определенно выглядит демонстративным нарушением этикета! Однако новый жрец должен однозначно назвать некие веские основания для такого рода странного попрания всех норм приличия».
В тот самый момент створки двери бесшумно разошлись в стороны, и в приемную вошел почтенный человек в безупречном облачении жреца и с тщательно расчесанными длинными седыми волосами. На его неподвижном лице застыло выражение аскета, и тем заметнее выглядел шрам, пересекавший лоб как раз между глазами.
Унго-Дзендзи, а это был он, уселся напротив своего гостя, положил обе руки ладонями вниз на татами и несколько раз поклонился ему в почтительном приветствии. Масамуне ответил на приветствие жреца в соответствии с положенным обрядом.
Завершив церемонию приветствия, Масамуне не смог сдержать своего любопытства.
– Ваше высокопреподобие, – начал он беседу, – по моей самой искренней просьбе вы снизошли до того, чтобы спуститься до моего скромного храма и взять его под свою опеку. На меня произвело глубочайшее впечатление ваше великодушие, и я даже не знаю, как вас благодарить. Я человек простой и в затейливых речах не преуспел. Но, ваше высокопреподобие, меня весьма озадачивают две вещи, и притом что мы ведем свою первую беседу и вы можете посчитать меня чересчур любознательным, могу я попросить вас объяснить мне, почему самое почетное место вы предоставили садовому башмаку, а также откуда у вас появился шрам на брови, совсем не подходящий вашей репутации безгрешного человека?
После такой речи, произнесенной под влиянием душевного порыва, напомнившей о молодом и неукротимом Масамуне, жрец слабо улыбнулся. Потом он отошел в дальний конец комнаты и с выступившими слезами на глазах произнес:
– Не передать мне радости от возможности снова видеть ваше лицо. Вид неизменных ваших черт напоминает мне о днях моей давно ушедшей юности.
– Признаюсь, ваши слова мне странно слышать! Как могу я напоминать вам о вашей юности, когда, насколько мне известно, мы никогда не встречались раньше?
– Наберитесь терпения, мой господин, и я все вам объясню, – отозвался Дзэндзи. – В то далекое время я числился всего лишь скромным слугой – носильщиком сандалии по имени Хеисиро Макабе. Вряд ли такой ничтожный персонаж сохранился в вашей памяти. Тогда вы проживали в своем замке в Осака…
Наступила пауза, во время которой пораженный Масамуне не мог вымолвить и слова, а только внимательно вглядывался в своего бывшего смерда, тщетно пытаясь вспомнить знакомые черты.
Итак, Унго-Дзендзи продолжил свое повествование и в мельчайших деталях описал все, что выпало на его долю с того снежного дня за тридцать с лишним лет. Он не стал ничего скрывать и откровенно поведал, как на протяжении всех тех лет находился под воздействием жажды мести и одной только мести, а также как в один прекрасный день он мечтал увидеть своего обидчика поверженным в прах. Жажда мести подстегивала его на преодоление всех трудностей, одоление всех препятствий.
– Одним словом, – завершил рассказ жрец, – я попал в поле зрения императора, который настолько высоко оценил мою службу, что одарил меня всевозможными благами и знаками благосклонного внимания. «Настал мой звездный час», – подумал я. Но, к великому моему удивлению, тут же обнаружил, что пагубная страсть покинула мое естество – желание мести пропало. Прежние обиды предстали передо мной совсем в ином свете, а в вас я увидел моего главного благодетеля. Без вас я остался бы прежним носильщиком сандалий – без вас весь багаж знаний, постигнутых мною, никогда бы мне не достался – без вас не состоялось бы мое знакомство и общение с блистательнейшими и мудрейшими мужами двух стран. Поэтому моя ненависть обернулась благодарностью, а моя жажда мести обратилась в искреннейшее пожелание вам долгой жизни и процветания. Я постоянно молюсь о том, чтобы наступил тот прекрасный день, когда у меня появится возможность хоть в какой-то мере отплатить вам за неоценимые блага, дарованные вами мне. Ваша светлость теперь понимает, почему я так дорожу старым башмаком и с каким чувством ношу этот уродливый шрам на лбу.
Масамуне выслушал рассказ бывшего своего смерда с огромным удивлением и глубочайшим вниманием. С его завершением он поднялся на ноги и, мягко, но решительно взяв Дзэндзи за обе руки, повлек его в парадную часть комнаты. Когда оба снова уселись на место, разговор продолжился.
– Ваше высокопреподобие, – начал крайне взволнованно даймё. – Своим рассказом вы ввергли меня в полное замешательство. Мне припоминается тот случай, о котором вы говорите, и я помню ярость, посетившую меня в моем высокомерии, когда почувствовал себя грубо оскорбленным. Не приходится удивляться вашему желанию мести, но то, что вы смогли отказаться от своего триумфа, шанс на который вам выпал, вызывает у меня восхищение! В такое великодушие верится с большим трудом! Вы доказали мне, что религия представляет собой не пустую абстракцию, как кое-кто ее называет. И я нижайше прошу у вас прощения за мое тогдашнее оскорбление и умоляю принять меня в состав ваших последователей.
Таким манером Масамуне, искренне и благородно раскаявшийся в проступке, совершенном в молодости, и носильщик сандалий совершили гораздо больший нравственный подвиг, чем стало бы повторение злодеяния, которым мог бы похвастаться тот, кто отомстил своему врагу, подвергнув его позорной смерти.
Сердечная дружба возникла между двумя мужчинами, настроенными на благородные поступки, и, пока смерть не разлучила их много лет спустя, они узнавали друг в друге все больше завидных черт. Жреца всегда встречали как самого дорогого гостя в замке даймё, а Масамуне под руководством Унго-Дзендзи с истовым почтением занимался усвоением священных знаний.
Преданность юного самурая
Мацудайра Нобуцуна служил одним из министров при сёгуне Иэмицу, считавшемся вторым после Иэясу по влиянию среди всех сёгунов династии Токугава. Как человек редчайшей проницательности он внес значительный вклад в мудрое управление империей администрации Иэмицу.
Когда Иэмицу был еще маленьким мальчиком и откликался на имя Тэкетиё, Нобуцуна, в то время звавшийся Тёсиро, состоял при нем слугой и составлял ему компанию во всех детских забавах.
Однажды утром этот молодой дворянин шел коридором в сопровождении Тёсиро и еще двух мальчиков по направлению к личным апартаментам своего отца сёгуна Идэтада. Тут его внимание привлекли несколько воробышков, скакавших и весело щебетавших на черепичной крыше. Тэкетиё, которому тогда шел одиннадцатый год, взбрело в голову их изловить; и, обернувшись к Тёсиро, старшему его на три года, он распорядился:
– Поймай вон тех воробышков для меня, Тёсиро!
– С превеликой радостью, ваша светлость; но, если меня заметят за ловлей воробьев, наказания со стороны его высочества и сановников мне не избежать. Так удачно все складывается, что сегодня меня назначили в ночную смену стражи; итак, сегодня ночью, когда меня никто не увидит, я поднимусь на крышу, соберу там птичек и утром передам их вам. Соизволите ли подождать до того времени, мой господин?
– В таком случае стоит подождать.
И небольшая компания двинулась дальше.
Той ночью, когда все обитатели дома угомонились, Тёсиро удалось взобраться на крышу здания, осторожно доползти на четвереньках до места, где воробьи свили свое гнездо. Он протянул руку и схватили одного из воробышков. Несчастные создания! Застигнутым врасплох, им некуда было скрыться. Переложив пленника в левую руку, Тёсиро снова протянул свою правую руку и схватил еще одного воробышка. То ли из-за достижения своей цели он непроизвольно расслабился, то ли по какой-то иной причине, но так случилось, что в какой-то момент его нога соскользнула, и он с тяжелым глухим стуком упал во внутренний двор на землю. После падения он непроизвольно сжал кулаки, в которых держал пташек, и тут же задавил их насмерть. С дохлыми птицами в руках юноша потерял сознание. Но крыша находилась относительно близко к земле, и ему к тому же повезло свалиться в какие-то кусты, поэтому он не разбился насмерть, как вполне могло бы случиться.
От звука падения тела сёгун пробудился ото сна. Он бросился к окну, за ним последовала супруга, а кое-кто из свиты вышел на веранду, чтобы через раздвижные ставни посмотреть вниз. В свете фонаря, принесенного одним из слуг, он разглядел тело мальчика, лежавшего на земле как раз под ним. В этот момент Тёсиро пришел в себя и пытался подняться, превозмогая боль, пронизывавшую все его тело, что удавалось ему с большим трудом. Он еще больше перепугался, когда в свете фонаря сёгун со свитой разглядел его во всей красе поражения.
– Тёсиро, это ты, паршивец?! – обратился к нему господин, моментально признавший в жертве ночного происшествия своего смерда. – Какая нелегкая сила понесла тебя на мою крышу среди ночи? Иди немедленно сюда и потрудись объяснить свое странное поведение. С тобой надо как следует разобраться.
Незадачливый птицелов поплелся на расправу, так и не выпустив из рук задушенных воробышков. Простершись перед сёгуном, он застыл в ожидании начала сурового допроса.
– Что ты там держишь в руках, Тёсиро?
– Воробышков, мой господин.
– Воробышков?! Ты забрался на крышу среди ночи ради ловли воробышков?! Странные у тебя причуды!
– Да, мой господин. Позвольте вам покаяться в следующем. Когда мы с уважаемым Тэкетиё-сама этим утром шли по коридору, он обратил внимание на воробышков, скакавших по крыше, и мы остановились, чтобы полюбоваться ими. Тэкетиё-сама воскликнул: «Какие трогательные прекрасные создания!» И у меня в душе тут же возникло желание достать их для него, чтобы он смог ими позабавиться. Таким образом, этой ночью, когда все уснули, я взобрался на крышу ваших покоев, грубо поправ то почтение, которое мне положено проявлять к вашей августейшей особе, и поймал двух воробышков. Но Небеса не стали затягивать со своим воздаянием мне за совершённый проступок! Я сверзился вниз, как вы видите, и вся моя злонамеренность раскрылась. Я готов принять любое наказание, которое ваша светлость сочтет достойным моего проступка.
– Мой господин, – вступила в разговор супруга сёгуна госпожа Эё. – Прошу великодушно извинить меня за вмешательство в ваше дело, но я так подозреваю, что изловить этих воробышков незадачливому Тёсиро приказал Тэкетиё. Сомнения в этом быть не может.
Следует заметить, что госпожа Эё воспитывала двух своих сыновей – Тэкетиё и Кунимацу. Старший из них по имени Тэкетиё отличался сообразительностью и живостью поступков, хотя считался при дворе грубоватым по натуре; его брат, наоборот, казался юношей тихим, больше напоминавшим девочку. По этой и, вероятно, некоторой другой не известной никому причине мать отдавала предпочтение своему младшему сыну, и ей бы хотелось видеть наследником сёгуна именно его, а не старшего сына. Таким образом, она не упускала ни единой возможности, позволяющей уронить авторитет Тэкетиё в глазах его отца, надеясь тем самым в удобный момент воплотить свой коварный замысел в жизнь.
– Каким же ветреным растет наш Тэкетиё! – согласился с нею сёгун. – В его подстрекательстве к такому безобразию сомневаться не приходится. Какой жестокостью надо обладать, чтобы послать бессловесного Тёсиро рисковать собственной жизнью в темноте на крыше за ловлей птиц! Притом что он еще совсем ребенок, ни малейшего оправдания его поступку я не вижу. В народе говорят: «Змея кусает, даже когда она еще не больше вершка длиной». От наследника, до такой степени пренебрегающего здоровьем своих слуг в юные годы, трудно ждать мудрого и толкового управления государственными делами, когда в его руки перейдет вся полнота власти. Итак, Тёсиро, – обратился он ко все еще коленопреклоненному мальчику, – приказывал ли тебе Тэкетиё добыть птенцов воробья? Или не приказывал?
Тёсиро с удивлением выслушал недобрые речи сёгуна и его супруги об обожаемом им своем господине. Что они имели в виду, приводя поговорку «Змея кусает, даже когда она еще не больше вершка длиной»? Если они уже настолько враждебно настроены к своему сыну, каких выводов и поступков от них ждать, когда раскроются все обстоятельства заинтересовавшего их дела?! Тёсиро твердо решил взять всю вину на себя, пусть даже с риском для собственной жизни.
– Конечно же нет, мой господин, – со всей убедительностью в голосе начал он. – Тэкетиё-сама никогда не давал мне такого распоряжения! Я поймал этих воробышков по собственной инициативе. Я собирался подарить одного из них Тэкетиё-сама, а второго оставить себе.
– Вздор! Что бы ты ни говорил, я все равно считаю Тэкетиё замешанным в деле. Ты – смелый парнишка, раз посмел лукавить мне в глаза! Дай-ка мне подумать, что с тобой делать дальше?.. Решено! Принесите мне один из тех вон мешков.
Сёгун имел в виду большие, прочные кожаные мешки, напоминавшие по форме кисет для табака, в которые во время пожара или землетрясения складывали его ценности, а потом спускали в додзё или огнеупорное хранилище.
Когда принесли один из таких мешков, сёгун произнес:
– Итак, Тёсиро, если ты будешь настаивать на своем, я прикажу посадить тебя в этот мешок, откуда тебя никогда не выпустят, и никакой еды ты больше не получишь. Ты будешь и дальше настаивать на своей глупой выдумке?
– Я ничего не выдумывал, мой господин. Истина состоит в том, что я поймал воробьев по своей собственной воле. Я, и только я, повинен в моем проступке. В моем падении с крыши я вижу кару Небес. С вашей стороны тоже было бы совершенно правомерно наказать меня. Я жду вашего приговора с нетерпением.
С этими словами Тёсиро бесстрашно полез в кожаный мешок.
– Что за упрямый мальчишка! – воскликнул не на шутку разгневавшийся сёгун.
Затем с помощью своей супруги он плотно завязал мешок с мальчиком внутри и повесил его на штырь, торчавший из стены коридора. Оставив несчастного ребенка в незавидном положении, все отправились продолжать прерванный ночной отдых.
Ближе к полудню после завтрака и приведения себя в порядок после сна госпожа Эё в сопровождении двух фрейлин вышла в коридор, где все еще висел кожаный мешок с мальчиком внутри, и приказала его снять на пол. Мешок развязали и обнаружили Тёсиро, так и не выпустившего дохлых воробышков из своих рук.
– Доброе утро, ваша светлость, – поприветствовал свою госпожу мальчик, потерев глаза сжатыми кулаками.
– Изловить воробьев тебе приказал Тэкетиё, не так ли? – вкрадчивым голосом начала Эёсан, рассчитывая склонить мальчика к подтверждению ее слов.
– Нет, моя госпожа. Я сам так решил. Тэкетиё-сама к этому делу никакого касательства не имел.
– Прекрати упираться, несносный мальчишка, своим упрямством ты обрекаешь себя на вечное заточение в мешке без крошки еды. Но если ты подтвердишь то, что я считаю истиной, тебя незамедлительно освободят и накормят. А теперь потрудись сказать мне правду.
– Моя госпожа, я готов выполнить ваше указание и поведать всю правду; но я так проголодался, что мне вообще трудно говорить. Можно мне попросить у вас что-нибудь поесть? Если вы дадите мне немного мусуби, я готов сказать все, что вы пожелаете.
– Молодец, тебе сейчас же принесут порцию мусуби.
Госпожа распорядилась, и в скором времени мальчик с аппетитом поглощал принесенные рисовые колобки. Тремя или четырьмя крупными мусуби он вполне утолил свой голод.
– Благодарю вас, моя госпожа; теперь можно и побеседовать.
– Тогда жду от тебя признания, мальчуган. Не тяни кота за хвост, мне надоело ждать.
– Простите меня, моя госпожа. Я изловил этих воробышков по собственному почину. Никаких прямых или косвенных указаний от Тэкетиё-сама я не получал. В этом и состоит вся правда.
Ее светлость моментально вышла из себя и дала волю чувствам. Топнув ногой, она бросилась в покои сёгуна, чтобы расписать свой разговор с мальчиком во всех цветах и красках. Сёгун разгневался.
– Юный мерзавец! – воскликнул он, вскакивая на ноги и хватаясь за свой меч работы мастера Ёсимицу. – Я лично его зарублю. Танго Хасегава, приведи сюда Тёсиро!
Танго обнаружил виновника всех вельможных волнений сидящим в кожаном мешке, сложив ручки на коленях.
– Тёсиро, – сказал посланник сёгуна, – его светлость ужасно на тебя разозлился. Твои упорство и дерзость выходят за все мыслимые пределы терпения. Он собирается расправиться с тобой собственными руками. Готовься к немедленной смерти!
– Я вполне к ней готов, сударь.
– Мы с твоим отцом считаемся давними друзьями, – продолжил слуга с сочувствием в голосе, – если хочешь что-нибудь передать ему напоследок, я готов это сделать для тебя.
– Спасибо, сударь, но мне нечего сказать моему отцу. Ведь долг самурая заключается в том, чтобы даже ценой собственной жизни доказать преданность своему господину. Вот я умру, и тогда все поймут причину того, почему я отказывался признать истиной то, что хотелось бы моему господину сёгуну. Передайте моему отцу только то, что я бесстрашно согласился со своей судьбой, когда меня зарубил мой господин. Печалит меня только то, что заболела моя мама, и известие о моей смерти может ее убить. Жалею я единственно об этом.
– Какой по-настоящему героический настрой души! – воскликнул Танго, не в силах сдержать слез. – Твой отец может тобой гордиться, мальчуган, когда расскажу, как ты встретил свой смертный час.
Подхватив Тёсиро под руку, Танго отвел его в покои сёгуна, где тот ждал его в компании своей супруги. На входе их встретил мрачный сёгун, сжимавший рукоять своего меча. Он жестом пригласил их подойти ближе. Наш храбрый мальчик, опускаясь на колени, смахнул с шеи длинные волосы, сложил вместе ладони, зажмурил глаза и молча стал ждать, когда сёгун взмахнет мечом. Сёгун, не лишенный подобающего настоящему мужчине сострадания, не вынес вызывающего нечеловеческую жалость вида смирившегося с безжалостной судьбой ребенка. Отбросив в сторону меч, он воскликнул:
– Я прощаю тебя, Тёсиро! Нельзя не признать твою высочайшую преданность своему юному господину, твою верность ему, испытанную практически смертью! Танго, я объявляю на будущее, что, когда Тэкетиё сменит меня в качестве сёгуна, никто не сможет оказать ему помощь в управлении народом с таким мужеством, которым обладает стоящий перед нами юный самурай. Тёсиро, я к тебе больше претензий не имею!
Месть Кацуно
I
Мужчина и женщина перешептывались в тусклом свете прикрытой абажуром лампы в углу дальней комнаты, разделенной надвое кустом унохана, белоснежные цветы которого сияли в лунном свете. Тишину ночи нарушали кваканьем только лягушки в соседнем заболоченном пруду.
Мужчину звали Сакума Ситироемон, а служил он советником при коменданте замка Ивакура по имени Ода Нобуюки, проживавшем в провинции Овари. Пятидесяти двух лет от роду, наделенный мощными мышцами и украшенный роскошными седыми бакенбардами, он отличался бурным нравом. Надменный, вспыльчивый и очень ревнивый к чужим успехам, он считался деспотом среди своих вассалов, а представители его собственного клана питали к нему вполне естественную в таких случаях тщательно скрываемую ненависть. Собеседником его была женщина примерно того же возраста, служившая попечительницей фрейлин при господине Ода, по имени О-Тора-но-Ката. Ее отличали жесткость характера, хитрость и жадность ведьмы, и придворные девицы боялись ее до отвращения. Считались собеседники, что называется, одного поля ягодами. Она прокладывала свой путь в жизни через благосклонность Ситироемона, служившую укреплению ее положения при дворе; а он, в свою очередь, наставил ее на слежку за действиями своего господина, а также своих коллег и вассалов.
– Как же так, Тора-сан? – спросил Ситироемон, заливаясь алой краской ярости. – Вы хотите сказать, что наш господин собирается назначить этого зеленого юнца из рода Хатия через мою голову своим главным советником?
– Я только повторяю то, что слышу: все фрейлины только об этом и толкуют…
– Тьфу! Как же я ненавижу этого Хатия – презренного выскочку, сына хлебороба! Откуда он вообще взялся?! И выглядит он как женоподобная лицом бледная поганка! Как ловко он обольстил нашего господина своим краснобайством! Он не участвовал ни в одном сражении; какая польза от такого книжного червя в наши дни военных испытаний? И тем не менее этого неопытного подростка собираются назначить главным советником! Гм, что за безумная затея! Ха, ха, ха!
– Решение пока не принято. Оно еще до конца не созрело. Не кипятитесь. Хворост еще не подожгли.
– Да! Не кипятитесь! Нет дров?
– Ха, ха! – произнесла О-Тора с противной ухмылкой. – Я припасла кое-что, способное распалить ваши эмоции.
– Не надо испытывать мое терпение, – произнес он с досадой. – Излагайте быстрее все, что знаете!
– Мне стала известна самая большая тайна. Я готова… ну-у-у-у… продать ее. – Она говорила медленно, с упором на слово продать.
– Какая вы понятливая! Ну, раз так, я куплю вашу тайну вот за это. – Произнося такие слова, Ситироемон вынул из-за пазухи пакет с деньгами и швырнул его на циновку.
Старая ведьма молча его подобрала с хитрой ухмылкой на губах.
– Сакума-сан, ни в коем случае не теряйте бдительности.
– Что вы имеете в виду?
– Ну… вам следует ее уступить.
– Что! Уступить кому-то Кацуно? – воскликнул он, пораженный такой новостью. – Чего ради? Отвечайте немедленно!
– Не удивляйтесь, сударь. Нашему господину понравится, если он выдаст ее замуж за Хатия.
Кацуно была фрейлиной супруги Ода Нобуюки и пользовалась у нее большой симпатией. Эта девица, встретившая уже девятнадцать весен, служила воплощением женской красоты, изящества и свежести, соединенного в ней с исключительной тонкостью и достоинством. Несмотря на свои преклонные годы, Ситироемон влюбился без ума в эту неземную девушку; и при всех его попытках ухаживания за нею с помощью О-Тора она на его проявления страсти не реагировала никак.
– Хатия смог наладить какую-нибудь связь с Кацуно? – с тревогой в голосе спросил Ситироемон.
– Да куда там! Вы знаете, что они, благородные тупицы, слишком глупы для этого. Даже при наличии такого намерения у них не получилось бы пройти мимо моего бдительного глаза. Мимо меня сам черт не проскочит незамеченным!
– Тогда все дело в распоряжении нашего господина?
– Именно так. Сегодня наша госпожа сказала мне: «Хатия больше неприлично оставаться холостяком; Кацуно у нас красивая и исключительно благонравная девица, в награду за верное служение я в скором времени собираюсь выдать ее замуж за Хатия!» Да, именно так наша госпожа мне и сказала.
– А вы, случайно, не лукавите? – засомневался Ситироемон, насупив брови и засверкав глазами, отражавшими клокочущую в глубине его души ревность. – Вы говорите о выборе в пользу этого желторотого сына хлебороба Хатия! Покажется большим скандалом назначить его начальником над человеком моих способностей и боевого опыта, и того скандальнее выглядит его женитьба на Кацуно. Какое посмешище они нам устраивают! Какое падение нравов моей эпохи! Смотреть противно! Не будет мне покоя, пока что-нибудь не предприму против моего заклятого врага Хатия! Я буду мстить со всей своей страстью! И пусть он не ждет от меня пощады!
Самурай произносил свою речь с настолько неистовым напором, а лицо его светилось таким дьявольским настроем, что старуха просто перепугалась.
– Причину вашего гнева я вполне понимаю, сударь; но вы ведь знаете, что гнев несет потери. Вам следует спокойнее обдумать все дело.
– Вы что-то можете предложить от себя?
– Ну… конечно же прежде всего к Хатия нужно подослать наемного убийцу, и потом под благовидным предлогом вырвать Кацуно из рук нашего господина; как раз этим я займусь сама.
– Я же займусь улаживанием еще одного дела! Но проявите должную осторожность, сударыня Тора!
В этот момент в комнату ворвался порыв прохладного ветра и погасил пламя в лампе, на том их совещание и закончилось.
II
Стоял прекрасный осенний день; в садах замка Ивакура в полной мере можно было полюбоваться красотой пылающих крон кленов и разноцветными хризантемами.
Наступила годовщина кончины отца Нобуюки, поэтому все обитатели замка с самого утра занимались отправлением религиозных обрядов и посещением склепа покойного; вечером для всех самураев устраивали поминальную трапезу.
Время близилось к четырем часам после полудня, и несколько фрейлин, удалившихся в личные покои, чтобы передохнуть между запланированными мероприятиями, увлеченно болтали о всяких пустяках.
– Ну что вы за трещотки, сударыни! Чирикаете как воробьи, – донесся голос О-Торы, как раз вошедшей в покои и не удержавшейся от сварливого замечания, после которого веселый девичий щебет, естественно, прекратился. Когда она уселась, одна из девушек, особа весьма дерзкая при всей своей молодости, рискнула с самой невинной улыбкой произнести:
– Но, сударыня, женщины трещотки по своей натуре, разве не так? «Соловьи залетают в кроны цветущих слив», а «воробьи и тигры посещают ложбины, заросшие бамбуком»; вот мы и чирикали как воробышки в надежде на то, что госпожа Тора (то есть тигр) соизволит к нам заглянуть.
После такого дерзкого выступления остальные фрейлины залились смехом, и даже ворчливая дуэнья не смогла удержать кислой ухмылки.
– Твои слова о воробьях напомнили мне о Таканэ (японская белоглазка), – сказала она. – Мне кажется, что эта птица за весь день не издала ни звука. Ее кормили?
Девушки принялись оправдываться: мол, весь день были настолько заняты, что совсем позабыли уделить внимание упомянутой птице, числившейся драгоценным питомцем их господина, который получил ее вместе с другими подарками от сёгуна в знак признания его ратных заслуг. Нобуюки нежно любил свою птицу, за ее чудесное пение, тем более что дорожил ею как подарком своего господина.
Не на шутку перепугав своих подопечных, О-Тора отплатила им за свой позор такими вот ехидными словами:
– Вы бы, никчемные девчонки, занимались пустопорожней болтовней только после того, как исполните все свои обязанности.
– Стыдно должно быть вам за то, что позабыли вы о несчастной птичке! – высказала свой упрек Кацуно, прибывшая в сопровождении своей свиты. – Бедняжка, как же она должна была проголодаться! Пойду-ка я сейчас к ней и задам немного корма.
Спустившись в сад, она проследовала к старой сливе. Там протянула руки, взяла искусно оформленную птичью клетку и сняла ее с ветки, на которой та висела. В этот момент крюк, на котором висела клетка, соскочил, все сооружение полетело на землю, дверца распахнулась, а маленький затворник с радостным щебетанием полетел прочь. Тревожно зовя на помощь, девушка бросилась вдогонку, но куда там! Освободившаяся от неволи птица уже проскользнула сквозь кроны деревьев и теперь парила в синем небе, оглашая все вокруг восторженной песней свободы.
– Что же ты натворила, Кацуно?! – кричала с веранды О-Тора. В глубине души ликующая выпавшему ей такому прекрасному случаю для выполнения своего коварного замысла, заключавшегося в лишении Кацуно милости ее господина, она все-таки ловко скрывала свою радость под личиной якобы посетившего ее страха и ужаса. – Увы! Ты выпустила Таканэ на волю. Боже милостивый, какая же ты оказалась небрежная, девчонка! Как же у тебя все это получилось?!
Кацуно, наблюдавшая за стремительно исчезавшей вдали птахой, казалась буквально оглушенной всем случившимся. После слов О-Торы она вроде бы пришла в себя, но тут же осознала все возможные последствия своего проступка, зашаталась и с воплем ужаса упала на землю. Ее юные спутницы, стоявшие на веранде, издали возгласы изумления, но ни одна из них не поспешила к Кацуно на помощь и не попыталась ее утешить.
– Что ты теперь собираешься делать, Кацуно? – продолжала выспрашивать старая ведьма, к тому времени она подошла к месту, где лежала несчастная девушка, и схватила ее за воротник платья. – Ты прекрасно знаешь, что Таканэ считается не простой птицей, а свято хранимым подарком от его высочества сёгуна. Ты отдаешь себе отчет в том, что совершила, выпустив ее на волю?! Разве можно искупить такой тяжкий проступок всего лишь пустыми девичьими слезами? Чем ты собираешься искупать нанесенную мне душевную рану, так как меня же во всем и обвинят, с меня спросят за беду, которую ты на нас накликала! Ну-ка, вставай, девчонка, что ты можешь мне сказать в свое оправдание?
– Прощайся с жизнью, Кацуно!
От громкого и сердитого голоса все содрогнулись. Узнавший о случившемся в саду вспыльчивый Нобуюки поспешил на место происшествия и теперь с мечом в руке стоял над распростершейся девушкой, сгорая от подступившего едва сдерживаемого гнева. В этот критический момент послышался голос еще одного человека.
– Сударь, мой господин, остановитесь! – Голос принадлежал новому главному советнику сёгуна Цуда Хатия, который рискнул вмешаться в ход событий. – Успокойтесь, мой господин, умоляю вас. Вы разве забыли, какой сегодня день? Разве мы не скорбим по кончине вашего легендарного отца, оставившего нас ровно год назад? Как можно омрачить нынешнюю торжественную годовщину кровавой расправой, совершенной из-за воспылавшего гнева? Угомонитесь и поручите это дело мне. Я обо всем позабочусь.
Гнев Нобуюки прошел так же скоро, как и возник, а свою роль при этом сыграло его обычное здравомыслие. Поддавшись уговорам своего любимчика, он вложил меч в ножны и удалился на веранду.
К этому времени в замке собрались практически все приглашенные на поминальную трапезу ратники стражи сёгуна, а слухи о происшествии только добавляли живости мероприятию. Среди них как раз находился Ситироемон, и под шумок возникшей суматохи он приблизился к своему сообщнику, чтобы шепнуть:
– Не воздать ли нам должное моей госпоже Кацуно? – И тут же принялся раздавать распоряжения: – Действуй мудро, чтобы не причинить смерти своими собственными благородными руками, но как бы оправдываясь перед его высочеством сёгуном и подавая пример всему клану в необходимости воздаяния. Просто девушка должна понести заслуженное наказание.
– Однако… – Нобуюки колебался; затем, поворачиваясь к Хатия, сказал: – Каково ваше мнение, Хатия? Следует ли мне поступать, как говорит Ситироемон?
– Нет, мой господин. Из истории нам известно, что давным-давно при правлении императора Такакура в одно лютое морозное утро кто-то из беспечных садовников отпилил несколько веток красивого клена, считавшегося любимым деревом молодого императора, и сжег их, чтобы подогреть себе саке. Сановник, отвечавший за это дерево, по имени Фудзивара Нобунари, потрясенный проступком садовников, приказал связать преступников по рукам и ногам, а потом сообщил о происшествии императору. Великодушный монарх, однако, отнесся к сообщению с полнейшим спокойствием и миролюбиво сказал:
– Один китайский поэт написал так:
- В лесах собрали мы кленовых листьев
- И сожгли их, чтобы подогреть саке.
Интересно, где эти простые садовники приобрели такой утонченный вкус? Какая поэтическая идея пришла им в голову!
Таким манером император объяснил поведение легкомысленных садовников. Вот вам одна из причин того, почему императора Такакура восхваляют как великого монарха даже сейчас, по прошествии многих веков. Итак, я надеюсь и молюсь Богу, что мой господин окажется таким же великодушным человеком, как тот император, и проявит снисходительность к юной девушке, которая по совершенному недоразумению стала жертвой нынешнего несчастного случая.
– Уймись, Цуда-сан! – прервал его речь Ситироемон. – Никто не сомневается в том, что ты у нас великий ученый и весьма красноречивый человек, но предлагаемое тобой попустительство может послужить недобрым прецедентом на будущее. Ты всегда выражал женщинам добрые и нежные чувства, но в нынешнем случае это неуместно. Так можно докатиться до прощения преступника, который поджигает замок, и тот сгорает дотла просто потому, что им оказывается женщина, причем всего лишь допустившая оплошность! Где же здесь справедливость?
– Ваш аргумент звучит нелепо, – высокомерно возразил его оппонент возрастом гораздо моложе. – Вы говорите так, будто на самом деле считаете жестокость достойным принципом в управлении государством. Пусть вы правы, тогда почему цари Древнего Китая Чжоу и Цзинь, а также самураи кланов Таира и Асикага в нашей собственной стране так скоро оказались у разбитого корыта? Вспомните, что сегодня мы отмечаем годовщину кончины отца нашего господина, и поэтому вполне можно предположить, что именно наш господин пожелал освободить белоглазку ради успокоения боготворимого духа покойного. Своим непреднамеренным проступком Кацуно совершила еще и человечный поступок – освободила томившуюся в неволе несчастную птицу. Я где-то прочитал такие вот строки:
- Притом что кто-то любит пение сладкоголосой птички,
- Кому из нас известна печаль ее сердечка в заточении?
По-моему, Кацуно ничего предосудительного не совершила в прямом значении этого слова, а, наоборот, поступила совершенно правильно.
Все присутствующие, за исключением Ситироемона и О-Торы, слушали речи Хатия в защиту Кацуно с замиранием сердца. Эта злонамеренная парочка настаивала на изгнании провинившейся девушки из замка, но их аргументы Нобуюки пропустил мимо ушей и решил дело замять. Кацуно, все это время простоявшая коленопреклоненной, теперь уже буквально молилась на своего избавителя со всей искренностью своей целомудренной души.
III
Цуде Хатия уже исполнился тридцать один год. Он родился в семье простого земледельца, а вырос красивым, прекрасно образованным юношей. На шестнадцатом году жизни его взяли мальчиком-слугой в дом Нобуюки, хозяин которого в скором времени стал относиться к нему с большой симпатией. Хатия посвятил все свои часы досуга дальнейшему изучению классической литературы и совершенствованию искусства боевого единоборства. И поскольку этот юный самурай быстро проявил незаурядные управленческие способности, весьма редко обнаруживавшиеся у умственно не совсем развитых самураев тех дней, он стремительно взлетел по служебной лестнице на самый верх и к нынешнему моменту, будучи еще совсем молодым человеком, получил назначение на пост главного советника. В статусе наместника сёгуна он пользовался огромной властью. Но при всем его высоком положении и широчайших полномочиях, способных вскружить голову любому настолько молодому вельможе, на публике и в личной жизни Хатия отличался непритязательностью. При этом он служил своему господину с предельной верностью и высочайшим усердием, заручившись обожанием со стороны буквально всех представителей правящего рода за свой добрый нрав и многочисленные достоинства.
Однажды вечером Хатия предстал перед своим господином, вызвавшим его в самом срочном порядке.
– Хатия, – безо всяких предисловий начал Нобуюки с ласковой улыбкой, – я так считаю, что твой час пробил, разве не так?
– Прошу прощения, мой господин, но я вас не понимаю, – произнес Хатия с явно озадаченным видом.
– Для одного важного, касающегося тебя дела.
– Для важного, касающегося меня дела? – эхом отозвался молодой человек, еще более озадаченный, чем прежде.
– Ха, ха, ха! Какой-то ты сегодня недогадливый! Надо что-то решать с Кацуно!
Хатия не находил, что ему сказать. Нобуюки, страстно желавший женить Хатия, уже не в первый раз пытался выступить в качестве свата своего верного сановника с ходатайством перед Кацуно. Всей душой одобрявший предложенную ему кандидатуру невесты, Хатия не скрывал своего пламенного расположения к этой девушке, но даже здесь, однако, его благоразумие брало верх, и он вспоминал поговорку «полнолуние всегда сменяется полным затмением». Его назначение главным советником сёгуна через головы вельмож значительно старше уже считалось поводом для больших обид при дворе; а если он женится на признанной первой красавице правящего рода Кацуно, разве он не подарит своим врагам массу новых оснований для зависти и неприязни? К тому же он прекрасно знал о бешеной привязанности Ситироемона, и ему совершенно не хотелось вызвать у него очередной приступ негодования; поэтому под всевозможными предлогами он из месяца в месяц выкручивался перед своим господином, желавшим ему только добра, но соглашавшимся ждать.
– Ты снова говоришь «отложим до следующего месяца»? – угрюмо промолвил Нобуюки, так как молодой человек продолжал молчать. – Даже не пытайся снова обмануть меня таким образом!
Хатия ничего не ответил, склонив голову в знак почтительного внимания.
– Отвечай мне немедленно! Что молчишь?.. Скажи мне, тебе не нравится эта девушка?
– Совсем наоборот, мой господин, но я боюсь услышать от нее отказ!
– В этом вся причина! Оставь свои сомнения на сей счет; я все о ней выведал. Несчастная девочка! С того самого случая, когда она упустила белоглазку, ее недуг только усугубился, и она совсем исхудала!
Наблюдательный и питающий к нашей девушке большое сочувствие Нобуюки обнаружил, что Кацуно сгорает от любви к Хатия.
– Не терзайте меня, мой господин! Я назову вам истинные причины моих сомнений.
После такого предисловия Хатия перечислил свои аргументы, каждый из которых его господин возрастом постарше сопроводил кивком одобрения.
– Остается только восхищаться твоим природным благоразумием и благоприобретенной предусмотрительностью, – промолвил он, когда Хатия закончил изложение своих соображений. – И заруби себе на носу: ничего толкового ты никогда не добьешься, если будешь слишком много внимания уделять чувствам других людей. А воспылавшего безнадежной любовной страстью старину Ситироемона бояться не стоит. Я решил позаботиться о твоем семейном счастье. А я никогда не останавливаюсь на половине пути. К тому же у меня появилось желание воплотить в жизнь мечту Кацуно. Но поскольку приближается окончание года, мы отложим свадьбу до празднования наступления Нового года, и тогда уже я больше не стану слушать твои отговорки. Да, да, именно так все произойдет, Хатия.
Произнося все это, Нобуюки вызвал служанку и тихим голосом отдал ей некое распоряжение. Тут же внесли кувшинчик саке и несколько чашек. Затем фусума[2], отделявшая соседнюю комнату, беззвучно съехала в сторону, и появилась красивая молодая женщина в ярком утикаке, или кимоно, полная изящества, вставшая на колени у порога перед присутствующими мужчинами. Все узнали в ней прекрасную Кацуно.
– Что пожелаете, мой господин? – спросила она, почтительно поклонившись по очереди сначала Нобуюки, потом Хатия.
– Ах, да это же Кацуно?! Я хочу, чтобы вы прислуживали нам и подливали саке. Садись ко мне поближе, Хатия; иди сюда и давай немного выпьем.
– Простите меня великодушно, мой господин. Сдается мне, что меня ждут дома; к тому же уже поздновато. С вашего милостивого разрешения пойду-ка я лучше домой.
– Нет, нет; не торопись, Хатия. Притом что уже поздно, я так понимаю, никакой любимый человек не ждет твоего возвращения. Ха, ха, ха! Иди сюда, никаких возражений не принимается. Кацуно, налей-ка нам по чашечке саке!
Кацуно от робости просто остолбенела, но, когда Нобуюки повторил свое распоряжение, она взяла кувшинчик и дрожащей рукой до самых краев наполнил чашечку Хатия. Их взгляды встретились, и лица одновременно зарделись от любви.
– Когда выпьешь, передай чашечку Кацуно, – приказал Нобуюки.
– Но я должен возвратить чашечку вашей светлости.
– Нет, я выпью после нее. Передай чашечку Кацуно.
У Хатия не осталось выбора, кроме как поступить в соответствии с указанием господина. Итак, он долил саке и предложил чашечку фрейлине, которая, поборов стеснение, взяла ее и едва пригубила.
– Дайте теперь свои чашечки мне.
Нобуюки выпил до дна саке из трех чашек и произнес с коварной усмешкой:
– Я безмерно рад, что вы таким образом обменялись винными чашками помолвки! Ха, ха, ха! Примите мои самые сердечные поздравления!
Молодые влюбленные простерлись ниц в знак глубочайшего признания его покровительства, но в этот момент послышался громкий звон. Этот сигнал тревоги нарушил тишину ночи и заставил прислушаться.
– Что это может быть?! – воскликнул Хатия, раздвигая сёдзи[3], чтобы выглянуть наружу. Все сразу стало ясно: пылающее небо, стремительно разгорающиеся языки пламени и ливень падающих искр наглядно показывали, что чей-то дом объят огнем!
– Пожар, мой господин! И не больше чем в пяти тё[4] за соснами на берегу рва. Я должен идти без промедления!
– Понятно, что начался пожар, – сказал Нобуюки, тоже выглянувший наружу. – Не рядом ли с твоим домом полыхает?
– Позвольте мне вас покинуть, боюсь, что все именно так, как вы говорите!
– Тогда не теряй даром времени! Я сам дам необходимые указания начальнику пожарной охраны.
Поспешно выразив благодарность и попросив прощения у своего господина и Кацуно, Хатия покинул покои сёгуна и со всех ног бросился к своему дому. Мощный ветер поднялся и свистел в ветвях высоких старых сосен; все громче и громче доносился лязгающий звон тревожного колокола.
Его опасения оправдались в полной мере: когда он примчался к своему дому, тот уже был полностью охвачен! Пристройка, где он обычно занимался учебой, к тому времени превратилась в золу, и огонь переместился на главное здание. Деревья в саду тоже полыхали, и ветер разносил по окрестностям тучи сияющих искр, слетающих с их веток. Многочисленные самураи и огнеборцы, вооруженные шлангами и баграми, делали все, что могли, ради обуздания пламени, но в борьбе с мощным пожаром, раздуваемым сильным ветром, их усилия приносили совсем мало пользы. Хатия невольно сделал глубокий вдох отчаяния, но времени на эмоции у него не оставалось. Необходимо было придумать, как проникнуть в горящее здание и спасти, если это только возможно, важные документы и родовые сокровища, а также кое-какие очень ценные подарки, полученные им от своего господина.
Когда он бросился к дому через парадные ворота, из тени большой сосны возникла темная фигура человека, ударившего его мечом в бок. Прежде чем Хатия смог вынуть из ножен свое оружие, злодей нанес ему удар прямо в сердце, и молодой советник сёгуна рухнул на землю без признаков жизни.
Обугленное тело нашего несчастного самурая обнаружили в золе его спаленного дома.
IV
Узнав о смерти Хатия, Нобуюки стиснул от ярости зубы, а Кацуно была вне себя от горя.
Рядом с телом покойного нашли кинжал превосходной работы мастера Масамуне. При одном взгляде Нобуюки все сразу стало ясно, и он удовлетворенно хлопнул себя по бедру: это оружие его старший брат правитель Овари по имени Нобунага подарил старшему брату Ситироемона Гемба Моримаса, служившему советником у этого брата. Кроме Моримаса носить данный кинжал мог только Ситироемон; поэтому Нобуюки, осведомленный об отношениях между двумя своими последователями, прекрасно осознавал, что его любимый советник пал жертвой завистливой злобы человека, который преисполнился зависти к счастливому сопернику. Вдобавок ко всему человек, задержанный по подозрению в ночном поджоге усадьбы Хатия, в ходе сурового допроса признался в том, что на преступление его подстрекал Ситироемон.
При наличии таких полновесных доказательств вины Ситироемона, к нему на дом отправили нескольких судебных исполнителей с задачей арестовать злодея; но коварный негодяй заранее почувствовал грозящую ему опасность и пустился в бега. И только после тщательных поисков его обнаружили скрывавшимся в соседней провинции Мино в замке Инаба, принадлежащем Сайто Досану.
О-Тора-но-Ката исчезла примерно в то же самое время, и поползли слухи, будто бы она теперь находится в особняке Гемба Моримаса.
Наступило седьмое января, и практически весь народ праздновал наступление Нового года. Но праздники совсем не радовали Нобуюки; его все еще занимали мысли о трагической кончине Хатия. Погруженный в грустные размышления, он не заметил, опершись на подлокотник, как вошла Кацуно. Все еще бледная и изнуренная трагедией, она встала перед ним на колени.