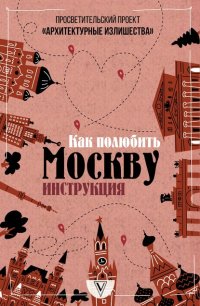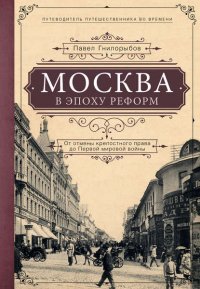
Читать онлайн Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны бесплатно
- Все книги автора: Павел Гнилорыбов
Введение
О, Москва, Москва! – жить и умереть в тебе, белокаменная, есть верх моих желаний. Признаться, брат, – расстаться с Москвою для меня все равно, что расстаться с раем.
В. Г. Белинский, 1833
Москва погубила меня… в ней нечем жить и нечего делать, и нельзя делать, а расстаться с нею – тяжелый опыт.
В. Г. Белинский, конец 1830-х
Н. Я. Агнивцев
- …Эх, Москва, кем хоть раз были хаемы
- С незапамятных дней старины
- Твои калачи с расстегаями,
- Твои пироги да блины!..
- Задирается через бульвары и вывески
- Сухаревки заиндевевший нос…
- А с неба, над часовнею Иверской
- Наклонился Иисус Христос!..
Москва традиционно считается городом, который несколько веков рос стихийно и без предварительного плана. Кривые улочки не имели привычной для нас сплошной линии фасадов, и Москва полностью оправдывала обидное прозвище «большой деревни». Сердцем столицы издавна был Кремль. Он воспринимался как полноценное автономное поселение, а за пределами стен шла своя жизнь – бестолковая, бойкая, торговая. Пространство московского Китая, Белый и Земляной город, заливные луга, сады, бесконечные урочища, избушки, дороги… Москва XV–XVII веков со своим слободским устройством во многом занималась обслуживанием княжеского и царского двора. Дальше шло кольцо монастырей-сторожей, которое верующие люди называли «ожерельем Богородицы».
«Вид Моховой и дома Пашкова в Москве», Жерар Делабарт
Однако внешняя неупорядоченность искупалась особой поэтикой городского пространства. Дадим слово Дон-Аминадо: «Санкт-Петербург пошел от Невского Проспекта, от циркуля, от шахматной доски. Москва возникла на холмах: не строилась по плану, а лепилась. Питер – в длину, а она – в ширину. Росла, упрямилась, квадратов знать не знала, ведать не ведала. Посад к посаду, то вкривь, то вкось, и всё вразвалку, медленно, степенно. От заставы до другой, причудою, зигзагом, кривизной, из переулка в переулок, с заходом в тупички, которых ни в сказке сказать, ни пером описать. Но всё начистоту, на совесть, без всякой примеси, без смеси французского с нижегородским, а так, как Бог на душу положил». Если хорошенько постараться, то за один-единственный день в Москве XIX века мы бы обнаружили и непроходимую рощу, и прохладные пруды, и болота, и пасторальные села, и оживленные торговые улицы. Константин Аксаков с восторгом говорил Ивану Панаеву, когда они прогуливались в районе Москвы-реки близ Дорогомилова: «Есть ли на свете другой город… в котором бы можно было расположиться так просто и свободно, как мы теперь?.. Далеко ли мы от центра города, а между тем мы здесь как будто в деревне». Пассаж о деревне повторяется в произведении Тургенева. В век конных экипажей поездка в противоположную часть города воспринималась как длительное путешествие. В романе «Накануне» отец семейства мучительно доказывает жене, что полная нелепость «…скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцево».
Вид на Замоскворечье. Часть панорамы Д. Индейцева
Но находились же волевые люди и правители, старавшиеся изменить этот издавна заведенный хаос? Да, такие имелись, но вплоть до XIX века Москве удавалось эти попытки успешно игнорировать. Рассмотрим несколько типичных примеров. На заре Московского княжества главным бичом города считались пожары. Порой стихийные бедствия толковались посадской толпой как наказание свыше. В 1493 году очередной «красный петух» уничтожил чуть ли не половину города. Огонь вспыхнул в Замоскворечье и был перенесен ветром в центральную часть столицы. Погибло около 200 человек. Разрушительная сила огня была помножена на эсхатологические настроения москвичей: 1492 год в древнерусском летоисчислении предстал 7000-м годом от сотворения мира. Все дружно ждали конца света и небесных кар за грехи, о чем свидетельствует митрополит Киприан: «Ныне последнее время, и летам скончание приходит и конец веку; бес же весьма рыкает, хотя всех поглотить, по небрежению и лености нашей. Ибо оскудела добродетель, перестала любовь, удалилась простота духовная, и зависть, лукавство и ненависть водворились».
Огонь затронул и княжескую семью. Иван III лично помогал разбирать сгоревшие здания, и вплоть до осенних холодов ему пришлось переехать из пострадавшего Кремля в район сельца Подкопаева. Встревоженный страшными событиями, Иван издает любопытный указ о полной очистке всей территории вокруг Кремля: «Того же лета повеление великого князя Ивана Васильевича церкви сносиша и дворы за Неглимною; и постави меру от стены до дворов сто сажен да девять». Москвичи кряхтели и вздыхали, но выполняли предначертание власти. Цифра в 109 саженей стала не только противопожарной мерой, но и сакральной границей, за которую нельзя переступать. В советский период черта оседлости для неугодных выросла до 100 километров.
Попытки навести порядок в городской среде мы находим и позже. В XVII веке Красная площадь воспринималась обывателями отнюдь не как торжественный плац-парад. Храм Покрова на Рву восхищал иностранцев, сияли на солнце часы Спасской башни, но простые посадские люди спешили на площадь за покупками. Проезды и проходы были заняты мелочными торговцами, предлагавшими квас, сбитень, блины, лубочные картинки. Это вызвало гнев Федора Алексеевича, выпустившего в 1679 году специальный указ: «А которые всяких чинов торговые люди ныне торгуют на Красной площади, и на перекрестках, и в иных неуказанных местах, поставя шалаши, и скамьи, и рундуки, и на веках всякими разными товары: и те шалаши, и скамьи, и рундуки, и веко с тех мест великий государь указал сломать и впредь на тех местах никому, ни с какими товары торговать, чтобы на Красной площади и на перекрестках стеснения не было».
Воробьевы горы и знаменитое наводнение 1908 г.
В XVII веке вносить исправления в столичную стихию взялся будущий император. Петра Великого можно понять – грязно, зловонно, лопухи растут. Да, церквей много, но каков толк от храма, если за пределами своего двора порядок навести не желаешь, дохлые кошки валяются да «иная мертвечина»? При Петре Москва напоминала центральный город только издали: «Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки, – зазывали к себе. За высокими заборами каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей – тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие – на перекрестках – чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусавя, заголяют тело в крови и дряни… Прохожим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то – калач закушу…» Тучи галок над церквушками…» Приказная картина наводит сон. «В сводчатых палатах Дворцового приказа – жара, духота – топор вешай. За длинными столами писцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями. В чернилах – мухи. На губы, на мокрые носы липнут мухи. Дьяк наелся пирогов, сидит на лавке, в дремоте».
Петру не на кого опереться в старом городе. Франц Лефорт умирает, остается Алексашка Меншиков, а у того обе руки вороватые. Император не сдается. Возносится Меншикова башня, радует глаз Сухарева, растут дворцы, заводится театр. Но московская стихия сопротивляется и тянет назад. Петру ничего не остается, как перенести столицу в Петербург, дабы новый город соответствовал монаршему нраву. Всегда легче строить с нуля, нежели исправлять дарованное предками. Москву оставляют в покое, полтора столетия подряд она объедается на масленую и месит дивный калач из патриархального воспитания и университетской образованности.
Только в 1860-е годы, вместе с реформами Александра II, Москва станет истинным городом, кипучим, деятельным, отчасти европейским, но при этом не растеряет национальных русских черт. До начала Первой мировой Провидение отмерило Первопрестольной пятьдесят с небольшим лет. Полвека, от великих реформ до великой войны. В начале XX столетия московский губернатор В. Ф. Джунковский искренне удивлялся скромному размеру городского хозяйства при его предшественниках: «Оригинальный отчет обер-полицеймейстера за 1811 г., когда в Москве числилось каменных домов 2567, деревянных 6584, гимназий 1, театров 1, клубов 2, благородных и купеческих собраний 2, жителей: мужчин 157 152, женщин 113 032; пожаров за год было 68, убийств 6 и самоубийств 32».
При самом Джунковском жителей – почти два миллиона, центр города радует шестиэтажными домами, фабрики и заводы охватили Первопрестольную исполинским многокилометровым кольцом. Эта скромная работа поведает заинтересованному читателю о том, как титанически изменилась Москва на рубеже веков, как протекали процессы урбанизации, как росла, прихорашивалась столица, но при этом не замалчивала текущих проблем и честной бедности. Отправляемся в путь!
I
Перемены стучатся в дверь
Если смотреть на историю российской столицы поверхностно, то рубеж 1830–1840-х годов не назовешь самым интересным периодом в истории города. Общественная жизнь переместилась в салоны и клубы, литературная – в журналы. Все самое интересное происходило «в интерьерах», а не на улице. М. Гершензон, начиная «Историю молодой России», отмечает, что именно в эти годы заработал «ледокол» русской мысли: «Стоит лишь сравнить Чацкого, Онегина, Печорина с любым идеалистом 30-х годов, чтобы оценить всю важность перемены: там, где первые только холодно и высокомерно презирали окружающую среду за ее пошлость и умственное ничтожество, там Станкевич и Белинский болеют сердцем или страстно ненавидят»[1].
«Вовне» значительных событий не происходило, строительство храма Христа Спасителя только начиналось, железная дорога в город еще не пришла. Вряд ли, конечно, репрезентацией московской уличной жизни той поры мы вправе считать известную картину Добужинского «Город в николаевское время», но громкие события будто покинули вторую столицу в период между войной 1812 года и эпохой великих реформ Александра II. Простого обывателя смена генерал-губернаторов и открытие очередной гимназии, очевидно, заботили мало – он жил интересами своей семьи, района, церковного прихода. Мы изучили официальные отчеты московского городского обер-полицмейстера за 1830–1840-е годы, чтобы понять, насколько сильно изменился социальный характер города за это, казалось бы, «потерянное» пятилетие. В 1838 году в Москве проживало 348 562 чел., в 1839 году – 349 068 чел., в 1840 году – 347 224 чел., в 1841 году – 349 167 чел., в 1842 году – 357 185 чел., в 1843 году – 369 912 чел. За пять лет население города увеличилось больше чем на 20 тысяч человек (или на 5,77 %).
Карьеру в 1830–1840 годы предпочитали делать в Петербурге. Число чиновников, несмотря на рост населения, оставалось примерно одинаковым и колебалось в пределах 3–4 тысяч человек. Гражданских служащих в Москве в 1838 году насчитали 3065 чел., в 1839 году – 2923 чел., в 1840 году – 3993 чел. (из них больше тысячи пока не имеют чинов), в 1841 году – 4393 чел., в 1842 году – 4023 чел., в 1843 году – 3431 чел. Значительное число чиновников уже закончили свою службу в «чернильных» учреждениях. Так, в 1843 году отчет фиксирует 3240 отставных гражданских служащих.
Медленно, но верно растет значение купечества. Оно готовится к выходу на историческую арену. В 1838 году в Москве было 10 752 представителя купечества обоего пола, получивших гильдейский документ в Первопрестольной, и 1251 иногородний купец. Купцов первой гильдии на весь город – 734. Основную массу давали купцы третьей гильдии, составлявшие 86,6 % всего проживавшего в городе торгового сословия. В 1839 году в Москве проживает 12 835 купцов обоего пола, в 1840 году – 16 555 чел., в 1841 году – 16 559 чел. Затем идет резкое статистическое сокращение: отчет 1842 года фиксирует только 10 949 лиц купеческого звания. К 1843 году этот показатель подрастет до 12 945 чел. В 1843 году гильдейское купечество составляло лишь 3,5 % населения Москвы.
С некоторыми колебаниями растет число почетных граждан: в 1838 году их было 682 чел., в 1839 году – 762 чел., в 1840 году – 982 чел., в 1841 году – 1040 чел., в 1842 году – 905 чел., в 1843 году – 993 чел. Важную роль в николаевское время играло духовенство. В 1838 году Москву считали своим домом 5154 лица духовного звания (в т. ч. 784 монашествующих и 454 монастырских служителя), в 1840 году – 5632 чел., в 1841 году – 5561 чел., в 1842 году – 4961 чел., в 1843 году – 5179 чел. В 1843 году духовенство составляло 1,4 % населения.
Не сильно колеблется число проживающих в Москве иностранцев. В 1838 году их было 3371, в 1839 году – 4089, в 1840 году – 3830, в 1841 году – 3864, в 1842 году – 3848, в 1843 году – 3853 человека. Значительный процент населения составляют мещане, московские и иногородние. В 1838 году таковых было 57 989 чел., в 1839 году – 55 380 чел., в 1840 году – 63 588 чел., в 1841 году – 63189 чел., в 1842 году – 59 602 чел., в 1843 году – 60 796 чел. Единожды, в отчете 1841 года, мелькает категория «разночинцы». Таковых было 7589 жителей.
Несмотря на явное превосходство относящих себя к православным, растет число представителей других конфессий. В городе действуют католические и лютеранские соборы. Отчет 1839 года фиксирует в городе 115 англикан, 5430 католиков, 3186 лютеран, 296 армяно-григориан, 270 мусульман, 475 иудеев. Из последних 115, как ни странно, являлись нижними чинами московской полиции. Отчет 1843 года говорит о 228 англиканах, 1697 католиках и 469 последователях «реформатского исповедания», 6400 лютеранах, 217 армяно-григорианах, 185 мусульманах и 256 иудеях. В 1839 году инославные верующие составляли лишь 2,9 % населения Москвы. Они, несомненно, делали ее портрет более разнообразным, как в конце XVII века несколько сотен жителей Немецкой слободы стали катализатором проводящихся в Российском государстве реформ.
Художник О. Кадоль запечатлел Горбатый мост в районе Пресни
Несмотря на довольно высокий темп прироста населения, в Москве сохраняется невероятный уровень младенческой смертности. В 1843 году в городе умерло 35 % младенцев мужского пола и 31 % новорожденных женского пола. В том же году «браком сочеталось» 1658 пар. Среди статистических данных о смертности особый интерес представляет раздел «Нечаянно умерло». Обер-полицмейстер отчитывался, что в 1843 году утонуло 11 человек, «найдено всплывших тел» – 7, «от разных ушибов и раздавленных тяжестями» – 20, на пожаре погиб 1 человек, «утонуло в ретирадном месте» – 1, «задохлось от испорченного воздуха в водопроводной канаве» – 1. В Москве в тот год 2 человека погибло от удара молнией. Среди внезапных смертей господствует апоплексический удар (114 человек), а «умерших в домах от обыкновенных болезней» косили чахотка, водянка, «старческое изнурение» и «воспалительная нервная горячка».
В городе практически не осталось пустых участков и следов пожара 1812 года, поэтому строительная деятельность представляется довольно кипучей. В 1843 году в городе «перестроено и вновь выстроено» 149 домов и 452 флигеля, а сломано только 6 домов. В числе «пустопорозжих мест» названы 422, среди них 43 казенных и 226 обывательских. Многие держали землю в городе «про запас», а хаотический спрос на нее начнет расти только в 1870—1880-е годы вместе с настоящей строительной лихорадкой. В 1843 году Москва может похвастаться 58 больницами, при которых работают 162 врача. В городе одно заведение, где лечат минеральными водами, и 39 аптек – 13 казенных и 26 частных.
В общем, довольно архаичный город, весьма однородный, модернизационные процессы еще впереди. А где у нас пресловутое «общество», которое должно двигать машину вперед? Профессоров и учителей – 171. Абсолютно всех медиков – 498, включая 7 дантистов, а большая часть суть повивальные бабки. Нотариусов и маклеров – 33. Музыкантов – 273. Танцовщиков и танцовщиц – 75. Актеров и актрис – 72. Ювелиров – 23. Трубочистов – 89. Полицейских будок – 382. Лошадей – 28 291. Исторических сочинений издано 32, философское – 1 (какое, интересно), юридическое – 1, романов – 14. Собаки покусали 18 человек, кошки покусали 2 человек. Уголовное дело года – 25-летний повар Зарубин отправил доктору Попандопуло четыре письма с требованием положить в определенное место 200 рублей, иначе грозился сжечь дом. Суд назначил ему 30 плетей и отправил в Сибирь на поселение.
ПЕРЕМЕНЫ СТУЧАТСЯ В ДВЕРЬ
«Билло». Рай для иностранцев, рейнские вина льются рекой. Персонал свободно говорит на французском и немецком. Примета времени – кегельбан, лучший в городе! Если вы подданный Австро-Венгрии и приехали в Россию налаживать деловые связи, то вам сюда, на Большую Лубянку. Номера – до 12 рублей.
«Савой». Дорого, буржуазно, но не особенно вычурно. Здание было построено на деньги страхового общества «Саламандра» в 1910-е годы, когда в моду вновь вернулась классика. Пообедать можно в соседней «Альпийской розе».
«Большая Московская». На рубеже веков здание на Воскресенской площади переделали в гостиницу европейского уровня. «Хороший ресторан. Русская и французская кухни. Бильярды. Зал для чтения с русскими и иностранными газетами и журналами. Телефон. Ванны. Омнибусы на все вокзалы железных дорог. Комиссионеры и переводчики для иностранных языков».
«Метрополь». Красоту всегда пытаются ранить. «Метрополю», крупнейшему памятнику модерна, крупно не везло. Сначала обанкротился Савва Мамонтов, стройка почти остановилась, потом в здании произошел крупный пожар. Но в итоге первоклассную гостиницу открыли в 1905 году. Ресторан со стеклянной крышей, крупный кинотеатр, мозаика на фасадах – визитные карточки.
«Большая Сибирская». Гостиницу в районе Маросейки возведут на деньги богатого купца Николая Стахеева. До делового центра Москвы, Китай-города, несколько сотен метров.
«Дрезден». Классическая гостиница на Тверской плошади. Вид на конный памятник генералу Скобелеву и дворец генерал-губернаторов. Здешний комфорт до революции успели оценить Пирогов, Суриков, Тургенев и Чехов. Дерут за номер до 35 рублей.
«Националь». Лучший вид на Кремль. Цена, правда, кусается – верхний потолок составляет 40 рублей. 160 комфортабельных номеров. Идиллия, правда, продлится недолго. Большевики сделали «Националь» 1-м Домом Советов. Самый знаменитый постоялец – Ленин.
«Боярский двор». Место надежное, расположена гостиница прямо за Китайгородской стеной. Высокая архитектура в плюс – строил сам Федор Шехтель. Здраво оцените собственные запросы и приготовьте от трех до пятнадцати рублей.
«Берлин». Место не из вершины списка, но довольно приличное. От скромного здания на Рождественке рукой подать до Сандуновских бань, ресторана Люсьена Оливье и центральных пассажей. Номера – от двух до восьми рублей.
«Деловой двор». Современная, пусть и несколько тяжеловесная гостиница. Инвестор – самый богатый человек в России, Николай Второв.
«Лоскутная». Название ласкает ухо после всех обезличенных «Националей» и «Метрополей». Вот оно, настоящее московское гостеприимство. Телефоны в каждом номере, электричество, мебель работы фабриканта Шмидта.
Меблированные комнаты. Учету практически не поддаются, плодятся с каждым годом. Презрительно именуются «меблирашками», но цена демократична: от 75 копеек до 5 рублей в сутки. Здесь предпочитают останавливаться холостяки со средним и скромным достатком, иногда комнаты снимаются годами. «Меблирашки» популярны и у творческой интеллигенции, газетной братии. Чехов отмечает: «Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют и стерляжьей ухи не едят. Пища их – мед и акриды приготовления Саврасенкова, жилище – меблированные комнаты, способ передвижения – пешее хождение».
II
Шестидесятые и накануне
Н. А. Некрасов
- Волшебный град! Там люди в деле тихи,
- Но говорят, волнуются за двух,
- Там от Кремля, с Арбата и с Плющихи
- Отвсюду веет чисто русский дух;
- Всё взоры веселит, всё сердце умиляет,
- На выспренний настраивает лад —
- Царь-колокол лежит, царь-пушка не стреляет,
- И сорок сороков без умолку гудят.
Е. А. Баратынский
- Век шествует путем своим железным;
- В сердцах корысть, и общая мечта
- Час от часу насущным и полезным
- Отчётливей, бесстыдней занята.
- Исчезнули при свете просвещенья
- Поэзии ребяческие сны,
- И не о ней хлопочут поколенья,
- Промышленным заботам преданы.
«Для путешественника любо, когда он проезжает чистым, веселым городом, в котором можно остановиться в удобной гостинице и поесть хорошо, и потолковать с ловким прислужником о местных достопримечательностях. Такой город непременно покажется ему цветущим в торговом и промышленном отношении, так он его и занесет в свои записки», – иронично замечал А. Н. Островский[2]. На рубеже 1850–1860 годов столица по-прежнему поражала немногочисленных туристов колокольным звоном и обилием золотых маковок. Однако первое впечатление часто разбивалось о кривые улицы, скверные мостовые и прочие пикантности, невидимые издалека. «В ней можно восхищаться лишь тем, что кажется, напр., видом с Кремлевской набережной на Москворечье, но не тем, что есть в ней внутри, ибо внутри грязь и сор и духовные и материальные», – писал о Москве В. Ф. Одоевский.
Потеря столичного статуса отразилась на внутреннем состоянии города. Москву стали воспринимать как тихое место для окончания дней своих, карьеру предпочитали делать в Петербурге. Впрочем, верноподданническая литература нисколько не обижалась: «Повинуясь неисповедимым судьбам Божиим, помня, что и ей били челом когда-то Великий Новгород, Тверь и Владимир, в свою очередь, без ропота склонилась она пред молодым, щеголеватым Петербургом, уступила ему право на главу России, сама же осталась одним сердцем ее»[3]. Аполлон Майков выразил народные настроения стихами:
- Давно цари России новой,
- Оставив стольный град Москвы,
- В равнинах Ингрии суровой
- Разбили лагерь у Невы;
- Но духом ты, Москва, не пала
- И, древнею блестя красой,
- Ты никогда не перестала
- Быть царства нашего душой…
Москва при этом не переставала быть центром российской провинции, о чем пишет географ В. Л. Каганский. Постоянное соперничество двух городов, Москвы и Петербурга, он сравнивает с эстонским феноменом Таллин – Тарту. И. С. Аксаков, кстати, был благодарен Петру за 150-летнюю передышку для родного города: «Тем свободнее могла производиться в Москве работа народного самосознания и очищаться от всех исторических случайностей и всякой исключительности русская мысль. Москве предстоит подвиг завоевать путем мысли и сознания утраченное жизнью и возродить русскую народность в обществе, оторванном от народа. Довольно сказать, что Москва и Русь одно и то же, живут одною жизнью, одним биением сердца, – и этими словами само собою определяется значение Москвы и отношение ее к Петербургу»[4].
Москва будто вырастала из губерний Центральной России и жадно сплетала в один узел все тропы и тракты. Она представлялась городом законченным, самодостаточным, на осмысление которого приходилось потратить не один год. Здесь, в домике на Басманной, совсем отчаялся оторванный от Европы Чаадаев, но и Катков питался в Москве излишними надеждами. Славянофилы в своем неприятии Северной столицы доходили до гротеска: «Первое условие для освобождения в себе пленного чувства народности – возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими».
Пушкин предвидел многие процессы, окончательно взявшие верх во второй половине XIX века. Александр Сергеевич едет по символической дороге из одной столицы в другую, отдавая дань памяти Радищева: «Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы доказывает и другое: обеднение русского дворянства, происшедшее частию от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою… Но Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством».
Старики ценили Москву за обилие садов и зелени, относительно здоровый климат, не идущий в сравнение с петербургским. Общественная жизнь, правда, не радовала разнообразием. Балы и театры посещали только избранные, а простой москвич выбирал между гуляньями, крестным ходом и посиделками в трактире. «…Я, если и не совсем покойница, но решительно похоронена в грязи, соре и запустении того, что смеют звать московской жизнию. Хороша жизнь!.. Стоит смерти, но не имеет ее выгод, – уединения и молчанья!» – возмущалась Евдокия Ростопчина в конце сороковых годов[5].
Иногда одуревающих от скуки горожан развлекал приезд панорамы «знаменитой американской реки Миссисипи» или верблюд с пуделем, играющие в домино на Рождественке[6]. Чахленькие бульвары, сады, улочки летом превращались в сплошной цветущий сад. Д. И. Никифоров сравнивал Москву с большим селом – город в теплый сезон покидали дворяне, крестьяне, студенты, чиновники. Николаевская эпоха как будто остановила время: «Вставали на восходе, ложились на закате. Движение было только в городе, да на больших улицах, и то не на всех, а в захолустьях, особенно в будни, целый день ни пешего, ни проезжего. Ворота заперты, окна закрыты, занавески спущены. Что-то таинственное представляло из себя захолустье. Огромная улица охранялась одним будочником. Днем он сидел на пороге своей будки, тер табак, а ночью постукивал в чугунную доску и по временам кричал во всю глотку на всю улицу: «По-сма-три-вай!..» Хотя некому было посматривать и не на что: пусто и темно, только купеческие псы заливались, раздражаемые его криком»[7].
Но тут, на беду для старичков и на счастье для молодых, скончался Николай. «Реформы!.. Сперва – воля крестьянам, потом – воля вину, затем – начатки самоуправления: хочешь – чини мосты, хочешь – нет, хочешь – на пароме переезжай, хочешь – вплавь переправляйся! – и, наконец, открытые настежь двери в суды: придите и судитесь, сколько вместить можете!»[8] Салтыков-Щедрин перечисляет вехи великих реформ: отмену крепостничества и системы откупов, появление земств, гласного и состязательного суда.
Декабрист Александр Беляев вспоминает свою встречу с Москвой как раз на пороге великих реформ: «В первый раз я ее видел 10-летним мальчиком, когда мы, ехавши в Петербург, остановились в ней с князем Долгоруковым, в 1813 году, на другой год ее наполеоновского разгрома, чисто русской жертвы всесожжения, и потому у меня в памяти были одни развалины, торчащие трубы и растрескавшиеся стены домов, а проезжая ее, ехавши в отпуск, мы только останавливались на станции и, переменив лошадей, ехали дальше, и потому теперь она представилась мне уже в новом виде, фениксом, из пепла возрожденным».
Первые годы царствования Александра II заставили Москву встряхнуться после продолжительной николаевской эпохи, когда общественная жизнь переместилась в салоны. Освобождение крестьян дало стране миллионы рабочих рук. Бывшие земледельцы приходили в город на заработки и подстегивали начинавшийся процесс урбанизации: если с 1830 по 1864 год население Москвы увеличилось лишь на 60 тысяч человек, то всего за семь лет, с 1864 по 1871 год, прирост составил 238 тысяч человек (с 363 до 602 тысяч жителей).
Конечно, столичные окраины еще долго сохраняли налет «большой деревни», но решительный шаг навстречу преобразованиям Москва сделала именно в 1860-е годы. Да и что такое Европа в понимании простого москвича? Е. П. Ростопчина упоминала беседы о Европе, «…о которой здесь хотя и имеют некоторые понятия, но вообще очень сбивчивые и неопределенные; иные представляют ее себе в виде ресторации, где бессменно подаются и пожираются лучшего сорта трюфли и паштеты; для других она – сераль продажных баядерок; для дам – модный магазейн; для Хомякова и его шумливых, нечесаных, немытых приверженцев – бедный заграничный мир, только сцена, на которую они поглядывают спокойно с своего тепленького местечка, зеваючи или припеваючи, как кому случится…»
Первый вокзал столицы, Николаевский
Москву из русского человека не вытравить. Интересно, что даже в 1860-е годы современники принимали стареющего Герцена за типичного москвича, сохранившего за границей все характерные черты жителя Первопрестольной: «На всем моем долгом веку я не встречал русского эмигранта, который по прошествии более двадцати лет жизни на чужбине… остался бы столь ярким образцом московской интеллигенции 30-х годов на барско-бытовой почве. Стоило вам, встретившись с ним… поговорить десять минут или только видеть и слышать его со стороны, чтобы Москва его эпохи так и заиграла перед вашим умственным взором. Вся посадка тела и головы, мимика лица, движения, а главное – голос, манера говорить, вся музыка его интонаций – все это осталось нетронутым среди переживаний долгого заграничного скитальчества…»
Гравюра И.Н. Павлова из серии «Уходящая Москва», изображающая дом Леонтьевых в Гранатном переулке
Столица шестидесятых! Обывательские дома тянулись до горизонта, изредка их единообразие прерывалось заколоченными и обветшалыми особняками времен Екатерины. Сплошная застройка чередовалась с пустырями и огромными, поросшими травой площадями. Улицы в Замоскворечье, одном из самых консервативных и дальних районов, продолжали поражать случайных путешественников пустынностью и отсутствием людей: «К десяти часам вечера огни в домах почти везде бывают погашены, и по широким улицам властительно царствует мучительный стук дворницких колотушек и лай полканов и барбосов. В одиннадцать часов редко встретится какой-нибудь запоздалый прохожий или протрясется ванька, а в двенадцать можно быть уверену, что не встретишь никого. Только тусклые фонари уныло мигают друг другу, как будто говоря: и нам бы на боковую пора!»[9] Жители Первопрестольной говорили, что когда на Арбате и Пречистенке просыпаются, Замоскворечье только отходит ко сну.
Путеводитель 1865 года издания также отмечает своеобразие отдаленного района: «Замоскворечье… уже теряет характер столицы; в нем мало жизни, движения; тут много деревянных зданий, мало общественных учреждений. Это другой город, похожий более на губернский или хороший уездный…»[10] Купечество долго держало закрытыми сословные перегородки, а ко всякого рода нововведениям, касавшимся быта, относилось недоверчиво. Проветривать комнаты считалось негигиеничным, особняк отапливали до седьмого пота и одурения, а для некоторой свежести бесконечно курили «смолку» или клали раскаленный кирпич в ушат с мятной водой.
Несомненно, «вечно кипящая жизнею Тверская улица, боярская Пречистенка и нарядный Кузнецкий Мост с его заманчивыми французско-русскими вывесками» шли заметно впереди. Иностранные магазины еще не делились по специальностям и торговали всем подряд, от изысканных вин до женской пудры. Вывески снабжались обязательными рисунками или пиктограммами для неграмотных: булочные шли в комплекте с калачом, цирюльни и парикмахерские – с банкой пиявок. На здании одной пивной была намалевана бутылка с вылетевшей пробкой. Надпись рядом гласила: «Эко пиво!» Знаменитый трактир Воронина в Охотном Ряду узнавали по птице с блином в клюве и тексту: «Здесь Воронины блины».
В центре шла насыщенная уличная жизнь. Бытописатель 1840-х годов Иван Кокорев подробно описывает торговлю вразнос в Охотном Ряду. Московские лоточники предлагали горячие блины, сбитень, сдобренный кипятком, белые баранки, гречневики, гороховый кисель с маслом, жареный мак. Особенно славились парни из-под Ярославля, начинавшие с мелочной торговли, а заканчивавшие жизнь с собственными трактирами и доходными домами.
Уличное движение 1860-х годов
Такой услужливый брюнет будет кланяться всякому прохожему, одного назовет «почтеннейшим», другого «добрым молодцем». Ласковое слово и кошке приятно! Продавец блинов так нахваливает свой товар, что вокруг через несколько минут соберется толпа, жадная до песен и прибауток. Разносчики обычно предлагали свой товар в людных местах – возле бань, мостов, рынков, вокзалов.
В постные дни продавали гороховый кисель. Его обильно поливали маслом и резали щедрыми ломтями. Когда на календаре стояли скоромные дни, появлялся овсяный кисель. Другой своеобразный московский «фастфуд» – гречневики или «гречники». Они были похожи на толстые пирамидки из крупы. Их разрезали пополам и посыпали приправами. Продавец горячего напитка, сбитня, обычно давал каждому клиенту в качестве бесплатного бонуса изрядный кусок калача. Как приятно есть горячую закуску в морозный день!
Очень часто услугами разносчиков пользовались озябшие извозчики, которые в ожидании клиентов грелись вокруг костров или металлических бочек. Еще в середине XIX века в Москве встречались необычные «вывески», когда булочник подвешивал к своему окошку только что испеченные калачи. У сытных белых булок полагалось выбрасывать «ручку» из тонкого теста – ее подбирали нищие или обгрызали бродячие собаки. Дело в том, что калач обычно держали за нижнюю часть представители грязных профессий. Они не могли помыть свои ладони перед трапезой. Выражение «дойти до ручки» напрямую связано с калачами – насколько же человек опустился, если вынужден кусочки хлеба подбирать?
«Калашни» начинали работать рано утром, чтобы любой студент или мастеровой мог позавтракать свежим хлебом. Калачи и булки в симметричном порядке укладывали на длинные лотки. Московскую снедь доставляли на специальных санях и к императорскому столу в Петербурге – замороженные калачи постепенно оттаивали в горячих полотенцах.
Купцы могли заказать себе горшок щей, не выходя из лавки. Специальные повара носили завернутые в одеяло огромные сосуды с первым блюдом. В корзинке торговцы держали отдельные миски, столовые приборы, хлеб. Порция горячего стоила 10 копеек. Купец обедал и оставлял посуду на полу. После трапезы повар вновь проходил по рядам, собирал пустые тарелки и протирал их тряпкой.
Разносчики сновали по рядам со скоростью кометы. Петр Вистенгоф жаловался: «Вдруг неожиданно пролетит мимо вас, как угорелый, верзило с большим лотком на голове и отрывисто прокричит что-то во все горло… Я, сколько ни бился, никак не мог разобрать, что эти люди кричат, а как товар покрыт сальною тряпкою, то отгадать не было никакой возможности… От купцов уже узнал я, что это ноги бараньи, или «свежа-баранина», разносимая для их завтрака». У женщин с удовольствием покупали блины. Редкие залетные финны торговали крендельками из Выборга.
Да, еще кутили последние чудаки и оригиналы, принимал суеверных просителей Иван Яковлевич Корейша. Дмитрий Никифоров с типичными для старого москвича воздыханиями в начале XX века вспоминал пышные приемы 1860-х годов: «Не то теперь! Прежний танцевальный вечер на 70 или 100 человек обходился от 150 до 200 рублей. Теперь нельзя обернуться в 3000 и 5000 руб. Во-первых, заведено устраивать непременно буфет с глыбами льда и замороженным шампанским, которое и молодежь и старики истребляют с начала до конца вечера… В старину, когда шампанское продавалось 3 рубля бутылка, его подавали только за ужином, а теперь, когда цена его более чем удвоилась, его пьют не переставая в течение всей ночи… В старое доброе время ужины готовили свои повара из привезенной своей деревенской провизии… Туалеты барышень были проще и почти всегда без кричащих нынешних отделок»[11].
К.Т. Солдатенков, один из самых успешных предпринимателей Москвы XIX века
Общественная атмосфера отличалась вольностью и непринужденностью: «Зима 1857/58 года была в Москве до крайности оживлена. Такого исполненного жизни, надежд и опасений времени никогда прежде не бывало… В обществе, даже в салонах и клубах только и был разговор об одном предмете – о начале для России эры благих преобразований, по мнению одних, и всяких злополучий, по мнению других; и московские вечера, обыкновенно скучные и бессодержательные, превратились в беседы, словно нарочно созванные для обсуждения вопроса об освобождении крепостных людей. Одним словом, добрая старушка Москва превратилась чуть-чуть не в настоящий парламент»[12]. Москвичи много веселились в конце 1850-х годов – давал знать о себе хороший урожай, в имениях еще не перевелись жирные гуси и поросята.
Д. И. Никифоров утверждает, что приемы были чрезвычайно скромными. В начале вечера гостей угощали чаем, конфетами, лимонадом, потом следовал ужин из трех блюд, все получали по бокалу шампанского и отправлялись танцевать. Сословия веселились пока еще раздельно: «В конце пятидесятых годов… московское купеческое общество только что начинало стремиться войти в общение с образованным московским дворянским обществом. На купеческих балах понемногу начала появляться дворянская молодежь…»
Еще слушали старичков, начинающих длинные рассказы о пожаре или о днях Александра Благословенного. Собирался и шумел Английский клуб, но ничто уже не напоминало о временах золотого века: «Понемногу, по оскудению средств дворянства, число членов уменьшалось постепенно и из 600 членов и 100 временных посетителей обратилось в 200 человек, да и то туда попали лица, в прежнее время не мечтавшие и прогуляться по залам в качестве гостя». Евдокия Ростопчина, отошедшая на тот свет в конце 1850-х, писала о постепенной утрате дворянством своих позиций:
- Но жизни нет! Она мертва,
- Первопрестольная Москва!
- С домов боярских герб старинный
- Пропал, исчез, и с каждым днем
- Расчетливым покупщиком
- В слепом неведеньи, невинно
- Стираются следы веков,
- Следы событий позабытых,
- Следы вельможей знаменитых,
- Обычай, нравы, дух отцов…
Сокрушаться по ушедшим временам свойственно представителям каждой эпохи, но переход от николаевского царствования к александровскому сопровождался в Москве сильными социальными потрясениями: «В 50-х годах Е. П. Янькова, урожденная Римская-Корсакова, помнившая чуть ли не пять поколений, с горечью смотрит на московское дворянство: живут в меблированных комнатах, по городу рыщут на извозчиках, едва наберешь десятка два по всей Москве карет с гербом, четверней… «Поднял бы наших стариков, дал бы им посмотреть на Москву, они ахнули бы, на что она стала похожа!»[13]
Уходило в небытие то самое барство, наполнявшее столицу вскоре после Рождества и тратившее налево и направо доходы от имений. После освобождения крестьян многие дворяне кинулись перестраивать хозяйство, заводили сельскохозяйственные машины, затыкали дыры в семейном бюджете. Не сразу откажешься от вырабатывавшейся столетиями привычки жить на широкую ногу! «Московское дворянское общество сильно редело. Многие уехали жить в чужие края, думая тем сократить расходы, живя в дешевых меблированных комнатах; другие поместились в губернских городах, третьи бросились искать какой-нибудь службы. Так все оторвались от своих насиженных гнезд, но не имея руководящей нити, как безрульный корабль погибли в пучине общественной жизни», – сокрушается Д. И. Никифоров, описывая реалии конца 1860-х годов.
Дворянин оставался дворянином, пока служил или делал вид, что служит. А когда у твоего дома отняли фундамент, что остается делать? М. Е. Салтыков-Щедрин писал о резком изменении общественного устройства в пореформенные годы: «Вообще судьба этих людей представляет изрядную загадку: никто не следил за их исчезновением, никто не помнит о них, не знает, что с ними сталось. Такого-то видели в Москве – «совсем обносился»; такого-то встретили на железной дороге – в кондукторах служит. А большинство совсем как в воду кануло. Во всяком случае, эта помещичья разновидность встречается в настоящее время как редкое исключение. Ее заменил разночинец, который хозяйствует на свой образец»[14]. Куда же делись дворяне? Они «…разделили выкупную ссуду по равной части между трактирами: московским, новотроицким и саратовским. То была последняя вспышка доказать, что представление о «славе» еще не умерло, но сколько было по этому случаю выпито водки – про то знает только грудь да подоплёка!»
А ведь еще в конце пятидесятых у всех московских дворян была, как правило, крепостная прислуга и ежемесячные оказии из деревни – длинными караванами шли в столицу соленья, варенья, наливки, настойки… А. Ф. Писемский в начале шестидесятых лежал на диване, страдал животом и попивал минеральную воду, жалуясь окружающим: «Ох, батюшка!.. Уходил себя дикой козой! Увидал я ее в лавке у Каменного моста… Три дня приставал к моей Катерине Павловне (имя жены его): «Сделай ты мне из нее окорочок буженины и вели подать под сливочным соусом». Вот и отдуваюсь теперь!»
Дворянин, дворянин, где же ты? Москва потеряла своих вельмож и чудаков не разом. Еще Пушкин писал о намечавшемся упадке: «Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей в месяц за квартиру; великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона – и то слава богу! На всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты; барышни бегут к окошкам, когда едет один из полицмейстеров со своими казаками. Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свиблова и Останкина; плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями. Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале, оставленной после последнего представления французской комедии. Барский дом дряхлеет. Во флигеле живет немец-управитель и хлопочет о проволочном заводе». Оскудение дворянства началось не сразу, но аристократы старались искусственно продлить золотой век. Итог мы видим на картине В. Максимова «Все в прошлом».
Одновременно с увеличением численности населения начинается многоэтажная застройка центра столицы. Если в дореформенное время ведущим типом жилья оставалась усадьба, а приезжим сдавались преимущественно флигели и мезонины, то с 1860-х годов горожане начинают ценить удобство и прелесть отдельных квартир. «Москва усадебная, живущая за счет пензенских и тамбовских душ, быстро преобразуется в Москву капиталистическую. На сцену выступает новый могущественный класс, успевший в тиши патриархальных лабазов накопить огромную экономическую силу… Приобщенное к гражданским правам и демократизованному образованию, бывшее темное царство формируется в городскую промышленную буржуазию в европейском значении этого слова»[15]. Купцы терпели гоголевского городничего, кланялись, давали взятки, но в итоге дождались собственного выхода на историческую арену. «Кубышки» их стремительно росли. М. П. Рябушинский в 1858 году владел 2 миллионами рублей, Прохоровы на исходе сороковых годов хвастались тремя миллионами. Сколотивший состояние на винных откупах В. А. Кокорев в 1861 году отчитывался о состоянии в 7,3 миллиона рублей[16].
П. Бурышкин в популярном труде «Москва купеческая» исследует русскую литературу XIX века и приходит к выводу, что положительный образ торговца и предпринимателя в ней практически не представлен. Купечеству только предстояло завоевать себе место под солнцем. «На купца смотрели не то чтобы с презрением, а так, как-то чудно. Где, дескать, тебе до нас! Такой же ты мужик, как и все, только вот синий сюртук носишь, да и пообтесался немного между господами, а посадить обедать с собою вместе все-таки нельзя – в салфетку сморкаешься», – отмечал публицист Сергей Терпигорев (Атава).
Реформы, особенно великие, всегда бьют по сознанию граждан. Сложнейший комплекс проблем, связанный с модернизацией страны, в Москве оказался помножен на процессы урбанизации, становления капитализма и развития экономики. Усиливается приток «чужаков», носителей абсолютно иной, сельской ментальности.
Старый горожанин путается в новых реалиях, не всегда чувствует себя комфортно. В 1860-е годы начинается не только перестройка Москвы по новым образцам, но и трансформация личности обывателя. В городском пространстве у человека больше свободного времени, характер здесь формируется позже, значительной части людей даже в зрелом возрасте присущ инфантилизм.
Сельские реалии гораздо жестче: в деревне нужно вгрызаться в почву и требовать от скудной русской земли справедливого вознаграждения. В патриархальной культуре села гораздо меньше места отводится развлечениям. Кусок хлеба в городе заработать легче, хотя процент выброшенных на обочину высок.
Александр II вторит пушкинским строкам и начинает изменения сверху: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». «Городовое положение» реорганизовало Московскую думу, ставшую бессословным органом. Исполнителем думских решений была городская управа. В 1863 году отменили публичные наказания и жестокое клеймение преступников. Через два года не стало предварительной цензуры в печати. «Давно ли газетного шута и доносчика Булгарина Леонтий Васильевич Дубельт драл, как школьника, за уши? Крутой переход ко вниманию, поощрению и исканию помощи в литературных деятелях был и достаточно неожиданным, и казался знаменательным после того, как по делу Петрашевского поплатились ссылкою несколько человек, заявивших свои имена в печати, после того, как И. С. Тургенев успел посидеть в Москве в арестантской Пречистенской части»[17].
Многие москвичи, воспользовавшись послаблениями, устремились за пределы отечества: «За границу» кинулись к 60-м годам все, кто только мог. Рухнули николаевские порядки, когда паспорт стоил пятьсот рублей, да и с таким неслыханным побором вас могли – и очень! – не пустить. Теперь это сделалось банально… Но сколько же тронулось тогда всякого шляющегося народа! Выкупные свидетельства после 1861 года зудели в руках дворян-помещиков. Где же легче, быстрее и приятнее можно было их спустить, как не за границей…»[18]
Дмитрий Никифоров вспоминает становление отечественного капитализма: «Москва бросилась на спекуляции; все мечтали об учреждении разных банков, постройке железных дорог… Всех поразило неожиданное богатство, свалившееся на двух железнодорожников: Дервиза и фон Мекка». В аферах с железными дорогами активно участвовали Губонины и Поляковы. П.Г. фон Дервиз оставил своим наследникам акции, каждый год дававшие около трех миллионов рублей. «Средним числом концессии выдавались по такой цене за версту, что в карман входило около пятидесяти тысяч рублей за каждую версту… Ну, а пятьсот-шестьсот верст концессии – это, кроме процентов дохода, составляло «маленькие» капиталы в двадцать пять – тридцать миллионов рублей в виде запасов на «черные дни», – отмечал князь Мещерский[19]. Огромные выкупные суммы были выброшены на рынок и сразу попали в руки предприимчивых дельцов. Деловая горячка, переходящая в раж!
Московских обывателей охватывает коммерческое сознание, они начинают понимать, что каждый кусок земли, особенно в центре, имеет немаленькую цену. Показательна сценка, описанная в романе А. Ф. Писемского «Мещане»: «Бегушев, как мы знаем, имел свой дом, который в целом околотке оставался единственный в том виде, каким был лет двадцать назад. Он был деревянный, с мезонином; выкрашен был серою краскою и отличался только необыкновенною соразмерностью всех частей своих. Сзади дома были службы и огромный сад»[20]. Героя всячески убеждали сделать дом немного современнее: «Его надобно иначе расположить, надстроить, выщекатурить, украсить этими прекрасными фронтонами». Бегушев блюл дедовскую старину и возмущался: «Это не фронтоны-с, а коровьи соски, которыми изукрасилась ваша Москва!» Далее следует долгий спор, посвященный судьбе земельного участка: «… Это варварство в столице оставлять десятины две земли в такой непроизводительной форме, как сад ваш». Герой в типичной для того времени форме отказывается пускать землю в коммерческий оборот: «Я дворянский сын-с, – мое дело конем воевать, а не торгом торговать… Чтобы тут какой-нибудь каналья на рубль капитала наживал полтину процента, – никогда!»
Уже с середины 1870-х годов путеводители сулят Москве достаточно быстрое развитие: «Это рост, напоминающий собой рост американских городов. В этом факте и залог и признак огромной будущности нашего родного города»[21]. В 1865 году ямщики, расселенные в районе Бутырской слободы и современной Долгоруковской улицы, продавали ее немыслимо дешево – по рублю или два за квадратную сажень[22]. Исследователи предвидели промышленный бум и строительную лихорадку в центре. Да, отмечают они, в Замоскворечье еще заметны допетровские порядки, однако «купеческие сынки… ходят в модных пиджаках, лиловых перчатках, пьют шампанское, бросают деньги камелиям, но дома еще подвергаются временным внушениям своих тятенек. Впрочем, в самое последнее время, так называемый город (Китай-город. – Прим. авт.) стал перестраиваться, и некоторые мечтают, что он сделается русским Сити». Именно так впоследствии и произошло – к 1880-м годам Китай-город закрепил за собой статус финансового и делового квартала, хотя размах торговли оспаривался ближайшими артериями, прежде всего Петровкой, Мясницкой и Кузнецким Мостом. Рады и архитекторы – появился массовый спрос на их труд. Спрос, конечно, существовал и раньше, но главный заказчик в империи был только один – Высочайший.
Заправилы Китай-города все реже стригутся в скобку, меняют кафтан времен Ивана Грозного на европейскую одежду. «Темное царство» пятидесятых-шестидесятых выдвигает вперед Козьму Солдатенкова и Василия Кокорева. Правда, о последнем отзывались весьма нелестно: мол, и подкуп для него наипервейшее средство достижения целей, и нравственность он в грош не ставит, и веры ему давать не следует. Деньги легко кружили голову.
Хрестоматийным стал случай из московской светской хроники XIX века. Купцы, видя, что бумажки и золото решают многое, если не все, купили у клоуна Танти знаменитую ученую свинью за 2000 рублей и съели ее (впрочем, некоторые считают, что это лишь легенда).
Костюм по-прежнему является важным социальным маркером. На Руси всегда встречали по одежке, хоть и провожали по уму. В. П. Рябушинский не без горести отмечал: «Начитанный, богатый купец-старообрядец с бородой и в русском длиннополом платье, талантливый промышленник-хозяин для сотен, иногда тысяч, человек рабочего люда и в то же время знаток русского искусства, археолог, собиратель русских икон, книг, рукописей, разбирающийся в исторических и политических вопросах, любящий свое дело, но полный и духовных запросов, такой человек был «мужик», а мелкий канцелярист, выбритый, в западном камзоле, схвативший кое-какие верхушки образования, в сущности малокультурный, мужика глубоко презирающий, один из предков грядущего русского интеллигента, – это уже «барин».
В то десятилетие столица получает новые культурные учреждения. В 1861 году из Петербурга в Москву переводят Румянцевский музей. Приветствуя это решение, Владимир Одоевский писал: «Мое главное дело сделано: Музеум обезопасен от верной и неминуемой гибели. А со мною, что будет, то будет; авось не останется втуне моя 16-летняя должность верной собаки при Музеуме. Хотелось бы мне в Москву – нет при нашей скудности никакой возможности жить долее в Петербурге»[23]. Наследие Николая Румянцева в Москве слили с зоологической коллекцией университета. Румянцевский музей получил в пользование прекрасное здание дома П. Е. Пашкова, выстроенное, вероятно, В. И. Баженовым в 1784–1786 годах. С 1830-х годов великолепный особняк пребывал в запустении: «Окна забиты были досками, сад беспорядочно зарос травою, редкие птицы исчезли»[24]. Музей вернул памятнику классицизма былую славу. Новое учреждение разделили на три отдела, в том числе живописный и гравюрный.
Н. П. Румянцев спонсировал первое русское кругосветное путешествие на шлюпах «Нева» и «Надежда», поэтому бумаги и собрания Крузенштерна с Лисянским заняли достойное место в его коллекции. Александр II подарил музею 200 картин из коллекции Эрмитажа, отдел живописи был пополнен картинами собирателя Прянишникова. В 1863 году в доме Пашкова открылась публичная библиотека. Храм наук посещали и убеленные сединами профессора, и молодые студенты. «Это великолепное заморское здание, эта тишина книгохранилищ!.. Рядом сидит странный старик над фолиантами в пергаментных переплетах; там – барышня делает выписки; поодаль гимназист переводит Тита Ливия с подстрочником. Мне приходилось получать французские книги с выцветшей надписью: «Из библиотеки гр. Вильегорского», и мне казалось, что я вступаю в личные сношения с московскими кружками 30-х, 40-х годов…»[25]
В 1865 году была основана Петровская земледельческая и лесная академия, готовившая специалистов для аграрной сферы и сельского хозяйства. Устав нового учебного заведения сочли необыкновенно либеральным: в студенты мог поступить любой человек, образовательного ценза не существовало! Более того, профессора допускали на лекции случайных посетителей, заплативших по 16 копеек за каждое занятие курса. Иногда преподаватели разрешали первые три лекции прослушать бесплатно. «Все надежды, оживлявшие интеллигенцию освободительного периода, отразились в этом уставе, нашли в нем свое выражение. Свобода изучения и вера в молодые силы обновляющейся страны – таковы были основания устава»[26].
В первые годы постоянными слушателями двух отделений числились около 400 человек. Курс был рассчитан на три года, но выпускные экзамены студенты могли сдавать когда угодно, предварительно договорившись с профессором. Правда, излишний либерализм имел и обратную, неприглядную сторону – в академию поступали не одолевшие даже гимназических классов, отчисленные из университета дворянские сынки.
Главное здание Петровской академии, возведенное в 1860-е годы
Со временем появилась своя метеорологическая станция, площадки для испытания сельскохозяйственных машин. Здание академии тонуло в садах и цветниках. Академический городок раскинулся за пределами столицы, местность вокруг Петровско-Разумовского тогда казалась относительно пустынной. В. Г. Короленко, учившийся здесь в середине 1870-х годов, подробно описывает свой путь в город: «От академии ведет к Москве шоссированная дорога. Начинаясь тотчас за последним академическим зданием, она стрелой пробегает между двух стен густой еловой и сосновой рощи. За четверть версты от академии начинались дачи, разбросанные кое-где по сторонам дороги. Еще версты через две выглядывал из веселого березняка последний домик, окна которого светили в темные ночи на обширный пустырь». Еще одной тропкой в столичное предместье можно было выйти со стороны Бутырок: «Поздним вечером или глухою ночью этой тропой рисковали ходить только совсем беспечные люди: загулявший мастеровой, которому море по колена, студент, возвращающийся с затянувшейся в Москве сходки… Еще поворот – и счастливый путник вступал в Бутырки, которые, впрочем, пользовались также сомнительною репутацией»[27].
Короленко впоследствии писал, что не отличался особенным усердием в учебе, но мир животных и растений всегда казался ему притягательным. Будущий литератор квартировал в «Ололыкинских номерах», меблированных комнатах, открытых крестьянином Ололыкиным в 1867 году в районе современной Большой Академической улицы: «Это было довольно дряхлое здание, стены которого как будто навсегда пропахли табаком и пивом… Акустика была такая, что слово, сказанное громко в одной комнате, отдавалось всюду».
В 2016 году литературный и научный мир отмечает 500-летие «Утопии» Томаса Мора, одного из важнейших произведений гуманистической направленности. «Утопия» оказала грандиозное влияние на мыслителей XVI–XIX веков. В мире неоднократно пытались строить утопические города, например, Бразилиа, новую столицу латиноамериканской страны. Но то, что с треском проваливалось либо становилось уделом узкого кружка интеллектуалов, неожиданно воплотилось в жизнь на севере Москвы. Почему, спросите вы?
Во-первых, Петровская академия находилась слишком далеко от города, чтобы соблазны разгульной столицы влияли на ее студентов. В состав Москвы земли будущей Тимирязевской академии войдут только в 1917 году. Да, студенты нередко наведывались в город, но проще было организовать «пикник» на своей территории. Похожую заботу о царскосельских воспитанниках проявил Александр I, он разместил Лицей не в самом центре Петербурга.
Во-вторых, относительно свободная от застройки местность позволяла воплотить здесь какой угодно, самый фантастический план. Топонимическая составляющая была настолько пустой, что дала нам феноменальный проезд Соломенной Сторожки, по сути, имя небольшого домика.
В-третьих, даже самые заурядные строения в районе Петровской академии порождали личностей мирового масштаба – например, гениальный архитектор Константин Мельников появился на свет как раз в той самой соломенной сторожке, которой нужно посвящать элегии, песни и монографии.
В-четвертых, жители Тимирязевской Утопии действительно чувствовали себя гражданами, а не подданными – как во время студенческих волнений XIX века, так и во время попытки покуситься на их земли в современную эпоху.
В-пятых, город-утопия должен воплощать в жизнь регулярный, в меру композиционный метод укрощения пространства. Здешние окрестности, конечно, не Петербург, но будут «полинейнее» остальной Москвы. Строгая Лиственничная аллея является ниткой, на которую нанизаны жемчужины зодчества.
В 1860-е годы видный архитектор Н. Л. Бенуа, как раз явившийся посланцем Петербурга, строит поразительное здание на месте бывшего усадебного дома Разумовских, на самый верх которого «сажает» башню с часами. Получилась типично европейская ратуша, вокруг которой возник – нет! – не римский форум, а вполне симпатичное московское пространство в духе давно испустившей дух Собачьей площадки. Приемами «города-сада» и наметившейся в 1920-е годы дискуссии о дезурбанизации явно пользовался и Борис Иофан, строивший здесь общежития в советскую эпоху.
В-шестых, самые знаменитые жители утопического города всегда находят покой там, где и стяжали свою славу. Как мы знаем, А. М. Дмитриев, А. Ф. Фортунатов, Г. М. Турский, М. И. Кантор, Н. В. Вильямс, Н. С. Нестеров, много сделавшие для родного учебного заведения, похоронены в Тимирязевском лесу.
В-седьмых, жители утопического города не страдают короткой памятью и ревностно охраняют свое прошлое. Да, сейчас его не сразу разглядишь за многоэтажными домами. Но здесь по-прежнему шепотом рассказывают об убийстве нечаевцами студента Ивана Иванова, с интересом заглядывают в деревянные дома бывшей Петровской академии, горюют о погибшей в советское время церкви из усадьбы Петровско-Разумовское. Утопия тем и хороша, что своей традицией, пусть и 150-летней, сможет задавить любое чужое влияние на ее территорию.
В 1866 году была открыта Московская консерватория, возникшая на основе музыкальных классов композитора Н. Г. Рубинштейна. Для нового учебного заведения сняли дом на Воздвиженке. Обучение пению занимало пять лет, курс игры на музыкальных инструментах – шесть. В первый год работы консерватории не хватало студентов на отделении духовых инструментов. Пришлось дать объявление в газету «Московские ведомости». От вновь поступающих не требовалось никакого начального музыкального образования, только достойные природные данные.
В студенты принимали всех, кто достиг четырнадцатилетнего возраста, мог читать, писать и знал нотную грамоту. Плата за обучение в 1870-е годы составляла 100–200 рублей в год. Как-то морозной зимой, проходя после бессонной ночи по улице, Николай Рубинштейн увидел одного из своих студентов в прохудившемся пальтишке. Могучий композитор немедленно схватил юнца за край одежды: «Как ты смеешь, мальчишка, в таком пальто зимой ходить?» В ответ на заикающиеся фразы о бедности Рубинштейн закричал: «Молчать! Не отговорка! Как ты смел не сказать? Как смел не сказать, что у тебя нет теплого пальто? Мне? Твоему директору? Николаю Рубинштейну? Скрывать? От меня скрывать?.. На! И чтоб завтра у тебя было пальто!» Широким движением руки он вынул из кармана груду бумажек и отдал студенту. А купюр там оказалось… 350 рублей!
В стране остро ощущалась нехватка собственных квалифицированных инженерных кадров. Со времен Александра I число фабрик и заводов в империи увеличилось с 5 до 14 тысяч! «Неужели в Европе останемся одни только мы, которые не захотим учредить у себя высшего технического образования? Россия нуждается в настоящее время в ученых техниках, которые могли бы развить нашу промышленную деятельность», – писал ученый-математик Александр Ершов. В 1868 году начало свою деятельность Императорское Московское техническое училище, в наши дни принимающее студентов в статусе МГТУ им. Н. Э. Баумана. Учебное заведение занимало Слободской дворец на берегу Яузы, одно из самых внушительных строений в городе.
Как выглядели московские улицы в описываемый период? Состояние общественных пространств, конечно, оставляло желать лучшего. В. Ф. Одоевский в 1866 году возмущался заведенным в Москве порядком ставить повозки не вдоль тротуара, а поперек, перегораживая движение. «Последствия такого невероятного обычая очевидны. Узкое пространство, остающееся между стоящими поперек возами, недостаточно для свободного сообщения; едва и обыкновенные экипажи, встречаясь, могут разъехаться. Но совершенное бедствие, если навстречу попадутся тяжелые возы или, что еще хуже, порожняки, которые навеселе скачут сломя голову на разнузданных лошадях, не обращая ни малейшего внимания на то, что задевают и экипажи и пешеходов; если кого и свалят, кому колесо, кому ногу сломят, то они, порожняки, уверены, что всегда успеют ускакать, прежде нежели их поймают»[28].
Писатель отмечал, что «назначение московских тротуаров еще загадочнее московских улиц». Он описывает Смоленский рынок, где на пути пешеходов стоят ведра, лошади, корыта, мешки. С 1840-х годов для мощения улиц в Москве применяли квадратные тонкие плиты из песчаника с габаритами около 40 сантиметров. Отдельные части тротуара могли достигать длины 1,5 м[29]. Характерной чертой Москвы стали массивные каменные тумбы, не позволявшие лихачам заезжать на тротуар.
Столбики стали устанавливать еще в 1820-е годы. Фрагментарно эти артефакты уцелели до нашего времени. Тротуары выглядели печально: «На Кузнецком мосту, на Тверской, на Мясницкой, Покровке, т. е. на главных артериях Москвы, против иных самых богатых домов мы видим тротуары в самом жалком виде. То же самое против многих казенных зданий, против монастырей, наконец, даже против университета, где на тротуарах выбиты целые ямы, которые, наполняясь во время дождя водою, представляют глубокие лужи, и пешеходы предпочитают идти лучше по грязи, по самой улице, нежели по тротуару. В других местах плиты на тротуарах так наклонны, что при гололедице нет возможности безопасно ходить по ним. Кроме того, в самом центре города есть места, где или вовсе нет тротуара, или существует постоянное препятствие им пользоваться», – писала «Всеобщая газета» в 1869 году.
Одоевский обратил внимание и на качество уборки бульваров. По его словам, в 1863 году на содержание прогулочных пространств было ассигновано 9355 рублей, но выделенная сумма, казавшаяся вполне достаточной, никак не отразилась на состоянии Бульварного кольца. «Инструменты, известные под названием железных лопат, кирок, ломов, как кажется, еще не достигли до сведения бульварного ремонта. Тверской бульвар еще иногда посыпают песком, но едва несколько крупиц этого драгоценного материала падет от роскошного стола подряда на другие бульвары, как, например, на Никитский, на Пречистенский, на Смоленский и другие. Если иногда из сожаления и бросят здесь несколько горстей песка, то с ледяной коры его сносит первым ветром. Что нужды! Подряд свое дело исполнил, посыпал песком по льду, а если песок сносится ветром, то это потому, что уже такой положен предел, против которого человек не должен и думать бороться»[30]. Москвичи шутили, что из Петербурга властями будет выписан специальный конькобежец, показывающий свои трюки на гладкой ледяной корке Бульварного кольца.
При входе на бульвары в середине XIX века висели строгие надписи: «По траве не ходить, собак не водить, цветов не рвать». Н. В. Давыдов утверждает, что приказ было выполнить нетрудно, «…ибо травы и газонов никогда и не бывало на бульварах, так же, как цветов, которых и не думали сажать. Собаки же, не будучи водимы, невозбранно сами гуляли и даже проживали, плодясь и множась, на бульварах, а в боковых кустах вечерами и ночью укрывались жулики».
Зимой полиция распоряжалась посыпать тротуары песком, но дворники и домохозяева посыпали в лучшем случае край тротуара, что от гололедицы ничуть не спасало. «Кажется, чего бы проще, один работник счищает снег, а другой за ним идет и тотчас посыпает песком?.. В Москве распорядились иначе, по-своему: два работника поутру усердно счищают снег и открывают гололедицу, а уж к вечеру они же оба будут посыпать и песочком, вероятно, по тому расчету, что ночью меньше ходят, нежели днем, и, следовательно, на другой день уж не нужно будет вновь хлопотать о посыпке песком – останется вчерашний, а если кто в этом промежутке поскользнется и сломит себе ногу, то, видно, уж ему на роду так написано». Одоевскому не нравятся и водосточные трубы Первопрестольной: в Петербурге они уходят под тротуар и не досаждают прохожим, в Москве в 1860-е годы вода лилась прямиком на мостовую.
Проезжая часть не радовала качеством дорожного покрытия. Несколько раз в год мостовую приходилось латать, она время от времени проседала. Иногда, чтобы выровнять уровень улицы, в ход шли строительный мусор, уголь, зола, доски, щебень. Газета «Русские ведомости» в середине 1860-х годов жаловалась на качество ремонта дорог: «Вот уже июль месяц на дворе, а во многих местах мостовые все еще не исправлены… А между тем, нельзя сказать, чтобы мостовые вовсе не чинились. Они чинятся, но только способ починки и мощения чрезвычайно плох. Вскопают землю железной лопаточкой и тут же, на рыхлую, начинают плашмя класть камни, затем посыплют песку, и мостовая готова». В. Ф. Одоевский заметил «пикантные» способы ремонта дорожного покрытия: «Любопытно, что полиция, заметив, что провал у Крымского моста мешает проезду, принялась засыпать его из нужников! О, Москва! О, многообширное и безобразное ничегонеделание. Моя записка имела следствием лишь ответ мне полицеймейстера Дурново, что о провале сообщено Думе. Провал существует с 22-го июня». Запись в дневнике датирована 5 июля 1865 года.
В 1863 году московские власти выделили на мощение центральных улиц 253 902 рубля[31]. Когда разверзлись хляби, окраины утонули в нечистотах: «Грязи и навозу на улицах, особенно весной и осенью, было весьма достаточно, так что пешеходы теряли в грязи калоши, а иной раз нанимали извозчика специально для переправы на другую сторону площади; лужи, бывало, стояли подолгу такие, что переходить их приходилось при помощи домашними средствами воздвигнутых мостков и сходней»[32]. Жирная причмокивающая масса засасывала и сапоги, так что пешеходам приходилось скакать по улице в чулках.
Странник, отправлявшийся в московский мрак, рисковал не встретить ни одного фонаря на своем пути. Хрестоматийной стала заметка Гиляровского, описывающая реалии Цветного бульвара: «Ночь была непроглядная. Нигде ни одного фонаря, так как по думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось, а эта ночь по календарю считалась лунной».
В середине XIX века столичные фонари зажигали 24 ночи в месяц. Временной интервал был плавным: если в декабре огни начинали гореть в 16.00, то в апреле – в 20.00. В три часа ночи любое освещение прекращалось. Вплоть до 1850-х годов основными источниками света служили масляные фонари. Гарное масло давало тусклый матовый свет, столбы стояли на порядочном расстоянии друг от друга. Фонарщик приставлял к столбу деревянную лестницу, с помощью специального насоса переливал очередную порцию топлива и неспешно шел дальше… В песне Б. Окуджавы ночные странники приобретают романтический ореол:
- – А где же тот ясный огонь, почему не горит?
- Сто лет подпираю я небо ночное плечом…
- – Фонарщик был должен зажечь, да фонарщик тот спит,
- Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем.
Н. В. Гоголь боялся масляного освещения: «Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом». Д. И. Никифоров вспоминал, что масляные фонари с четырьми фитилями давали больше копоти, нежели света. Пожарные, следившие за освещением, часто воровали конопляное масло и с аппетитом добавляли его в гречневую кашу. Подобная приправа ценилась, конечно, меньше сливочного, но в кулинарии активно использовалась: «…А «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!..»
В 1851 году на Тверской поставили 100 спиртовых фонарей. За ними следил десяток специально обученных специалистов. Во избежание алкогольных «эксцессов» винный спирт стали смешивать со скипидаром. «Желая сохранить спирт в лампах для горения, а не для желудков пожарных, к нему примешивали какую-то зловонную жидкость… Обер-полицмейстер Беринг, желая испытать, могут ли пить эту смесь пожарные служители, велел позвать одного из них и, подавая ему рюмку, спросил: может ли он выпить эту смесь? «С удовольствием», – ответил пожарный и тотчас же опрокинул рюмку в рот. «Ну что, каково?» – спросил Беринг. «Ничего, Ваше превосходительство, крепконько, а пить можно», – ответил служака».
Еще в XVIII веке городские власти пытались использовать хлебный спирт, но фонарщики уже через полчаса после начала смены были не в состоянии выполнять свои обязанности… В дни царских праздников и иллюминаций жители выставляли в окна плошки с гусиным салом. Маленькие огоньки хоть немного рассеивали предрассветный мрак исполинского города. Сам Беринг был осколком тридцатых-сороковых годов. А. В. Амфитеатров вспоминал о нем: «Он был долгое время обер-полицмейстером Москвы и оставил в ней чуть не на полвека память своей свирепости в обращении с людьми и своей страсти к рысистым лошадям, бешеной езде и слоноподобным кучерам-геркулесам… Обогнать экипаж Беринга считалось величайшею дерзостью, за которую виновные часто расплачивались весьма неприятными последствиями, даже если сами принадлежали к знати… Жил он совершенно средневековым магнатом, так что даже освободительная реформа Александра II как будто не коснулась его владений, и в них, вопреки объявленной воле 19 февраля 1861 года, тяготел еще мрак крепостного права во всей его черной густоте…»
В начале 1860-х годов в столице было чуть больше 2000 спиртовых источников освещения. Однако наука не стояла на месте, и в 1863 году городская дума постановила перейти на керосиновое освещение. Подрядчиком стал француз Ф. Боталь. Уже к 1865 году число керосиновых фонарей достигло 9000. Не все считали новые светильники достойной заменой: «На площади коптил керосиновый фонарь. Став против луны, можно было усмотреть над фонарем огромный черный столб копоти»[33]. К. К. Случевский утверждал, «…что прежние факелы и гарь смолы были лучше керосиновых фонарей и их копоти в пожарном отношении:
- Теперь другим, новейшим чином
- Мы возим к кладбищам людей,
- Коптят дешевым керосином
- Глухие стекла фонарей…»[34]
Характерным атрибутом пореформенного городского ландшафта был маленький домик будочника-полицейского. Большую часть избушки занимала русская печь. Непонятно, как полицейский ютился внутри со своей семьей: сам, жена, да еще семеро детей по лавкам. Служака сидел у своего домика с допотопной алебардой в руках, чем очень напоминал театрального статиста, и пугал ночных прохожих криком: «Кто идет?» Полагалось громко ответить: «Обыватель».
Простые москвичи шутили, что алебарды лучше всего подходят для рубки капусты. «Будочники были безусловно грязны, грубы, мрачны и несведущи; да к ним никто и не думал обращаться за справками, совершенно сознавая, что они лишь живые «пугала» для злых и для добрых, специально приспособленные для того, чтобы на улицах чувствовалась публикой и была воочию видна власть предержащая, проявлявшаяся в том, что учинивший какое-либо нарушение обыватель, впрочем, не всегда и не всякий, а именно глядя по обстоятельствам и по лицам, «забирался» в полицию», – писал Н. В. Давыдов. «Хожалый» мог огородить будку небольшим заборчиком и завести хозяйство, жена развешивала на крохотной территории свежевыстиранное белье и кормила кур.
В XIX веке взяточничество не считалось большим грехом среди чинов городской полиции. Небольшое жалованье едва позволяло сводить концы с концами и содержать семью, вдобавок блюстителям порядка приходилось покупать форму за собственный счет. Вот и приходилось стричь дань со своего участка. «Неопытные люди диву даются: чины полиции содержание получают не ахти какое, а живут отлично, одеты всегда с иголочки», – вздыхали обыватели. Впрочем, для низовой прослойки полицейских тотальная коррупция считалась жизненно необходимой. Казалось, что город возвращался во времена великокняжеских «кормлений», когда жителям приходилось самостоятельно содержать управленческий аппарат.
Самой распространенной формой взяток были фактически узаконенные «подарки» и «праздничные». Мелкие полицейские служащие и городовые дважды в год, на Пасху и на Рождество, обходили домовладельцев и принимали от них подношения. Старались задобрить и начальство повыше – околоточных надзирателей, частных приставов. «Праздничными» не брезговали и работники паспортного стола. Горожане надеялись, что после «подарка» полицейские не будут штрафовать дворников по мелочам. Владельцу большого доходного дома было легче заплатить полицейскому, чем содержать дом в чистоте и порядке.
Говорят, даже Николай I не стеснялся каждый год посылать 100 рублей квартальному надзирателю, следившему за порядком в районе Зимнего дворца. В расходных книгах богатых домовладений встречались строчки: «Частному приставу в день его именин». В целом сложившаяся система устраивала и правоохранителей, и население: городовые старались брать «по чину», не обирать бедных до нитки, а жители несколько недоверчиво относились к честным служакам, которые не брали взяток.
В 1860-е годы в московской полиции служило 212 офицеров и 2276 нижних чинов, а в составе жандармской команды числилось 489 человек. Правда, последние часто отсутствовали в городе: в годы польского восстания московские жандармы занимались конвоированием заключенных в города Сибири. В Лондоне в 1863 году несли службу 6150 полицейских. «У нас в Москве при 400 тысячах жителей один полицейский приходится на 133 обывателя. Полагаем, что это отношение должно быть признано сравнительно с английским слишком достаточным ввиду большей распущенности нравов…»
Резонансные преступления случались редко, большая преступность пожаловала в Москву вместе с освободившимся крестьянским людом. «Со всех сторон слышно о грабежах в Москве. У Ник. Дим. Маслова до сих пор шишка на спине от полученного на Пречистенке удара кистенем. Если бы удар был немножко выше и не был он в шубе, то несдобровать бы ему; нападали на него двое. Рассказывают историю про даму в пролетке, на которую напали пятеро, хожалого и кучера избили, ее раздели донага и ускакали на пролетке», – с удивлением писал В. Ф. Одоевский о новых временах.
Талантливый рассказчик Иван Горбунов перечисляет основные криминальные местечки: «Большая часть притонов, где собирались по вечерам широкие натуры, теперь уже не существует; память об них сохраняется только в устном предании. То были: трактир у Каменного моста «Волчья долина», трактир Глазова на окраине Москвы, в Грузинах; кофейная «с правом входа для дворян и купцов» в Сокольниках; трактир в Марьиной Роще и разные ренсковые погреба»[35]. У Каменного, или Всехсвятского моста москвичи в конце 1850-х старались проскочить как можно быстрее. Одно из самых опасных мест города, несмотря на близость Кремля и возводящегося храма Христа Спасителя, сохраняло флер XVII столетия. В первые годы правления Александра II мост был разобран за ветхостью.
Урбанизация ускорялась благодаря развитию сети железных дорог. Еще на рубеже 1830—1840-х годов находились скептики, не верившие в успех нового предприятия. Министр финансов Егор Канкрин утверждал: «Предположение покрыть Россию сетью железных дорог есть мысль, не только превышающая всякую возможность, но сооружение одной дороги, например хотя бы до Казани, должно считать на несколько веков преждевременным… При этом невозможно допустить употребления на дорогах парового движения, так как это повело бы к окончательному истреблению лесов, а между тем каменного угля в России нет… С устройством железных дорог останутся без занятий и средств прокормления крестьяне, ныне занимающиеся извозом».
А. И. Герцен писал в 1842 году: «Пророчат теперь железную дорогу между Москвой и Петербургом. Давай бог! Чрез этот канал Петербург и Москва взойдут под один уровень, и, наверно, в Петербурге будет дешевле икра, а в Москве двумя днями раньше будут узнавать, какие номера иностранных журналов запрещены. И то дело!»[36] Противники строительства приводили вычитанные в западных газетах нелепые аргументы: куры перестанут нестись, воздух будет отравлен дымом, коровы не будут давать молоко…
К романтической партии относился В. Г. Белинский, мечтавший о как можно более скором сооружении железного пути: «Петербург и Москва – две стороны, или, лучше сказать, две односторонности, которые могут со временем образовать своим слиянием прекрасное и гармоническое целое, привив друг другу то, что в них есть лучшего. Время это близко: железная дорога деятельно делается…»[37] Ф. М. Достоевский вспоминал, что Белинского частенько можно было встретить в районе железнодорожного строительства: «Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце».
Земляные работы на первой протяженной магистрали страны велись практически вручную. Правда, в США приобрели четыре экскаватора, но вскоре продали их фабриканту Демидову. Скептики, впрочем, вскоре были посрамлены: первый поезд в 1851 году преодолел расстояние от Москвы до Петербурга за 21 час 45 минут. Уже в 1853 году время в пути сократилось до 12 часов. Появлялись совершенно фантастические проекты. «К Погодину приходили купцы и просили написать статью об устройстве железной дороги в Индию из Оренбурга до наших крепостей. После того, верно, уже устроят железную дорогу из Москвы в Оренбург, как бы это было хорошо, весь край бы обогатился. Погодин сперва было отговорился незнанием дела, но купцы привезли ему свои бумаги и упросили его составить статью», – сообщала В. С. Аксакова.
Сокрушительное поражение в Крымской войне заставило правительство изыскать средства для ускорения железнодорожного строительства. Первопрестольная оказалась в центре назревавшего бума. В 1857 году было создано Главное общество Российских железных дорог (ГОРЖД), которое занималось привлечением иностранных инвестиций. Общество собиралось проложить пути Москва – Курск и Москва – Нижний Новгород. Интересно, что о последнем мечтал еще А. С. Пушкин в конце 1836 года, о чем доверительно сообщал в послании В. Ф. Одоевскому: «Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург – и мое мнение – было бы: с нее и начать… Я, конечно, не против железных дорог; но я против того, чтоб этим занялось правительство. Некоторые возражения противу проекта неоспоримы. Например: о заносе снега… О высылке народа или о найме работников для сметания снега нечего и думать: это нелепость».
ГОРЖД всячески затягивало жизненно необходимый России процесс железнодорожного строительства. С 1857 по 1861 год построили всего лишь 755 верст пути. Раздувались штаты нового ведомства, одних только управленцев в его составе числилось около 800 человек. Директор общества Колиньон собирался отправиться на исследование будущего маршрута Москва – Феодосия, за счет акционеров купил себе поместье под Орлом, обустроил дом и садик… а в путь так и не пустился.
А. И. Чупров справедливо отмечал: «У нас нет ни одной железнодорожной компании, которая оставила бы по себе такую печальную память. Главное общество стоило России неисчислимых жертв». Хотя строительство железных дорог шло крайне медленными темпами, в 1861 году открыли движение от Москвы до Владимира, в 1862 году – от Первопрестольной до Нижнего Новгорода. К 1862 году проложили участок длиной в 65 верст до Сергиева Посада. Организатором будущей Ярославской дороги стал славянофил и ученый Федор Чижов, он скооперировался с инженером А. И. Дельвигом.
Чижов был недоволен участием иностранцев в железнодорожных концессиях: «Французы смотрели на Россию просто как на дикую страну, на русских, как на краснокожих индейцев, и эксплуатировали их бессовестно». За поездку до Сергиева Посада брали два рубля серебром в вагоне первого класса, на первых порах поезда отправлялись дважды в день.
В. А. Слепцов в очерке 1862 года так описывал вагон третьего класса: «Два часа пополудни. Свисток. Поезд двинулся. Все сидящие в вагоне слегка покачнулись – одни вперед, другие назад; некоторые перекрестились. Публика в вагоне обыкновенная: офицеры; купцы, дамы средней руки; помещики, дети, солдаты, мужики, четыре бабы, три межевых помощника, один сельский священник с молоденькой дочерью и один несколько пьяный кучер… У одного окна завязывается разговор вроде следующего: «Славная это выдумка – железная дорога. И скоро и дешево… в одни сутки…»[38] Деление вагонов на классы практически сводило на нет общение представителей разных социальных категорий, но иногда смешение случалось: «Оченно хорошо уставлен здесь такой порядок, что, когда сажают в вагон людей, сортировку соблюдают. Вот теперича здесь у нас-с, образованных, значит, людей, то есть, так сказать, сорт полированных-с, в одном конце посадили, а черный народ, примерно сказать, необразованных, как вон мужики, в другом краю».
Когда известный инженер П. П. Мельников был назначен главноуправляющим путями сообщения, ему удалось снизить поверстную стоимость дороги Москва – Курск до 60 тысяч рублей, хотя англичане предлагали 97 тысяч рублей за аналогичную работу, а стоимость некоторых «прожектов» ГОРЖД доходила до 90 тысяч рублей за версту. «Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас, сверх того, и для воровства», – говаривал блистательный сатирик Щедрин, служивший на рубеже 1850–1860 годов вице-губернатором в Твери и Рязани.
Если в первой половине 1860-х годов правительство пыталось убедить бизнес, что строительство железных дорог может быть выгодным предприятием, то начиная с 1867 года только и успевало выдавать разрешения на сооружение линий. С 1837 по 1868 год в стране построили 5116 км железнодорожных путей, а за следующее пятилетие почти в два раза больше – 9,6 тысяч км[39].
Предоставим слово А. С. Суворину: «О концессиях вздыхали как о манне небесной. Спит, спит в своей дыре какой-нибудь предприниматель, жаждущий не столько признательности своих граждан, сколько капиталов, и вдруг проснется со счастливой мыслью: «Ба!.. Дорога из Болванска в Дурановку имеет государственное значение. Тут – промышленность, и стратегия, и… черт знает еще что!»
Многие боялись прихода железной дороги, ведь неминуемым следствием стала бы ломка привычного уклада жизни. Выискивались и любители проектов по превращению захолустных городков в Нью-Васюки: «Я говорю: соедини только Осташков с Петербургом и Москвой, – ведь он на полдороге стоит, – вы понимаете, как бы это подняло город? Теперь одних богомольцев перебывает здесь до десяти тысяч; сколько же наедет, если провести дорогу? Потом вся промышленность этого края оживится; Осташков же будет служить ей центром»[40].
Железные дороги с их прямыми линиями несколько сгладили печальное состояние сухопутных шоссе. Поэт и критик Степан Шевырев оставил потомкам любопытное рассуждение о направлениях российских дорог: «Нет, инженерная цивилизация наша, проводя дороги по всем концам любезного отечества, не признаёт, по обыкновению своему, ни города губернского, ни уездного, ни села, ни деревни, она признает только болото, ров и гору. В этом прежде всего участвует ложная мысль, что она дорогами своими должна преобразовать старую или, правильнее, создать новую Россию… Но что же мы видим на деле? Многолетний опыт доказал, что новые дороги не создали не только ни одного нового города или села, но даже ни одной порядочной деревни. Нет и намека на такое создание. Выстраиваются только отдельные хутора, постоялые дворы, трактиры, а всего более кабаки, увеселяющие странников большой дороги… Вне всякого сомнения, что если бы инженерная цивилизация уважала исторические предания и не презирала наших городов, сёл и деревень, проводя дороги свои не для существующего теперь в них народонаселения, а для какого-то мнимого будущего, существующего в ее неистощимой фантазии, – менее встречала бы она болотных и горных препятствий, и дешевле обходились бы государству дороги, принося больше пользы»[41].
Постепенное раскрепощение умов тоже стало следствием александровских реформ. Кружки разночинной интеллигенции существовали и раньше. Так, на квартире фольклориста П. Н. Рыбникова уже в 1855 году собирались «вертепники», представители демократически настроенной молодежи, говорили об установлении республиканского строя, обсуждали социалистическую идею, спорили о будущем России.
Кружок стал своеобразным мостом между старым и новым этапом общественного движения – к Рыбникову частенько захаживали Аксаковы, Хомяков, они старались вытащить молодежь из трясины материализма. Общественное мнение николаевской эпохи формировалось в Английском клубе. «Конечно, и в то время существовали кружки и отдельные лица, не принимавшие на веру положений, провозглашенных старшими и чиновными, но они составляли исключение и считались даже опасными»[42].
Подувший ветер перемен совпал с отставкой генерал-губернатора Арсения Закревского, державшего город в ежовых рукавицах больше десяти лет, с 1848 по 1859 год. Крупный политик николаевского царствования не принял сердцем новых реформ. Во время коронации Александра II Закревский выгнал из Манежа купцов-распорядителей, занимавшихся подготовкой обеда для воинских частей. Получается, он не пустил хозяев на их собственный праздник! Для молодого императора поступок Закревского стал последней каплей: «После подобного поступка он не может оставаться на своем месте»[43].
Г. А. Джаншиев, в 1870-е годы трудившийся присяжным поверенным и судебным репортером, писал о первых признаках пробуждения: «С особенным энтузиазмом и торжеством отпраздновала опубликование рескриптов (правительственной программы по отмене крепостного права. – Прим. авт.) московская интеллигенция на первом в России политическом банкете 28 декабря 1857 года. Связанная по рукам и ногам печать времен «российского паши», как называли гр. Закревского, не смела и думать передать охватившее общество воодушевление, и единственным доступным способом для выражения волновавшего все передовое общество восторга оказался обед по подписке, устроенный в московском купеческом клубе. Вся московская интеллигенция без различия направления собралась за одним столом, чтобы приветствовать наступившее «новое время». Консерватор-византиец Погодин, либерал-конституционалист Катков, откупщик Кокорев, забывая свое разномыслие, собрались, чтобы чествовать того, кого в своем тосте впервые проф. Бабст назвал «царем-освободителем»[44]. Купцы, включая Кокорева, в основной массе сочувствовали начавшимся реформам вообще и крестьянскому освобождению в частности. Ситцевые короли Гучковы? Из крепостных! Табачный фабрикант Жуков? Из них, родимых. Дербеневы, Морозовы, Грачевы, Коноваловы, Бурылины… Один из исследователей отмечает, что крупные богачи в России выходили из «пасынков» отечественной жизни – социальных «пасынков», крепостных крестьян, и религиозных «пасынков», старообрядцев.
В очнувшейся Москве бурлила общественная жизнь и даже имели место уличные столкновения с полицией. 12 октября 1861 года на Тверской рядом с гостиницей «Дрезден» собрались протестующие студенты. Они просили нового генерал-губернатора П. А. Тучкова выслушать их и принять их жалобу на университетское начальство. Тучков решил не вмешиваться во внутренние дела учебного заведения. «Никакие увещевания не действовали на разгоряченную молодежь, подстрекаемую «Колоколом» и его агентами», – нервничает консервативно настроенный Д. И. Никифоров.
Демонстрация еще в самом начале была окружена полицией, к защитникам правопорядка присоединились сочувствующие дворники и торговцы из Охотного Ряда. Избиение безоружных студентов получило в народе название «Битвы под Дрезденом». В разгоне демонстрации участвовали конные жандармы, они «…на полном скаку нагоняли студентов, хватали их за шиворот или за волосы и, продолжая скакать, волочили их за собою»[45]. Победителями выступили полицмейстеры Н. И. Огарев и И. И. Сечинский. Впрочем, последнего проснувшийся и активно звонящий из Лондона «Колокол» еще в 1857 году назвал «начальником всех развратных заведений в Москве».
Спустя несколько десятилетий попечитель учебного округа стал требовать решительных мер во время очередных волнений в Московском университете. Генерал-губернатор В. А. Долгоруков, вспоминая шестидесятые годы, рассудительно произнес: «Ну, граф! Зачем так строго! Молоды! Со временем переменятся! Всегда такими были! Вот здесь, например, «под Дрезденом» когда-то какую драку устроили. Казалось бы, не негодяи?.. А ничего! Потом исправились! Многие из тех, которые тогда «под Дрезденом» дрались, – очень почтенные посты занимают! И никто их «негодяями» не считает…»
В числе арестованных в тот день оказался и Николай Ишутин, в 1863 году создавший собственный конспиративный кружок. Юные революционеры собирались в трактире «Крым» на Трубной площади, а чуть позже, в 1864 году, основали переплетную мастерскую. Когда ишутинская организация разрослась до 600 человек, из ее числа выделилась тайная группа «Ад». Участники новой структуры с гордостью называли себя смертниками, «мортусами». В апреле двоюродный брат Ишутина Дмитрий Каракозов устроил покушение на Александра II, и на след организации довольно оперативно вышли. Каждый день следователи допрашивали до ста жителей столицы.
Всеобщий интерес к нигилистам и страх перед людьми нового типа возникает после выхода тургеневского романа «Отцы и дети». Доходило до смешного: «Мне также пришлось видеть перепуганную пожилую добродушную чиновницу, заподозрившую своего старого мужа в нигилизме, на основании только того, что он на Пасхе не поехал делать поздравительные визиты знакомым, резонно говоря, что в его лета уже тяжело трепаться по визитам и попусту тратить деньги на извозчиков и на водку швейцарам»[46].
В годы польского восстания среди приверженцев власти получают популярность статьи М. Н. Каткова в газете «Московские ведомости». В передовицах 1863 года основоположник политической журналистики яростно боролся с крамолой: «К стыду нашему, иностранцы на этот раз не из ничего сочиняли свои взгляды на Россию: кроме обильного материала, доставлявшегося им польскими агитаторами, иностранцы могли черпать данные для своих заключений и в русских источниках. Никогда, нигде умственный разврат не доходил до такого безобразия, как в некоторых явлениях русского происхождения»[47]. В середине 1860-х набирает популярность роман Н. Г. Чернышевского. «Господи! Что за болтовня, что за тавтология!» – пишет в дневнике В. Ф. Одоевский и называет «Что делать?» «нелепым нигилистским молитвенником».
В. Г. Короленко подробно описывает свои студенческие годы: по рукам ходили издания вроде бакунинской «Анархии по Прудону», в окрестностях Петровской академии собирались нелегальные сходки. В районе старых дач обитали два жандарма, но у них не было возможности уследить за всеми домиками, поэтому сборища происходили довольно часто. Вольнолюбивые студенты пели «Дубинушку», и эхо разносило их молодые басы по всем отдаленным уголкам соснового бора…
Общественность ждала нового героя, но возвращались старые типы: в 1866 году П. А. Вяземский, заставший два предыдущих царствования, достает из чулана образ Хлестакова.
- …Внимают
- Его хвастливой болтовне,
- И в нем России величают
- Спасителя внутри и вне.
- О Гоголь, Гоголь, где ты? Снова
- Примись за мастерскую кисть
- И, обновляя Хлестакова,
- Скажи: да будет смех, и бысть!
- Смотри, что за балясы точит,
- Как разыгрался в нем задор;
- Теперь он не уезд морочит,
- А Всероссийский ревизор.
В 1869 году в рядах студенчества возникла новая организация: 22-летний Сергей Нечаев сформировал «Народную расправу» и организовал убийство своего товарища Ивана Иванова. «Нечаев искал избранных. Твердил, полосуя глазами-щелками: «Иезуитчины нам до сих пор недоставало!» Говорил о дозволенности всех средств ради революции, о непрекословном подчинении Комитету, о смертной казни не только предателям, но и ослушникам. Ему робко возражали: дисциплинарность погубит братские чувства. Он отвечал, что боязнь «тирании» – участь дряблых натур. Капризничаете, господа, боитесь крепкой организации. Возникнет недоверие друг к другу? Здоровое недоверие – основа дружной работы. Хотите служить народу – служите. Нет – Комитет обойдется без вас»[48].
Революционер декларировал: «Мы считаем дело разрушения настолько серьезной и трудной задачей, что отдадим ему все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что хватит сил и умения на созидание. А потому мы берем на себя исключительно разрушение существующего общественного строя; созидать не наше дело, а других, за нами следующих».
Писатель Николай Успенский весьма жизненно изобразил волнение родителей за состояние умов своих подросших «дитяток»: «У Карпова есть и сын – студент Московского университета: рассчитывая на него как на опору своей старости и опасаясь, как бы молодой человек не сделался «якобинцем» в испорченной среде нынешней молодежи, Карпов почти в каждом письме к нему упоминал: «Если вздумаешь бросить науку, приезжай домой; у твоего отца хлеба хватит…»[49]
Университетский устав 1863 года вдохнул новую жизнь в высшие учебные заведения. Ректоры и профессора отныне избирались, университет получал автономию в решении многих вопросов. Четыре факультета Московского университета, физико-математический, историко-филологический, юридический и медицинский, могли похвастать наличием 1500 студентов, постоянно росло число разночинцев.
Далеко не все студенты обладали должным уровнем материального благосостояния. Экономист И. И. Янжул вспоминает те лишения, которым он подвергался в университетские годы: «Я мог издерживать… на пропитание не более 3 коп. в день, причем на две покупал в городе у разносчика 1 фунт печенки и на копейку черного хлеба… Иногда эта диэта разнообразилась похождениями в «Обжорный ряд», где я спрашивал, помнится мне, за две копейки порцию щей, а за копейку или две отдельно кусочек мяса… Разумеется, в такие тяжкие времена правильное регулярное питье чаю прекращалось, если только Бог не посылал добрых людей, которые предлагали по знакомству угостить меня чашкой этого нектара»[50].
Однажды будущему профессору пришлось истратить три драгоценных рубля на галоши. Они развалились через неделю, потому что были ловко сшиты мошенниками из маленьких кусков кожи. Голодно жилось в студенческие годы и писателю Глебу Успенскому: «Я занимался корректурой и получал 25 руб. сер. в месяц. Сначала еще было свободное время, то есть утром часа 3 можно было провести в университете, но потом, когда начали печататься адрес-календари, росписи кварталов, чайные ярлыки и лечебники, когда работы было невпроворот, тогда просто некогда было дохнуть. Мне оставалось одно – или бросить типографию и ходить в университет, или с голоду околеть: потому что брось я типографию – я лишаюсь 25 р., единственного источника существования, но зато – университет, куда, конечно, по причине голодного брюха ходить не будешь. Загадка была очень сложная»[51].
Одно дело – жить в Москве постоянно, другое дело – быть гостем столицы. Один из жителей Ярославля, приехавший в 1869 году на археологический съезд, нашел номер за рубль в сутки в гостинице Челышова в районе Театральной площади. Его рассуждения о столичной дороговизне действительно вызывают сочувствие – за свечу заплати отдельно 10 копеек, за постельное белье еще 15 копеек. «Захочется есть, чаю напиться, в Москве расстояния огромные и на улицах дождь, слякоть, без извозчиков не обойдешься. Выходит, в сутки мало двух рублей и надо припасать пожалуй все три».
Либеральные реформы коснулись и судебной системы. В 1866 году в Москве появился институт мировых судей, избиравшихся сроком на три года. Подобный служитель Фемиды был максимально близок к народным слоям, он рассматривал гражданские иски на сумму до 500 рублей, разбирался, кто кого обидел грубым словом, мог вникать в суть дел по устной жалобе, что позволяло защищать свои интересы в суде даже неграмотным. Судья всячески старался склонить стороны к примирению, сводил на нет бюрократические излишества, даже письменный протокол велся не всегда.
На заседания мог явиться поглазеть любой горожанин, что уже с первых дней сделало мировые суды конкурентами театров, балаганов и прочих зрелищных заведений. Популярность нового развлечения увеличивалась после ежедневных отчетов в газетах: репортеры, как правило, записывали и затем публиковали самые курьезные ситуации. М. Вострышев пишет, что только за первые 9 месяцев работы в мировые суды Москвы поступило 38 тысяч дел[52].
Зрителям нравилась простота и «жизненность» рассматриваемых ситуаций, мировые судьи становились героями баек и анекдотов. А. А. Лопухин обращался к подсудимым, даже к женщинам, по имени-отчеству, на что однажды обиделась крестьянская баба: «Я тебе не Дарья Ивановна, а мужняя жена!» Судья Багриновский решался на эксперименты. Два охотника не могли поделить купленную вскладчину собаку. Им было предложено выйти на улицу и звать пса в свою сторону. К кому прибежит довольно виляющий хвостом песик, тот и хозяин. Соломоново решение!
Д. И. Никифоров свидетельствует, что для сановников бессословность суда (утвержденная, по крайней мере, законом) давалась трудно: «Состав судей был разношерстный, но в большинстве случаев с сильной либеральной подкладкой. Вообще желание судей было как-нибудь оскорбить или унизить лицо, выше их поставленное в общественном положении… Современные судьи стали благоразумнее и не прибегают к крутым мерам прежнего времени и не мечтают, как прежние, об уравнении всех к одному знаменателю, а себя не ставят на недосягаемый пьедестал, как римские трибуны и цензоры. Вообще это было грустное время худо понятых прав, новосозданных юристов».
За пару лет до введения судебных учреждений Московское юридическое общество решило познакомить публику с новым порядком ведения дел. Из архива Сената вытащили несколько старых папок для инсценировки и чтения по ролям. В число избранных для «постановки» попал случай, произошедший в Симферополе: чиновника связали веревками и оставили на кровати, а его дом в это время хорошенько обчистили. В соучастии подозревали его собственную прислугу, некую Юлию Жадовскую.
Служанку играл Анатолий Федорович Кони, в те времена студент четвертого курса юридического факультета. Шел 1864 год. «Ему и пришлось все время говорить в женском роде, почему он беспрестанно ошибался и путал с мужским «я видел», «я видела», «я говорил», «я говорила» и т. п. Кроме того, бедному Анатолию Федоровичу приходилось также отвечать на множество крайне неудобных для мужчин расспросов, по поводу, напр., своего белья, отношения к одному из господ подсудимых, что прерывалось постоянным громким хохотом публики, несмотря на усердный звонок председателя… Кто, глядя на этого маленького студентика, игравшего забавную роль Жадовской, мог бы предсказать тогда, что он превратится со временем в крупного общественного деятеля, талантливого оратора и популярнейшего публициста?!!»[53] Желающих посмотреть на невиданное зрелище хватало.
В 1866 году в Москве рассматривали дело по нанесению оскорблений. Когда судья спросил, в чем заключалось оскорбление, истица ответила, что посетитель назвал ее питейное заведение кабаком: «Но, помилуйте, у меня князья, графы бывают. У меня не какое такое трехрублевое… Я это считаю для моего заведения оскорбительным. Сам господин частный пристав… У меня заведение известное, я не позволю, чтобы его марали. Я сама, наконец, не какая такая, а вдова коллежского регистратора». Зрители в зале долго смеялись над такой своеобразной попыткой защитить «честь» заведения. В июле 1866 года некий Антонов, гуляя в переулках Сретенки, начал лаять по-собачьи. В присутствии судьи он заявил: «Известно, выпимши был». Антонова приговорили к недельному аресту.
Учитель музыки Карл Шульц подал жалобу на мещанку Варвару Чиликину. Он утверждал, что мать отдала ему свою тринадцатилетнюю дочь в обучение, но потом тайком забрала ее, тем самым нарушив контракт. Немец намеревался вернуть ученицу через суд. Мещанка начала оправдываться: «Отдавая свою дочь господину Шульцу для обучения музыки, я думала, что отдаю ее в пансион. Между тем оказалось, что она поет и играет у него в хоре арфисток по ночам в трактирах, где привыкает к всевозможным порокам. Я не знаю, имею ли я какое право после контракта, но умоляю вас, господин судья, именем Бога спасти мою дочь от разврата». После пламенной речи мать упала на колени. Судья выяснил, что несовершеннолетнюю заставляли работать в питейных заведениях, и аннулировал договор.
В 1868 году в Хамовническом участке слушалось дело о драке на Воробьевых горах между тремя обывателями и двумя лодочниками. «Мы наняли лодку за рубль серебром у Крымского моста и деньги заплатили вперед. Мы прогуляли на Воробьевых горах до позднего вечера, потом хотели отправиться домой, хватились лодки, а ее нет. Я стал просить лодку у перевозчика Петрова, а он, пользуясь нашим неприятным положением, запросил с нас два рубля серебром. Это показалось мне и недобросовестным, и обидным. Я стал настаивать. Тогда он толкнул меня в воду, из этого и вышла драка», – говорил один из участников потасовки. Судья отметил, что лодочник имел право запросить какую угодно цену, но оштрафовал любителей выяснять отношения кулаками за нарушение тишины в общественном месте.
21 августа 1868 года у Сухаревой башни поймали пьяную женщину, просившую милостыню с годовалым ребенком на руках. Позже выяснилось, что младенца она взяла у своей квартирной хозяйки. Полураздетый ребенок посинел от холода. Нищую «коммерсантку» приговорили к трем месяцам заключения. Судья не смог доказать, что младенец отправился на «заработки» по предварительному сговору мамаши и ее квартирантки, хотя в те годы такой способ мошенничества был весьма распространен.
Горничная, служившая у эконома Матросской богадельни, жаловалась в Сокольнический участок мирового суда, что смотритель благотворительного учреждения Соболев ругал ее самыми последними словами, хотя она всего лишь пришла за свежими газетами.
Начальник оправдывался, что не сдержался из-за большой охоты к чтению: «Мы получаем газеты в шесть часов. Я, как начальник богадельни, получаю газеты первый. А Татьяна пришла ко мне в семь часов. Вы, господин судья, знаете, катковская газета большая, в час ее не прочитаешь. Я и дал им полицейский листок, а газет, сказал, не дам до утра… Но, признаюсь, я назвал ее дрянью и по-христиански согласен попросить у нее за это прощения». Дело кончилось мировым соглашением.
В июле 1869 года в мировой суд Мясницкого участка обратился подданный Пруссии Гельдмахер. Его волосы были окрашены в густой фиолетовый цвет. Над Гельдмахером подшутили в пивной лавке, где он ненароком заснул. Посетители посыпали его фуксином и облили водкой, краска быстро разошлась по прическе и дала соответствующий оттенок. Судья приговорил озорников к месяцу ареста.
Отечественная система юриспруденции искала себя на протяжении шестидесятых и семидесятых годов. Создавалась школа правоведения. Уходили в прошлое «аблакаты от Иверской», готовые за гривенник состряпать любую бумажку. «Собирались они в Охотном ряду, в трактире, прозванном ими «Шумла». Ни дома этого, ни трактира теперь уже не существует. В этом трактире и ведалось ими, и оберегалось всякое московских людей воровство, и поклепы, и волокита. Здесь они писали «со слов просителя» просьбы, отзывы, делали консультации, бегали расписываться «за безграмотностью просителя»[54]. Шумная Воскресенская площадь давала приют самому разному люду, в том числе и таким «юристам» дореформенной эпохи.
Городская казна постепенно богатела и увеличивалась: если в 1863 году доходы московского бюджета составили 1 миллион 719 тысяч рублей, то в 1869 году – 2 миллиона 128 тысяч рублей. С момента введения новой системы городского самоуправления в 1863 году до 1868 года доходы города увеличились на 79 %, а расходы – на 77 %[55]. В 1868 году 45 % от всех городских сборов давали промышленные и торговые заведения.
В собственности городских властей к концу 1860-х годов находилось пять бань, 18 лавок и палаток, «из которых пять деревянные», 10 питейных домов. Доля этого имущества в общей структуре московских доходов была ничтожной: бани приносили 10 тысяч рублей в год, лавки – 3 тысячи. Некоторые источники звонкой монеты кажутся сейчас экзотическими. В частности, на главных городских площадях находились весы, сдававшиеся в аренду частным лицам. Двенадцать весов приносили Москве 10–12 тысяч рублей ежегодно.
Москвичи платили особый налог на приусадебные участки, учрежденный в 1823 году: тот, кто владел огородом за пределами Земляного Вала, вносил раз в год 11 руб. 43 коп., в границах Садового кольца приходилось отстегивать в два раза больше, 22 руб. 86 коп. «За первогильдейскую торговлю город сбирает по 37 р. 50 к., а за содержание какого-нибудь огорода, засаженного капустой да луком… Какая поразительная неуравнительность сборов, вовсе не соответствующая торговым оборотам! Эта неуравнительность – настоящая ахиллесова пята московского городского хозяйства».
Расходы на освещение выросли со 104 до 143 тысяч рублей ежегодно, увеличились траты на народное образование, до 140 тысяч рублей уходило на содержание судебных учреждений, появившихся в годы реформ. Полиция, куда включались и пожарные с врачебной частью, «съедала» по 500–600 тысяч рублей каждый год.
В 1863 году в Москве на полном серьезе обсуждали введение налога на собак, указывая на аналогичные сборы в Риге и Варшаве. Власть хотела искоренить привычку обывателей «держать без всякой надобности и пользы на дворах своих по нескольку собак». Понятное дело, что больших доходов абсурдный сбор бы не дал, но генерал-губернатора возмущали «целые стаи этих полуголодных и часто бесполезных животных».
По 20 копеек серебром за каждую квадратную сажень дороги приходилось платить владельцам домов, расположенных вдоль шоссе. Довольно больших вливаний стоило городу содержание местного самоуправления: городскому голове в 1864–1869 годах положили жалованье в 5000 рублей ежегодно, на награды служащим и на «труды, выходящие из круга прямых обязанностей», тратили по 10 000 рублей.
Расходы на городское самоуправление выросли со 103 тысяч рублей в 1863 году до 140 тысяч в 1869-м. Отдельной строчкой в городском бюджете проходило натирание воском полов в доме обер-полицмейстера, на что уходило 195 рублей (к слову, натирание таких же полов в особняке московского губернатора обходилось бюджету в 175 рублей). Обер-полицмейстер получал жалованье, почти равное «зарплате» городского головы, – 5091 рубль. Особенно интересен раздел «Случайные расходы и непредвиденные издержки»: здесь сплелись наем квартир для ночлежников (5000 рублей), устройство паркетных полов в городской больнице (5090 рублей), печать плана Москвы (от 1 до 4 тысяч рублей), содержание сторожа при избе Кутузова (142 рубля)[56].
В 1867 году Москва погрузилась в атмосферу празднества. Город принимал Всероссийскую этнографическую выставку. Маленькая модель Российской империи вызвала необыкновенный интерес москвичей. Выставка проходила в здании Манежа. В первом отделе были представлены фигуры всех живших в России народов, одетые в национальные костюмы, – «племена инородческие (116 фигур) и племена славянские – восточные (118 фигур), западные и южные (66 фигур)».
Во втором отделе любовались предметами домашнего быта, посудой, музыкальными инструментами, в третьем – материалами археологических раскопок, черепами, орудиями труда. Президент Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Григорий Щуровский говорил о втором открытии России: «Кому не известно, что русские люди, еще не так давно почти единственно ограничивались изучением того, что относится к Западной Европе. Редкому из них приходило на мысль, что Россия в научном отношении представляет столько же или еще более интереса, чем западные страны. Но в последнее время, к общей радости, мы замечаем поворот от запада к востоку, замечаем тот живой интерес, который начинает проявляться у нас ко всему, касающемуся России… Изучение чужого или других стран должно быть только дополнением к изучению своего или отечественного. Явление самое отрадное!»[57]
24 апреля выставку посетили Александр II и наследник престола, будущий император Александр III. Некоторые экспонаты вызвали живую реакцию царя: «Его Величество интересовался костюмами алеутов, сшитыми из китовых кишок и украшенными искусным шитьем; указывая на байдарку, Государь обратился к Цесаревичу и заметил Ее Высочеству, что она, вероятно, видела такую алеутскую лодку в Царском Селе». В избушке великорусского крестьянина Александр II долго рассматривал наклеенные на стену старые лубочные картинки. Увидев жилище без трубы, топившееся по-черному, он заметил: «К сожалению, таких изб еще весьма много в России».
Интерес ко всему национальному только пробуждался в 1860-е годы, отгремели пышные торжества по случаю тысячелетия России. Интересно, что в ходе новгородского праздника Александр II выплыл к своим гостям, повторяя путь полулегендарного Рюрика в 862 году. Конечно, многие понимали, что выставка затевалась не только с намерением показать этническое многообразие Российской империи. Польские эмигранты писали в манифесте: «Этнографическая выставка, если б даже предпринята была с чисто научною целью, вследствие толков московской печати принимает значение политическое. Ее главная и руководящая мысль состоит в том, чтоб доказать миру, что 50 000 000 жителей Московского царства, вместе с 30 000 000 славян, находящихся под властью Турции, Пруссии и Австрии, составляют не одно племя, но один сплошной народ славянский».
Этнографическую выставку приурочили в том числе и к Славянскому съезду, который Москва принимала в мае 1867 года. В первых рядах чествовали Павла Йозефа Шафарика и Франтишека Палацкого. В Сокольниках прошел грандиозный банкет, завершившийся выносом бело-золотой хоругви с портретами Кирилла и Мефодия: «Это был поистине несравненный момент, зрелище, возвышающее душу. Это море человеческих голов, покрывавших склон от павильона к Сокольничьей роще, мгновенно смолкло перед священным символом славянского единства. Все обнажили головы пред хоругвью, несомою одним из православных священников». Аксаков назвал собрание «первой нашей сходкой и братчиной». Тютчев откликнулся на проведение съезда восторженными стихами:
- …Недаром вас звала Россия
- На праздник мира и любви;
- Но знайте, гости дорогие,
- Вы здесь не гости, вы – свои!
- Вы дома здесь, и больше дома,
- Чем там, на родине своей, —
- Здесь, где господство незнакомо
- Иноязыческих властей…
«Городская дума приготовила для гостей квартиры, экипажи и смышленых руководителей. При встрече городской голова произнес краткое, но доброе приветствие и пригласил их в приготовленные для них помещения… Пили много здравиц; но как я воздержался от многословной речи, то и все последовали моему примеру», – восхищался А. И. Кошелев[58]. Легкое лингвистическое сходство тоже вызывало удивление: да ведь они читают «Отче наш» почти слово в слово с нами! Москву мыслили как новый центр собирания земель, на этот раз не русских, а славянских, о чем пишет исследователь Ольга Майорова: «Здесь давал себя знать тот же синдром «старшего брата», который побуждал русских панславистов затенять «инородческие» отделы этнографической выставки, на которую, напомню, и прибыли славянские гости»[59].
Слились воедино исторический интерес к славянским народам, рождение национального стиля в архитектуре, появление «передвижников» и крутой поворот искусства к широкой массе: «В конце шестидесятых и начале cемидесятых годов в Москве пpoиcходило усиленноe движение к славянам. Москва вcегда поддерживалась великими традициями славянофильства – eщe paнee copoковых годов; именa Caмaриных, Aкcaковых, в связи c вocпоминаниями о Кирeевском, Гоголe и дpугих, болee цельных деятелях объединения вceгo славянства, никогда, cобственно, и нe умирали в Москве»[60].
Эпоха великих реформ несколько оживила образ жизни Москвы. В России медленно, но верно начинает формироваться гражданское общество, «выстрелившее» к концу XIX века. Дж. Брэдли перечисляет факторы, способствовавшие развитию гражданского самосознания, – появление множества книжных издательств, газет, университетов, становление земств, городского самоуправления, добровольных объединений граждан, значительный промышленный рост, диверсификация экономики, идеи либерализма, урбанизация[61]. Россиянин, скованный и боязливый, постепенно привыкал к тому, что телесных наказаний нет, рекрутчину скоро заменит воинская повинность, что по стране можно передвигаться быстро и относительно дешево.
Типичный диалог николаевского царствования сквозит в известном историческом анекдоте. М. С. Щепкин, проходя по Охотному Ряду, встретил торговца, читавшего газету. Шел 1848 год, Европа бунтовала, Россия примеряла на себя жандармскую форму. Лавочник завязал с актером разговор о европейских событиях: «То ли дело у нас, в России, – тишь да гладь, да Божья благодать. А ведь прикажи нам государь Николай Павлович, и мы бы такую революцию устроили, что любо-дорого!»
Общественное сознание 1860-х годов выражает ироничный спич из произведений Салтыкова-Щедрина: «Прежде на бумаге-то города брали, а теперь настоящее дело пошло! Я сам в комиссии о распространении единомыслия двадцать лет членом состоял – и что ж! сто один том трудов выдали, и все-таки ни к какому заключению прийти не могли! Потому – рано было! А теперича разом весь этот материал и двинули! Возьмем хоть бы почтовые ящики – какое это для всех удобство! Написал письмо, пошел в департамент, опустил мимоходом в ящик – и покоен! Нет, как же можно! Только бы, с божьей помощью, потихоньку да полегоньку, да без революций!»
По бульварам разгуливали студенты «…с такими длинными волосами, что любой диакон мог им позавидовать». Люди тянулись в театр. На улицах начинали свободно курить. Демократизация городской культуры затрагивает новые слои. Становятся популярными народные и домашние чтения. «Эти годы можно назвать весною нашей жизни, эпохою расцвета духовных сил и общественных идеалов, временем горячих стремлений к свету и новой, еще неизведанной общественной деятельности», – отмечала педагог Елизавета Водовозова.
Великие реформы приблизили российскую столицу к европейскому пониманию города, привели ее внутреннее содержание в соответствие с мировыми образцами и лекалами. В западных странах значительную роль в изменении облика городов еще со времен Средневековья играл нарождающийся капитализм.
Частная инициатива, переход от ремесленного производства к фабричному, дарование горожанам прав и свобод выковали здесь тип свободного, предприимчивого, хваткого человека. Российские города развивались, находясь в большей зависимости от государства, многие из них были всего лишь подсобными поселками при крепости, засечной черте или монастыре, а обыватели не оказывали значительного влияния на решения власти.
Даже Москва до определенной поры напоминала город исключительно благодаря своим габаритам и обширности. Да, многие правители пытались привить москвичам атрибуты пресловутой «европейскости», но не у всех получалось.
Первым начал, конечно, Петр Великий. Москва в сознании первого императора была связана со стрелецкими выступлениями. В 1682 году юный царевич увидел, как на копья насадили близких ему людей. В 1698 году он, полноценный правитель, уже не церемонится с восставшими и лично рубит головы пятерым зачинщикам бунта. Стремясь уйти от детской психологической травмы, Петр развивает кипучую деятельность в районе Немецкой слободы, Преображенского, Измайловского. При Петре Великом контур города основательно вытянулся в северо-восточном направлении. В районе Яузы репетировали возведение Петербурга, на берегах небольшой речки стали возводить настоящий дворцовый городок. Его начало было положено в 1697 году строительством дворца Франца Лефорта. При Петре происходит раздвоение Москвы: консервативные тенденции брали верх внутри Садового кольца, а приверженцы венгерского платья с идеально выбритым лицом группировались в новом центре. Меншикова башня, поднявшаяся над городом, по своей сути явилась грозным бастионом на пути в петровскую столицу. О самодостаточности архитектуры первой четверти XVIII века говорят и термины – мы отличаем петровское барокко от предшествующего нарышкинского. Петр сначала рисует Петербург вчерне, впитывает европейские реалии в уютных домиках Немецкой слободы, а потом начинает возведение настоящей столицы среди болот и северных широт. Казалось бы, и Болото в Москве есть, и церквей с именованием «на Грязех» хватает… Но нет, воля влекла Петра к Балтике, к настоящей трясине, мшистым берегам и серому ельнику.
Дерзания первого императора продолжает Екатерина II. Просвещенная самодержица не питала к Москве особой любви: перу Екатерины принадлежат «Размышления о Петербурге и Москве». Императрица утверждает, что в Петербурге народ мягче и образованнее, терпимо относится к иностранцам, не столь суеверен. Первопрестольную она награждает далеко не самыми лестными эпитетами: «Москва – столица безделья, и ее чрезмерная величина всегда будет главной причиной этого… Никогда народ не имел перед глазами больше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу, церкви, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги в домах – какие дома, какая грязь в домах, площади которых огромны, а дворы грязные болота».
Русский писатель и журналист XIX века Михаил Пыляев пишет о екатерининских временах: «Улицы были неправильные, где чересчур узкие, где не в меру уже широкие, множество переулков, закоулков и тупиков часто преграждались строениями. Дома разделяли иногда целые пустоши, иногда и целые улицы представляли не что иное, как одни плетни или заборы, изредка прерываемые высокими воротами».
Екатерина II хотела подарить Москве европейский вид, о чем свидетельствует «прожектированный план», увидевший свет в 1775 году. Василию Баженову поручили перестройку Кремля, для чего разобрали часть стены со стороны Москвы-реки. На месте стен Белого города планировалось кольцо бульваров. Екатерина не скрывает, что образом новой Москвы для нее служит зарубежный опыт: «По примеру чужестранных земель иметь место в средине города для общественного удовольствия, где бы жители оного могли, не отдаляясь от своих домов, употреблять прогуливание».
Нужно срочно перестроить город, в котором вспыхнул Чумной бунт и орудовала Салтычиха, – он не соответствовал представлениям Екатерины о стране, засеянной семенами просвещения. Впрочем, к усилиям Екатерины Москва относилась прохладно: Тверской бульвар обустроили только к 1796 году. Императрице не удалось сломить праздный, по ее мнению, распорядок дня горожан. У Екатерины II получилось перестроить по европейским эскизам множество губернских и уездных городов, но в Москве она потерпела сокрушительное поражение.
Улицы и площади расширялись, но обычный горожанин испытывал чувство странной незащищенности. Узкие улицы с деревянной застройкой хоть и были неудобными, но создавали иллюзию крепости, отгородившейся от великой степи, откуда чаще всего приходили с недобрыми намерениями. Екатерининская ненависть к Москве сглаживалась медлительностью в проведении урбанистических реформ, о чем свидетельствует Джеймс Биллингтон: «Одна лишь Москва оказалась в силах противостоять неоклассицистской культуре, которую Екатерина навязывала российским городам… Городским центром по-прежнему служил древний Кремль, а не новые административные строения и не просторные площади».
Петр и Екатерина заводили театры, искусства, журналы, так и оставшиеся уделом верхней привилегированной прослойки. Александр II, в отличие от своих предшественников, не перепутал причину со следствием. Он понимал, что и прогулочные пространства, и заводы, и дороги, раньше насаждаемые сверху, вызовут отторжение.
Только свободный и образованный человек оценит прелести гулянья по бульварам. Император-освободитель несколько ослабил оковы государства, дал простор частной инициативе, и Россия, представленная «низами», ответила ему благодарностью.
Так в России появилась многоликая городская культура, значение которой трудно переоценить: «Уже к началу XX века, когда умер Поль Гоген, искавший «естественного человека» на Таити и Соломоновых островах Океании, и тем более с середины этого века, когда Тур Хейердал, окончив университет, сделал еще одну попытку жить «естественной» жизнью на тропическом острове Муруроа, стало ясно: иного мира, кроме мира городской культуры, нам не дано. Это было очень важное признание. На протяжении почти всей истории литературы, начиная с Сафо и Вергилия, ее основу составляло противопоставление «плохого» города «хорошей» природе или деревне»[62].
М. Е. Салтыков-Щедрин вложил в уста своих героев народное видение произошедших перемен: «По Ильинке, Варварке и вообще в Китай-городе проезду от ломовых извозчиков не было – всё благовонные товары везли: стало быть, потребность явилась… Говорили, что вопрос о разрешении курить на улицах уже «прошел» и что затем на очереди поставлен будет вопрос о снятии запрещения носить бороду и усы. Говорили смело, решительно, не опасаясь, что за такие речи пригласят к генерал-губернатору. В заключение, железный путь от Москвы до Петербурга был уже открыт. Хорошее это было время, гульливое, веселое».
За пятьдесят лет Москва изменилась до неузнаваемости. Рывок, осуществленный городом вместе со всей страной, блестяще описал К. С. Станиславский: «Я родился в Москве в 1863 году – на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникали в России железные дороги с курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны – проволочные, беспроволочные, радиотелеграфы, двенадцатидюймовые орудия. Таким образом, от сальной свечи – к электрическому прожектору, от тарантаса – к аэроплану, от парусной – к подводной лодке, от эстафеты – к радиотелеграфу, от кремневого ружья – к пушке Берте и от крепостного права – к большевизму и коммунизму. Поистине – разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях»[63]. Именно великие реформы стали тем базисом, на котором выросла пышная, многоцветная городская культура 1860–1910 годов. Да, внушительного на вид колосса можно упрекать за хрупкие глиняные ноги. Но ведь большое видится на расстоянии…
- Когда был в моде трубочист,
- А генералы гнули выю,
- Когда стремился гимназист
- Преобразовывать Россию…
Великому русскому историку В. О. Ключевскому в 1868 году стукнет 27. Он напишет в дневнике: «Поколение людей, переживающих теперь третий десяток своей жизни, должно хорошенько вдуматься в свое прошлое, чтобы разумно определить свое положение и отношение к отечеству. Мы выросли под гнетом политического и нравственного унижения. Мы начали помнить себя среди глубокого затишья, когда никто ни о чем не думал серьезно и никто ничего не говорил нам серьезного».
Но кровь «шестидесятников» была горячей, бурной, игристой, они заслужили отдельного упоминания в балладе Наума Коржавина об эволюции русской общественной мысли: декабристы, Герцен, Чернышевский, Плеханов, Ленин… Политические деятели по кругу будили друг друга и играли в кошки-мышки с правительством, старавшимся накинуть на Россию пелену вселенского сна. «Люди шестидесятых годов, конечно, не водворили счастья на земле, не добились они ни равенства, ни свободы, о чем так страстно мечтали», – с грустью подводит итог Е. Н. Водовозова. Но нам ли с нашей историей горевать об упущенных возможностях? Главное, что была мечта, чистая и прекрасная. «…Размножать мыслящих людей – вот альфа и омега всякого разумного общественного развития», – говаривал Писарев.
Воскресенская церковь на Остоженке была снесена, поэтому «оживить» пейзажи старой Москвы помогают только фотографии
Девятнадцатый век пришел в Россию с опозданием, но влетел стремительно и скоро, веретенами фабрик, гудками паровозов, краснокирпичными остовами заводских зданий. Москва слишком долго спала, убаюканная музыкой снега, вечных луж и караульных будок. Новое идет – старое сопротивляется. Пробуждение было быстрым, живописным, противоречивым. Синхронные процессы происходили в Европе и Северной Америке. Поднимает голову «третье сословие», берется за перо. Увеличивается мобильность, люди чаще рискуют, отправляясь за тридевять земель в надежде круто изменить собственную жизнь. Кажется, что само время бежит быстрее. Песочные часы приходится переворачивать чаще. П. А. Вяземский подмечал еще в 1858 году:
- Поэзия с торговлей рядом;
- Ворвался Манчестер в Царьград,
- Паровики дымятся смрадом, —
- Рай неги и рабочий ад!
Горожанин пореформенного периода становится более расчетливым и прагматичным. В деревне тоже борются два начала – общинное и индивидуальное. Крупные промышленные и торговые центры постепенно меняют менталитет крестьян-отходников. Земледелец сопротивляется, сохраняет старые привычки, но через два-три сезона, проведенных в городе, обнаруживает у себя новые качества. Писатель Н. Н. Златовратский отмечал: «Умственный» мужик и душой, и мыслью тяготеет к городу: там ключ к экономическому благосостоянию и гарантия человеческих прав». Естественно, процесс интеграции города и деревни был обоюдным, именно мигранты-крестьяне во много раз увеличили население российских столиц на рубеже веков.
Большие города наступают, показывая свою грандиозную мощь, но в то же время обнажая и делая беззащитным муравья, среднего обывателя. Если в деревне общинные пережитки играли важную роль, а коллективизм смягчал падение индивида, то в большом городе человек часто оставался со своими проблемами в полном одиночестве, испытывал жгучее, волчье чувство тоски. «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век…»
КАЛЕНДАРЬ ГУЛЯНИЙ
Театр в 1860-е годы посещался в основном лицами из аристократии и дворянства, хотя купечество и студенчество тоже начинало в него заглядывать. Среди простого люда были популярны гуляния, график проведения которых учила назубок вся Москва.
Гулянье «под Новинским» – в Масленичную и Пасхальную недели;
Гулянье на Красной площади – в субботу перед Вербой;
Гулянье в Сокольниках – 1 мая;
Гулянье в Марьиной Роще – на Троицу и на протяжении всего лета;
Гулянье за Дорогомиловской заставой – 24 июня;
Гулянье в Архиерейской роще – 20 июля;
Гулянье на Воронцовом поле – 20 июля;
Гулянье у Новодевичьего монастыря – 28 июля;
Гулянье у Новоспасского монастыря – 6 августа.
Гулянье у Свято-Андроникова монастыря – 15 и 16 августа;
Гулянье у Донского монастыря – 19 августа;
Гулянье у Ивановского монастыря – 29 августа;
Гулянье у Данилова монастыря – 1 сентября.
Чуть позже появятся бульвары, и уже в 1860-е годы молодой В.О.Ключевский после провинциальной юности напишет о стремительно «демократизировавшемся» Тверском бульваре: «Ты знаешь, что такое московский бульвар? Вещь, стоящая изучения в статистическом и психологическом интересе. Это, братец ты мой, длинная аллея, усаженная деревьями, вроде нашей скверы, только длинная, не круглая, вдоль широкой улицы, посередине, между двумя рядами домов – понимаешь, ведь живо рисую? Такие бульвары огибают всю середину Москвы. Самый знаменитый из них в отношении охоты за шляпками – Тверской, сиречь именно тот, от которого недалеко помещаюсь я. Только я там редко бываю – утешься и не бойся за меня. Вот как наступит вечер, там музыка около маленького ресторанчика и, братец ты мой, столько прохвостов, что и-и! Здесь царствуют такие патриархальные нравы, что всякую даму встречную, если есть охота, ты можешь без церемонии взять под руку и гулять с ней, толковать обо всем: о Вольтере, о значении его в истории развития безбожия и камелий, об эмансипации женщин – только не крестьян, о том, что такое любовь и что кошелек – словом, обо всех живых современных вопросах левой руки. Нагулявшись, ты можешь, если опять есть охота, попросить спутницу (признаться, иногда очень красивую и милую) проводить тебя самого до квартиры и непременно получишь согласие».
III
Семидесятые
Сегодня в ресторане ты говорил опять много и все некстати. О семидесятых годах, о декадентах. И кому? Половым говорить о декадентах!
А. П. Чехов
Генерал-губернатор: Владимир Андреевич Долгоруков. Содержания получает 36 000 рублей. Обер-полицмейстер: Николай Устинович Арапов. Содержания получает 13 017 рублей.
Из путеводителя
Это была легендарная Москва. Москва – скупости Солодовникова, кутежей Каншина, речей Плевако, острот Родона, строительства Пороховщикова, дел Губонина. В литературе – Островский… В публицистике – Аксаков. В консерватории – Николай Рубинштейн.
В. М. Дорошевич
Сорта местечкового снобизма – будь он пермским, тверским или самарским – мало чем отличаются друг от друга. «Я пятьдесят лет на свете живу, и, благодарение моему богу, никогда из Петербурга не выезжал (и батюшка и дедушка безвыездно в Петербурге жили!), и за всем тем все-таки могу сказать утвердительно, что этой рыбки да еще нашей корюшки нигде, кроме здешней столицы, достать нельзя! Вот в Ревеле, говорят, какую-то вкусную кильку ловят – ну, той, в свежем виде, никогда не видал, а чего не видал, о том и спорить не стану!» – сказывал Семен Прокофьич из «Господ ташкентцев» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Позже герой произведения деловито добавил: «Слыхал я, будто в Москве, в Новотроицком трактире каких-то необыкновенных гусей подают, да ведь это славны бубны за горами, а мы поедим нашего, петербургского!» Москвичи отвечали жителям Петербурга взаимностью, вновь ломали копья во взаимных поединках и хвалили, аки кулик, свои маленькие мещанские болотца.
Начало семидесятых. Москва медленно, но верно пожинает плоды реформ. Появляются рабочие руки – пришлые крестьяне в 1871 году составляют 38,8 % от всех проживающих в городе, в 1880 году – 35,14 % от всего населения[64]. Растет число предприятий – в 1872 году в городе насчитывается 93 хлопчатобумажные фабрики, 46 прядильных и красильных предприятий, 43 фабрики шерстяных изделий, 28 салотопных и мыловаренных производств, 29 заводов по выделке шелка и парчи, 33 кожевенных, 20 пивоваренных и уксусных. Крупнейшие состояния формируются преимущественно в текстильной отрасли, наш капитализм – «ситцевый» по сути своей.
Однодневная перепись, проведенная 12 декабря 1871 года, показала, что в городе проживает 611 974 человека. Интересно, что мужчин среди жителей гораздо больше, нежели представительниц прекрасного пола – 358 079 против 253 895![65] Относительно мало народа в Замоскворечье: в Пятницкой части насчитывается 25 412 жителей. Дешевле всего жить на окраинах, поэтому население Лефортовской части превышает 53 тысячи человек.
Дерево пока еще берет верх над остальными материалами: по данным 1874 года, деревянных домов в городе 18,4 тысячи, каменных – 12,6 тысячи. «Москва стала люднее, оживленнее; появились, хоть и наперечет, громадные дома; кирпичные тротуары остались достоянием переулков и захолустий, а на больших улицах уже сплошь уложены были нешироким плитняком; местами, в виде заплат, выступал и асфальт. Тверская улица как будто присмирела, Кузнецкий мост – тоже, но зато в «Городе», на Ильинке, на Никольской, с раннего утра была труба нетолченая от возов. Дома на этих улицах стояли сплошной стеной и были испещрены блестящими вывесками»[66]. Некоторые современники отмечали азиатский характер застройки Китай-города, считали, что узкие улочки будто переносят путешественника в Смирну или Тегеран. Правда, спасали фасады относительно европейского вида. Впрочем, еще госпожа де Сталь называла Москву «татарским Римом».
Перемены резко бросаются в глаза. Журнал «Зодчий» писал в 1873 году, что территория современной Москвы не нуждается в расширении, на имеющейся городской земле можно с лихвой разместить два миллиона человек. Тем удивительнее эти слова воспринимаются современными москвичами – как заметил в одной из своих публичных лекций архитектор Юрий Григорян, площадь исторической застройки составляет около 5 % города в границах МКАД. На 95 % современная Москва является детищем советской эпохи.
Журналисты настаивают, что строить дома нужно по-новому, с размахом, увлекая их ввысь, не ограничиваясь одним-двумя этажами. «В центральных частях города и близ станций железной дороги начали вырастать громадные дома в 5 и 6 этажей, от которых не отказалась бы любая европейская столица… Укажем на сплошной ряд высоких красивых домов на Никольской улице и Ильинке…»[67] В качестве современного и удобного жилья «Зодчий» приводит дом Пороховщикова на Тверской, 28. В доме нет наружных подъездов, вход в здание прячется во дворе!
Авторы статьи предвидят появление вахтеров и консьержей: «…Отсутствие входов снаружи дома даст возможность поддерживать постоянный и бдительный надзор… Стоит только поместить при входе в ворота в особой ложе привратника, который бы следил за входящими и выходящими, как это делается, например, в Париже». В удобнейшем и весьма современном доме Пороховщикова в дальнейшем будет квартировать Ф. О. Шехтель.
П. Д. Боборыкин опишет здание в романе «Китай-город». Один из героев предается сентиментальным грезам: «Палтусов закрыл глаза. Ему представилось, что он хозяин, выходит один ночью на двор своего дома. Он превратит его в нечто невиданное в Москве, нечто вроде парижского Пале-Рояля. Одна половина – громадные магазины, такие, как Лувр; другая – отель с американским устройством. На дворе – сквер, аллеи; службы снесены. Сараи помещаются на втором, заднем дворе. В нижнем этаже, под отелем, – кафе, какое давно нужно Москве, гарсоны бегают в куртках и фартуках, зеркала отражают тысячи огней… Жизнь кипит в магазине-монстре, в отеле, в кафе на этом дворе, превращенном в прогулку. Кругом лавки брильянтщиков, модные магазины, еще два кафе, поменьше, в них играет музыка, как в Милане, в пассаже Виктора-Эммануила. Это делается центром Москвы, все стекается сюда и зимой и летом. Тянет его к себе этот дом, точно он – живое существо. Не кирпичом ему хочется владеть, не алчность разжигает его, а чувство силы, упор, о который он сразу обопрется. Нет ходу, влияния, нельзя проявить того, что сознаешь в себе, что выразишь целым рядом дел, без капитала или такой вот кирпичной глыбы».
Москва в семидесятые годы поражала контрастами и полярными проявлениями жизни. Высокие дома в центре и деревянные домишки на окраинах сочетались с фабричными трубами, кирпичной громадой Кремля, последними бастионами дворянского быта, босяцкими ночлежками. Однако перемены стремительно проникали даже на самые консервативные окраины – Таганку, Замоскворечье. П. И. Богатырев писал о стремительном изменении образа жизни обитателей Рогожской части: «Европа ворвалась к нам, словно хлестнула нас огненной вожжой, и азиатская Рогожская пала. Угадав чутьем «новое», она бросилась к нему со всех ног, отрешившись в массе от «старого», и зажила новою жизнью. Все наши девицы вдруг сделались «барышнями». На хорошеньких головках вместо платочков появились шляпы с белыми перьями, щегольские зонтики, и наши тротуары стали топтаться французскими каблучками. Гребенка, как музыкальный инструмент, под которую «разделывали кадрель», была изгнана, и уже кое-где постукивали фортепьяно. Старые песенки улетели, место их заняли чувствительные романсы… Потом добрались до Тургенева, до Гоголя, а эти уж совсем вывернули в другую сторону рогожские мозги»[68]. Европа в России сначала принимает внешние формы, лишь затем воцаряется в нравах, литературе, искусстве. И. С. Аксаков подмечает значительные перемены: «Просвещение или, пожалуй, только образование, европеизм врываются в эту среду могучими волнами, и Россия в скором времени изменит свой вид. Эта «почва невежества» была в то же время оплотом консервативным, не в пошлом смысле, а в смысле хранительницы народного духа, исторических и религиозных преданий… Теперь же – образованные купцы – люди в полном смысле новые… Старина для них не существует, исторического груза не слышат; с церковью разрывают легко и даже не лицемерят».
Названия крупнейших купеческих улиц становились нарицательными. Бегушев, герой романа А. Ф. Писемского «Мещане», возмущается: «Великие мыслители иссушили свои тяжеловесные мозги, чтобы дать миру новые открытия, а Таганка, эксплуатируя эти открытия и обсчитывая при этом работника, зашибла и тут себе копейку и теперь комфортабельнейшим образом разъезжает в вагонах первого класса и поздравляет своих знакомых по телеграфу со всяким вздором… Наконец, сам Бетховен и божественный Рафаэль как будто бы затем только и горели своим вдохновением, чтобы развлекать Таганку и Якиманку или, лучше сказать, механически раздражать их слух и зрение и услаждать их чехвальство». Свою гневную речь он обращает и в сторону аристократических кварталов, казалось бы, продолжающих хранить свое достоинство: «Я совершенно убежден, что все ваши московские Сент-Жермены, то есть Тверские бульвары, Большие и Малые Никитские, о том только и мечтают, к тому только и стремятся, чтобы как-нибудь уподобиться и сравниться с Таганкой и Якиманкой».
Замоскворечье. Видны кованые ворота усадьбы Демидовых в районе современного Лаврушинского переулка и церковь Воскресения Христова в Кадашах
Ф. М. Достоевский, рассуждавший в 1876 году о «силе купеческого мешка», напишет о новых временах и вызревании своенравия: «Современному купцу уже не надо залучать к себе на обед «особу» и давать ей балы; он уже роднится и братается с особой на бирже, в акционерном собрании, в устроенном вместе с особой банке; он уже теперь сам лицо, сам особа. Главное, он вдруг увидал себя решительно на одном из самых высших мест в обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже, и официально и искренно, отведено миллиону, и – уж разумеется, не усумнился сам в себе, что он и впрямь достоин этого места».
Правда, постепенно приходило понимание, что деньги еще не гарантируют попадания в высшее общество. И. С. Аксаков делился своими наблюдениями в 1875 году: «Теперь у купцов le grand genre – классическое образование, и всех своих цыплят они направляют в классические гимназии. Не только Морозов Тимофей Саввич, но даже какой-нибудь Щенков, торгующий в Гостином дворе, и тот стыдится «реального» образования». Детей Щукина отправляют получать гимназическое образование в Выборг, где вокруг слышалась немецкая речь. Морозовы и Мамонтовы бывают в Англии, Германии.
Ивановская горка, Кремль и Ивановский монастырь в эпоху 1870-х
Дворянство пока не сдавалось и продолжало ревностно оберегать свои районы. Потрясающая воля к жизни, учитывая реалии пореформенной России! Князь-анархист Петр Кропоткин написал реквием уходящим реалиям на Старой Конюшенной: «Около пятидесяти лет назад тут жило и медленно вымирало старое московское дворянство, имена которого часто упоминаются в русской истории до Петра I… В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасад с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами»[69]. В описываемом районе вырос и Александр Герцен.
Люди на улице продолжали «выдавливать раба по капле», привыкали к демократическому обхождению, о чем с чувством иронии писал Н. С. Лесков: «Самого грязного халатника-татарина у нас все в один голос кличут «князь», и всякий татарин оборачивается на эту кличку. Теперь опять новый и замечательный прием смешанной насмешки с притворством: обращается простолюдин к городовому, а в селе к уряднику, величая его «полковник». И это делают не одни простолюдины, а и образованные люди. «Урядник зауряд полковник», а каждый пристав – «ваше превосходительство»[70].
Москва влияла и на ближайшие губернии. Появление железных дорог сделало российское население более мобильным. Москва стремительно приходила в те места, где раньше о ней говорили как о чем-то безнадежно далеком. Народоволец и писатель С. Я. Елпатьевский блестяще описывает перемены в жизни российской провинции: «Многие… окрестные крестьяне стали тоже ездить в Москву. Они также привозили оттуда самовары и поддевки тонкого сукна, и сапоги с подбором, и манишки, и московские песни, московские нравы и московскую речь. Вместо старинного «цово», стали как-то особенно нежно выговаривать «чиво», и певучее московское «аканье» начало вытеснять грубое крутогорское «о». Падкие на моды, деревенские девки скоро выучились «акать» и говорить «чиво», скоро запели московские песни, стали снимать сарафаны и шить себе кофты и шерстяные платья… Все было совершенно так же, как за сто лет перед тем, когда знатные русские люди стали ездить в Париж и привозили оттуда французские слова и парики, французские нравы и французскую болезнь. И, как екатерининских времен молодые кавалеры-модники, побывавшие в Париже, крутогорские ферликуры (ловеласы, кавалеры. – Прим. авт.) жадно подбирали по московским трактирам модные словечки и удивляли деревенских девок замысловатыми оборотами речи и пахучими остротами… Побывавшие в Москве привозили с собой новый воздух, новые потребности, новые вкусы, – запросили чаю, хорошей одёжи. Им стало тесно в старинных дедовских семьях. И старики стали поговаривать, что парни набаловались и начинают перечить старшим… Нарождался человек. Без барина, из однообразной серой массы мирян смутно поднимала голову человеческая личность, и из воли семьи, воли мира обособлялась единичная воля. Он не всегда был приятен, этот новый деревенский человек, как не все было приятно в той внешней культуре, которую он нес с собой в деревню, но это был человек, почувствовавший свое я, начинавший думать, добивавшийся своих «правов»[71].
Река Яуза в пореформенные годы
Даже А. Н. Энгельгардт, заведовавший образцовым хозяйством в провинции, жаждал в семидесятые годы хотя бы редкостного погружения в городскую культуру: «Хотелось и по мостовой проехать, и по тротуару пройти, и музыки послушать, в клуб завернуть, в театре побывать, посмотреть женщин, которые носят красивые ботинки, чистые перчатки. Странное дело, кажется, я уж привык к деревне, скоро три года только и вижу полузипунники, лапти, уродливо повязанные головы, обоняю запах капусты, навоза, сыворотки».
Воздух семидесятых годов для людей свободолюбивого склада был уже не так свеж и упоителен: «После выстрела Каракозова чувствовалась скорее реакция, чем настоящее «поступательное» движение. Власть затягивала повода, но все-таки тогда еще нельзя было похерить то, что только что было даровано: гласный суд и земские учреждения или университетский устав 1863 года. Поэтому и в остальной жизни, если и не было подъема 60-х годов, то все-таки в интеллигентной сфере произошло неизбежное расширение разных видов культурной работы. Журнализм и пресса опять значительно ожили… В беллетристике были еще налицо все наши корифеи. Критика и публицистика заметно оживились. Сатира, в лице Салтыкова, была в самом расцвете. Театры были по-прежнему в тисках придворной привилегии, и в репертуаре Островский не создал школы хотя бы наполовину таких же даровитых последователей. Но музыка сильно двинулась вперед с русской «кучкой», а братья Рубинштейн заложили прочный фундамент музыкальной образованности и специальной выучки…»[72]
В Московском университете в 1871 году училось всего лишь 1522 студента: 103 человека посещали занятия на историко-филологическом факультете, 156 – на физико-математическом. Гораздо популярнее были юридический (743 студента) и медицинский факультеты (520 студентов). В Московском техническом училище насчитывалось 388 воспитанников. Палитру учебных заведений разбавляли Комиссаровская техническая школа, Московская практическая академия коммерческих наук на Покровском бульваре, Коммерческое училище на Остоженке, Лазаревский институт восточных языков, консерватория, театральная школа при Малом театре.
Богатая и размеренная жизнь носителю русского менталитета покажется хуже семи казней египетских. Купцы отчаянно чудят, напаивают медведей шампанским, ездят по улицам на свиньях, заказывают десять цыганских хоров одновременно. Русскому человеку, как ни странно, всегда нужны зримые ощущения превосходства своей страны. Не в космосе, так на льду. Не в цирке, так в балете. В советские годы витриной социалистического строя служила ВДНХ. Блестит, сверкает, поражает. Все понимают, что за фасадом красивой сказки прячутся разбитые дороги и пустые полки, но верят и пытаются потрогать. В дореволюционной Москве не изобрели стационарной выставки передовых диковин, но время от времени проводили поражающие размахом выставки. Москвичи за чаем и плюшками не замечали, что в стране поднимает голову внушительная индустрия. В 1872 году Первопрестольная принимала Политехническую выставку.
Событие приурочили к 200-летию появления на свет Петра Великого, создателя российской фабрично-заводской промышленности. Политехническую выставку торжественно открыли 30 мая, в день рождения первого императора. К волнующему событию П. И. Чайковский написал специальную кантату. Директор Императорского технического училища В. К. Делла-Вос отметил в торжественной речи: «Польза, которую политехническая выставка должна принести нам во многих отношениях, уже видима и осязательна для каждого серьезного наблюдателя… Стоит осмотреть подробно отделы: морской, военный, севастопольский, почтовый, телеграфный, железнодорожный, горный, прикладных естественных наук и другие, чтобы убедиться в производительности затрат на их организацию массы умственной деятельности и разумного труда».
Многие ораторы отмечали, что Россия использует опыт Всемирных выставок в Лондоне и Париже 1851, 1855, 1862 и 1867 годов. К внушительным и грозным павильонам в Москве добавились «мирные» отделы – ветеринарный, сельскохозяйственный, педагогический, домоводства, попечения о рабочих. Были отделы, возбуждающие этнографический интерес из-за восточного колорита, Туркестанский и Кавказский. Исторический отдел возглавил ученый С. М. Соловьев. Выставочные площади заняли около 42 000 квадратных метров. Мероприятие посетили 750 000 человек, причем 80 000 рабочих и 20 000 молодых людей смогли ознакомиться с новинками прогресса совершенно бесплатно.
Д. Н. Чичагов, В. А. Гартман, И. П. Ропет, А. С. Каминский, А. И. Монигетти, В. Н. Карнеев, Н. А. Шохин и другие зодчие возвели 86 временных павильонов, а для яркого освещения выставки построили специальный газовый завод. Для железнодорожного отдела проложили специальную ветку и линию конки. Из более чем 10 000 экспонатов иностранцы предоставили только пятую часть. Газеты писали, что для беглого поверхностного осмотра понадобится два дня, а на доскональное изучение всех диковинок придется потратить несколько недель. Зевак привлекала интерактивность экспозиции: «Зонточное заведение г. Провоторова показывает производство зонтов: тут делают ручки, вставляют пружинки, кроят и сшивают материю, громадный зонт раскинут над заведением, вроде круглой крыши. Рядом господин Шольц поместился с токарною мастерскою; у него три токарных станка… Сзади два мастера из мастерской г. Павлова (в Зарядье) точат на станках самой простейшей конструкции; токарное мастерство по дереву показано публике во всех его видах»[73]. На Варварской площади появилась общественно-развлекательная зона: здесь раскинулся гимнастический городок, можно было заглянуть в чайную или читальню.
На испанского путешественника А. Паскуаля произвел сильное впечатление павильон с изделиями народных промыслов. «Деревянные изделия из Новгорода, кружева из Вятки и Вологды, шали из Оренбурга – восхитительны», – отметил он[74]. В Российской империи многие уезды имели свою хозяйственную специализацию, что позволяло быстро и дешево снабжать жителей окрестных регионов нужными товарами.
Илья Репин вышел из павильонов в тягостно-кислом настроении, о чем не преминул сообщить В. В. Стасову: «Неприятнее всего поразило меня в Москве (Москву я люблю как родную мать и нахожусь всегда точно в гостях у матери – в Москве) противно, гадко выстроенная Политехническая выставка, особенно наверху у колокольни Ивана Великого и внизу против гостиницы Кокорева, где я имею большое удовольствие проживать… Очень большое удовольствие потому, что из окна я вижу Кремль, Василия Блаженного, Спасские ворота, башни, стены, колокольню Ивана Великого, все эти колоссальные, освященные веками и замечательно художественные вещи. Теперь особенно чувствительна их художественная грандиозность, когда есть сравнение: внизу слепили «курам на смех» клетушки для выставки – должно быть, немец задался опошлить пресловутый мотив русской избы – хуже выдумать нельзя. Внизу здания имеют вид прачешной; назначения их не знаю. Впрочем, Морской отдел очень хорош, по крайней мере общеевропейская вещь».
Сам Стасов отмечал, что выставка не производила целостного впечатления, хотя именно в 1870-е годы сложился столь чтимый им тип павильона в русском стиле: «Московская выставка 1872 года была устроена в Кремлевском саду, по нескольким направлениям и с несколькими поворотами за углы, да притом еще раскинулась своими многочисленными и разнокалиберными постройками среди целого леса деревьев – значит, никакого общего вида не могла иметь»[75].
Железнодорожный отдел Политехнической выставки 1872 года
На выставке работал Народный театр, организованный режиссером Александром Федотовым. Провинциальные и начинающие играть на подмостках Малого театра актеры ставили пьесы, понятные и доступные простой публике – «Ревизор», «Недоросль», «Бедность не порок», «Жизнь за царя», «Свои люди – сочтемся», «Мельник – колдун, обманщик и сват». После закрытия выставки Федотов ходатайствовал о даровании театру статуса постоянного. Но правительство отказало ему в этой просьбе: видимо, власти боялись талантливого мастера, ведь многие произведения в Народном театре ставились в оригинальном, неискаженном, остросоциальном контексте.
Александр II, посетивший выставку, посетовал, что всем в России движет корыстный и личный интерес: «Не то мы видели здесь: все участвовавшие в деле Политехнической выставки так же трудились, так же усиленно работали, но при этом они задавались иными целями. Они не рассчитывали ни на денежные, ни на материальные выгоды и имели в виду исключительно желание принести пользу нашему Отечеству».
Политехническая выставка 1872 года дала начало двум самостоятельным музеям: прикладных знаний и Историческому. Появление последнего совпало с зарождением «русского» стиля в архитектуре. Правда, каждый москвич рисовал себе образ былинного прошлого по-своему. А. С. Уваров, известный археолог и идеолог охраны памятников старины, хотел видеть в облике нового музея мотивы зодчества Владимиро-Суздальской земли. Историк И. Е. Забелин находил свою прелесть в московской школе XV–XVII веков и предлагал ориентироваться на собор Василия Блаженного. Строительство продолжалось с 1875 по 1881 год и закончилось присвоением новому учреждению имени Александра III.
Разночинцы постепенно открывали для себя новые площадки, театры, выставки, сказывался постепенный рост доходов среднего москвича. И. Е. Репин восхищенно писал: «Вчера мы были в Румянцевском музее. По случаю воскресенья, а потому бесплатного входа, там было много мужичков; нас удивило ужасно их художественное понимание и умение наслаждаться картинами: мы ушам своим едва верили, как эти зипуны прочувствовали один пейзаж до последних мелочей, до едва приметных намеков дали; как они потом, как истые любители, перешли к другому пейзажу («Дубы» Клодта), все разглядывалось в кулак, все перебиралось до ниточки. Вообще в Москве больше народной жизни; тут народ чувствует себя как дома, чувство это инстинктивно переходит на всех и даже приезжим от этого веселее – очень приятное чувство. На костюм не обращается никакого внимания, даже очень богатыми, про купцов и говорить нечего».
Для художественной жизни 1870-х годов характерны резкие перепады и контрасты. Так, за выдающейся картиной Алексея Саврасова «Грачи прилетели» прятались ужасные будни самого живописца. Кутающийся в дрянную кацавейку, он находил спасение в трактирах и ночлежных домах Хитровки. Чтобы заработать копеечку, Саврасов рисовал по памяти свои лучшие пейзажи на Сухаревом рынке и дрожащей рукой подписывал их. Сухаревка тут же продавала «полотна» маститого художника по два-три рубля.
Лучшие культурные кадры уезжали попытать счастья в Северную столицу: «Большинство устремлялось к центру, в Петербург, – в «писательскую Мекку», как шутили иногда сами же писатели. Но как ни была придавлена общественность, жизнь делала свое дело; дух не угасал. Как ни старались разъединить людей, но люди все-таки встречались, стремились друг к другу, и общение не умирало»[76].
Еще жили в Москве свидетели александровского и николаевского царствования, участники салонных баталий 1840-х годов. Многие из них ностальгировали по обаянию старого города. Б. Н. Чичерин вспоминает образ жизни Николая Христофоровича Кетчера, литератора и переводчика, друга А. И. Герцена: «У этого записного москвича, который кроме Москвы ничего не признавал, который Петербурга не выносил и скучал в деревне, было и живое чувство природы. Высшим его наслаждением было бродить по целым дням по лесу и собирать грибы. Это чувство было взлелеяно в нем раннею молодостью. Он любил вспоминать про старую Москву, еще не застроенную и не загаженную фабриками, с ее громадными садами, с многочисленными прудами, наполненными прозрачною, текущею водою, с прелестными прогулками по берегам светлой еще в то время Яузы. Он с грустью рассказывал, как все это на его глазах мало-помалу исчезало. Но он любовался и всеми остатками прежней очаровательной обстановки. Всякое красивое дерево приводило его в восторг. У себя дома он целое лето копался в саду, с любовью сажал и лелеял цветы. Друзья его сделали складчину и купили ему почти на конце 3-й Мещанской небольшой дом с довольно обширным садом. Здесь с ранней весны можно было найти его по утрам, в рубашке и нижнем платье, с грязными руками, копающегося в земле, или вечером, когда он после дневной работы спокойно курил на своем балконе, наслаждаясь вечернею прохладою и любуясь тенью высоких деревьев, с играющими в прозрачной листве лучами заходящего солнца»[77].
Кетчер вспоминал долгие прогулки с Белинским по Страстному бульвару, берега извилистой Яузы и любил сиживать в старом вольтеровском кресле, доставшемся ему от рано ушедшего Грановского. Владимир Александрович Черкасский, московский городской голова в 1868–1870 годах, писал одному из знакомых: «Что сказать вам о московской жизни? Она проходит тихо, бесцветно и весьма безжизненно. Старая Москва, интеллигентная, литературная, исчезла надолго. Ее заменили – биржа, торговля, промышленность».
Еще один старый москвич, Н. В. Давыдов, сетовал, что город теперь ничем не отличается от Петербурга, даже прохожие приобрели «космополитический» вид. Перевелись знаменитые московские калачи и сайки. «Нет, наконец, строго говоря, и настоящего «москвича», – сетует старожил. Забавно вычитывать подобные пассажи в начале XXI столетия, когда население столицы каждый год обновляется на пару-тройку процентов. Впрочем, все ворчание о «понаехавших» разбивается в лепешку при упоминании Гиляровского, который появился на свет отнюдь не в границах Камер-Коллежского вала.
Н. Д. Телешов нашел весьма точное сравнение для метаморфоз городской среды 1860—1870-х годов – Москва Грибоедова превращалась в Москву Островского. Из «темного царства» вылезли крупные финансовые воротилы, в переулках Китай-города каждый день считали сотни тысяч рублей. «…Многие «тятеньки» и «папаши» – малограмотные и безграмотные, – забогатев, воображали, что им «при их капитале» все доступно и все дозволено, поэтому – «ндраву нашему не препятствуй!».
Шорно-экипажный заводик, располагавшийся недалеко от современного Белорусского вокзала
Сдавали под напором буржуазии центральные районы, но социальное членение столицы все еще соблюдалось: купцы неохотно занимали «дворянские» кварталы между Арбатом и Пречистенкой, предпочитали селиться в местах, где их брат обитал прочно и давно. «Строили крепкие, грубые особняки, разводили просторные сады с фруктовыми деревьями, настаивали из своей рябины ведерные бутыли водки, заводили «своих лошадей», чтоб ездить «в город» и в баню, и чувствовали себя лучше, чем в центральных кварталах».
Старый быт сохранялся и в московском доме Л. Н. Толстого: «Ничто тут даже не намекало на то, что вы в доме великого писателя, который выработывал себе целое новое миропонимание, готовился быть вероучителем и производить в душах своих соотчичей и обитателей обоих полушарий ломку их религиозных и этических исповеданий веры. Просто дворянский дом, где-нибудь на Плющихе, или на Сивцевом Вражке, или в Староконюшенном переулке, у богатых помещиков, проживающих зимой в Москве, где много детей, где собирается молодежь, музицируют… болтают за чайным столом. В этом было что-то бытовое, чисто русское: полное отсутствие того «священнодействия», каким семья какой-нибудь западноевропейской знаменитости непременно наполнила бы весь ритуал жизни дома в дни приемов»[78].
Великие реформы прошедшего десятилетия продолжились введением в 1874 году всеобщей воинской повинности. Рекрутчина ушла в прошлое. 21-летние юноши читали по складам строчки из устава: «Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного». Появился стимул получить полноценное образование: закончившие гимназию служили всего лишь полтора года, а имевшие университетский диплом – шесть месяцев.
Однако сразу же появились желающие обойти закон. Жуликов, практиковавших свое черное дело долгие годы, вывели на чистую воду только при городском голове Николае Алексееве: «…В помещении городской думы ежегодно осенью происходил набор московских юношей к отбыванию воинской повинности. Здесь учитывались всякие льготы, давались годовые отсрочки по состоянию здоровья и т. д. Здесь же предъявлялись свидетельства, освобождающие молодых людей, если они состояли учителями народных школ. Десятки лет все это происходило благополучно, но Алексеев вдруг пожелал проверить освобождающие права не по бумагам, а на самом деле. Он посадил всех этих учителей за стол и заставил написать каждого свою краткую биографию, назвать учебники, по которым обучают они детей… И что же оказалось? Большинство этих «учителей» не смогли грамотно написать даже несколько строк. Оказалось много мошеннических проделок для уклонения от воинской повинности, и все эти забронированные сынки богатых родителей тут же попали в солдаты. Способ, практиковавшийся долгие годы, был выявлен и уничтожен». Хороши оказались «учителя»…
В 1870-е годы женщины отвоевывают себе все большую свободу личности. Широкие взгляды первоначально вызывают удивление. «Стриженые волосы, отсутствие кринолина или барашковая шапка на голове женщины производили сенсацию в публике и приводили многих в ужас. Такой женщине не было прохода от презрительных взглядов и насмешек, сопровождаемых кличкой «нигилистка». По примеру образованного класса, извозчики и лавочники также преследовали этих женщин грубым смехом и остротами», – вспоминала гражданская жена Некрасова А. Я. Панаева-Головачева[79].
С. В. Ковалевская с восхищением писала о своей старшей сестре Анюте, познакомившейся с первым номером «Колокола»: «Она изменилась даже наружно, стала одеваться просто, в черные платья с гладкими воротничками, и волосы стала зачесывать назад, под сетку»[80]. Костюм вовсе не означал радикальных взглядов, но в России 1860—1870-х годов именно одежда вызывала оторопь со стороны власть имущих. Совершенно карикатурен приказ нижегородского самодура Николая Огарева, вздумавшего бороться с проявлениями «оппозиционности» в костюме: «Замечено мною, что на улицах Нижнего Новгорода встречаются иногда дамы и девицы, носящие особого рода костюм, усвоенный так называемыми «нигилистами» и всегда почти имеющий следующие отличия: круглые шляпы, скрывающие короткостриженные волосы, синие очки, башлыки и отсутствие кринолина».
Дальше властитель клеймит позором каракозовский выстрел и продолжает: «Среда, воспитавшая злодея, заклеймена в понятии всех благомыслящих людей, а потому и ношение костюма, ей присвоенного, не может не считаться дерзостью, заслуживающей не только порицания, но и преследования… Подобных дам и девиц обязывать подписками изменить костюм. В случае же сопротивления с их стороны к выдаче требуемого обязательства, объявлять им, что они будут подлежать высылке из губернии на основании существующих узаконений». В Москве подобных курьезов не случалось, но «нигилистический» костюм, вероятно, приковывал косые взгляды.
Постепенное раскрепощение женщин ведет к появлению специализированных учебных заведений, куда допускались дамы. В 1869 году открылись Лубянские курсы, знакомившие с программой классической гимназии. В 1872 году распахнулись двери Высших женских курсов, основанных профессором В. И. Герье. В течение двух лет слушательницам читались лекции по истории, литературе, искусству. Курсы имели гуманитарную направленность, однако точные науки в учебном плане тоже присутствовали. За год обучения дамы платили 30 рублей, наиболее способным выделялась стипендия от Московской купеческой управы.
Занятия проводили лучшие профессора Московского университета, среди преподавателей числились П. Г. Виноградов, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. С. Тихонравов, Ф. А. Бредихин. С 1879 года продолжительность обучения увеличилась до трех лет. Число слушательниц постепенно росло: в первый год работы сюда заглядывали 70 женщин, а к середине 1880-х уже около 250. Мнение общества разделилось: «Одни из нас, «из публики», просто определяют это явление словами: «бегают на курсы»; другие через пень колоду присоединяют рассуждения «о женском вопросе»; иной почему-то произнесет слово «самостоятельность» и ехидно улыбнется. Словом, все мы, «публика», имеем понятие о том, что «бегают», что «идут против родителей», иногда «помирают не своей смертью», что, с другой стороны, самостоятельность «хорошо», что «пущай», что лучше всего «мать»; назначение женщины – «мать», а не бегать на курсы, что мозг женщины мал, что ничего не выйдет и что опять-таки как будто «хорошо»[81].
На Высших женских курсах училась Мария Павловна Чехова, затем преподававшая историю и географию в одной из частных гимназий. Учебное заведение закрыли на волне реакции в 1888 году. Вдохновитель идеи негодовал: «Слабоумные люди, заправлявшие в 80-х годах, полагали, что одержали большой успех над революцией, запретив прием девиц на Высшие женские курсы». Однако всеобщую тягу к образованию и свету не могли запретить возмущенными циркулярами. Ценность знания росла с каждым годом. На фоне всеобщей милитаризации В. И. Вернадский заметит в 1914 году: «Высшая школа есть орудие в мировой борьбе за существование, более сильное, чем дредноуты»[82].
Идею женского образования защищал и философ-публицист Василий Розанов: «Стране нужны не одни Ломоносовы: стране более, чем Ломоносов, нужно просто образованное общество, читающая и размышляющая масса, деятельные и знающие члены; наконец, стране в высшей степени нужны мягкие нравы, деликатные привычки, человечные взгляды по всем направлениям и во всех областях. Всего этого решительно нельзя достигнуть, пока женская половина общества будет признана каким-то ублюдком по самой организации своей… неспособным к усвоению высших идей и знаний. Нет более надежного и более ревностного распространителя вообще всякого рода нововведений, чем женщины, – чего бы дело ни коснулось, от покроя платья до философии, от удовольствий до религии! У нас Екатерина II распространяла идею Дидеро… Женщины – вечные популяризаторы, талантливейшие. Без помощи их специально мужское образование останется каким-то неходким, бескрылым, тяжеловесным, косным»[83]. Когда на Западе уже вовсю работала первая женщина-программист Ада Лавлейс, в России только спорили, нужно ли подпускать дам к образованию. Средний россиянин подумает и вспомнит Софью Ковалевскую. Однако в конце XIX века только в швейцарских университетах обучалось свыше 500 наших соотечественниц!
Характерно, что в баталии о модном в семидесятые годы женском вопросе включился даже старейший москвич П. А. Вяземский, с благословением вспоминавший допожарную Москву и бывший ее певцом: «Нет сомнения, что мужчины могли бы, с вежливою уступчивостью, поделиться с женщинами некоторыми своими присвоенными себе профессиями и занятиями, другие даже им вовсе уступить. Но все это исключения, случайности. Но все же настоящее, природою указанное, святое место женщины есть дом, есть семейный очаг, будь она мать, дочь или сестра. Внешняя, шумная, боевая, деловая жизнь, многосложная деятельность, можно сказать, несовместна с призванием женщины, даже недостойна ее; в скромном и светлом призвании она выше, независимее, свободнее, нежели будет она на искусственных и завоеванных ею подмостках. Впрочем, искони бывали примеры, что женщины входили в благородное совместничество с мужчинами. Всегда и везде бывали женщины ученые, политические; бывали женщины великие писатели, превосходные художники… Скажем мимоходом: если признавать семью, то надобно же кому-нибудь оставаться дома; а когда и жена с утра, подобно мужу, будет обязана отправляться на службу, на работу и к должности, то кто же останется представителем и ответственным лицом семейного дома, семейного начала?»[84].
Г. И. Успенский, описывая свои впечатления от нашумевшей картины «Курсистка», размышляет о формировании нового типажа личности: «Главное же, что особенно светло ложится на душу, это нечто прибавившееся к обыкновенному женскому типу – опять-таки не знаю, как сказать, – новая, мужская черта, черта светлой мысли вообще (результат всей этой беготни с книжками), не приклеенная, а органическая, что она уже в крови, что если прежде, например в тридцатых годах, какая-нибудь Марья Петровна должна была предварительно разойтись с тремя мужьями, чтобы задуматься о несчастном положении женщины, и только через посредство трех «очень развитых молодых людей» могла еле-еле добраться до мысли о необходимости самостоятельности, то здесь, в этом нарождающемся «новом типе», это даже и не вопросы, и думать-то о них нечего, так как они, повторяю, достались уже даром. Вот это-то изящнейшее, не выдуманное и притом реальнейшее слитие девичьих и юношеских черт в одном лице, в одной фигуре, осененной не женской и не мужской, а «человеческой» мыслью, сразу освещало, осмысливало и шапочку, и плед, и книжку и превращало в новый, народившийся, небывалый и светлый образ человеческий».
Крупнейшим студенческим выступлением семидесятых стали волнения 1876 года в Петровской академии. Одним из непосредственных участников был впоследствии исключенный В. Г. Короленко. Молодых людей все чаще притесняли формальностями, делали замечания за длинные неопрятные волосы, плохой костюм, «непочтительную позу при разговоре с начальством». Постепенно кто-то стал копаться в личных вещах студентов, вводил меры если не полицейские, то гимназические. Учащимся такая мелочность казалась оскорбительной. Они подают коллективную петицию, что само по себе являлось преступлением.
Один из усмирителей старался направить разговор со студентами в мирное русло: да, все мы были молоды и горячи, совершали ошибки. «Вот вы, господа, увлекаетесь Щедриным. Конечно, остроумный старик, громит чиновников и помещиков. А вам это и любо… Ну а сам?.. Сам не что иное, как бывший советник вятского губернского правления… В Тверской губернии у него имение, и мне лично пришлось по долгу службы усмирять крестьян в его имении». Зачинщиков волнений отправили в Басманную полицейскую часть, где они познакомились с «прелестями» тюремного быта: «Вдоль стены под окном были нары, на которых лежали три грязных узких тюфяка, набитых соломой. Тюфяки были покрыты толстыми простынями из мешочного холста… Одеяла из серого арестантского сукна, по которым ползали огромные участковые вши, сразу кидавшиеся в глаза на темно-сером фоне одеял. Отодвинув эти постели, мы устроились на краях нар и стали пить чай из принесенных городовым оловянных кружек».
Росли и множились подпольные кружки. Министр юстиции К. И. Пален отмечал в записке «Успехи революционной пропаганды в России»: «Еще в конце шестидесятых годов в… Москве, в среде учащейся молодежи стало проявляться стремление к образованию ассоциаций, кружков с целью взаимного денежного вспомоществования, обмена мыслей и пополнения путем чтений и бесед пробелов школьного ученья»[85]. К началу 1870-х годов «мирные» члены кружков становятся более радикальными в своих суждениях, полиция работает плохо, «в народ» идут сотни юношей и девушек.
Оппозиционно настроенные представители встречались в любой социальной прослойке: «Так, например, трое из самых ярых вожаков крайней революционной партии: отставные артиллерийские поручики Рогачев и Кравчинский и студент Клеменс проживали несколько месяцев в разных семейных домах города Москвы, отнюдь не скрывая, а напротив, пропагандируя свои учения и направления». Хорошо организованный и законспирированный «кружок москвичей» разгромили в 1875 году. Специальный судебный процесс сделал звездой рабочего Петра Алексеева, произнесшего пламенную речь: «Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста, и каждый встречный квартальный бьет нам в зубы кулаком и пинками гонит вон, – значит, мы – крепостные. Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи».
После суда Алексеева закидали лакомствами: «Сочувствие публики к Петру Алексееву после произнесенной им речи было так сильно, что на другой день вся камера Петрухи была завалена табаком, сигарами, фруктами, жареной дичью, поросятами, индейками, конфетами и печениями, а также платьем и бельем. Петруха, вскормленный на черном хлебе, иногда быть может пополам с лебедой, дивился, какими сластями питаются бары, купцы и попы, и шутя говорил, что, если бы всегда его кормили как на убой, он, пожалуй, и не произнес бы своей речи»[86].
Хотя общество и волновалось, общественное хозяйство развивалось планомерно. Это разбивает доводы нынешних «охранителей» (пишу в кавычках, потому что звание охранителя нужно заслужить), что в случае введения нормального европейского парламентаризма встанут трамваи и отключится канализация.
В 1870-е годы Москва получает долгожданную систему внутригородского транспорта – конно-железную дорогу. Извозчики были по карману не каждому, кроме того, они не имели твердой таксы на свои услуги, обывателям приходилось долго, азартно и мучительно торговаться. Система действовавших с конца 1840-х годов линеек отличалась сумбуром: предприниматели спорили из-за мест, у Ильинских ворот Китай-города могло скапливаться до 200 лошадей!
Конно-железные дороги частично сняли остроту транспортной проблемы. Конка стала предшественником электрического трамвая. К тому же, если рельсы вовсю используются в междугороднем сообщении, то почему бы не организовать пассажирские перевозки внутри Первопрестольной? Прокладку первого пути приурочили ко времени работы Политехнической выставки. Инициатором открытия первой линии конки стал М. Н. Анненков, в 1880-е он будет строить железные дороги в Средней Азии. Строители управились за месяц, длина маршрута составила 4,5 версты. Восемь вагонов английского производства 7 июня 1872 года проследовали от Иверской часовни до площади Тверской заставы. «Вагоны очень красивы, и по изяществу отделки и удобству не оставляют желать ничего лучшего», – отмечала пресса.
Первоначально новый транспорт москвичи использовали для развлечения. «Русские ведомости» писали: «Несколько дней тому назад в Москве открылось новое увеселение для москвичей – это железно-конная дорога. Каждый раз отправление вагона привлекает многочисленную толпу зрителей, и москвичи по целым часам стоят и глазеют на невиданное ими зрелище». Коммерсанты чесали затылки и понимали, что неслыханное диво может приносить неплохую прибыль. В Московскую городскую думу посыпались проекты и предложения.
В итоге власти отдали концессию на строительство и эксплуатацию конно-железных дорог компании графа А. С. Уварова. Он привлек к делу В. К. Делла-Воса и Н.Ф. фон Крузе. Совместное предприятие назвали «Уваров и Ко». Характерно, что вышеназванная троица успешно зарекомендовала себя во многих сферах: Уваров занимался историей и археологией, Делла-Вос распространял технические знания. Крузе был известным журналистом и удостоился похвальных строчек от Некрасова, очень точно передающих ощущение всеобщих надежд в ожидании реформ:
- В печальной стороне, где родились мы с вами,
- Где всё разумное придавлено тисками,
- Где всё безмозглое отмечено звездами,
- Где силен лишь обман, —
- В стране бесправия, невежества и дичи —
- Не часто говорить приходится нам спичи
- В честь доблестных граждан.
- Прими простой привет, боец неустрашимый!
- Луч света трепетный, сомнительный, чуть зримый,
- Внезапно вспыхнувший над родиной любимой,
- Ты не дал погасить, – ты объявил войну
- Слугам не родины, а царского семейства,
- Науку мудрую придворного лакейства
- Изведавшим одну.
- Впервые чрез тебя до бедного народа
- Дошли великие слова:
- Наука, истина, отечество, свобода,
- Гражданские права.
- Вступила родина на новую дорогу.
- Господь! ее храни и укрепляй.
- Отдай нам труд, борьбу, тревогу,
- Ей счастие отдай.
Даже конкой в Москве занимались люди отнюдь не случайные, любившие столицу всем сердцем. В 1874 году компаньоны продлили линию, проходившую по Тверской, до Петровского дворца, параллельно шло строительство Миусского парка конно-железных дорог. Подрядчик И. А. Бусурлин возвел конюшню на 114 лошадей, сарай на 100 вагонов, казарму, склады, мастерскую…
На открытие пожаловал генерал-губернатор В. А. Долгоруков: «После окропления зданий конно-железных дорог святою водою, присутствовавшие отправились осматривать конюшни, а затем мимо них были проведены на показ все лошади, приобретенные до настоящего времени для возки вагонов. Компания в своем распоряжении имеет вполне достаточное количество лошадей, и некоторые из них очень недурных статей». Главным подрядчиком выступал Петр Ионович Губонин, сколотивший миллионы на железнодорожных заказах и удостоившийся упоминания С. Ю. Витте: «Губонин… начал свою карьеру с мелкого откупщика, затем сделался подрядчиком, а потом строителем железных дорог и стал железнодорожной звездой. Он производил на меня впечатление человека с большим здравым смыслом, но почти без всякого образования»[87].
В том же году москвичи получили возможность добраться от Лубянской площади до Переведеновки и Покровского моста, что в районе современной станции метро «Электрозаводская». В августе 1875 года открыли сразу две линии: Сретенскую, что вела от Лубянки до Сухаревки, и Сокольничью.
Лошади пока еще не уступили электричеству своей ведущей роли на дорогах. Труженицы добросовестно тянули грузы, товары, людей, как и четыре тысячелетия назад. Герой чеховского рассказа хвастался: «Запряжешь, этак, пять-шесть троек, насажаешь туда бабенок и – ах вы, кони, мои кони, мчитесь сокола быстрей! Едешь, и только искры сыплются! Верст тридцать промчишься и назад… Лучшего удовольствия и выдумать нельзя, особливо зимой… Был, знаете ли, такой случай… Приказываю я однажды людям запрячь десять троек… гости у меня были…»[88] В ответ на изумленный вопрос: вы что, мол, владеете конным заводом, – собеседник отвечает: «Нет-с, я брандмейстер…»
Московская конка
В 1876 году А. С. Уваров с товарищами основал Первое Общество конно-железных дорог с капиталом в один миллион рублей и выпустил акции. Срок концессии, выданной городом, составлял сорок лет, так что компаньонам открывался широкий простор для деятельности. Вопросы городского транспорта и в XIX веке будоражили людские умы. Вокруг строительства конно-железных дорог вращается сюжетная канва романов «Финансист» и «Стоик» Теодора Драйзера. Рассуждения Фрэнка Алджернона Каупервуда были актуальны и в Москве: «Проблема городского транспорта всегда непреодолимо влекла его к себе, и сейчас она снова не давала ему покоя. Звонки городской конки и цоканье копыт по мостовой, можно сказать, с детства волновали его воображение. Разъезжая по городу, он жадным взором окидывал убегающие вдаль блестящие рельсы, по которым, позванивая, катились вагоны конки… Крошечные вагончики, влекомые упряжкой лошадей, были переполнены до отказа и ранним утром, и поздним вечером, а днем иной раз в них просто яблоку негде было упасть. О, если б можно было, подобно осьминогу, охватить весь город своими щупальцами! Если б можно было объединить все городские железные дороги и взять их под свой контроль! Какое богатство они сулили!»
В середине 1870-х годов протяженность путей конки в Москве составляла 27 верст, в собственности компании Уварова было 82 вагона. Подвижной состав делали крытым, наверху имелась специальная площадка, империал. Женщин туда не пускали. Выдуманный Акуниным Эраст Петрович Фандорин терпеливо объясняет своему японскому слуге: «Ну как же, чтоб с нижней площадки не подглядывали, когда дама по лесенке поднимается»[89]. Вагон конки вмещал 40 человек, пассажиры помещались на двух продольных скамейках на каждой из площадок. Обыватели, промышлявшие частным извозом, чувствовали возраставшую конкуренцию и жаловались: «Извозчиков, сами знаете, хоть пруд пруди, сено дорогое, а седок пустяковый, норовит всё на конке проехать»[90].
Список линий расширялся: в 1876 году появились Нижегородская (от Лубянской площади до Яузских ворот), Софийская, Болотная, Рогожская. Пестрый рельеф Москвы преподносил владельцам конки сюрпризы. Так, на крутом подъеме Рождественского бульвара мальчишкам-форейторам приходилось пристегивать дополнительную пару лошадей, а то и две. Труд подростков был довольно тяжелым, о чем свидетельствует В. А. Гиляровский: «Никто их не учил ездить, а прямо из деревни сажали на коня – езжай! А у лошадей были нередко разбиты ноги от скачки в гору по булыгам мостовой, и всегда измученные и недокормленные… С шести утра до двенадцати ночи форейторы не сменялись – проскачут в гору, спустятся вниз и сидят верхом в ожидании вагона…»
Форейторам приходилось впоследствии дежурить на Каланчевской улице, на Швивой горке, в районе Таганской площади и еще в десятках мест. Использование мускульной силы лошадей сказывалось и на скорости, и на затратах. Инженер-изобретатель Федор Пироцкий произвел сравнение конки с трамваем: «…При эксплуатации конной тяги суточный расход на фураж 6 лошадей обходился в 4 руб. 50 коп. (вместе с жалованьем конюху), при эксплуатации электрической тяги содержание 6 паровых сил в течение 14 часов обходилось в 2 руб., предполагая силу в час 6 ф. каменного угля от 16 до 17 коп. за пуд»[91].
Обычно конки ходили с 8 часов утра до 8 часов вечера, но на самых оживленных маршрутах, от Страстного монастыря до Петровского парка, время работы в летнее время продлевали до полуночи и даже до часа ночи. Экипажи ходили с временными промежутками от 6 до 20 минут, не отличаясь по этому показателю от современных автобусов, трамваев и троллейбусов. Пассажир нижнего яруса платил пять копеек, а заседавшие на верхней площадке ограничивались тремя. В. А. Гиляровский в шутку называет их «трехкопеечными империалистами».
Скорость конки не превышала 8—10 километров в час. Во многих городах Российской империи ходила детская присказка: «Конка, конка, догони цыпленка». Во время продолжительной поездки приходилось придумывать иные занятия, кроме разглядывания осточертевших окрестностей: «Конка тогда ходила, как шутили в народе, «в десять дней – девять верст». Едешь, бывало, к Волчанинову или в Марьину рощу… обязательно берешь с собой книгу. Много проглотишь страниц при дальней дороге со множеством остановок»[92].
А. П. Чехов в своих ранних произведениях подтрунивал над новым транспортом: «Конно-железная, или попросту называемая конно-лошадиная дорога состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Нутро стоит пять копеек, верхотура три копейки, конно-железные же правила ничего. Первое дано человечеству для удобнейшего созерцания кондукторских нравов, вторая – для засматривания по утрам в декольтированные окна вторых этажей, третьи же для их исполнения. Правила эти суть следующие. Не конка для публики, а публика для конки. При входе кондуктора в вагон публика должна приятно улыбаться. Движение вперед, движение назад и абсолютный покой суть синонимы. Скорость равна отрицательной величине, изредка нулю и по большим праздникам двум вершкам в час. За схождение вагона с рельсов пассажир ничего не платит»[93].
Конка была довольно травмоопасным транспортом, и здесь Антон Павлович тоже не преминул съехидничать: «Сама конка сооружена для того, чтобы ежеминутно сходить с рельсов и учинять контузии. Внутри вагона сосуд со свинцовой примочкой – для лечения ушибов, причиняемых ездой»[94].
В эти годы несколько улучшилось водоснабжение столицы. Мытищинский водопровод давал около 500 тысяч ведер влаги каждый день. В 1871 году ввели в эксплуатацию водопровод на Ходынке, поставлявший до 130 тысяч ведер воды в сутки из специального колодца. Новое ответвление позволило решить проблему с водой в нижней части Бульварного кольца. Горожане по-прежнему пользовались услугами водовозов: слишком уж дорого стоило провести драгоценную влагу в собственное домовладение. А. П. Чехов сокрушался: «Московский водовоз в высшей степени интересная шельма. Он, во‑первых, полон чувства собственного достоинства, точно сознает, что возит в своей бочке стихию. Луна не имеет жителей только потому, что на ней нет воды. Это понимает он, наш водовоз, и чувствует»[95]. Владельцы бань, фабрик, доходных домов проводили собственные водопроводы из Москвы-реки, Яузы, родниковых систем.
Отсутствие канализации негативно сказывалось на санитарном состоянии города. Свалки нечистот устраивались вдоль железной дороги, о приближении Москвы путешественникам напоминал своеобразный запах. Журналист «Русской летописи» так описывал центральную часть Москвы в 1871 году: «С какой стороны ни подойдешь к ней, страшное зловоние встречает вас на самом пороге. Идем по запаху. Вот Красная площадь и на ней единственный в Москве монумент освободителям России в 1612 году. Вокруг него настоящая зараза от текущих по сторонам вонючих потоков. Около памятника будки, на манер парижских писсуаров; к ним и подойти противно. Ручьи текут вниз по горе около самых лавок с фруктами». Ассенизаторов в Первопрестольной в шутку называли «золотарями». В ночи тянулся длинный обоз из десятка бочек, запряженный даже не лошадьми, а некоторым их подобием, самыми облезлыми клячами. В. С. Соловьев писал о пожарном, который с высокой каланчи следил за происходящим в городе:
- …А там внизу, в зловонной тине,
- Как червь, влачится золотарь, —
- Для сердца нежного ужасен
- Контраст клоаки и депа…
- Заходит солнце, солнце всходит,
- Века бегут, а все, как встарь,
- На вышке гордый витязь ходит
- И яму чистит золотарь.
В зловонную профессию подавались не от хорошей жизни. Герой бунинского рассказа «Веселый двор» обещал уйти «всем на посмешище, в золотари, в Москву». Золотари существовали и в первые годы советской власти, что приводило к некоторым курьезам: «Нашу окраинную Старую Башиловку, булыжную, в грохоте ассенизационных бочек, испускающих зловоние, ее, помню, с бухты-барахты переименовали в Ленинскую. Ассенизаторы-золотари ездят да ездят. Кто-то за голову схватился. Назвали – ул. Расковой, летчица такая была, красивая и храбрая. Ну, и провеяло над обозом-то, над бочками: летайте выше всех, быстрее всех, дальше всех»[96].
Успешно работала система городской почты: «Письма, опущенные в ящики, вынимаются несколько раз в день и городские – опущенные утром – доставляются по адресам в тот же день, к вечеру». Для удобства дачников летом почтовые ящики устанавливали в популярных загородных местах: Кунцеве, Давыдкове, Филях, Мазилове, Останкине, Шелепихе. Система телеграфа насчитывала 24 станции, короткие послания можно было отправить и на Арбате, и с Пресни, и из гостиницы «Дюссо».
Доходы городского бюджета в 1872 году составили 2 миллиона 543 тысячи рублей, а расходы – 2 миллиона 721 тысячу. Содержание полиции обошлось в треть от этой суммы (709 тысяч), тюрьмы – в 85 тысяч, водопровода – в 72 тысячи, наружного освещения – в 178 тысяч. «Очищение улиц и площадей» стоило городу 23 тысячи рублей с небольшим. В 1876 году доходы увеличиваются до 3 миллионов 920 тысяч рублей, а расходы – до 4 миллионов 42 тысяч. Городские предприятия давали смехотворную долю от огромной суммы. Так, единственная мельница дохода не приносила, а пять питейных домов отстегивали в городской бюджет аж 550 рублей. Винный и Соляной дворы, покупка которых обошлась казне в 500 тысяч рублей, правда, с рассрочкой на несколько десятилетий, в 1873 году дали только 20 тысяч рублей дохода.
Впрочем, в 1879 году городской бюджет делал невиданные траты по инженерной части и благоустройству: на набережные ушло 89 тысяч рублей, на мостовые и шоссе – 589 тысяч, на бульвары и скверы – 40 тысяч рублей, на освещение – 271 тысяча, на содержание прудов – 31 тысяча рублей, на мосты – почти 86 тысяч. Среди расходов московской казны в 1878–1879 годах встречаются забавные статьи: портреты Ю. Ф. Самарина и князя В. А. Черкасского (1030 и 1035 рублей соответственно), «на разборку архивных дел» ассигновано 3190 рублей.
М. П. Щепкин сравнил доходную часть бюджетов 14 городов мира. Выяснилось, что в Москве с 601 тысячей жителей на рубеже 1870—1880-х годов на одного обитателя приходилось 18 франков дохода, в Париже с почти двухмиллионным населением – 119 франков, в Берлине с миллионной армией жителей – 42 франка, в бедной Варшаве с 357 тысячами жителей – 15 франков. Москву превосходили Вашингтон (103 франка), Мюнхен (134 франка), Стокгольм (71 франк). Правда, по сумме налогов на одного жителя Москва (14,5 франка) уступала только Варшаве, где на одного жителя приходилось 8,8 франка налогов. «Податная тягость» остальных крупных мегаполисов была в разы выше – в Париже 87 франков, в Вене 37 франков, в Вашингтоне 45 франков, в Праге и Франкфурте-на-Майне по 30 франков.
Приток в город рабочей силы, появление крупных капиталов и богатеев-купчиков подстегивали воришек и мошенников, иногда объединявшихся в высокопрофессиональные банды. В 1870-х годах на всю Россию гремела слава «клуба червонных валетов». Его костяком стала дворянская молодежь.
В 1860-е годы юноши увлекались похождениями авантюриста Рокамболя и зачитывали до дыр французские романы, когда до Ната Пинкертона и разбойника Чуркина оставалось еще несколько десятилетий. Одна из книг о приключениях Рокамболя так и называлась, «Клуб червонных валетов». Московские ученики превзошли своего французского учителя.
На заседание окружного суда 8 февраля 1877 года публика ломилась пуще, чем на самые ходовые театральные премьеры. Двенадцать присяжных заседателей должны были решить судьбу разгулявшихся мошенников. По делу проходили 48 обвиняемых, более 200 свидетелей и пострадавших. Сколько звучных имен! Князь Всеволод Долгоруков пользовался своей благородной фамилией и выдавал себя за племянника генерал-губернатора «Владимира Красно Солнышко», чем наводил тень на именитого однофамильца. Мошенник заводил связи в деловой среде, выдавал векселя, заключал займы…
Чиновники, услышав знакомую фамилию, трепетали и не могли высказаться против. Князь обладал и литературным талантом, из-под его пера вышли талантливые путеводители по Москве, Великому Новгороду, Сибири! Компанию мошеннику составили ловкий финансист Павел Шпейер, сын известного карточного игрока Огонь-Догановский, нотариус Подковщиков…
Долгоруков открыл контору по найму персонала. В обмен на солидный денежный залог, от 700 до 1000 рублей, аферист обещал предоставить соискателю нетрудную и «хлебную» работу. Одурачив некоторое количество легковерных, Долгоруков с подельниками скрылся. Члены шайки спаивали молодых купцов, выманивали у них долговые расписки, которые тут же заверялись у входящего в преступное сообщество нотариуса. «Червонные валеты» промышляли сбытом фальшивых банковских билетов, занимались аферами в сфере недвижимости… Было где разгуляться!
Шайка наживалась даже на посылках – в соседние города по железной дороге отправлялись пустые ящики с заявленным «ценным грузом». Перевозчик выдавал «валетам» расписку на несуществующий груз ценой от 200 до 600 рублей. Подтоварная расписка являлась ценной бумагой, которую можно было заложить или обменять на «живые» деньги. Железнодорожники долго ждали получателя мнимой посылки, вскрывали ящик и обнаруживали лишь голые доски…
Адвокаты настаивали, что обвиняемые не составляли целостной шайки, и старались выгородить своих подопечных, проходивших по одному-двум эпизодам. Присяжные оправдали 19 человек, остальных отправили в Сибирь. Москва в первый раз поразилась изворотливости и прозорливости криминального мира. Осужденные были типичными представителями нарождавшейся «золотой молодежи», решившей подогреть удаль молодецкую, правда, весьма тонкими и ювелирными способами.
М. Е. Салтыков-Щедрин отмечает, что мошенники стали детьми пореформенной эпохи: «Оставалось только ждать толчка, который выдвинул бы это порождение новых веяний времени из укромных углов, в которых оно скрывалось, и представил на суд публики в целом ряде существ, изнемогающих под бременем праздности и пьяной тоски, живущих со дня на день, лишенных всякой устойчивости для борьбы с жизнью и не признающих иных жизненных задач, кроме удовлетворения вожделений минуты»[97].
Сатирик хочет убедить консервативную московскую публику в том, что высшее сословие больше не является локомотивом развития страны. Время дворянства ушло, безвозвратно кануло в Лету, молодые отпрыски знатных родов упиваются собственным величием и разлагаются морально. Среди «валетов» – воспитанник Лазаревского института восточных языков, уездный предводитель дворянства, поручик, помещик.
Газета «Новости» писала о подсудимых в феврале 1877 года: «Большинство обвиняемых обладает изящными манерами, имеет нафабренные усы, английские проборы посредине, прекрасно накрахмаленные воротнички, говорят очень литературно». «Краса ногтей» дополняла образ «дельного человека», пустившего всю энергию на низменные поступки. Писатель предупреждает современника: «Не забудь, что «червонный валет» хоть и «вор», но это отнюдь не мешает ему быть обворожительным молодым человеком. Манеры у него – прекрасные, разговор – текучий, и при этом такие обстоятельные сведения о Москве, об ее торговле, богатствах, нравах, обычаях и прочее, которые прямо свидетельствуют о всестороннем и очень добросовестном изучении».
Константин Станюкович, вдохновленный уголовным процессом, написал по горячим следам рассказ о Жорже, усредненном образе участника шайки: «Перед его носом проходила жизнь шестидесятых годов… крестьянская реформа, общие надежды, оживление, но он этого ничего не видал… Он желал карьеры, но боялся труда… Если бы сразу его сделали товарищем министра, он бы еще, пожалуй, готов был бы «подписывать бумаги», а то тянуть лямку… Боже упаси! Он называл себя «консерватором», потому что любил хорошее белье и платье; но что такое консерватор, он не знал. Он полагал только, что «либерал» – бранное слово и что либералов надо сечь, потому что «они воображают»… Он вел отчаянно безумную жизнь, давал вечера, держал дорогих лошадей, вел игру, был знаком со всеми. Никто не спрашивал, чем живет этот красивый молодой человек: имеет ли состояние, получил ли концессию, занимается ли фальшивыми ассигнациями или играет на бирже»[98]. Да, «лишние люди», оказавшиеся на обочине жизни, всегда находились в российской истории, но чтобы Чацкие сколачивали шайку… Такого еще не бывало! К концу 1870-х годов остро ощущается наступление эпохи «безвременья». Ход великих реформ был заторможен величественным самодержавным кучером, время породило совсем не тех героев, которых ожидали в обществе.
На закате семидесятых годов подходит к концу эпопея со строительством храма Христа Спасителя, продолжавшаяся несколько десятилетий. Только работы над внутренним убранством шли около 20 лет! Слабеющий Константин Тон умрет за два года до освящения, в 1881 году. Умирающего архитектора доставят под своды здания на носилках, чтобы он окинул прощальным взглядом свое фундаментальное детище. Храм был соразмерен городу с 700-тысячным населением, сразу стал заметной высотной доминантой и попал во все путеводители. Герои пьесы Леонида Андреева любуются панорамой Москвы с Воробьевых гор: «Да. Воистину красота! День очень хорош. Ты погляди, как блестит купол у Храма Спасителя. А Иван-то Великий!.. Нет, положительно красота. И подумать, что отсюда смотрели Грозный, Наполеон… Хорошо очень. Черт возьми!» Впрочем, В. В. Верещагин, назвавший Тона «довольно бездарным архитектором», считал, что новый храм «есть прямое воспроизведение знаменитого Тадж-Махала в городе Агра»[99]. Последнее замечание не мешало его двоюродному брату, В. П. Верещагину, участвовать в росписи собора. П. П. Гнедич с иронией писал о работе художника: «Он чувствовал пристрастие к академическому натурщику Ивану – чернобородому стройному малому с тонким античным носом. Поэтому он, не стесняясь, на всех своих образах писал с него и Христа и апостолов. В «Погребении Христа», что изображено сбоку солеи, красуется Иван, притворяющийся мертвым, которого несут два живых Ивана»[100].
Храм мыслился как исполнение обета Александра I, поэтому ни сил, ни средств не жалели. При строительстве использовали отечественные материалы. Мрамор «беловатого цвета» добывали в Коломенском уезде, лабрадор темно-зеленоватого цвета везли из Киевской губернии, красный порфир – из Олонецкой. Издания утверждали: «Общий характер храма снаружи напоминает собой древние русские храмы, но отличается от византийского рисунка легкостью и красотою форм»[101]. Самый большой из четырнадцати колоколов весил 1810 пудов. На стены пошло 40 миллионов кирпичей. Цельные колонны из сибирской яшмы оценили в 40 000 рублей. Общие расходы на храм составили порядка 13 миллионов рублей серебром, на Исаакиевский собор, для сравнения, ушло 23 миллиона.
«…Товарищ, выйдя из университета, поступил на службу, мало, впрочем, обязательную: он, говоря его словами, «примостился» к постройке Храма Спасителя, ничего, конечно, в архитектуре не смысля», – мимоходом заметит Тургенев в повести «Клара Милич». Только на одну роспись, согласно смете, ушло 1 300 000 рублей. Живописные сюжеты лично выбирал митрополит Филарет (Дроздов). В. Ф. Одоевский писал о размахе его влияния: «В Москве существуют дамы, сами себя называющие филареточки… Одна из них через два месяца после причастия, данного ей Филаретом, еще чувствует его на языке».
Авторы путеводителя не могли предвидеть варварской расправы над храмом пятьдесят лет спустя, поэтому писали на рубеже 1870–1880: «Мы уверены, что не только теперь, но и чрез целые столетия всякий русский, прочтя в коридорах храма имена павших героев-защитников своего отечества, войдет непременно в самый храм затем, чтобы здесь, пред престолом Христа Спасителя положить за них свой земной поклон…»[102]
Невиданный взрыв патриотизма вызвала Русско-турецкая война 1877–1878 годов. Армия окрепла после проведенных реформ и бесславного поражения в Крымской кампании, общество питало симпатию к славянским народам и ждало новых вестей с Балкан. «…Вчера московская дума поднесла Красному Кресту миллион, а сегодня московское купеческое общество – другой миллион. Какое время! Так делается история народов, так крепнет его мозг; в теперешнюю минуту народ развивается скачками», – писал врач-терапевт С. П. Боткин[103].
Создавались общины сестер милосердия. Василий Немирович-Данченко, брат известного театрального режиссера, отправился на фронт в качестве военного корреспондента и удивлялся подвигам в тылу: «Барыни, до сих пор славившиеся своими куриными мозгами и куриными наклонностями, вдруг точно прозрели. Красный крест сестры милосердия сманил многих из теплых насиженных мест… Первый раз за все последнее время – русская женщина, тщетно бившаяся в охватывающем ее со всех сторон омуте ничегонеделания, почувствовала под ногами что-то твердое»[104].
После своего возвращения с фронта Немирович-Данченко становится знаменитостью: «Другого такого безупречно корректного франта не имела Москва. А в особенности писательский мирок ее, в котором доживавшие свой век могикане «кающихся дворян» числились уже в стариках, а новое действенное поколение, демократическое, разночинное, было, нельзя не признаться, довольно-таки «муруго и конопато»… На этом тусклом фоне Василий Иванович возблистал, можно сказать, ослепительно. Для Москвы он, петербуржец и скиталец по Европе, был человеком новым, и Москва набросилась на него с жадным любопытством… Еще отнюдь не забыты были его блистательные корреспонденции с театра Русско-турецкой войны, в эпоху которой портрет его, с солдатским Георгием в петлице штатского сюртука, красовался даже на «геройском шоколаде». Он слыл (да и был) другом популярнейшего человека тогдашней России, «Белого генерала», Михаила Дмитриевича Скобелева»[105].
В 1876 году П. И. Чайковский создает «Сербско-русский марш», переводятся книги, посвященные ужасам османского владычества, так что пожертвования текут рекой. Москвичи с уважением относились к относительно небольшому народу, поднявшемуся против угнетателей. Славянский комитет Первопрестольной с июля по октябрь 1876 года собирает около 600 тысяч рублей. Московские старообрядцы пожертвовали братьям-славянам 30 тысяч рублей и на свои средства отправили в Болгарию походный лазарет.
Не отставало и купечество. «Несколько московских купцов заказали знамя наподобие того, какое, по преданию, нес Дмитрий Донской на Куликовом поле. Это знамя благословили у Троицы… Министр Посьет, будучи в Москве проездом, приехал утром взглянуть на знамя и дал 25 рублей знаменосцу со словами: «За сим знаменем скоро вся Россия пойдет», – отмечала в дневнике Анна Федоровна Аксакова, старшая дочь Ф. И. Тютчева. Торговцы Овчинников и Сапожников оплатили изготовление походной часовни, она отправилась на фронт с восемью певчими-добровольцами.
В Москву прибывали десятки сирот из Сербии и Болгарии, монахини и обычные горожане заботились о них, малыши ни в чем не нуждались. Ф. М. Достоевский мудро замечал: «Детям, конечно, хорошо и тепло, но я слышал недавно от одного воротившегося из Москвы приятеля прехарактерный анекдот про этих самых малюток: сербские девочки сидят-де в одном углу, а болгарки в другом, и не хотят ни играть, ни говорить друг с дружкой, а когда спрашивают сербок, отчего они не хотят играть с болгарками, то те отвечают: «Мы им дали оружие, чтоб они шли с нами вместе на турок, а они оружие спрятали и не пошли на турок». Это очень, по-моему, любопытно. Если восьми-девятилетние малютки говорят таким языком, то, значит, переняли от отцов, и если такие слова отцов переходят уже к детям, то, значит, между балканскими славянами несомненная и страшная рознь. Да, вечная рознь между славянами!»[106]
Интереснейшее свидетельство о Русско-турецкой войне оставила Мария Башкирцева. Эта удивительная девушка покинула Малороссию в возрасте 12 лет, училась живописи у Ж. Бастьена-Лепажа, знала, что больна туберкулезом, готовилась к скорой смерти. Пронзительный дневник проникнут психологизмом и томлениями возвышенной натуры. Эдакий «живой журнал» XIX века, в котором отражены собственные переживания, размышления о жизни, искусстве. В строках 19-летней красавицы сплелись наивно-восторженное отношение к религии, преклонение перед незнакомым городом, страх войны: «Москва – самый обширный город во всей Европе, по занимаемому им пространству; это старинный город, вымощенный большими неправильными камнями, с неправильными улицами: то поднимаешься, то спускаешься, на каждом шагу повороты, а по бокам – высокие, хотя и одноэтажные дома, с широкими окнами. Избыток пространства здесь такая обыкновенная вещь, что на нее не обращают внимания и не знают, что такое нагромождение одного этажа на другой. Триумфальная арка Екатерины II красного цвета с зелеными колоннами и желтыми украшениями. Несмотря на яркость красок, вы не поверите, как это красиво, притом же это подходит к крышам домов и церквей, крытых листовым железом зеленого или красного цвета. Самое простодушие внешних украшений заставляет чувствовать доброту и простоту русского народа… На площади Большого театра прогуливаются целые стаи серых голубей; они нисколько не боятся экипажей, которые проезжают почти рядом с ними, не пугая их. Знаете, русские не едят этих птиц потому, что Дух святой являлся в виде голубя…»[107]
И. С. Аксаков в июне 1878 года активно ругал позицию российских дипломатов на Берлинском конгрессе. Он говорил, что на Россию надели «дурацкий колпак с погремушками». Деятельность Славянских комитетов была достаточно оперативно свернута. Известного радетеля за судьбы балканских народов даже выслали из Москвы, хотя кое-кто пытался выдвинуть его на болгарский престол. Правда, уже в ноябре 1878 года Аксаков вернулся в Первопрестольную. В. В. Назаревский удовлетворенно писал: «Вообще в Москве… поднялось национальное самосознание, которое поддерживали в ней Катков, Аксаков, Самарин, Погодин, Гиляров и другие, боровшиеся против петербургского космополитизма и западничества».
Царствование Александра II, своими реформами столь круто изменившего общественную, политическую и экономическую жизнь Москвы, неумолимо подходило к своему окончанию. Павел фон Дервиз, умерший, как и царь, в 1881 году, умолял следующего императора, Александра III, не идти навстречу общественности и забросить думы о конституционном строе: «Чем больше ты им дашь, тем они станут требовательнее». Дервиз, сколотивший состояние на железнодорожном строительстве, в 1870-х жил в основном во Франции, где обустроил великолепное имение. А Москва перешагивала новый порог, который принес большие разочарования в политике, но подстегнул хозяйственное развитие города.
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОКЗАЛЫ МОСКВЫ
От Москвы до Петербурга в конце 1860-х годов можно было добраться за 19 рублей в почтовом вагоне I класса, за 13 рублей – в вагоне II класса, а самым дешевым вариантом являлся III класс (10 рублей). До Сергиева Посада брали соответственно 2 рубля, 1 руб. 50 коп. и 80 коп. На билет до Нижнего Новгорода согласно конкретному классу вагона приходилось раскошеливаться на 12 руб. 30 коп., 9 руб. 22 коп. и 5 руб. 12 коп. соответственно.
Белорусский. Открыт в 1870 году, за годы существования побывал Смоленским, Брестским, Александровским, Белорусско-Балтийским. До революции успел обзавестись новым зданием.
Казанский. Появился на карте достаточно рано, в 1862 году. Линия в начале своего существования называлась Рязанской. Перестройка старого здания пришлась на период внутренних бурь и потрясений, поэтому расширять вокзал начали еще до Первой мировой войны, а закончили только в 1940 году.
Киевский. Открылся в 1899 году, долго именовался Брянским вокзалом. Нынешнее здание строили Рерберг, Шухов и Олтаржевский в 1914–1918 гг. Вокзалу хотели придать пышные формы после празднования 100-летия Отечественной войны 1812 года. Старое здание никак не соответствовало державным устремлениям Романовых.
Павелецкий. Вокзал открыли в сентябре 1900 года, по московской традиции он поменял название – в самом начале был Саратовским.
Курский. В начале своей истории нынешний Курский именовался Нижегородским вокзалом и находился у черта на куличках, за городской чертой, за Камер-Коллежским валом. Деревянный и неказистый, он не пользовался популярностью у горожан, хотя и являлся вторым в Москве по дате открытия: «Пассажиры были разочарованы видом вокзала. Москвичи надеялись встретить здесь такое же роскошное устройство, к какому все привыкли на казенной Николаевской дороге». В итоге в 1896 году вокзал обосновался на новом месте, рядом с Садовым кольцом.
Рижский. Проект здания выполнил автор Витебского вокзала в Петербурге С.А.Бржозовский, строительство велось в 1897–1901 гг. Первоначально назывался Виндавским, так что ничего не перепутайте!
Ленинградский. Вокзалу давно пора вернуть историческое имя – Николаевский. Первый вокзал Москвы отдали на откуп главному архитектору России 1840–1850-х гг. К.А.Тону. Движение началось в 1851 году.
Ярославский. За короткое время самый «богомольный» вокзал Москвы (именно отсюда отправлялись в Лавру) успел побывать Троицким и Северным. Раньше на этом месте находился Новый артиллерийский двор, где хранились боеприпасы.
Савеловский. Когда здание начали строить, эта земля даже еще не входила в состав Москвы. Эпопея закончилась в 1902 году. Первоначально назывался Бутырским, в 1910-е годы приобрел современное название.
IV
Восьмидесятые
Между Петербургом и Москвой от века шла вражда. Петербуржцы высмеивали «Собачью площадку» и «Мертвый переулок», москвичи попрекали Петербург чопорностью, несвойственной «русской душе»…
Г. Иванов
Увидеть и узнать Москву – это значит увидеть и узнать, чем силен и слаб русский народ, чем богат и чем беден, чем он хорош и плох.
«Старая и новая Москва», 1912
«Москва, как богатырь в былине, просыпается от своего векового сна, освобождается от своего самобытного, но ветхого и неприспособленного к современному темпу жизни уклада и «европеизируется», но не становится шаблонным общеевропейским городом, а сохраняет много характерного и в своей психологии, и в своей культуре, и в своем творчестве». Автор этих строк, Г. Василич, не видит ничего плохого в интенсивной европеизации города в 1860–1910 годы. В XV–XVI веках Москва как самых дорогих гостей встречает итальянских зодчих и фортификаторов. В XVII веке столица рада посланникам Греции и православного мира. Начиная с XVIII столетия Москва самозабвенно учит французский, порой путая изящное наречие с нижегородским, постигает Гегеля, слушает заезжего итальянского тенора, учится тонкостям западной кухни и этикета. Иностранцев выгоняют только в том случае, если они приходят с недобрыми намерениями. «Уже с конца XV века живая и гибкая Москва внимательно приглядывается и прислушивается к голосам всего Божьего мира, давая этим некоторое право упрекать ее в слишком быстрой смене симпатий то к «декадентству», то к парижским модам, то к минутным кумирам западной литературы и искусства».
Каков рецепт теста столичного пирога восьмидесятых, неистово бьющегося в кадке и поднимающегося все выше? В качестве дрожжей возьмем великие реформы, круто замешаем их на железных дорогах, университетах, классической литературе, музыке, торговле, ремеслах, ресторанах, промышленности. Получим славный сдобный каравай с плохо пропеченными боками. А в боках тех – все скверны и противоречия рубежа столетий.
Путеводители начала 1880-х годов пишут о столичных закоулках: «Москва так обширна, улицы и переулки так многочисленны, так извилисты, названия их так своеобразны, что даже коренной москвич их не знает, а приезжий наверно запутается в их лабиринте без предварительного знакомства с городом»[108]. Среди главных бед столицы издание называет плохую почву, отсутствие нормального водопровода и канализации, плохие мостовые, уничтожение зелени и прудов. «Москва растет быстро и уже теперь нередкостью встретить в центре ее 4-х и 5-этажные дома», – с гордостью сообщает путеводитель, а через двадцать лет подобными заявлениями уже никого не удивишь.
Москва, пусть и лишенная столичного статуса, уверенно завоевывает славу экономической столицы. Сюда тянутся петли шоссейных дорог, сюда идут костромские, вологодские, смоленские и курские мужики. Из Москвы можно свободно доехать до Петербурга, Вологды, Самары, Царицына и Саратова, Харькова и Ростова-на-Дону, Минска и Смоленска.
Москва осталась центром Великороссии, главным перевалочным пунктом центральных губерний, она собирала и переваривала все лучшие соки русской земли. «Вот именно так многие московские купцы и подписывали акты великих дел: «Крестьянин Владимирской губернии, Московский, первой гильдии, купец…» Так и о себе говорит В. П. Рябушинский: «Мы, московское купечество, в сущности, не что иное, как торговые мужики, высший слой русских хозяйственных мужиков». Но мужики эти известны всему свету, не только России: Морозовы, Третьяковы, Алексеев-Станиславский, Мамонтов, Щукины, да и не купцы, а великаны иного рода, как сам Шаляпин, – все дети владимирских, ярославских, калужских, костромских. А потом… пришли мужики купцовать на Москву и из Сибири, с Волги, из Заднепровья, с Беломорья…»[109]
Петербургский издатель А. С. Суворин не любил Москву и бывал в ней наездами. Накануне пушкинских торжеств 1880 года он много ездил по улицам Первопрестольной. «Ну, послушайте, голубчик, – говорил он, глядя на кучи мусора, неровную мостовую, стаи собак и т. п. – Ведь это что же такое! Константинополь! Что у вас полиция делает? То-то, читаешь ваши корреспонденции, сразу видишь, что человек ругаться хочет. Теперь понимаю, что ругаться следует… Что за город! Лучший музей где-то под Таганкой, лучший ресторан – возле Грачевки…»[110] Многие залетные петербуржцы любили Москву кусками, урывками. Суворину приглянулась Третьяковская галерея. Редактор с упоением рассказывал знакомым: «Там носят картузы!!. Москва ни о Петербурге, ни о всей России ничего знать не хочет и носит картуз, который, я помню, видал в юности своей, но вот уже лет тридцать ни на ком не вижу…» Образ города, сформировавшийся у Суворина, отлично вырисовывается по тем указаниям, которые раздавались репортерам.
Пересечение Старой и Новой Басманной, современная площадь Разгуляй
И если в пушкинскую Москву вмещались «бухарцы, сани, огороды», то у Суворина столица выходила не менее пестрой: «Перед вами открыта вся Москва. Это громадный музей. Он неисчерпаем. Ваши раскольничьи кладбища, быт Таганки, Хитровка, Грачевка, рынки, ночлежные дома, рост торговли, фабрики, фабричные короли, купцы старые и купцы новые, жизнь московских окраин, где еще, вероятно, голубей гоняют, все это крайне интересные сюжеты… Вы как-то описывали пасхальную заутреню в Кремле. У вас хорошо звонил Иван Великий. Позванивайте же, голубчик, почаще в те колокола, которые дают вам стройную музыку, а не какофонию!»
В 1881 году журналист Петр Боборыкин опубликовал в «Вестнике Европы» знаменитые «Письма о Москве», являющиеся бесценным источником о внешнем виде города и его жителях той поры. Журналист отмечает поразительную компактность Москвы восьмидесятых – каждый москвич имеет узкий круг общения, встречает одних и тех же людей в театре, на гулянье, в ресторане. «Все знают друг друга, если не лично, то поименно и в лицо». Сословные рамки еще сильны, но продолжают размываться. Купец приподнимает голову! Идея купеческой экспансии вообще стала для творчества Боборыкина основополагающей. Писатель отмечает все новые сферы, павшие под натиском нарождающейся буржуазии: «А миллионер-промышленник, банкир и хозяин амбара не только занимают общественные места, пробираются в директора, в гласные, в представители разных частных учреждений, в председатели благотворительных обществ; они начинают поддерживать своими деньгами умственные и художественные интересы, заводят галереи, покупают дорогие произведения искусства для своих кабинетов и салонов, учреждают стипендии, делаются покровителями разных школ, ученых обществ, экспедиций, живописцев и певцов, актеров и писателей. В последние двадцать лет завелась уже в Москве своего рода маленькая Флоренция, есть уже свои Козьмы Медичи, слагается класс денежных патрициев и меценатов».
Дворянские районы очень скоро «обесцветят себя до жалкого вырождения», сдаются и отступают Поварская, Арбат, Остоженка, Никитские. Д. И. Никифоров приводит типичный вопрос на ответ, кто же задает столь богатый бал или прием: «Двадцать или тридцать лет тому прибыл он из Гамбурга приказчиком в торговый дом, женился впоследствии на родственнице хозяина фирмы и теперь стал меценатом»[111].
Важную роль в жизни города играет университет, занимающий несколько зданий в центре и дискутирующий в пространстве с холодным официальным Кремлем. Щедро вскормленный либеральным уставом 1863 года, Московский университет занимает видное место в общественной жизни. Студент – желанный гость и в Благородном собрании, и в театре. Конкуренцию «студиозусам» с Моховой составляют учащиеся Петровской академии, но они живут в отдалении, на выселках. «Имена, целые эпохи, множество анекдотических подробностей окружают Московский университет особым обаянием. В последние два-три года молодежь приливает к нему чрезвычайно. Теперь в нем около трех тысяч слушателей».
Особенно заметны перемены среди преподавательского состава юридического факультета: кафедры занимают «люди шестидесятых годов», о молодых московских профессорах говорят в Петербурге. Преподаватели успешно совмещают кабинетные занятия с общественными поручениями, заседают в комиссиях, исследуют фабричный вопрос, избираются в гласные думы. Боборыкин считает идеальным «коктейль» из буржуазии и университетских выходцев в главном городском органе. Он сетует, что ученая скамья пока дает мало талантливых выходцев: дворянство себя дискредитировало, земские деятели еще не народились. Купцов нужно ограничивать и просвещать, дабы направлять развитие города в правильном направлении. «Купеческо-промышленный мир, захватив управление города в свои руки, держится, главным образом, своей мошной, а не познаниями, не широкой развитостью».
Закоулки Никольской, где находились основные букинистические лавки города
Пробивает себе дорогу и женское образование, на курсы профессора Герье заглядывают дамы из средних и высших слоев, интересующиеся историей и словесностью. Над курсистками смеются скорее по привычке, хотя нигилистическая мода уже ушла в прошлое. Иногда пьяные могли приставать к людям ученого вида, как это произошло в 1883 году с Чеховым, Коровиным, Левитаном и их знакомыми студентами-медиками: «Около нас за другим столом разместились сильно подвыпившие торговцы типа Охотного ряда и недружелюбно оглядывали нас. – Вы студенты… – заговорил один, сильно пьяный, обращаясь в нашу сторону, – которые ежели… – и он показал нам кулак. Другой уговаривал его не приставать к нам. – Не лезь к им… Чево тебе… Мож, они и не студенты… Чево тебе… – Слуга служи, шатун шатайся… – говорил в нашу сторону пьяный с осовелыми глазами… Видно было, что мы не нравились этой компании – трудно понимаемая вражда к нам, «студентам», прорывалась наружу»[112].
Моховая улица. Слева – старое университетское здание
С. Д. Урусов вспоминает студенческую жизнь Московского университета начала 1880-х и экзаменационную горячку, столь похожую на нынешнюю. Автор учился на юридическом и филологическом факультетах: «Лекции… читались профессорами с 9 до 3 часов по установленному и объявленному расписанию. Каждая лекция продолжалась обычно около 40 минут, т. е. начиналась спустя 15–20 минут после назначенного часа. Для издания литографированного курса каждого профессора образовывалась около какого-нибудь предприимчивого студента издательская группа из 4–5 участников, записывавших лекцию; в начале года объявлялась подписка и собирались деньги на постепенно выпускаемые листы. По этому изданию можно было заблаговременно готовиться к экзамену, но большинство студентов складывало получаемые листы «про запас» и начинало их зубрить лишь с приближением весны. Сигналом для начала занятий служило, по студенческой примете и традиции, появление на улицах моченых яблок».
Сессия лишала студентов привычного состояния беззаботности и гармонии: «Бегло прочтя листов 40 литографированного курса, т. е. около 300 страниц, мне приходилось иногда, перед самым экзаменом, посвящать 2 суток второму, более внимательному чтению, причем прочитанный лист тут же навсегда отбрасывался в сторону, а последние страницы дочитывались уже в экзаменационном зале. При 12–15 предметах и 40–50 подразделениях каждого курса в виде глав (билетов), представлявших собой группу взаимно связанных и приведенных в систему вопросов, студенту предстояло быть наготове изложить, по возможности связно и толково, придерживаясь порядка изложения профессора, около 600 лекций».
П. Д. Боборыкин считает, что общественная жизнь в Москве начала восьмидесятых остановилась. Клубы превратились в картежные притоны, либеральные издания только начали увеличивать тиражи, а славянофильское направление заглохло: «И не будь в Москве так мало полуграмотных обывателей-купцов, квасных патриотов, огорченных помещиков и всякого ненужного люда, консервативно-русофильское направление стушевалось бы в несколько лет. Сойди со сцены два его вожака, и тогда, если бы и печатались еще газеты этого покроя, то в них происходила бы неумелая защита одряхлевшего общественного сепаратизма». Лучшие литераторы подвизаются в Петербурге, хоронят Писемского и Тургенева, еще крепится и здравствует Островский.
Газетчики не в силах найти талантливого фельетониста, хорошего корреспондента, владеющего техникой репортажа. Да что уж там, не всякий цветасто и грамотно опишет скучное многочасовое заседание ученого общества! «Даже писатели, известные своим литературным образованием… поддерживали в своей бытовой, обывательской публике вкус к довольно-таки низменным формам остроумия, сатиры, зубоскальства, позволяли своим сотрудникам нести в журнал всякую замоскворецкую грязь и скандалы трактиров, полпивных и клубов».
Аксаков в начале 1880-х надеялся, что «…настанет же пора, и, может быть, даже не в слишком далеком будущем, когда прекратится в русской интеллигенции это «пленной мысли раздраженье», когда здравый смысл обретет себе наконец свободу и право гражданства, и эмансипируется общество из-под власти «жалких» и «хороших слов», суеверия доктрин и теорий, фетишизма «последних слов науки» и всех этих побрякушек и погремушек чужой, всегда у нас запоздалой моды, которыми оно еще и теперь подчас так кокетливо обвешивается и красуется, – точь-в-точь, как ачкоус или папуас Полинезии – стеклярусом и другими блестящими безделками, добытыми от заезжего европейца»[113]. Д. И. Никифоров горько плакался: «Мы видим, что потомки лиц, вынырнувших из подонков общества, пользуются в настоящее время чуть ли не царскими почестями, а потомки патрициев древнего Рима служат поденщиками в клоаках Рима нового».
Доходы представителей нарождавшегося среднего класса зависели от частных заказов и не были постоянными. П. Д. Боборыкин пишет, что на рубеже 1860–1870 гг. адвокаты зарабатывали приличные деньги: профессия только вошла в массовый обиход, несколько человек сколотили себе имя и состояние, но постепенно цены на юридические услуги «устаканились», а грамотные истцы и тертые жизнью клиенты предпочитают не пользоваться помощью адвокатской братии. Юридические факультеты переполнены, их выпускники вынуждены искать себе работу в изменившихся условиях, когда романтический ореол адвоката или присяжного поверенного 1860-х годов в значительной мере развеялся.
Приходится вертеться и врачам: частная практика необходима как воздух, жалованья в казенных учреждениях смешны. Молодой ординатор Екатерининской больницы получал в год 200 рублей жалованья. Московские врачи были избалованы богатыми клиентами из купцов и дворян, которые платили за прием умопомрачительные деньги, что позволяло бесконечно поднимать таксу и оставлять ни с чем коллег по цеху: «И купечество, и дворянство, и прочий люд, имеющий средства приглашать известного доктора, отличаются одним и тем же свойством: суеверием во всех его разветвлениях. Каждое ловкое излечение болезни может здесь превращать любого доктора из простого смертного в чудотворца. И начнется поклонение ему. Вчера он брал три или пять рублей, через месяц он берет десять, пятнадцать, а там и начинает назначать таксы, какие ему заблагорассудится. Петербург не знает таких поборов, по крайней мере, не знал их до самого последнего времени».
При этом смертность в городе оставалась значительной. В 1879 году от сыпного тифа умерло 183 человека, от чахотки – 3131 человек, а всего на тот свет отправились 22 821 человек[114]. В 1883 году смертность составила 24 798 человек, а в 1886 году увеличилась до 28 643 человек. Чахотка за 1878–1889 годы унесла жизни 38 320 горожан. Число самоубийств колебалось на уровне 80–110 в год[115].
Персонажи, владевшие капиталами, составляли слой рачительных «хозяев». Просвещение в мир Замоскворечья, Таганки, Рогожской части проникало не сразу. «Масса собственников и дельцов купеческого сословия продолжают жить первобытно. У них происходит процесс растительный: наживают деньги, строят дома, покупают дачи, приучаются к чистоте и привычкам обеспеченных людей. Разъедающий элемент, который вносит с собой идеи, другие умственные и нравственные запросы, приходит только в виде детей, когда им дают высшее образование».
Москва, как мы видим, сохраняет деревенский налет не только во внешних чертах, но и в сознании жителей. Огромная пропасть разделяла обладателя университетского диплома и охотнорядского лавочника. Подобный разрыв сохранялся на всем протяжении истории столицы, его плоды мы пожинаем и в XXI веке: в 1950–1980 годы в столицу переселялись выходцы из провинции, которые продолжали по деревенской привычке содержать под окнами типовых многоэтажек сиротливые огородики. Эту страсть вытравили только в последние годы Советского Союза.
Последние полтора столетия московской модернизации были очень поверхностными: обитатели фабричных поселков не сразу забывали крестьянские привычки и не теряли связи с деревней. Количественное увеличение населения не дает качественного рывка. Какой процесс шел активнее – урбанизация деревни или «окрестьянивание» столицы? Вопрос лежит не столько в научной сфере, сколько в философско-обывательской. Москва – огромный плавильный котел, она каждый год рекрутирует население со всей страны и протягивает свои щупальца дальше и дальше. Как водится, по радиально-кольцевой схеме.
Москву на заре 1880-х годов заполняли желающие выгоднее продать свой труд, город становился торговым и мужицким. Численность населения преодолела планку в три четверти миллиона, в январе 1882 года в городе живут 753 тысячи человек[116]. Пестрый общинный мир захватывал столичные улицы: «Сообразите только, какое число крестьян притягивается к Москве для ежедневной работы, водовозов, легковых извозчиков, ломовых, фабричных и всевозможных служителей. Здесь есть местности, где вы весной и летом увидите народные сцены, какие в Петербурге – в редкость. В фабричных кварталах Москвы вечером раздаются песни, водят даже хороводы. Вы очутитесь прямо среди праздничной деревенской жизни».
В 1910-е годы в российских городах проживало всего лишь 14 % населения, что было ниже уровня Германии и Франции 1850-х годов (15 % и 19 %)[117]. Из жителей Петербурга в 1897 году только 31 % были коренными, остальные – пришлые крестьяне[118]. Многие пришельцы не собирались оставаться в городе навсегда.
Положение усугублялось тем, что провести границу между городом и селом было практически невозможно – крестьяне охотно принимали на лето московских дачников, а московские промышленники раздавали заказы за тридцать-сорок верст от Первопрестольной. Крестьяне изготавливали мебель, картузы, перчатки, мелкие металлические изделия, вязали салфетки и скатерти, участвовали в производстве ткани.
Слой потомственных квалифицированных рабочих составлял ничтожную часть московского пролетариата, остальные регулярно наведывались в деревню, помогали на сенокосе, уборке зерновых. Рабочий находился на распутье: из деревни вышел, а до города не дошел. Условия труда со скрипом, но улучшались: трудовое законодательство 1880-х годов запретило использовать на фабриках детей в возрасте до 12 лет, а подросткам не разрешали работать в ночное время, с 9 часов вечера до 5 часов утра.
В 1885 году на ряде предприятий была запрещена ночная работа женщин. После разгромных очерков Гиляровского общественность обращает внимание на сложные химические производства, мыльное, спичечное. На фосфорных фабриках у работников часто выпадали зубы. Городской голова Алексеев неоднократно отмечал, что из-за ужасных условий труда на фабрике московские юноши, подлежащие призыву в армию, хиреют и становятся больными.
Одновременно создается институт фабричной инспекции, надзиравший за условиями труда и соблюдением пакета новых законов. В Москве на подобной должности пять лет трудился экономист И. И. Янжул. Он вспоминает о трогательных попытках фабрикантов всунуть взятку: «Один раз, например, помнится, на Московском Даниловском сахарном заводе, я нашел, садясь, по окончании осмотра фабрики, на своего извозчика, что-то в ногах санок твердое; к моему удивлению, я нащупал целую голову сахара. Тогда я вызвал вновь, через кого-то из служителей, управляющего фабрикою из конторы, указал на эту сахарную голову и попросил ее убрать и никогда впредь этого не делать. Он решительно мне отвечал: «Я не понимаю, почему Вы, милостивый государь, отказываетесь, – это просто обычай, и тут дурного нет ничего, все везде так делают, и нам это ничего не стоит». Чтобы избежать бесполезного спора, и для интересов будущего, я ему объявил: «Я сейчас записывал у вас в конторе размер заработной платы, и записал, что вы получаете жалованья пять тысяч рублей, верно это, или нет?» – «Конечно, верно, если я вам показал это». – «А я получаю шесть тысяч рублей, – как же вы хотите, чтобы я брал взятки, за которые меня могут завтра же прогнать со службы?!» Такой аргумент его, видимо, удивил и подействовал. Он ответил: «Ну, если бы все так хорошо оплачивались, как вы, ваше превосходительство, тогда бы мы голов в экипаж не клали»[119]. Янжул немного слукавил, он сложил два своих жалованья, инспекторское и профессорское. Несколько раз экономисту пытались подсунуть банкноты, спрятанные в страницах книг. Янжул взял за правило проверять издания, попадавшие в его руки. Постепенно по губернии прошел слух, что на новой должности денег не берут, и коррупционный ручеек, так и не ставший рекой, засох. Ежели благодарность никогда не принимают, зачем предлагать? Иногда фабрикантам действительно выписывали штрафы. Так, небезызвестный Ланин поплатился целыми 100 рублями за применение труда несовершеннолетних!
Армия «сезонников», перебивавшихся случайными заработками, росла год от года и порождала биржи труда вроде Хитрова рынка. Честному человеку, который хотел кормиться результатами своего труда, в Москве приходилось трудновато. Трудовая мораль, вышедшая из крестьянской общины, вынуждала «не высовываться»: «…солидный первостепенный работник всегда возбуждает зависть или даже ненависть; про работника же тщеславного и мота, готового легкомысленно пропустить честно и с трудом заработанные деньги сквозь пальцы, лишь бы пустить пыль в глаза, люди отзываются очень хорошо: «Это добрая душа и золотые руки – через него еще ни один человек не сделался несчастным. Много он заработает в месяц или в два, закутит, всех угостит, все раздаст, ничего себе не оставит»[120].
А. Н. Энгельгардту удалось переломить настроения своих крестьян, привязать их к собственной земле. Он дал беднягам понять, что в Москве высоко взлетает отнюдь не каждый: «Теперь никто в Москву надолго не ходит. «Зачем в Москву ходить, – говорят мужики, – у нас и тут теперь Москва, работай только, не ленись! Еще больше, чем в Москве, заработаешь». Теперь, если кто из молодежи идет в Москву, то разве только на зиму, свет увидеть, людей посмотреть, пообтесаться, приодеться, на своей воле пожить». Однако подобная ситуация была скорее исключением, нежели правилом.
Рост населения усугублялся жилищным кризисом. Строительный рынок не поспевал за все новыми персонажами, прибывающими в Москву в поисках счастья и денег. Маленькая вместительность центра была обусловлена низкой этажностью застройки: дворянская Москва погибала не одно десятилетие! Некоторые дома надстраивали одним-двумя этажами. П. Д. Боборыкин пишет, что на весь город есть всего три-четыре приличных отеля, вроде «Дрездена» или «Лоскутной», но цены в них гораздо выше петербургских.
Меблированные комнаты пугали грязью, зловонием, непомерной стоимостью. Так описывают знаменитые «Челыши», стоявшие на месте возведенной позднее гостиницы «Метрополь»: «…этот приезжий люд, вот уже десятки лет, довольствуется самыми грязными комнатами, не освещенными коридорами, запахом кухни и всевозможными азиатскими неудобствами». «Челыши» запомнились и И. Ф. Горбунову: «Челышевские номера» на площади Большого театра были обыкновенным пристанищем заезжих в Москву провинциальных артистов. Удушливый, спертый воздух, полный микробов, видимых невооруженным глазом, отсутствие каких-либо удобств, грязные неосвещенные коридоры, оборванная прислуга составляли специальность этого актерского приюта»[121].
А. В. Амфитеатров, касаясь бытовой стороны своей жизни, вспоминает разудалый 1883 год: «Веселая богема собралась тою зимою на совместное житье в верхнем – пятом – этаже московских меблированных комнат Фальц-Фейна на Тверской улице. Юная, нищая, удалая, пестрая… Все гении без портфеля и звезды, чающие возгореться. Несколько студентов, уже изгнанных из храмов науки, несколько студентов, твердо уверенных и ждущих, что их не сегодня завтра выгонят; поэты, поставлявшие рифмы в «Будильник» и «Развлечение» по пятаку – стих; начинающие беллетристы, с толстыми рукописями без приюта, с мечтами о славе Тургенева и Толстого, с разговорами о тысячных гонорарах; художники-карикатуристы; консерваторский голосистый народ… Жили дарами Провидения и поневоле на коммунистических началах: на пятнадцать человек числилось три пальто теплых, семь осенних и тринадцать – чертова дюжина! – штанов»[122].
Доходных домов пока еще относительно немного, и за комфортабельным съемным жильем приходится отправляться на окраины. Вышколенная прислуга только-только появляется, господам приходится довольствоваться наскоро переученными носителями крепостной школы либо крестьянскими девками.
Бывшие дворянские хоромы можно было снять за несколько тысяч рублей в год, преимущества выражались в наличии огромного участка, фактически дачи в самом центре города, а неудобства – в отвратительном ремонте и отсутствии удобств. Рабочие перебивались каморками или же кроватями. Пролетарии довольствовались в жилищной сфере статусом «коечников». Беспросветное существование в казармах много раз описывалось дореволюционными авторами.
Д. И. Никифоров возмущался: «Было ли мыслимо в прежнее дореформенное время, чтобы общество всецело увлекалось такими произведениями, как описание жизни различных трущоб: Максима Горького, Андреева и их последователей, где грязь жизни проповедуется, как идеал!» Самые прогрессивные предприниматели старались исправить положение, но их усилия были каплей в море неустроенного быта. Урбанизация пришла в Москву слишком быстро и неожиданно. Перестраивалось все: городской быт, общественные отношения, жилищная сфера.
Городское благоустройство также не могло угнаться за резким ростом населения. Из бульваров пользовались популярностью Пречистенский и Тверской; на остальных ночевали бродяги, карманники и бездомные собаки. В Чистых прудах вода отчаянно «цвела» каждый сезон, и зеленевшая масса распространяла исключительно зловоние.
Александровский сад находится в запустении, знаменитый грот был исписан нецензурной бранью. Летом московские улицы атаковала пыль. О, всепроникающая пыль Первопрестольной! От тебя бежали в тенистую гущу Сокольников, Нескучного сада, Петровского парка, на ближние и дальние дачи, ты сковывала дыхание и заставляла чихать без перерыва.
Советские путеводители с гордостью рапортовали, что до революции в Москве было всего лишь 34 сквера с общей площадью зеленых насаждений около 2000 гектаров, в то время как 1960 год Москва встречала, имея в наличии 7200 га природных «легких»[123]. Грязь, неразбериха, сумбур, антисанитария были постоянными спутниками торговли. «Довольно любопытно, что в Москве квас и ветчину должно искать в сундучном ряду, шахматы в лапотном, перья в косметическом магазине, рукописи в кожевенном ряду», – писал В. Ф. Одоевский. Жители ахали, заглядывая за парадный фасад Охотного Ряда и Верхних торговых рядов. Сравнение с бухарскими и самаркандскими рынками не шли Москве на пользу. «Все жалуются, все кричат или, по крайней мере, те, кто желал бы видеть хоть несколько менее татарское хозяйство… Стали мостить и так, и этак, пробовать и асфальт, и торцовую мостовую, и какие-то кирпичики; всаживали деньги в болотистые местности, подновляли и подновляют бульвары; выписывали из-за границы даже деревья для бульваров. Кое-что и сделано, но в общем все хромает; мостовые почти везде плохие, осенью и весной вас немилосердно толкает на санях и дрожках: ухабы, колеи, горы несчищенного снегу и льду, потоки грязи – все как и прежде».
Эстафету Боборыкина в описании московской жизни 1880-х перенимает А. П. Чехов. Антон Павлович – типичное дитя реформ; происходил из семьи небогатого купца, детства не видел, но читал взахлеб и рано взвалил на себя ответственность за родных. Чтобы найти себя и заработать на жизнь, «выдавливая из Чехова Чехонте», литератор за пять лет напишет почти пять сотен рассказов.
Живет небогато, по средствам, не может с уверенностью говорить о завтрашнем дне. В более поздние годы Чехов будет шутливо писать Ф. О. Шехтелю: «Если Вы не дадите мне до 1-го числа 25–50 р. взаймы, то Вы безжалостный крокодил»[124]. Вокруг двадцатипятилетнего юноши разворачиваются ежедневные городские сценки, что дает фельетонисту не только хлеб, но и пищу для серьезных размышлений.
На протяжении трех лет, с 1883 по 1885 год, Чехов создавал «Осколки московской жизни», бесценную энциклопедию почти всех городских явлений той поры. Впрочем, главный редактор «Осколков» Николай Лейкин поставил перед молодым писателем достаточно специфическую задачу: «Говорить надо обо всем выдающемся в Москве по части безобразий, вышучивать, бичевать, но ничего не хвалить и ни перед чем не умиляться».
Чехов отмечает значительно возросший интерес к древним находкам. Усилия Московского археологического общества, предпринятые в 1860—1870-е годы, не прошли даром. «Москва, несмотря на свое охотнорядство, занялась в последнее время науками: археологией и антропологией. В Теплых рядах гроб выкопали. На Тверской в доме Толмачева выкопали целую Помпею… Это весьма и весьма приятно! Нет теперь в Москве ни одного дворника, который не разводил бы рацеи о черепах, гиероглифах, стиле и формациях. А про мясников и говорить нечего… Те на время забыли политику и глядят совершенными профессорами! Весьма приятно!.. Лучше, по-моему, хоть самая маленькая антропология, чем охотнорядская политика; лучше самая маленькая археология, чем охотнорядская драка…»
Писатель живо отреагировал и на отставку городского головы Б. Н. Чичерина: «Профессора вообще умный народ, но в московские головы они не годятся. Так, профессор Чичерин, добром его помянуть, человек несомненно умный, честный и передовой, не сумел быть головой и потерпел фиаско».
За коротенькой мыслью скрывается трагедия человека широких воззрений, попытавшегося наладить мосты между властью и обществом в эпоху начавшейся реакции. Преподавателя Московского университета, известного специалиста в области права Бориса Николаевича Чичерина выдвинули на пост главы города после добровольного ухода С. М. Третьякова.
В думе заседали две сильные группировки, купеческая и дворянская, разбавленные ремесленниками и мещанами. Б. Н. Чичерин старался лавировать между отдельными фракциями, чтобы защитить интересы города. В одной из своих речей он удивил гласных: «Я приверженец охранительных начал, в том смысле, что я глубоко и живо чувствую потребности власти и порядка. Я вижу в этом завет всей русской истории и существеннейшую нужду настоящего смутного времени. Поэтому я всегда готов буду идти рука об руку с властью. Но идти рука об руку с властью не значит поступаться своими правами, а еще менее отрекаться от независимости суждений… Я уверен, что в интересах самой власти встречать перед собой… живые, независимые силы, которые одни могут дать ей надлежащую поддержку. Поэтому нет хуже политики, чем та, которая стремится сломать всякое сопротивление».
Казалось бы, Чичерин сделал верховной власти реверанс, но в то же время намекнул на необходимость изредка заглядывать в общественные умы. Он добросовестно принимал посетителей, допоздна задерживался в кабинете, при Чичерине сдвинулись с мертвой точки проекты усовершенствования водопровода и внедрения канализации. Профессор попал впросак во время празднования Татьянина дня 1883 года: он выступил в защиту либерального университетского устава, чем вызвал настороженность Александра III.
Последней каплей терпения стала майская речь городского головы. Чичерин говорил о борьбе с революционными настроениями и считал, что «…одно правительство, очевидно, не в силах справиться с этой задачей, нужно содействие общества». По сути, Чичерин не произнес ни одной опасной фразы. Он заявил, что не становится в оппозицию и не требует от власти никаких прав. Власть сама созреет для нужных решений, а общественные деятели должны не прозевать нужный момент и подготовиться к нему должным образом.
После казавшихся крамольными слов император потребовал от профессора освободить кресло городского головы. У Чичерина нашелся достойный и честный преемник, избранный в 1885 году, Николай Алексеев. О нем Чехов тоже сказал парочку едких слов: «Кандидатов на белые генеральские штаны, мундир IV класса и чин действительного статского советника в перспективе – много. Всё больше тузы первой гильдии. Первым кандидатом называют канительного фабриканта г. Алексеева… Большинство москвичей убеждено, что восторжествует канитель».
Размеренное течение московской жизни, пусть и несколько ускорившееся с пятидесятых годов, Антон Павлович бичует в очерке, посвященном наступающему 1884 году: «С новым годом, с новым счастьем, с новым несчастьем, с новыми козлами, с новым яичным мылом, с новыми секретарями консисторий и с новым прошлогодним снегом!.. Никакого нет нового счастья, никаких новых несчастий… Все старо, все надоело и ждать нечего. Ну, что, например, можно ожидать нового для Москвы от нового, 1884 года?.. Летом вода будет теплая, зимою холодная. Воду возить будут по-прежнему водовозы, а не чиновники и не классные дамы… Канальи и останутся канальями, барышники останутся барышниками… Кто брал взятки, тот и в этом году не будет против «благодарности». Невесты и останутся невестами – женихов по-прежнему и с собаками не сыщешь. Где же тут «новое»?»
В марте 1884 года город взбудоражила волна странных отравлений. У несчастных наблюдались головокружение, рвота, боль в животе. По городу ползли слухи о «секте отравителей», но в итоге череду дел совершенно случайно раскрыла полиция: «Городовой, стоявший на посту против Пересыльной тюрьмы, вдруг почувствовал в своих внутренностях «образ мыслей». Заболело под ложечкой, потянуло к рвоте, заломило в пояснице… Не потеряв присутствия духа, он созвал дворников – и роковая тайна была поймана. Оказалось, что городовой был отравлен касторовыми семенами (ricinus communis), из которых добывается касторовое масло… Извозчики и сами ели и, как Ева, другим давали. Касторовые семена не съедобный фрукт, но ведь русский человек не может обойтись без того, чтобы не взять в рот что-нибудь этакое, особенное…»
Молодой Чехов высмеивает и обычай в день венчания разъезжать в помпезных золоченых экипажах. Московскую свадебную карету писатель объявляет верхом безвкусицы и ставит в один ряд достопримечательностей с Царь-пушкой. Обилие мишуры, парчи, бархата, нелепое сочетание материалов и цветов показывали те непростые «искания», в которых находилось купечество. Представители только что народившейся буржуазии безбожно мешали стили, эпохи, иногда увлекаясь настолько, что нейтральное слово «эклектика» кажется неподходящим. О вкусах не спорят, и знаменитую карету напоследок решили опорочить: «Несколько юных кутил-интеллигентов, возымев желание подорвать репутацию кареты, наняли последнюю и, севши в нее в количестве десяти человек, долго катались по городу. Катанье сопровождалось приличными возлияниями и неприличными телодвижениями. Кутилы достигли цели: репутация рутинной кареты поколебалась…»
Привлек внимание Антона Павловича и случай, разыгравшийся на приеме у мирового судьи. Одного московского пекаря оштрафовали за попавшего в хлеб таракана, на что он ответил: «Каждый день буду по 15 руб. платить, а черных тараканов морить не буду. Тараканы к счастью…» С насекомыми у московских булочников были теплые и длительные отношения – чего стоит легенда о Филиппове и генерал-губернаторе Закревском, который принял за таракана попавшую в тесто изюминку!
В съестных припасах, приобретенных жителями столицы, встречались «сувениры» и похлеще. Чехов подробно перечисляет их в сатирическом рассказе «Коллекция»: «Видишь этот ноготь? Три года тому назад он был найден в бисквите, купленном в булочной Филиппова… Эта зеленая тряпочка пять лет тому назад обитала в колбасе, купленной в одном из наилучших московских магазинов. Сей засушенный таракан купался когда-то в щах, которые я ел в буфете одной железнодорожной станции, а этот гвоздь – в котлете, на той же станции. Этот крысиный хвостик и кусочек сафьяна были оба найдены в одном и том же филипповском хлебе. Кильку, от которой остались теперь одни только косточки, жена нашла в торте, который был поднесен ей в день ангела. Этот зверь, именуемый клопом, был поднесен мне в кружке пива в одной немецкой биргалке…»
Находки встречались и в XX веке. «Московские ведомости» сообщали в 1911 году о злоключениях крестьянина: «Федоров заявил полиции, что он купил в булочной Савостьянова, в том же доме два фунта черного хлеба, а когда сел его с семьей есть, то обнаружил в нем гвоздь, около 2-х дюймов. Федоров принес в булочную хлеб обратно и стал показывать управляющему, а последний, вынув гвоздь из хлеба, выбросил его во двор на крышу». Внимательно осматривайте свои покупки, господа!
Чехов высмеивает предприимчивых доходяг, наживавшихся за чужой счет. В. А. Просин взял в аренду столбы для расклейки объявлений и увеличил плату в четыре раза. Торговцы единогласно решили не пользоваться услугами монополиста. Досталось и некоему полковнику Петрашкевичу, выигравшему подряд на поливку улиц, хотя в то лето небо хмурилось и поливало улицы самостоятельно. «Сей полковник отлично рассказывает анекдоты, превосходно каламбурит, и нет того кавалера и той барышни, которые видели бы его когда-нибудь унывающим. В этом же году он весел, как проезжий корнет, и каламбурит даже во сне. Говорят, что он рассказывает теперь чаще всего смешной анекдот об одном полковнике, который положил в карман 50 000 ни за что ни про что, только за то, что все это лето шел дождь!» Июнь, июль и август 1884 года действительно выдались крайне прохладными, дачники зябли и прятали посиневшие носы.
В августе 1884 года вся Москва была взбудоражена досадным происшествием. Четыре собаки фабриканта Ф. Л. Кнопа до смерти загрызли горничную Колмогорцеву. Промышленник был оправдан Московским окружным судом. А. П. Чехов негодует вместе со всеми: «Собачий вопрос обострился. Благодаря г. Кнопу наконец-таки его решат, и решат в скором времени и самым желательным образом. Решение его так же просто, как и решение других насущных вопросов… Назначат, во‑первых, день, в который можно было бы собраться и назначить по собачьей части комиссию. Комиссия соберется, потолкует и остановится на чем-нибудь вроде рассылки всем столичным собакам повесток, в коих попросит гг. дворняг и легавых «пожаловать к 11 часам дня» для взятия с них подписки в том, что они не будут беситься впредь до разрешения».
Окончательное решение назревшей проблемы Дума смогла найти только к 1886 году. По новым правилам собак разрешалось содержать только на привязи, а выгуливаться они должны были в ошейниках и на поводках. Остальные особи считались бродячими и подвергались отлову. Живодерня, принадлежавшая дельцу Грибанову, находилась в подмосковной деревне Котлы. Поздней ночью помощники Грибанова перегораживали улицу в двух местах прочными сетями и ловили живность. Их целью были не благородные дворняги, а породистые псы, за которых хозяева заплатят приличный выкуп. В. А. Гиляровский проливает свет на запрещенные приемы живодеров: «Ловчие измыслили еще более ловкий способ выманивания собак – «подлаиванием». С этой целью в деревне Котлах они ежедневно практикуются в лаянии, и некоторые из них действительно лают не хуже звукоподражателя Егорова, лающего, как говорят, «лучше собак». Ловчие употребляют, впрочем, и более бесцеремонные способы для добывания ценных и породистых собак: таков был случай, как сообщалось уже газетами в прошлом году, на Никитском бульваре, где ловчие, увидав дорогого пойнтера, бежавшего за дамой, шедшей в мясную лавку к Арбатским воротам, несмотря на протесты дамы, насильно отняли у нее собаку и увезли в фуре, в Котлы, в свое заведение, удачно названное «собачьей морильней»[125]. Псов держали в зловонном дощатом сарае, а за снятую шкуру собаки хозяин заведения получал от 6 до 12 копеек. Часть породистых животных сбывалась охотникам и даже покупателям из других городов.
В 1884 году на Москву набрасывается «газетомания». Появляется массовый читатель, уже и лавочник с приказчиком не прочь посмаковать подробности городской жизни. Все больше людей обучаются грамоте и хотят получить лавровый венок в литературной сфере. Впрочем, Чехов считает новую забаву явлением сезонным и преходящим. Москва отличается холерическим темпераментом, начнет сто новых дел и быстро к ним охладеет. «В прошлом году вся «мыслящая» Москва тяготела к спиритизму и собиранию старых марок, теперь же ее обуял дух издательства. Хотят издавать все, помнящие родство и не помнящие, умные и не умные, хотят страстно, бешено! Не едят, не пьют, не женятся, не покушаются, а занимаются только тем, что чахнут и чахнут. Литограф Кушнарев, работающий на Абрикосова и Эйнема, бросает конфектную иллюстрацию и, тронутый успехами «Волны», издает свою собственную «херомантию». Больше всех публикуется газета «Жизнь», обещающая философский камень и решение тайн жизни…»
В 1880-е рядовые горожане любили «Московский листок» Н. И. Пастухова. Редактор всячески поддерживал бравурные настроения истового патриота родного города, отродясь нигде не бывавшего. «Европейские чудеса он описывал с точки зрения воскресной Сухаревки либо рынков Охотного ряда, Трубы, Болота, мастерски зная, что ему, этакому путешественнику, надо в басурманщине видеть и о чем сообщить своему другу-читателю на Щипок и Зацепу. Так, например, свою корреспонденцию из Берлина, вообще похвальную за порядок, Николай Иванович заключил великолепной фразой, которая тоже загуляла по Москве пословицей: «А огурца настоящего у немца нет». Сам Пастухов за перо брался редко. Однажды ему чем-то насолил содержатель Саломонский, владелец цирка на Цветном бульваре, и редактор «Московского листка» поместил в газете заметку: «Жаль, что во время представления упал с потолка кирпич, к счастию не причинивший никому вреда. Это нехорошо. Господину Саломонскому следует обратить внимание на непрочность потолка, то ведь так можно и убить кого из публики, особливо, помилуй Бог, ребенка». Доходы циркового магната резко упали, и он умолял Пастухова о помиловании и опровержении.
Ругаясь и охаивая, пастуховские корреспонденции читали и в Замоскворечье. «Московский листок» любил помещать короткие ироничные статьи, адресованные представителям столичного купечества: «Рыжему коту в Железном ряду. Присматривал бы, дурак, за хозяйкою-то. Что-то она у тебя больно богомольна. Повадилась ходить к Никите Мученику, а стать норовит у правого клироса, где певчий блондин».
После серии таких выходок и других проявлений мелкого шантажа московские купцы под предлогом банкета повезли Н. И. Пастухова в безлюдное Останкино, где весьма жестоко высекли розгами. Пострадавший хотел обратиться в полицию, но близкие отговорили его от общения с органами правопорядка. Вся Москва, мол, хохотать будет. Говорят, что сам «хозяин Москвы», генерал-губернатор В. А. Долгоруков, узнав о происшествии, оценил его положительно: «Давно пора».
Влас Дорошевич вспоминает двух сестер-портних, открывших для себя печатное слово: «Единственной их радостью было почитать «Листочек». Они покупали его два раза в неделю, по средам и субботам, когда печатался роман А. М. Пазухина. Они читали про богатого купца-самодура, про его красавицу-дочку, про приказчика, который был беден… Но который, в конце концов, добивался счастья. Они верили этой золотой сказке. И прерывали чтение замечаниями:
– Это правда!
– Это взято из жизни!
– На Пятницкой был даже такой дом. На углу.
И Пазухин, добрая Шахерезада, рассказывал им сказку за сказкой. И они видели золотые сны». В относительно жестоком мире Москвы, куда в поисках признания и денег слетались жители всей империи, желание на время забыться и помечтать представляется закономерным.
В решении сиюминутных проблем и в пережевывании городских слухов пролетел 1884 год. Январским празднествам Чехов посвящает очередную зубодробительную колонку: «Выпили ланинской жижицы, побалбесили в маскараде Большого театра, опохмелились и теперь вкушают новое счастье. Судя по количеству разбитых бутылей, испорченных животов и подсиненных физиономий, это новое счастье должно быть грандиозно, как железнодорожные беспорядки».
В общем, «ланинскую жижицу» можно смело менять на «Советское шампанское» и селедку под шубой. Николай Петрович Ланин был купцом первой гильдии, в городской думе 1870—1880-х он стал консолидирующим звеном гласных от «третьего разряда», мещан и ремесленников. Успех Ланину принес выпуск шипучих вин, минеральных вод и фруктовых напитков. «Ланинская жижица» стоила сравнительно недорого, ее пили все, от студентов до небогатых чиновников.
«Смотри, чтоб не ланинское!» – строго предупреждал в трактире купец, желавший показать свой достаток. После празднования очередного новогоднего торжества москвичи распевали: «От ланинского редерера трещит и пухнет голова». Ланин пытался влиять на общественное мнение, выпускал либеральную газету «Русский курьер». Б. Н. Чичерин называл непоседливого гласного «язвой». Интересно, что исследователи отмечают успех ланинской газеты как пример растущей роли буржуазии в жизни Москвы: «Ласточка весны не делает. Но весна вызывает появление ласточек. И эта московская газета была несомненною ласточкою весны буржуазии…»[126]
Череда торжественных празднеств не прекращалась, Первопрестольная в 130-й раз после основания Московского университета отмечала Татьянин день: «…В этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла. В Патрикеевском, Большом московском, в Татарском и прочих злачных местах выпито было столько, что дрожали стекла, а в «Эрмитаже», где каждое 12 января, пользуясь подшефейным состоянием обедающих, кормят завалящей чепухой и трупным ядом, происходило целое землетрясение. Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкая жарили «Gaudeamus», горла надрывались и хрипли… Тройки и лихачи всю ночь не переставая летали от Москвы к Яру, от Яра в «Стрельну», из «Стрельны» в «Ливадию». Было так весело, что один студиоз от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают натрускинские стерляди…»
Огромные по масштабу зрелища баловали Москву и в 1880-е годы. В 1882 году с размахом прошла XV Всероссийская художественно-промышленная выставка. Ее намеревались провести на год раньше, но помешало покушение на Александра II.
Выставочные пространства инспектировал новый император, Александр III. Комплекс павильонов разрабатывали признанные мастера эклектики А. С. Каминский и А. Е. Вебер. На выставке были представлены самые отдаленные уголки Российской империи, включая Среднюю Азию, Польшу и Финляндию.
Отдельные павильоны строили для себя заводчики и коммерсанты: Шустов, Абрикосовы, фарфоровый фабрикант Кузнецов. «Сименс и Гальке» возвели электрическую железную дорогу длиной около 300 метров. Чудом техники в сутки пользовались около 800 пассажиров. В павильоне фабрики Брокара бил настоящий фонтан из духов. Более миллиона зрителей осмотрели 5318 экспонатов. Среди представителей образованного сословия попадались и обычные крестьяне, что не преминул заметить В. В. Стасов: «Пойдите по московской выставке, не только в воскресенье и праздник, когда там бывает до 30 000 народа, но даже и на неделе: вы увидите такую разнообразную, такую многосоставную массу русского люда, какой, бывало, прежде никогда там и не встретишь. На выставку нынче ходит сам народ – мужики, бабы, солдаты, фабричные – массами, и приходят почти всегда на целый день, с узелками и провизией, с детьми, даже грудными…»[127]
Смотром ожившего пореформенного русского искусства стал Художественный отдел выставки. Здесь стараниями М. П. Боткина экспонировались полотна Айвазовского, Беггрова, Васильева, Васнецова, Верещагина, Ге, Иванова, Крамского, Маковского, Мясоедова, Перова, Поленова, Семирадского. На архитектурную часть выставки москвичи отправили храм Христа Спасителя, доходный дом А. В. Лопатина, здание главного архива иностранных дел К. И. Реймерса. М. Д. Быковский выставил проекты церкви в Ховрине и церкви Троицы на Грязех. В. О. Шервуд представил внутреннюю отделку зданий Исторического музея. К. М. Быковский, Л. В. Даль и Р. Г. Шмеллинг показали собственные проекты церкви при Румянцевском музее. Н. А. Шохин демонстрировал деревянную церковь, построенную им в дни отшумевшей Политехнической выставки. А. И. Резанов и С. В. Дмитриев отметились особняком К. С. Попова на Смоленском бульваре. А. М. Опекушина чествовали за памятник Пушкину. М. Д. Быковского хвалили за комплекс зданий Ивановского монастыря, а его сына К. М. Быковского – за Николаевскую церковь на Дербеневке и внутреннюю отделку церкви Всех Святых у Варварских ворот. И. А. Монигетти, И. С. Китнер и Н. А. Шохин были отмечены за Музей прикладных знаний[128].
Зрители у павильона «Сименс и Гальске» на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года
Специально для выставки написали свои произведения Ц. Кюи и С. Танеев. В спешно выстроенном концертном зале давались представления, проходили концерты и в ротонде на свежем воздухе. На эти цели министерство финансов выделило 12 000 рублей. Привлекли оркестры Несвижского, Ростовского полков, Александровского военного училища и даже «соединенный хор цыган под управлением Федора Соколова»[129].
Один из павильонов выставки, Императорский, сохранился. Он предназначался для отдохновения высочайших особ и стоит, всеми забытый, в районе Стадиона юных пионеров на Ленинградском проспекте. После завершения выставки, в 1885 году, Сергей Тимофеевич Морозов выкупил всю коллекцию изделий народных промыслов. Она легла в основу Кустарного музея, для которого С. У. Соловьев выстроил отдельное здание в Леонтьевском переулке. В начале XX века выставочное пространство получило красное парадное крыльцо в древнерусском стиле.
Наконец-то приобрел постоянное здание Исторический музей, перебравшийся под бочок к Василию Блаженному на Красную площадь. Вероятно, работы значительно «ускорил» Александр III, увидевший неприглядную коробку недостроенного здания и повелевший закончить первичные работы к майским коронационным торжествам 1883 года.
Председателем музея с 1881 по 1905 год был великий князь Сергей Александрович, а его товарищами и фактическими руководителями структуры – А. С. Уваров и И. Е. Забелин. В организационном комитете заседали именитые исследователи В. О. Ключевский, С. М. Соловьев, Д. И. Иловайский. Первые одиннадцать залов повествовали о временах отдаленных, каменном, бронзовом, железном веке и Древней Руси. До 1917 года вновь открытые залы успели довести историю России до XVI века.
В росписи отдельных помещений принимали участие Семирадский, Васнецов, Айвазовский. Генриху Семирадскому заказ сделал лично А. С. Уваров. Чехов проехался катком по полотну Васнецова «Каменный век»: «А его картина, которую он готовит для нашего Исторического музея, до того ужасна, что в могилах ворочаются кости всех живших от начала века до сегодня и волосы седеют даже на половых щетках».