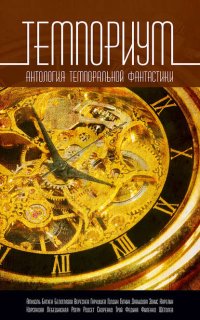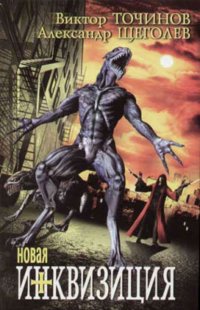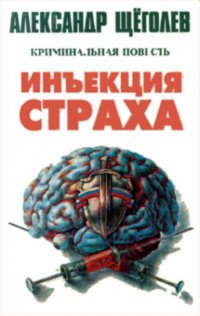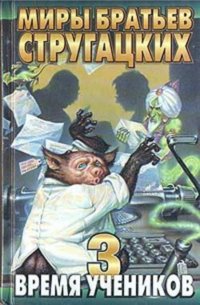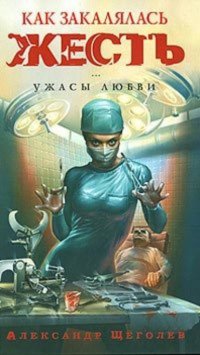
Читать онлайн Как закалялась жесть бесплатно
- Все книги автора: Александр Щёголев
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН:
Ольге, которая и есть любовь.
Книга первая
Красавец и чудовище
Женщины – это существа, похожие на людей и живущие рядом с людьми.
И. А. Бунин
Особнячок в центре Москвы, фальшивая утонченность вкусов и показное жизнелюбие. Деловая хватка и коллекционный фарфор. Наверное, из-за всего этого клиенты и прозвали мою жену Купчихой. Но внешние приметы обманчивы. Настоящая она – совсем не такая, какой подает себя людям, и кому как не мне знать это. Пусть на светских раутах ей желают долгих лет жизни, пусть!..
Я сделаю все, чтобы тварь подохла.
Она будет умирать долго. Как я.
* * *
Мы познакомились на вернисаже…
«На вернисаже», – какая пошлость. Просто гнусный январский дождь загнал меня в тот пустой зал, нелепая случайность.
– Мой друг, вам нравятся райские яблочки? – спросила меня одинокая посетительница, указывая на ближайший натюрморт.
Картина изображала включенный телевизор (на экране голая женщина пилила какое-то дерево, надо полагать, яблоню), а на телевизоре лежало зеленое яблоко, из которого рос стебелек чертополоха с симпатичным цветочком на конце. Исполнено в стиле гиперреализма. Были и другие картины, объединенные общим названием: «Наш сад». Торшер с надкусанной грушей вместо лампочки, растущий из глиняного горшка небоскреб, – в таком духе.
– Только тертые с сахаром, – неуклюже пошутил я.
– Могу устроить, – сказала она. – У меня в раю есть связи.
– Вы опасная женщина.
– О, совсем нет, – она улыбнулась. – Хоть меня и зовут Эва.
– Саврасов, – назвался я в ответ…
Дурак.
Зачем я это сделал? Фамилия известного художника 19-го века, которую я ношу не без гордости, прозвучала бы в картинной галерее совершенно по особенному, – так мне казалось. Воистину, тщеславие и глупость – родственные слова. Не назови я себя, может, спасся бы тогда.
– Саврасов? – изумилась женщина.
И вдруг захохотала, непринужденно взяв меня за руку.
Ее реакция была странна, однако она хохотала так заразительно, что я не выдержал, присоединился. Смех, знаете ли, пьянит. Как и близость. Вокруг – никого, стены увешаны произведениями искусства; за окнами дождь, в душах праздность… Когда она успокоилась и объяснилась, я уже принадлежал ей, пусть не сознавая этого.
– А вот госпожой Саврасовой я пока что не была, – гулко сообщила она…
* * *
Открытость, живость, обезоруживающая женственность, – одна из масок, за которой Эва прятала себя настоящую. Она имела власть над простейшими животными, называемыми мужчинами. Миниатюрная, изящная, хрупкая, большеглазая, она нравилась крупным и сильным особям – вроде меня. Размер партнера – это ведь для нее крайне важно, в этом весь смысл.
От Эвы неотразимо пахло. Она знала нужные слова, в ее кокетстве было нечто завораживающее, она была драгоценностью, которой нестерпимо хотелось овладеть…
Наваждение.
Оказалось, два предыдущих ее мужа носили фамилии Серов и Суриков. Она, соответственно, тоже. И вот, представьте – познакомилась с Саврасовым!
«Передвижники[1] – моя слабость», – прошептала она мне после первого поцелуя.
Все это было так смешно, что через три дня мы поженились.
Ничто не мешало нашей авантюре, поскольку в тот момент мы оба были свободны, как ветер. Серов и Суриков остались в прошлом. Три дня перед регистрацией брака я сходил с ума от нетерпения, пока марш Мендельсона не дал мне право обладать этой женщиной.
В брачную ночь она отрезала мою правую ступню…
Пять дней назад
Последнее, что она продавала, всегда был палец с обручальным кольцом…[2]
1.
Мать разговаривала с клиентом по телефону. Реплики доносились сквозь неплотно прикрытую дверь:
– Разумеется, Алексей Алексеевич. Правильно, самое время! Ах, как вы правы, ничто так не способствует жизненному тонусу, как новая игрушка…
И чего она лебезит, поморщилась Елена. Этот ее Алексей Алексеевич – всего лишь председатель какой-то там партии в Думе. А может, не в Думе, может, в непримиримой оппозиции. Ладно бы советник Президента или нефтегазовый магнат. И вообще, почему было не отложить разговор? Мы обедаем, господин председатель, перезвоните позже…
– Я думаю, назначим на завтра, – говорила мать. – На десять утра, как в прошлый раз… Нет, что вы. Лежалых игрушек у нас не бывает. Как говорится, с пАру. Главное, чтобы ваш друг был доволен, не правда ли? Ваш друг достоин уважительного к себе отношения…
Могла бы и закрыться получше, подумала Елена, мельком глянув на гувернера. Зачем посторонним это слышать? Гувернер Борис, конечно, не совсем посторонний, – как и повар-китаец, начавший разносить десерт, – но все-таки дело есть дело.
Все у нее напоказ (усмехнулась Елена мысленно) – и дом, и крутые связи, и даже родная дочь…
Хорошо хоть телефон в кабинете защищен от прослушки. В трубку была вставлена особая пластинка, называемая нейтрализатором, – штучка недорогая, что-то около ста баксов, но весьма надежная. И кабинет, весь целиком, тоже был защищен. А еще гостиная, в которой обитатели особняка сейчас обедали. Раз в пару недель приходил специалист по электронной безопасности, следивший, чтобы в этих двух помещениях не завелись чужие уши…
Борис поймал взгляд своей ученицы и улыбнулся. Уверенный в себе молодой мужчина, благоприятный во всех отношениях. Вилка в левой руке, нож в правой. Эталон. Аура из тонких, еле заметных ароматов туалетной воды… К репликам, выползавшим из-за плохо закрытой двери, он был подчеркнуто безразличен.
– О, как ты красив, проклятый, – бросила Елена в воздух.
– Dans quele sens[3]? – осведомился гувернер.
Сегодня был «французский день».
– Aucun[4]. Цитата из Ахматовой.
– Позвольте спросить, что, собственно, вы с Ахматовой имели в виду с вашей цитатой?
– В моем классе все девчонки по десять раз уже влюблялись. Эпидемия какая-то – с рецидивами. Мне-то в кого бы влюбиться, что посоветуешь?
Борис с нетерпением поглядывал на лежавшее перед ним фруктовое желе, не смея приступать к десерту до возвращения хозяйки. Хотя, сладкое предназначалось ему одному: Елене с матерью предстояло заканчивать обед совсем иным блюдом, о чем гувернеру знать не полагалось. Сегодня была пятница. День Ворона.
– Au commancement je vous conseille de ne pas vous tromper, – сказал Борис. – L’amour entre un homme et une femme ce ne sont que des hormones[5]. Это побочный психо-физиологический эффект обмена веществ, индикатор, реагирующий на содержание в крови, к примеру, тестостерона или эстрогена…
В столовую вернулась мать.
– О чем разговор, молодежь?
– О том, что любовь – это гормоны, мама.
– Я утверждаю, что истинный медик, каковым, без сомнения, станет ваша дочь, – пояснил Борис, – должен представлять себе механику нейрохимических процессов, управляющих нашим поведением, какими бы высокопарными словами сии процессы не именовались.
– Прошептал парень девчонке «я тебя хочу», – прокомментировала Елена, – а на самом деле тестостерон из его кастрюли убежал.
– Отнюдь нет, отнюдь нет! – запротестовал Борис. – Половые гормоны, которые вызывают простое сексуальное возбуждение, это частный случай!
– А я считаю, что любовь – это когда любишь, даже когда секса не хочешь. Половые гормоны в кровь не вбрасываются, а ты все равно любишь.
– Как интересно, – сказала мать. – Вы кушайте, Борис Борисович.
– Спасибо, Эва Теодоровна… (Гувернер сосредоточенно вошел серебряной ложечкой в желе.) Милая барышня, существуют и другие, особые гормоны, которые ответственны именно за возникающее у человеческой особи чувство любви – в высоком его понимании. Когда нужно закрепить привязанность партнеров друг к другу, гипоталамус вырабатывает специальный нейрохимический коктейль, который вызывает у них непознаваемое, как нам раньше казалось, чувство… (Он ел, нежно обсасывая столовый прибор. Отпивая сок из бокала, он смешно приподнимал усы.)
Мать ждала, когда он закончит.
– Какие на сегодня планы? – спросила она.
– В понедельник у Елены зачет по моллюскам. Думали начать готовиться.
– Зачет – это правильно… Я попрошу вас, мой друг, подождите вашу подопечную в учебной комнате.
Гувернер встал.
– Я понимаю, Эва Теодоровна.
– Пускай умрут, кому мы не достались, и сдохнут те, кто нас не захотел… – задумчиво произнесла хозяйка, глядя на улицу. – Вот и вся любовь…
За окном моросил холодный октябрьский дождь.
2.
На самом деле мою жену зовут не Эва. Ее настоящее, полное имя – Эвглена. Бедняжке с отцом не повезло – то ли биологом он был, то ли зоологом; думаю, отец и начудил с именем дочери. Не мать же? Впрочем, ее мать вроде была из тех же – биолог, врач, ветеринар… неважно.
Есть такой род (или вид?) одноклеточных организмов, обитающих в стоячих водоемах – «Эвглена Зеленая». Относится к простейшим. Размножается делением. Половой процесс достоверно неизвестен, происхождение неясно. Ну и так далее. Между прочим, может служить индикатором степени загрязнения вод и даже участвовать в самоочищении водоемов…
До чего же точно! И про индикатор загрязнения, и про загадочный половой процесс, и про неясность происхождения. Я, когда прочитал об «Эвглене Зеленой» в справочнике, хохотал так, что любовник моей жены, лежащий на другом конце палаты, решил, будто я рехнулся. А мне в тот момент стала вдруг ясна природа власти этой особи – над нами, мужчинами. Мужчины – те же простейшие! Вот так, и никакой мистики…
У Эвглены Теодоровны – зеленые глаза. Чертовски символично.
Знал ли чудаковатый папаша, приклеивший своему дитю мудреный ярлык, что родился достойный представитель столь любимого им вида (рода)? Вряд ли. И спросить у него не удастся: родители Эвы пропали, когда девчонке было около пятнадцати. Темная история. Пропали без вести – оба сразу, и отец, и мать. По моим сведениям (которые в моем положении добыть крайне трудно), они не вернулись из леса. Завзятые были туристы, даром что зоологи-медики. Дети природы. Отправились в поход – и канули. Оставили рожденное ими существо развиваться в суровых условиях опекунства. И что в результате выросло?
И чем все это закончится?
У Эвглены Теодоровны есть дочь – моя падчерица, – примерно того же возраста, какой была она сама, когда стала сиротой. Так вот, смотрю я на эту девочку и вспоминаю почему-то биологический справочник. Одноклеточные организмы размножаются делением. Из материнской клетки возникает дочерняя, и больше их ничто не связывает – НИ-ЧТО…
Эта незатейливая мысль дает мне силы приближать конец, каков бы он ни был.
3.
Горечь, казалось, проникала в мозг. Специальный соус, приготовленный поваром Сергеем, не помогал, загонял мерзкий вкус в подсознание. Соус явно обладал противорвотным действием, иначе трудно объяснить, почему эта дрянь не просилась обратно. Велики и непознаваемы чудеса китайской кулинарии!.. А матери, похоже, нравилось: она уплетала фарш с таким удовольствием, словно это была, скажем, индейка. Возможно, мать по обыкновению «держала лицо», вела себя правильно. Хотя, скорее всего, запредельная горечь Елене только чудилась, а на самом деле мясо ворона было вовсе не гадостным. Так или иначе, но совершать глотательные движения от этого не становилось легче…
Фарш был сырым.
И мясо ворона было настоящим. Не какой-то там ворОны – именно вОрона. Черного. Дьявольской птицы, живущей, по слухам, до трехсот лет.
К западу от Москвы, в известном местечке Петелино, присоседилась к крупной птицефабрике скромная ферма, специализировавшаяся на выращивании воронов. Мало кто знал о ее существовании, но столь экзотическая продукция пользовалась спросом среди продвинутой части столичной элиты, не жалевшей денег на экзотику (больших, кстати, денег). Разумеется, Эвглена Теодоровна – в их числе. Каждую пятницу повар Сергей ездил в Петелино, привозил в клетке живую птицу, убивал ее, и затем готовил для хозяев блюдо из сырой воронины, превращая несъедобное в съедобное. Владелец фермы гарантировал клиентам полную санитарную безопасность: отсутствие в птицах паразитов, вирулентных бактерий и вирусов, – хоть это утешало…
Дождались, когда повар уйдет к себе. Невозможно было понять по его неподвижному скуластому лицу, о чем он думал, когда его бесцеремонно изгоняли из столовой. Сергей Лю – так звали этого слугу. Давным-давно обрусевший китаец, говорящий по-русски лучше, чем средний москвич. Без возраста, без родни, без вредных привычек.
– Эвочка, завтра реализация, – тихо сообщила мать.
Новость! Елена как-то и сама догадалась. Алексей Алексеевич, выставленный за обедом напоказ, означал только одно. Трудно было не догадаться.
– Меня зовут не «Эвочка».
– Ну, хорошо, Ленусик, – примирительно сказала Эвглена Теодоровна. – Позанимаешься с Борисом и поднимись, пожалуйста, в студию, приготовь там все… как обычно.
– И не «Ленусик», – сказала Елена.
– Ты чего такая колючая?
– Как Алексей Алексеевич на тебя вышел?
– ПАгода порекомендовал. Лично.
Елена успокоилась. Господин Пагода был шефом Исполнительного комитета Государственной Думы. А по совместительству – главным посредником и, называя вещи своими именами, главным покровителем Эвглены Теодоровны.
Вообще, клиенты обычно держались в сторонке (за редким исключением). Клиенты – народ пугливый, особенно из тех, которые сидят на высоких жердочках. Все контакты, включая телефонные разговоры, осуществлялись через посредников, коих насчитывалось совсем немного. Посредники были ветками, на которых гроздьями висели заказчики. Прибыль и возможную ответственность делили пополам. Впрочем, попадались среди клиентов и такие, как Алексей Алексеевич, которые предпочитали общаться с Купчихой напрямую…
– Когда мы закончим жрать эту дрянь? – Елена показала на розетку с фаршем.
(Розетка была мейсенского фарфора: ручная роспись, сюжет с цветами и бабочками, потертая позолота.)
– Никогда, – улыбнулась мать. – У тебя предубеждение, мой друг, борись с ним. Давай назовем это блюдо дичью, договорились? Мы с тобой должны жить долго, Аленькая моя.
– Если б оно и вправду помогало…
Может, кому-то и помогало. Ни статистики, ни научных трудов по данной теме не имелось. Была мода, и была вера. Кто первый сказал, что молекулы ДНК, содержащиеся в белках взрослого ворона, особым образом воздействуют на иммунную систему человека, растормаживают программу, дремлющую в человеческих ДНК? Кто был этот ученый? История не сохранила имени. Но идея пошла в люди. Генетический материал, содержащийся в мясе ворона, смутил умы просвещенной элиты. Мистики-экстрасенсы утверждали, что другие долгожители (черепаха, крупный попугай), не годятся – энергетика не та, Высший Смысл не тот. Позитивисты советовали употреблять мясо непременно сырым – дескать, термическая обработка разрушает структуру белков, убивает живые клетки… Слово естественным образом превратилось в дело. Просвещенная элита хотела жить долго. Или хотя бы болеть поменьше…
– Ты подумала насчет собаки? – спросила Елена.
Ответ пришел после долгой паузы.
– Не уверена, что это нужно.
Дочь в сердцах бросила вилку и откинулась на спинку стула. Ну что за дура, подумала она. Такие ясные вещи, и то разжевывать приходится… уговаривать…
– Клиент, приходя к нам в дом и увидев абсолютно здоровую, холеную собачонку, что подумает? – объяснила она, стараясь сохранить терпение. – Что наш дом «исключительно порядочный», как ты выражаешься. Что здесь живут люди того же круга.
– Ты знаешь, почему я не решаюсь, – с деланным спокойствием сказала Эвглена Теодоровна. Сорвалась высокая, истеричная нотка, и тут же была придушена. – После того случая…
– Я не ротвейлера предлагаю завести и не питбуля. Купим пекинеса, девочку, назовем ее Лули – как английская королева. Или, например, карликового пинчера. Безобидные, как хомяки.
Мать закрыла на секунду глаза. Лицо ее поплыло – не справилась, не удержала в себе воспоминания. Там, за закрытыми веками, увидела она нечто страшное; и застыла перед раскрытым ртом вилка с фаршем, и задрожала вдруг нижняя губа…
– Обидные, безобидные… После того случая – не могу забыть, и все тут. Прости, дорогая, но собака в доме – не в моих силах.
Елена знала, о каком случае речь. В раннем детстве, на глазах маленькой Эвглены Теодоровны, которой тогда было годиков пять, здоровенная овчарка разодрала ее отцу (покойному деду Елены) левую кисть. Двух пальцев человек лишился, а ребенок психотравму получил… Страшный образ всю жизнь мать преследует. Но ради дела можно бы и потерпеть, разве нет?
– Ты почему плохо ешь? – восстановила мать дистанцию. – Поднажми. Я кое-что хотела с тобой обсудить, поскольку мы компаньоны. Есть перспектива расширить дело…
Несколько минут Елена слушала, молчаливо закипая, не веря своим ушам; наконец не выдержала, вскочила:
– Ты что, ничего не понимаешь?
– Чего не понимаю?
Самое возмутительное, что мать не советовалась, а ставила в известность! Наверное, внутри себя все уже решила.
– Что происходит – понимаешь?
Мать распрямилась и спросила ровным голосом:
– А что происходит, моя дорогая?
…Обнаруженная ею перспектива состояла в том, что товаром очень заинтересовались в Скандинавии. Финны, датчане и прочие шведы. Увы, доставать подобные редкости там, в оазисе цивилизации, затруднительно, тогда как мы – у них под боком. Короче, намечается крупный заказчик, готовый брать товар «аккордами». «Аккорд в Скандинавию» – это ж какая сумасшедшая выгода! Откуда он взялся, этот заказчик? Очень просто: Сергей на него вывел. Какой, пардон, Сергей? Наш китайский повар, какой же еще… Вот такой, можно сказать, казус. Господин Лю, оказывается, не только слуга, но и посредник с великолепными связями…
Странное чувство наполнило Елену. Черное, как смола. Чернота выплеснулась через край. Кровь остановилась и стала черной, легкие окаменели, мир распался на множество черных кубиков… длилось это лишь мгновение.
Позорное мгновение страха.
Сказали бы Елене, что это был именно страх – убила бы наглеца на месте. Никого и ничего она не боялась. Что же случилось сегодня, в дождливую октябрьскую пятницу, в священный День Ворона? Ей хотелось взять скарификатор и исколоть себе пальцы, чтобы выпустить поганую жижу на волю, но все медицинские инструменты хранились выше этажом…
Она так и не села обратно за стол. Стояла и смотрела на мать сверху.
– …Новый канал, новая респектабельная клиентура, – говорила Эвглена Теодоровна. – А если ты Сергею не доверяешь… ну, и правильно. Только не забывай, что до тебя, пока ты маленькая была, он был моим ассистентом. И сейчас помогает. Не сорваться ему с крючка…
И вдруг выяснилось, что терпение кончилось. Адская горечь распирала рот. Елена опрокинула недоеденную розетку прямо на скатерть.
– Короче, кого мне к завтрашнему готовить? Старого или нового?
– А ты как думаешь? – спросила мать, заулыбавшись (выходку дочери она приняла за свою победу). – Кого бы ты сама реализовала?
Елена пошла к двери. Обернулась:
– Думать – не мое дело. Ты босс.
4.
В нашу с Эвгленой брачную ночь тот, предыдущий ее муж, с фамилией Суриков, был еще жив. Жизнь его поддерживалась аппаратом гемодиализа… впрочем, уместно ли здесь это слово – жизнь? От человека оставалось только туловище – без конечностей, без гениталий, без почек, печени и желудка. Вскоре не стало и этого. Купчиха продала остатки, затем – его голову, а затем – палец с обручальным кольцом.
Последнее, что она продавала, всегда был палец с обручальным кольцом.
Таким образом, пока мы с супругой кувыркались в будуаре, материализуя наши с ней сексуальные фантазии, Суриков находился здесь, в палате. Я узнал об этом уже на следующее утро, когда меня самого привезли сюда из операционной. Чего только не бывает в семейной жизни…
Как Эвглена смогла выйти замуж, если прошлый муж был еще при ней? Как получила штамп в паспорте? Я спросил однажды. Она объяснила. Свидетельства о смерти ей выдают без предъявления тела, вот и вся разгадка. Оказывается, у нас и такое возможно. Любовь творит настоящие чудеса, говорят классики, – любовь мелких тварей к деньгам… Так что к моменту нашего знакомства Эвглена официально числилась вдовой, свободной и законопослушной.
До Сурикова был Серов. А до Серова? Бог весть. Достоверно известно лишь то, что Эва сменила передо мной вовсе не двоих мужей, а шестерых. И все мы, если верить нашей любительнице изящных искусств, отличались звучными фамилиями. Во всяком случае, кто-то из предыдущих точно был Репиным. Теперь, вот, в ее коллекции появился и Саврасов. Неравнодушна она к художникам-передвижникам, что ж тут странного… Ну не смешно ли? До икоты…
Короче, я – седьмой по счету. Счастливый номер.
Любопытно, свидетельство о моей смерти она собирается оформить ДО или ПОСЛЕ?
5.
– …Поди, пожалуйста, сюда, – зову я Елену.
Она отрывается от шкафчика с инструментами, подходит к моей кровати, вопросительно смотрит. Возраст – 15 лет c с хвостиком. Неуловимая грань между девочкой-подростком и молодой женщиной. Иногда она ухаживает за мной, когда тети Томы нет: приносит еду, меняет простыни, в трудные моменты даже подкладывает судно.
Трудные моменты – это дни после операций.
– Завтра утром, да? – тихонько спрашиваю у нее.
Молчит. Смотрит с явным сочувствием.
– Ну ты же понимаешь, если выбор пал на меня, надо на всякий случай дела привести в порядок, проститься с родными, написать завещание…
Нет, не улыбается. Впрочем, шутка моя печальна, слишком много в ней нешуточного. В руках у девочки бикса – емкость круглой формы, похожая на кастрюльку с дырочками, в которую складывают хирургические инструменты. Когда юная медсестра идет от меня обратно к шкафчику, в биксе что-то весело погромыхивает.
Зовут ее тоже Эвгленой. Купчиха дала дочке собственное имя – то ли чтоб себя увековечить, то ли в память о своем пропавшем отце. Эвглена с зелеными глазами разделилась надвое, и возникла Эвглена Вторая. Поистине – простейшие размножаются делением. Есть у девчонки, как ни странно, и отчество: «Викторовна». Что за Виктор? Отец, надо полагать? Надеюсь, не Васнецов… Хотя, какая мне разница?
Ненавижу художников.
А дочка предпочитает, чтобы ее звали Еленой. Как угодно, только не Эвгленой. Это прекрасно…
– Елена… – произношу я тихо и медленно. – Колдовские звуки. Если ты вслушаешься, как звучит твое имя, ты почувствуешь силу. В нем есть то, чего не хватает тебе в жизни. А может, тебе стоит хотя бы иногда произносить свое имя – вслух или про себя? Вот, послушай: Е-ле-на… Е-ле-на…
– Смешно, – дергает она плечами, не оборачиваясь.
Ничего смешного, девочка, откликаюсь я мысленно. Расшатывать твою защиту – это тяжелый труд.
– Когда ты пробуешь свое имя на вкус, оно может быть или сладким, или соленым.
– Да что в нем такого важного, в моем имени?! – наконец разворачивается она.
– Поверь, совершенно ничего важного! Главное то, как ты его чувствуешь. Если опереться на собственное имя, можно добавить себе устойчивости в жизни. Можно петь свое имя, как мантру, как заклинание. Слушаешь звуки – «Е», «А»… и при этом чувствуешь, как расслабленность появляется в твоем теле. А задрожавшая вдруг рука поможет тебе еще больше расслабиться и понять разницу между напряжением и душевным покоем.
Елена непроизвольно прячет руки за спину… Я продолжаю, не сбавляя темпа.
– А ведь тебе нужна сила, ведь так! Ты видишь, что с тобой делают. Ты чувствуешь, что становишься пластилином и теряешь форму. Ты теряешь собственную личность. Ты послушай свой голос! Послушай, как меняется твой голос, когда ОНА говорит с тобой…
Не знаю, как насчет голоса Елены, но мой – точно меняется. Даже тембр. Откуда, из каких глубин отчаяния приходит эта вязкая густота, эта засасывающая убежденность?
– …Посмотри на себя. ОНА дергает за нитки, и ты выполняешь все, что ОНА хочет. Видишь, как ты становишься марионеткой? Чувствуешь, как ты съеживаешься и становишься меньше ростом, когда ОНА говорит с тобой?..
ОНА – это мать. Достаточно простого местоимения, потому что Елена отлично понимает, о ком речь. Лучше меня понимает…
Девочка слушает – с остановившимся взглядом. Мимика отсутствует. В голосе моем она слышит голос матери. Она и вправду смотрит на себя со стороны, она думает именно то, что я сейчас озвучиваю – ее страхи и ее чувства.
Это транс.
– …Ты марионетка в ЕЕ театре. Твои глаза потухают, твои руки опускаются. Ты – пластилин. Ты – никто…
Елена топает ногой:
– Сами вы «никто»! Сами!
Бежит в коридор. Из операционной доносится яростное громыхание. По столу она двинула ногой, что ли? Эти звуки, как музыка.
Тетя Тома, наша медсестра, выглядывает из своей клетушки, сердито глядит на меня и что-то мычит, жестикулируя рукой с бутербродом.
Я улыбаюсь.
Очередная порция яда впрыснута. Далеко не впервые я ввинчиваю в Елену подобные вещи, и каждый раз ее реакция все острее, – положительный симптом, я надеюсь. Ибо эта жутковатая девчонка – мой единственный шанс на спасение…
– Так есть заказ или нет? – бросаю я в сторону коридора, на сей раз громко.
Безответный вопрос.
Откликается любовник, как там его… Алик Егоров. Живо привстает на локте:
– Какой заказ? – спрашивает он нервно.
– Заказы – они разные бывают. По телефону, по факсу, по интернету. Я рассуждаю следующим образом. Во-первых, ужин нам сегодня не принесли и, скорее всего, не принесут. Почему? Чтобы желудок перед наркозом не загромождать. Во-вторых, запертый доселе медицинский шкаф явил миру свое бесовское нутро. В третьих…
Появляется Елена.
– Нет никакого заказа, – говорит она резко. – Не говорите ерунду!
Ее слова адресованы больше Алику, чем мне. Я-то всё уже понял.
– Нет, так нет. Убогие так доверчивы.
– Вы о чем? – совсем разволновался парень.
Единственное, что пока остается за кадром – кого завтра будут резать, его или меня.
6.
Она атаковала Бориса Борисовича с ходу, повисла на нем, повалила на ковер.
– А моллюски? – спросил гувернер с наигранной строгостью.
– Моллюски – на фиг. Давно пора готовить зачет по теме «дефлорация».
Елена по-хозяйски обняла гувернера и поцеловала его в губы. Тот не сопротивлялся, не разорвал близость.
– Вы что-то путаете, барышня. «Дефлорация» – в программе следующего учебного года. A la fin des fins je me suis marie.[6]
– Ta femme est grise. Comme la moissure elle fleurit une fois par an, au mois d’août[7]
Он не попытался защитить жену от нелепого оскорбления, не возразил ни словом, ни жестом. Это означало одно: Борис Борисович полностью согласен с происходящим. «Он мой», – подумала Елена с холодным удовлетворением.
– Если ты боишься, что тебя застукают с малолеткой, мы закроем дверь на шпингалет, – сказала юная проказница и вспорхнула с ковра…
Потом они целовались. Все в рамках, очень пристойно. Слюнявили друг друга, как маленькие. Ученица покорялась не очень смелым рукам своего наставника, смотрела в его лицо, покрывшееся красными пятнами, и гадала: о чем Борька в этот момент думает? Наверное, о том, что маленькая дурочка от него, красавца, без ума. И нужно всего лишь подождать годик, пока девчонка не повзрослеет, чтобы вынудить Купчиху дать согласие на брак. Сначала, конечно, придется развестись с нынешней женой, но интрига стоит того…
Елена училась в специализированной школе, в классе с медико-биологическим профилем, потому мать и гувернера специального подыскала: тоже с медико-биологическим профилем. Чтоб заодно и домашним учителем поработал. Аспирант-заочник Первого медицинского. 26 лет. Женат. Ему купили квартиру здесь же, рядом с особняком, и обещали, что в перспективе эта квартира перейдет в его собственность. Детей у Бориса не было, мать специально отбирала бездетных, свободных. А жена его… А что жена?
– Хочу разбогатеть, – заявила Елена.
– Продавая моллюсков? – парировал он. – Разводя жемчужниц и выковыривая из раковин перламутр?
– Тебе хорошо прикалываться, ты можешь жениться на богатой наследнице и отравить ее родичей.
В глубине его чистых, прозрачных глаз закрутились темные водовороты.
– Отравить родичей – дело нехитрое. Но, во-первых, жена у меня уже есть, я, кажется, упоминал об этом. Во-вторых, принцесса, где я вам возьму богатую наследницу?
– А ты подумай, ты же умный.
– Vous dites des bétises, Hélene[8], – сердито сказал гувернер, кряхтя, поднялся с ковра и надел пиджак.
Все правильно: «Елена» и никак иначе. Никаких «ленусиков» или «аленьких». Он называл ее тем именем, которым она называла себя сама, он всегда понимал, когда она провоцирует его, а когда издевается. Он обращался к ней на «вы», даже если она к нему на «ты»…
Борис Борисович и вправду был очень умным.
– В некоторых случаях обручальное кольцо – это кольцо Всевластья, – сказала Елена. – Как у Толкиена. Читал Толкиена?
– Только в подлиннике.
Перешли за стол, раскрыли учебник. И вдруг опять принялись целоваться…
С Борькой все ясно, продолжала Елена думать о своем. А как быть с молчаливым и незаметным господином Лю? Просто повар… Сначала он помогал матери работать в студии, теперь помогает избавляться от требухи, не нашедшей применения. Когда-то давно мать вовлекла Сергея в свои дела… зачем? Возможно, никого в нужный момент рядом не оказалось. Начинать всегда нелегко. Но последняя его инициатива – со Скандинавией, – означает, что он вовсе не прост. Такие контакты в одиночку не найдешь. Кто за ним стоит? Китайская диаспора стремительно набирает в Москве силу, и вожди ее интересуются решительно всем, – вот и ответ. Как же мать не врубилась? Оглянуться не успеешь, как будешь работать на дядю. На китайского дядю.
Кстати, та птицеферма, где разводят воронов, тоже находка Сергея Лю. Пока по Москве шепоток гулял, он уже наладил для матери поставку чудодейственного мяса. Елена однажды напросилась к нему в компанию и съездила в Петелино. Владельцем фермы оказался некий китаец. Оно и понятно: вряд ли кто-то еще, кроме выходца из Китая, смог бы организовать столь странное и сложное производство…
– Чем, пардон, от вас несет? – поморщился Борис Борисович, отрываясь от девчоночьих губ. – Запах… какой-то противоестественный.
Учитель и ученица, не сговариваясь, прекратили баловаться. Сняли дверь с задвижки.
– Есть способ гораздо безопаснее, – проворчал гувернер, обтирая лицо платочком. – Чем жен менять…
– Способ чего?
– Быстро разбогатеть.
– Ну и?
– Выпускать товары для больных, для бедных и для глупых. Вернейшее средство.
Кому он это сказал? И зачем? Наверное, не мог избавиться от наваждения: жениться на богатой принцессе, а потом отравить королеву-мать… до чего же заманчивая перспектива…
7.
Вид из окна хорош! Пруд с лебедями, бульвар со скамейками, гуляющие люди; кругом – доходные дома начала века. Жизнь по ту сторону прекрасна и удивительна. Я люблю смотреть из окна и строить планы на будущее.
Планы на будущее – мое хобби.
Особняк расположен на Чистых прудах, в районе Архангельского переулка. Где-то здесь гонял на своем мотоцикле неуловимый Савранский из «Покровских ворот», пугая старушек и птиц. А не так уж далеко отсюда, на других прудах и другом бульваре, остроумный писатель Булгаков отсек голову редактору Берлиозу, лишенному чувства юмора…
Жизнь по сию сторону стекла тоже в своем роде удивительна.
В палате нас двое. Любовника зовут Алик Егоров и лежит он на дальней кровати. Он новенький, не обвыкся. Совсем еще молодой: видно, хотел ублажить богатую скучающую дамочку и получить в награду все сокровища мира. Альфонс-неудачник. Никак не поверит в происходящее, и потому – прикован наручником к специальной скобе в изголовье. Три дня назад Эва перевезла его сюда из будуара. Впрочем, жить ему недолго (они больше двух-трех недель не живут), о чем парень, на его счастье, не знает. А если «аккорд» неожиданно грянет – и того меньше… У Алика обе руки пока в целости, так что второй, свободной, он может дотянуться до «судна», если ему приспичит. Здесь никто старается под себя не ходить – тем более, в качестве протеста. Живо на «аккорд» пустят – вне очереди. Или в подвал переведут, на «Нулевой этаж». И вообще, начнешь бузить – все для тебя кончится.
С этим здесь легко.
Бунты иногда случаются, как же без бунтов. Улица – вот она, обманчиво близка; нестерпимо хочется хоть кому-то дать о себе знать… Но только в окнах – отнюдь не простые стекла. Плюс решетки. Нет шансов.
Кроватей в палате четыре. Хорошо оборудованные, на колесиках. Две – пустые. Пока пустые. В начале недели на одной еще жил предыдущий любовник… как же его звали, того огрызка?.. «Огрызок» – вот самое точное название для таких, как они… и как я…
Нет, я все-таки на особом положении. Живу по сравнению с остальными фантастически долго – почти бессмертный. Горец. Она меня бережет, моя женушка, по пустякам не тратит. Я муж, и я отчим, – глава семьи, блин. Девять месяцев, как мы с Эвгленой Зеленой поженились…
8.
– Тетя Тома! – зову я. – Скинь меня отседова!
Из подсобки является пожилая женщина. Она там живет, в этом техническом помещении – среди швабр и ведер. У нее есть топчан, тумбочка, маленький холодильник…
Переваливаясь с ноги на ногу, как моряк в качку, тетя Тома подходит к моей кровати. Ноги у нее тяжелые, отечные, в венах. И вся целиком она – грузная особа. Наверное, непросто ей справляться со своими обязанностями. Она снимает меня с кровати, ставит на пол и дружески треплет по стриженой голове.
– Дальше сам, – говорю я.
Обычно я доползаю до уборной без посторонней помощи, не ленюсь. Хоть какая-то нагрузка. Передвигаюсь на трех обрубках, помогая правой рукой. Одну руку Эва мне пока сохраняет: то ли из-за обручального кольца, то ли чтоб я мог ласкать ее тело в редкие минуты близости. Уборная – это помещение метрах в пяти от моей кровати. В границах нашей маленькой территории я свободен, в отличие от Алика Егорова. Учитывая, что ноги у меня отсечены до колен, а из кистей осталась только правая (левой руки нет по локоть), каждый поход в туалет – это подвиг.
Герой…
Тетя Тома озабоченно следит за мной. Перед самым входом в уборную она останавливает меня, расстегивает и приспускает на мне штаны.
– Отвернулась бы, – привычно прошу я.
Самостоятельно залезаю на низкий унитаз, – четыре вершка от пола, – и освобождаюсь от продуктов метаболизма.
Нет, не отвернется. Боится, что я грохнусь и попорчу себе что-нибудь. Ее заботливость иногда трогает до глубины души, а иногда кажется изощренным издевательством.
«Тетей» эту женщину зовут обе хозяйки дома. Она одновременно санитар, медсестра и уборщица, короче, штатный ангел-хранитель второго этажа.
– Интересно, сколько тебе платят? – задумчиво говорю я.
Тетя Тома что-то мычит в ответ. Во рту ее вместо языка обиженно мечется багровый обрубок. Задавать нашему «ангелу-хранителю» вопросы – безнадежное занятие, причем, не только потому, что некий рассерженный хирург сделал ее немой. Теоретически мы можем общаться с помощью пластиковой доски и специального маркера, лежащих на моей тумбочке, но практически – толку ноль. Сколько ни подсовывай тете Томе маркер, ответы получаешь такие: «Спроси у жены», «Чего пристал?», «Позови жену и хлопни кулаком по столу». Иногда такие: «Мое дело горшки выносить». Но чаще – «Отстань», «Надоел», «Не знаю»…
– Интересно, если я покончу с собой, тебя за это уволят или слегка пожурят? – продолжаю я размышлять вслух.
Ее реакция неожиданно остра. Она бросается к тумбочке, хватает доску, пишет и показывает мне. «Ты правда хочешь покончить с собой»?
– Так я и признался. Весь кайф обломаете.
Тетя Тома относит меня на кровать.
– И вообще, – злюсь я, – ты сначала ответь хоть на один мой вопрос, а потом свои задавай.
Она стирает губкой написанное и вновь пишет:
«Мне не платят. Я не из-за денег».
– А из-за чего?
«Мальчика моего спасаю».
– Какого-такого «мальчика», блин-компот?!
«Тебя тоже. Вас всех».
Я смотрю на кривые строчки и не понимаю, смеяться или плакать. Тетя Тома не умеет ни шутить, ни просто улыбаться. И она права – без нее мы не проживали бы и дня после регулярных операций. Антишоковая терапия – прямая обязанность нашей убогой медсестры. Капельницы, уколы, снова капельницы…
– Если бы хотела нас спасти – пошла бы в милицию, – говорю я. – Чего проще? И не надо врать.
Ее рука с доской бессильно опускается. Я поворачиваюсь на бок – спиной к собеседнице – и ставлю в разговоре точку:
– Успокойся, не собираюсь я сводить счеты с жизнью. Я еще на ваших похоронах самбу станцую, бабье чокнутое.
9.
Елена ожесточенно чистила зубы, не жалея десен. Третий раз за день. Ментоловая паста с трудом изгоняла застрявший во рту вкус сырой мертвечины.
И зачем мы мучаем себя этой пакостью, думала Елена. Какой смысл жрать мясо ворона, выращенного на ферме? Нет смысла. Надо брать настоящую, дикую птицу, которая падалью питается. Правда, в этом случае можно запросто подцепить такую заразу, от которой всю жизнь будешь избавляться. Личинки, яйца, цисты – и что там еще. Замкнутый круг.
Мода диктует, и мать – как все…
«Забей», – говорит в таких случаях один хороший знакомый Елены.
Пора решать китайский вопрос, вернулась она к главному. Убрать Сергея – значит, объявить ИМ войну. Оставить Сергея при матери – с большой вероятностью попасть в рабство. Что делать?
Ведь есть же у матери прикрытие! О, еще какое!.. Нет, не воспользуется, не дернет за невидимый шнурок. Скажет: «Не тот повод». Спросит: «А в чем проблема, Эвочка, что тебе привиделось?» Короче, мать ничего делать не станет, потому что…
Да потому что дура, просто и кратко сформулировала Елена.
Она сплюнула в раковину. Слюна была с кровью.
10.
Если мы называем нашу тюрьму палатой, то хозяйка дома – студией. Может, потому, что в Купчихе погиб художник, может, из-за картин, развешанных по стенам. Между прочим, среди картин есть и те, которые мы с ней рассматривали в галерее – в день нашего знакомства. (Яблоко-мутант на телевизоре. Растущий из кадки небоскреб, который поливает старуха в ночной рубашке. Мексиканский пейзаж, где вместо кактусов – торчащие из песка гОловы писателя Максима Горького, все в длинных колючках…) Она скупила цикл «Наш сад» целиком, вероятно, чтобы сделать мне приятное.
«Студия», блин…
Кроме дурацких картин в нашей палате ничего от студии нет. Реанимация, процедурная – это да. Причем, всё в одном помещении. Здесь и аппарат гемодиализа, который иногда называют искусственной почкой. Медицинский шкафчик (железо плюс стекло), в котором хранятся хирургические инструменты. В углу штативы для капельниц. Операционная – рядом, в соседней комнате. Вообще, две трети второго этажа – это маленькая, но вполне оборудованная больница.
Будуар тоже на втором этаже, но в другом конце особняка. Туда можно попасть двумя способами: во-первых, пройти дальше по коридору, – за операционную, за кладовку, за туалет для персонала. Во-вторых, снизу по отдельной лестнице, что прячется возле «черного хода» (этим путем Эвглена обычно и приводит возбужденных мышек в мышеловку).
Попасть, наоборот, из будуара в «студию» для постороннего человека возможно только одним способом – на каталке…
И персонал имеется. Помимо тети Томы иногда появляется улыбчивый, приветливый китаец по имени Сергей, который на любой отвлеченный вопрос реагирует так: «Я попробую что-нибудь для вас сделать».
Иди в жопу, отвечаю я в таких случаях. Мысленно, конечно…
На тумбочке возле моей кровати красуется статуэтка, подаренная мне Эвгленой много месяцев назад, еще на 23 февраля. Стойкий оловянный солдатик. Изготовлен, правда, не из олова, а из чугуна, – качественное художественное литье. Одноногий, естественно, как ему по сказке и положено… Что это, намек? Издевка? Или искреннее проявление чувства прекрасного?
Я не в обиде на свою супругу за этот подарок. Лично мне статуэтка нравится вовсе не изяществом форм; просто она увесиста и очень удобно лежит в руке…
11.
Аккуратно уложив инструмент, Елена уносит снаряженные биксы в операционную. Там у них есть сухожарый шкаф, куда биксы с инструментом и должны быть поставлены. Все правильно – без термообработки нельзя. Вынимать непосредственно перед операцией. Я теперь многое знаю по части хирургии, жизнь научила. Куда бы этот мусор из башки вытряхнуть?
Уцепившись рукой за спинку кровати, я сползаю на пол.
Единственной моей руке любой атлет позавидует – жуть, а не рука. Машина. Заменяет мне три недостающих конечности.
Кровать целиком стальная, спинка сварена из трубок; предусмотрена также скоба для наручников, за которую я возьмусь, когда буду залезать обратно. Одет я по-домашнему: в майке и бриджах. Штанины в бриджах наглухо зашиты, вдобавок, кусками войлока проложены, чтобы культям комфортнее было. Культи на ногах уже не болят. Ноют и чешутся сами ноги, которых нет… впрочем, это общее место в ощущениях всех калек. Рана на левой руке еще тревожит, все-таки трех недель не прошло, как Эва отсекла мне остаток предплечья, пощадив локтевой сустав…
Со стороны, наверное, я похож на толстого червя, который, суетливо извиваясь, перемещается по полу. Держать равновесие – не проблема, давно привык. Добираюсь до розетки и включаю телевизор. Выбираю канал и перекидываю Алику пульт управления. Я читал программу передач и знаю, что сейчас этому человеку нужно. Шум стадиона врывается в нашу студию.
– Кто болеет за «Зенит», у того мошна звенит, – провозглашаю я.
– Все, кто ходит на «Спартак», получают там в пятак! – мгновенно оживляется он.
Алик прибыл в Москву из Ленинградской области, поэтому фанатеет за «Зенит». И потому же – никто его здесь не хватится. На недельку приехал, бедолага: столицу посмотреть, на футбол сходить, то-сё…
Когда Елена возвращается, «Зенит» как раз забивает «Спартаку» гол. Алик вне себя от счастья, поэтому преспокойно берет три маленькие таблетки, которые протягивает ему наша медсестра. Послушно глотает, – одну, вторую, – не отрывая сияющих глаз от экрана… И только через минуту вдруг соображает:
– Стой, это зачем?
Кто ж тебе скажет, зачем? Глупый.
– Чего ты мне дала?
Скорее всего, седуксен. Премедикация. Болельщику предстоит тяжелое утро. Елена, не отвечая ему, подходит ко мне, – я жду, сидя на полу; гляжу на нее снизу вверх. Она, как всегда, в штанах: ни юбок, ни платьев не носит. Вряд ли стесняется моих взглядов, просто характер такой.
– Мне тоже? – спрашиваю.
– Вам – нет.
Мне – нет… Это хорошо.
Ох, как хорошо! Короткие секунды триумфа.
– Стой! Думаешь, я полное дерево? – кричит Алик. – Чем ты меня травишь, сука? (Футбол его больше не интересует.) Да я просто вытошню это дерьмо, и всё!
Елена ухмыляется краешками губ.
– Не советую, – говорю я мальчишке. – Хуже будет.
Он смотрит на меня и утыкается лицом в подушку. Насчет того, что будет хуже, он мне верит…
Елена проверяет, хорошо ли закрыт шкаф с инструментами.
– У тебя есть парень? – начинаю я разговор.
Она только хмыкает.
– Предположим, был бы, – говорю я ей. – И что бы он сказал, если бы узнал, чем вы с матерью на жизнь зарабатываете?
– Нужно платить за мою учебу, – вдруг решает она ответить. – Нужно платить за дом.
– Понимаю, очень престижная школа. Учиться в ней – показатель незаурядной крутизны… Неужели ты вправду думаешь, что все на свете продается?
– Нет, не все. Только то, на что есть покупатель.
– Это все теория. А на практике, я полагаю, нет у тебя парня. Нет и быть не может. Твоя простейшая будет недовольна, а ты не захочешь ее огорчать.
Лицо девочки костенеет. Кто такая «простейшая», она не спрашивает.
– Захочу – огорчу, – цедит она.
– «Захочу», «не захочу»… Я, наверное, неправильно выразился. Чтобы завести нормального парня, тебе придется перешагнуть через свой страх. Для этого нужно быть сильной. Твоя беда в том, что ты боишься… признайся себе, КОГО ты боишься?
Сейчас, думаю я. Сейчас она повернется, рванет дверь на себя…
– У меня есть парень, – сообщает она, глядя в пол. – Мы вместе учимся. Говорит, что любит.
Что-то изменилось в ее голосе. И в лице. Дрогнуло что-то – появилось на миг и спряталось…
– Ого! – искренне удивляюсь я. – Слушай, я тебя поздравляю. Честно. Нынешние молодые люди редко признаются в любви, нет у них в лексиконе такого слова.
– Ну только не надо! – все-таки срывается Елена. – Что вы в этом понимаете, вы все!
Она делает стремительный шаг к выходу на лестницу. Однако я не даю разговору так просто оборваться.
– Ты потрясная девчонка, я завидую твоему неведомому другу. Извини, что влез не в свое дело, но…
Дверь, готовая вот-вот хлопнуть, притормаживает.
– …Насчет понимания. Может быть, я единственный здесь, кто тебя понимает. Понимает и ценит. Может быть, ты сама еще не знаешь собственной ценности. Подумай об этом.
Елена уходит из палаты.
Через пару секунд дверь приоткрывается, и в щель просовывается искаженное гневом лицо.
– Если парень меня любит, – чеканит Елена, – то ничего плохого обо мне не скажет, чем бы я там ни зарабатывала на жизнь.
Дверной косяк содрогается.
Поразительно. Я уже и забыл, с чего начал разговор, а она помнит… Неужели и правда – «парень»? Неужели простые чувства не чужды каменной принцессе? Может, она даже… влюбилась?
Нелепое предположение. Но – вдруг?
Размышляя об этом, я не смог заснуть до утра…
Четыре дня назад
Надежда умирает последней. Но, в конце концов, тоже умирает…
12.
Отсчитывая сердечные сокращения, пищал монитор; в его электронном чреве еле слышно шумел вентилятор. По одному экрану ползла кардиограмма, по другому – ритмы мозга. В целом параметры были не критичны: АД чуть повышено, пульс чуть учащен, насыщенность крови кислородом – в норме.
– А теперь сама, – сказала мать. – Не забудь – разрез ступенькой.
Обращается со мной, как с несмышленышем, подумала Елена.
Предстояло отнимать пальцы на обеих руках. Впрочем, с левой рукой мать уже закончила. Товар был уложен в контейнер, пять ран на кисти – зашиты. Голый Алик Егоров спал на столе под многофокусной лампой: дыхание свободное, лицо безмятежное. Парень хорошо переносил наркоз.
Елена взялась за ампутационный нож.
Когда удаляешь палец, то разрез тканей и вправду нужно делать ступенькой. На ладонной поверхности кожи оставляют больше – она крепче, тренированней. Это букварь… Елена работала сосредоточенно и быстро. Оттянуть кожу, перевязать сосуды, вытянуть и отсечь нервы. Сухожилия – тоже долой. На пальцах нет мышц, только сухожилия, это облегчает дело. Затем – пилить кость…
– Подожди, он просыпается, – сказала мать.
Она ввела Алику Егорову еще кетамина и некоторое время следила за его дыханием.
Новая порция ампутантов заняла свое место в контейнере. Эвглена Теодоровна с одобрением наблюдала за действиями дочери. Та зашивала раны, используя для этого лавсан – как и для перевязывания сосудов. Глупо тратить кетгутовую нить, если в ближайшие дни пациент лишится остатков кистей. Больше всего Елена любила заключительную стадию процесса: прятать неопрятную окровавленную кость под нежным лоскутом кожи; трехгранная хирургическая игла, изогнутая полумесяцем, порхала в ее сильных руках. А резать и пилить – нет, не любила.
– Ты моя отличница, – сказала мать.
– Если б знали вы, из какой крови растут стихи, – откликнулась Елена, меняя перчатки. – Дальше, как я понимаю – ты?
Она бы и сама справилась, но время поджимало: скоро явятся клиенты. На очереди стояли лодыжка и почка. Число заказов ко вчерашнему вечеру прибавилось – купить новые «игрушки», кроме Алексея Алексеевича, изъявили желание еще двое: один – постоянный клиент, и новый человек. Именно этот новый и запросил пальцы – на пробу. Зачем ему «на пробу» все десять – его, конечно, дело, но рекомендация пришла от серьезнейшего, давнего посредника.
– Ты будешь звонить ПАгоде? – спросила Елена.
– Зачем?
– Рассказать про Скандинавию и китайцев.
Мать не ответила: занята была.
– Тогда скажи мне номер телефона, я сама позвоню.
– Что за вздор? Подай зажим.
Тончайший слой костяной пыли покрыл пластик стола. От ноги пациента отделился сочный кусок: нога укоротилась дюймов на пять. А чтобы избежать возражений, пациент получил очередные кубики кетамина внутривенно. Работа кипела.
– Тебе чего, Саврасов? – осведомилась Эвглена Теодоровна, не поворачивась.
В операционную заглядывал карлик-получеловек. Ухватившись за дверную ручку единственной конечностью, он окинул взглядом помещение:
– По жене соскучился.
– Спасибо, милый, я очень тронута.
Его бархатный баритон, его блестящие глаза могли бы свести с ума не одну женщину. Возможно так и было – в прошлом.
– Помощь нужна? – предложил он голосом, полным искренности.
Елена засмеялась. Мать, наоборот, не приняла абсурдную шутку.
– Если ты понадобишься, мы тебя непременно позовем.
Урод ушел, ловко балансируя на своих обрубках. Как он сохранял вертикальное положение – только ему ведомо.
– Поворачиваем, – скомандовала мать. – С датчиками аккуратнее.
Четыре руки уложили Алика Егорова на левый бок, открыв правый ножу хирурга.
– Какое чистое, благородное тело, – прошептала Эвглена Теодоровна. – Что же я делаю, стерва, живорез, коновал, что же я творю…
Три слезинки упали на стерильную поверхность стола. Стальной хирург неожиданно всплакнул. Такое иногда случалось: короткий приступ, секунда слабости, жалость к себе и к человечеству, оскорбленное чувство прекрасного… Наверное, Эвглена Теодоровна и вправду была в душе художником. И еще она была сентиментальна, как это ни странно.
Она промокнула глаза салфеткой и попросила:
– Скальпель.
Разрез в поясничной области, длиною от живота до позвоночника, лишил благородное тело чистоты…
* * *
…Удаление почки – не очень сложная операция, требующая, тем не менее, от исполнителя и от ассистента полной концентрации внимания. Увы, Елене трудно было сосредоточиться. Пока мать копалась во внутренностях спящего красавца, она все думала, думала…Мысли ее были темны, как венозная кровь. Подавая инструменты, она дважды вместо зажима Микулича взяла с подноса зажим Кохера. Позор.
13.
Алексей Алексеевич приехал лично. Руслан, дежуривший в вестибюле, довел высокого гостя до кабинета хозяйки, а охрану притормозил – с молчаливого согласия господина председателя.
Партийный босс прибыл в сопровождении собачки – она вбежала первой, принюхиваясь и осматриваясь. Любопытная тварь была мальтийской болонкой.
– Какая прелесть! – воскликнула Эвглена Теодоровна, непроизвольно отшатнувшись. Собака визгливо залаяла на нее. – Ах, какие мы сердитые… Руслан! – нервно позвала она. – Покажи нашему маленькому гостю его комнату. Вы не возражаете? – улыбнулась она Алексею Алексеевичу.
Разумеется, он не возражал. Рядом с вестибюлем было устроено специальное помещение для собак: с ковриками, с речным песочком, с корягой, которую можно пометить, с пахучими пластиковыми косточками. Болонку увели.
Алексей Алексеевич, хоть и возглавлял влиятельную партию конституционных анархистов, имел при этом выраженную склонность к порядку. Первое, что он сделал – отдал Эвглене Теодоровне использованный контейнер, а затем – копию платежного поручения, подтверждающего, что деньги за услуги перечислены.
– Здесь – за обе прошлые и за нынешнюю…
Он запнулся. Он получал товар всего лишь в третий раз, потому был строг и скован.
– Игрушку, – помогла ему хозяйка, небрежным жестом отправляя документ в бумагорезку.
– Точно так. За игрушку.
– С вами на редкость приятно иметь дело, – сказала Эвглена Теодоровна, взяв ладонь посетителя в свои руки. Тот на мгновение обмяк, словно поднятый за шкирку кот. Прикосновения этой женщины сильно действовали на мужчин.
А потом контакт распался, и вместе с тем напряжение ушло из кабинета. Новый контейнер был передан клиенту.
– Разрешите взглянуть? – спросил Алексей Алексеевич.
– Бога ради, сделайте одолжение.
– А оно не испортится?
– Ни в коем случае.
Алексей Алексеевич отстегнул крышку и гадливо скривился. Внутри лежала почка.
– Правильно ли я поняла, что пробные, так сказать, шары не вызвали отторжения? – спросила Эвглена Теодоровна.
– Не то слово! – оживился гость. – Были приняты «на ура»!
– Замечательно, теперь мы можем сделать наши встречи регулярными. Если захотите – оформим подписку. Я разработаю для вас индивидуальную схему.
– Спасибо за все. Знаете, я вам очень благодарен. Вы внесли в мою жизнь хоть какой-то смысл.
– Я счастлива. Не забудьте, в наши игрушки желательно играть поскорее, иначе они портятся.
– Я понимаю…
Когда господин председатель и его маленькая свита отбыли, Эвглена Теодоровна вызвала к себе менеджера Руслана.
– Запомни на будущее, – сказала она. – Если пропустишь дальше прихожей хоть одну псину, тебя найдут в мусорном баке. Распотрошенного и объеденного крысами. Но сначала я тебя уволю.
* * *
Контейнер с лодыжкой предназначался главе акционерного общества «Недра». За товаром приехал не Сам, а его драгоценная супруга. Скинув шубку Руслану, она впорхнула в кабинет. Эвглена Теодоровна ждала ее, раскрыв объятия. Женщины расцеловались, как добрые подруги («Какая ты хорошенькая!», «Ты сегодня просто прелесть!»), покружились, не разнимая рук, и принялись обсуждать насущные темы: погоду в Дубаи, покупку Большого театра нефтяным гигантом «Челси юнайтед», скандальный развод в семье Цукерманов. Эвглена Теодоровна забрала пустой контейнер и взамен отдала полный. Гостья приняла товар, не посмотрев – как нечто малозначащее. Хозяин АО «Недра» оформил подписку, заплатив за год вперед, так что процесс получения новых игрушек давно превратился для этой семьи в обыденность… Светский треп затягивался. Время приезда клиентов было рассчитано, согласовано и дважды уточнено, однако глупая кукла трещала, не умолкая, – о том, что ее мужу в Эмиратах подарили девять верблюдов, и теперь возникла жуткая проблема, как и где эту живность держать; о том, что у них в доме то ли эпидемия началась, то ли теракт такой хитрый, но домашние собачки одна за другой сваливаются с чумкой, соседи в панике, и только их рыжему сеттеру по кличке Чубайс хоть бы хны. Эвглена Теодоровна слушала с живейшим интересом («Не может быть! Да что ты говоришь!»), а потом вбросила этак невзначай:
– Кстати, о Чубайсе. Сюда вот-вот приедут из правительства.
И шестеренки заклинило. Разговор сломался. Внезапно вспомнив о чем-то срочном, гостья подхватилась и убежала.
За порогом взревели моторы.
Хозяева «Недр» предпочитали не попадаться лишний раз на глаза новой знати.
* * *
Насчет правительства – была сущая правда. Пальцы Алика Егорова должны были достаться Первому заму Председателя Кабинета, курирующему блок социальных сношений.
Заказчик входил в число восьми государственных деятелей, подлежащих обязательной охране. Это, знаете ли, уровень. Чтобы не нервировать Управление охраны, и здраво рассудив, что в некоторых делах лучше обойтись без вооруженного эскорта, Первый зам прислал вместо себя доверенное лицо.
– Помощник, – представился вошедший.
Было в нем что-то от сторожевого пса – то ли взгляд, то ли манера принюхиваться. Плюс галстук, больше похожий на ошейник. Короче, холуй высокого полета.
Контейнер был упакован, обвязан и запечатан. Холуй забрал его, положил на стол банковскую квитанцию и пошел на выход.
– Мы же договаривались, оплата только при получении второй порции! – запоздало среагировала Эвглена Теодоровна. – Только если груз понравится!
Посетитель не снизошел до ответа. Хозяйка поспешила следом.
– Передайте вашему шефу, что груз нужно использовать сразу, как только вы его доставите, – суетилась она. – Иначе никакого толку не будет…
Холуй сел за руль черного родстера и был таков.
Кроме слова «помощник» он не произнес больше ничего. Ни слова. Ни звука.
14.
Елена приводила операционную в порядок. Собрала и дезинфицировала инструменты, вымыла стол (водой и хлорамином), после чего занялась полом.
Из палаты доносились выстрелы и вопли – это Старый смотрел телевизор. «Старым» Елена нарекла отчима. «Папой» язык не поворачивался назвать, хотя, если честно, изредка накатывало что-то – не к этому чужому человеку, а вообще. Беспричинная тоска, безадресная нежность… отвратительная смесь!
Папа… Кто он? Где он? Не могла же мать его тоже… как их всех?!
Что касается отчима, то в глаза Елена его никогда не звала «старым». Только при матери или мысленно. Она старалась к уроду вовсе не обращаться. Впрочем, относилась к нему с уважением. Не трус, не истерик – в отличие от большинства. Его всегда интересно послушать…
Но вот вопрос: зачем он заглядывал в операционную – в самый разгар работы? С пустым разговором, лишенным всякого смысла. И долго ли стоял под дверью?
Послышался характерный звук – словно мягкой щеткой по полу проехались. Елена напряглась.
Урод полз по коридору.
15.
– Атас! Отцепляй трос, мяч лопнет! Тихо, сейчас рванет… Отойди от края, ёпс… Земля надвигается!..
Алик Егоров бредит. Голова его мечется по подушке – влево, вправо. Иногда он пытается приподняться и тут же падает обратно. Остатки его конечностей подергиваются.
Пациент в муках отходит от наркоза. А чтобы он не загнулся и дотянул до следующей операции, наши заботливые девочки еще в операционной поставили ему капельницу и «усы». Через капельницу Алик получает плазму крови (на крючке висит размороженный пакет, в локтевую вену введена игла-«бабочка», рука зафиксирована ремешками). Что касается «усов», то это кислородная терапия: в ноздри Алика вставлены трубочки, ведущие к специальному аппарату.
Пациент выживет.
В палате работает телевизор, выдавая на-гора кубометры очередного вздора (повторяют убогий сериал про вампиров), но картонные ужасы меня не интересуют. Я смотрю на порезанного Алика Егорова. Я размышляю о сущем и вечном…
* * *
Кто и зачем покупает у Эвы столь странный товар?
Никак не могу взять этого в толк, не вижу смысла! Коммерческой выгоды тоже не вижу. А ведь они нас именно продают – кусками! Причем, судя по всему, за хорошие деньги… От моих вопросов относительно дальнейшей судьбы ампутантов Эва уходит, даже соврать что-нибудь ленится, хотя баба она болтливая (в отличие от дочери), много мне порассказывала за долгие месяцы нашего супружества. Спросить у Елены? Елена, возможно, в курсе, но… Нет, нет. С падчерицей на такие скользкие темы я стараюсь не разговаривать. Ни к чему нарушать хрупкую связь, возникшую между нами. Разговоры с падчерицей – единственное оружие, которое мне доступно.
А может, я просто боюсь услышать правдивый ответ?
И еще – какое ко всему этому отношение имеет господин Пагода, которого так часто по ящику показывают?
* * *
Елена как раз одна, без матери – готовит «студию» к новым кровавым деинсталляциям. Тети Томы нет – ушла. В выходные, когда мать и дочь дома, ее обычно отпускают. Впрочем, на ночь няня всегда возвращается.
План очередной беседы у меня продуман заранее. Выждав некоторое время, я добираюсь до операционной, стараясь шуметь поменьше. Заглядываю в раскрытую дверь…
Девчонка смотрит на меня. Она все слышала, маленькая ведьма. Она меня ждет.
– Может, еще раз вколоть ему седуксен? – киваю я в сторону палаты. – Мучается парень.
– Вколола, сколько надо.
Я вползаю внутрь.
– Побуду здесь, ладно? Скучно одному.
Операционная у них совмещена с предоперацонной – маленькое, чистенькое и очень домашнее помещение. Наверное, когда-то здесь размещалась детская – судя по зайчикам, нарисованным на сводчатом потолке. Кроме этих зайчиков ничего не напоминает о светлом прошлом. Никакой лишней мебели. Операционный стол, пара штативов для капельниц, сухожарый шкаф. Аппарат для наркоза плюс «искусственное легкое». Мойка с краном, который модно повернуть локтем; емкости для дезрастворов, где замачивается инструмент. Полимонитор. На стенах – две мощные ультрафиолетовые лампы.
Родной, до слез знакомый интерьер.
– Я хочу тебе кое-что сказать, – осторожно начинаю. – Нынешняя ситуация меня по понятным причинам беспокоит. Ты только скальпелем не кидайся, договорились?
Елена замирает возле пакета, куда она сгребла весь мусор, и молча оборачивается ко мне.
– Вспомни, раньше в палате меньше трех любовников не было, все койки были заняты. Это не считая меня. А теперь? Что, количество заказов уменьшилось?
– Нет, не уменьшилось, – признает она после паузы. – Просто мать многим клиентам отказывает.
Елена ответила! Суровая молчальница распечатала уста! А ведь еще вчера любой вопрос, связанный с «заказами», «клиентами» и другой чертовщиной, разбивался о глухую стену…
– Кстати, о матери, – продолжаю я, не дав сумасшедшей радости вырваться на волю. – Чем наша амеба занята?
Только улыбку себе позволяю, легкую, чуть виноватую улыбку.
– Эвглена – это не амеба, – поджимает она губы. – Совсем другое клеточное строение.
– Прости, я плохо разбираюсь в одноклеточных.
Конечно, подобный юмор ее цепляет, все-таки она тоже Эвглена, пусть и Вторая. Однако период отторжения давно нами пройден. Чем больше ярлыков я повешу на ее родительницу, тем лучше. Ярлыки поддерживают тот невидимый деструктив, который я кропотливо выращиваю в рыхлом девичьем разуме, это как корни огромного сорняка.
– Мать сейчас богатых дебилов очаровывает. Это надолго. А почему вы про заказы спросили?
– Да просто в голову пришло. Ты же видишь, нашей «простейшей» все труднее и труднее приводить любовников, которые могут быть хорошим товаром. И, тем более, новых мужей. Когда-нибудь она станет неспособна это делать. А тебе – всего пятнадцать. Она – уже неспособна, ты – еще неспособна. Чем платить за учебу? За развлечения, за клубы, за катание на лошадях?
– Вы это к чему? – напряженно спрашивает Елена.
– Ты гораздо умнее ее. Ты и сама это знаешь. Я вообще не говорю ничего такого, чего бы ты сама не знала. И другие видят, что ты умнее. Да все это видят! Ты могла бы поставить дело совершенно по-другому. Да, я уже обречен, я не увижу результатов. Но ты… ТЫ! Молодая, красивая, настоящая Елена Прекрасная. Ты достойна всего, о чем мечтаешь, потому что ты умница, ты отчетливо видишь, что нужно сделать, чтобы машина снова раскрутилась… не так ли?
Я замолкаю. Мое «не так ли», – обязательная фраза. Девочка должна ответить. Я жду…
– Так, – соглашается Елена.
Я киваю.
– Вдобавок, ты прекрасный хирург. Такая молодая, и проводишь довольно сложные операции… не так ли?
– Так, – соглашается она уже без паузы.
– Твоей подготовке могли бы позавидовать опытные профессионалы… верно?
– Ну… да.
– До чего же мир несправедливо устроен! В тебе, Елена, есть что-то бОльшее, чем просто способности, это факт. Таких, как ты, на земле мало. Честно говоря, я еще не встречал таких, как ты. Я снимаю перед тобой шляпу… (Позитив органично накладывается на деструктив, придавая сорняку жизнестойкость.) Но твоя предприимчивость, твоя жажда настоящего дела целиком уходит на мытье полов. (Я показываю на швабру.) Твои руки связаны, твой мозг отравлен страхом. Обидно до слез, ей-богу.
Я наконец ловлю взгляд Елены. Глаза ее повлажнели: похоже, ей тоже обидно до слез. В ее глазах отражается ослепительно белый кафель. Она хмуро интересуется:
– И что дальше?
– Ты изучала паразитов. Тех, которые питаются чужими соками, живут за чужой счет. Ты понимаешь, о ком я говорю. Это существо паразитирует на нас, на клиентах, на тебе. Особенно на тебе. Ведь ты – другая, ты – делаешь. Создаешь. Питаешь своего паразита. А паразитов уничтожают, их уничтожают всеми средствами. Они, как опухоль, которую вырезают. Подумай об этом.
– Да как же… да что вы мне такое предлагаете?! – шипит Елена.
– Я? Предлагаю? – изумляюсь я. – Боже упаси. Тебе не нужны советы дилетантов, ты сама найдешь выход, в этом нет сомнений. А я… Убей меня, если я знаю, как тебе поступить.
Она тупо смотрит на пакет с мусором. Ее глаза белы, как смерть.
– Убей меня, если я тебе хоть в чем-то соврал, – добавляю я спокойно. – Убей меня, Елена Прекрасная.
Двумя рывками, опираясь рукой о пол, я покидаю площадку. Сеанс окончен.
Елена быстро сворачивается, включает кварцевые лампы, запирает операционную и догоняет меня.
– Лично я никого не убиваю, – с обидой сообщает она.
Не убивает, так не убивает. Пусть последнее слово останется за ней…
Душераздирающий вопль потрясает Второй Этаж. Девчонка бросается в палату; я – следом.
Поднеся изувеченные руки к самому лицу, Алик Егоров рассматривает их – глазами, полными ужаса… и вдруг кричит снова – без слов, без смысла, во всю мощь фанатской глотки. Этот выброс эмоций перекрыл бы рев заполненного стадиона.
Человек со свежевырезанной почкой не может вопить. Он – смог.
Кожаные ремешки, державшие руку, освободились, – застежка подкачала. Наверное, пациента привязали впопыхах, абы как. Плохо работаете, девочки! Капельница сдвинута и вот-вот упадет. Игла-«бабочка», выдранная из вены, качается на силиконовой трубочке. Кровь из иглы капает на пол…
В стремительном броске Елена ловит падающий штатив и тоже кричит:
– Заткнись, ты, дерево!
16.
На десерт подали горячий шоколад с круассанами. Елена нехорошо глянула вослед удалившемуся повару, с подозрением понюхала чашку и сказала:
– Я тут прочитала, что «любовь – это более-менее непосредственный след, оставленный в сердце элемента психической конвергенцией к себе универсума». Конец цитаты. Наконец-то все стало ясно, и мне сразу полегчало. Спешу поделиться с вами, а то так необразованными и помрете.
Борис Борисович тонко улыбнулся.
– А вот Наталья Бехтерева утверждает, что любовь – это особая форма невроза, с особой симптоматикой, – сказал он. – Тоже вполне работоспособная формулировка.
– Вам бы, молодежь, все насмехаться над святыми вещами, – укоризненно сказала Эвглена Теодоровна. – Не била вас жизнь своей десницей. Любовь – это несчастье и слезы, а зачастую, милые дети, это смерть.
Отчего-то хозяйка дома вышла к обеду мрачной, растерявшей привычную яркость. Странным взглядом она посматривала на дочь, и черты ее лица при этом хищно обострялись.
– Вероятно, уважаемая Эва Теодоровна имеет в виду неразделенную любовь, – сказал Борис Борисович. – В этом случае главное – правильно поставить диагноз. И назначить лечение. Синдром «несчастной любви» резко уменьшает выработку серотонина, а его недостаток в мозгу вызывает депрессию. Есть вполне доступные средства, которые заставляют гипофиз увеличить выработку серотонина, и в результате – состояние человека резко улучшается. Несчастная любовь проходит.
Помолчали.
– Кстати, все это правда, – добавил Борис Борисович.
Он отщипывал круассан мелкими кусочками и отправлял себе в рот.
– Известно ли вам, дражайшая Елена, – снова заговорил гувернер, – что шоколад – это хорошее лекарство от любовных страданий? – он показал на ее чашку. – В шоколаде содержится фенилэтиламин. А это как раз то самое вещество, которое стимулирует выработку серотонина. Вот что думает о любви позитивистская наука.
– Фантастика, – покивала Эвглена Теодоровна, думая о своем. – Объясните мне, как врач, хороший пациент – это кто?
– Хороший пациент – тот, которого редко видишь, – ответил Борис Борисович.
– Я-то серьезно спросила. Мы тут поспорили… Вы когда собираетесь в театр?
– Завтра, – гувернер сразу прекратил есть. – В Большой. Или планы изменились?
– Ненавижу театры, – вставила Елена. – Особенно Большой.
– Нет, ничего не меняется, – сказала Эвглена Теодоровна. – Просто если моя дочь вздумает сбежать – заприте ложу.
– Может меня еще и к креслу привязать? – сказала Елена.
– Почему бы нет? Так и сделайте, Борис Борисович.
– Существует более эффективный способ, – сказал гувернер. – Называется «фармакологическое связывание». Берем, к примеру, аминазин, атропин и спирт… – он осекся, поймав взгляд хозяйки.
Вошел менеджер Руслан, оправляя синий пиджак.
– Какой-то мужик, – доложил он. – Незнакомый. Без машины, без охраны.
– Чего хочет? – спросила Эвглена Теодоровна.
– Говорит, шел мимо и решил зайти.
– Гони в шею.
– Просил передать, что его фамилия Неживой.
Эвглена Теодоровна встала.
Нет – вскочила, сдернутая со стула невидимой нитью.
– Как?..
Ее голос внезапно сорвался.
– …пропусти!
– В кабинет?
– Сюда, сюда!
Она так и стояла, ожидая. Когда гость появился в столовой, она прошептала: «Виктор Антоныч…» и сорвалась с места. Снова встала, пробежав едва ли пару метров, и снова кинулась вперед. Она обняла вошедшего мужчину, уткнувшись лицом ему в плечо, – только потом успокоилась.
Обитатели дома никогда хозяйку такой не видели.
Человек по фамилии Неживой был высок, широкоплеч и поджар. Серый костюм, шитый на заказ, очерчивал фигуру атлета. Рубашка и галстук – в тон костюму. Короткие, с залысинами, волосы – не светлые, не седые, а белесые и прозрачные, словно стеклянные. Рубленые нос и скулы. Устрашающе выдвинутые брови нависали над бесцветными маленькими глазами. Лет ему было этак сорок пять.
Он производил впечатление.
Человек в сером развел руками, как бы извиняясь за поведение женщины; обнимать ее он не стал…
Елена тоже поднялась. Виктор Антонович, думала она. Антонович – ладно. Но – Виктор… В ее висках застучало.
Эвглена Теодоровна отступила на полшага, взяла мужчину за руку и, не сводя с него глаз, торопливо заговорила:
– Знакомьтесь, это мой старый друг… это моя дочь Елена, а это… ну, в общем, неважно. (Ох, как она на него смотрела!) Пойдемте, Виктор Антоныч. Пойдемте скорей. Или вы голодны?
– Я не столько старый, сколько подержанный, – сказал гость. – Приятного всем аппетита. Подожди, подруга, не тяни, оторвешь конечность…
Он обогнул стол и вдруг оказался возле Елены. Как будто сильный зверь прошел по залу. Неудержимая мощь.
Взгляды девочки и мужчины встретились.
Бесцветные глаза ничего не выражали, однако Елена ощутила нечто. Как укол аскорбинки. Больно, но безопасно.
– Вся в тебя, – обернулся Неживой к Эвглене Теодоровне. – Чиста, как моча младенца. Кстати, мочевой пузырь не беспокоит? – обратился он уже к Елене.
Это было сказано с абсолютной серьезностью. Занятная манера общаться – обрушить на собеседника заведомую чушь и наблюдать за реакцией. Проверять людей на вшивость Елена тоже любила.
– Пока нет, – она спокойно ответила.
– На улице похолодало, рекомендую надевать под низ теплое белье. Здоровый мочевой пузырь – главное достояние женщины. В школах, п-твоить, надо не сменную обувь требовать, а поставить на входе крепких парней вроде меня, чтобы проверяли каждую девчонку – что там у нее под юбкой, по сезону ли одета. Как ты относишься к теплому белью?
– Положительно, лишь бы было чистым. Как моча младенца.
Неживой сморгнул: наверное, ожидал чего-то другого, хоть каплю смущения. Не дождался.
– Как ты со взрослым человеком разговариваешь! – взвизгнула Эвглена Теодоровна.
– Тихо, не звени, – поморщился гость. – Всё под контролем… Ну, пошли, покажешь, как ты живешь, – он вернулся в хозяйке дома. – Пообедаю я, с вашего позволения, в нашей ведомственной столовой. В обеде что главное? Не отравиться и не подавиться. Поэтому важно, чтобы поблизости был врач. Еще раз приятного аппетита. Надеюсь, в этом прекрасном месте есть хотя бы один врач…
Мать со своим «старым другом» ушли. Елена села. Сердце стучало в горле. Десерт в рот не лез – ни шоколад, насыщенный фенилэтиламином, ни, тем более, круассаны.
Борис помалкивал. Умный аспирант отлично понимал, когда можно говорить, а когда лучше поджать хвост.
– Ты начал рассказывать про какое-то «фармакологическое связывание», – сказала ему Елена. – Продолжай, я внимательно слушаю. Что там с чем надо смешать?
17.
Виктор Антонович Неживой надел рубашку, галстук, заправился и застегнул брюки. Пиджак оставил лежать на ковре. Использованный презерватив завязал узлом и сунул в напольную китайскую вазу, белую с золотыми драконами. 19-й век, между прочим. Сумасшедших денег стоит.
Эвглена Теодоровна не спешила одеваться – разметалась по кровати, совершенно счастливая.
– Шестнадцать лет, – сказала она. – Долго я ждала эту встречу.
– Хорошее вино с годами не киснет, – сказал Неживой.
– Спасибо, мне очень приятно это слышать.
– Я, собственно, про себя. А ты что подумала?
– Нахал!
– У-у, ты моя маленькая, – он присел на кровать, положил широченную ладонь женщине на бедро и повел рукой вверх по телу.
– Не надо, – попросила она, повернулась на бок и поджала колени к груди. – А то я вас опять раздевать начну. Вы кто теперь?
– В каком смысле?
– Ну, звание, должность. Где служите. Расскажете о себе?
– Я полковник. Служу не «где», а «кому».
– По-прежнему «верноподданный князь»?
– Так точно. Только король другой.
– Который по счету?
– Третий.
– Все выше и выше, да? Из Питера – в Москву…
– А из Москвы – в Кремль.
– Я почему-то так и подумала.
– А еще я теперь семейный. Жена, дочке четыре года.
– Опять девочка? Да вам можно заказы на девочек брать!
– Пардон, о каких девочках речь?
– Елена – ваша дочь…
Неживой встал, прошелся по спальне. Остановился перед дверью, занавешенной портьерой. В будуаре было два выхода: один вел на служебную лестницу и дальше вниз, второй – в медицинский блок. Неживой остановился перед вторым.
– Не дурак, – сказал он, заглянув за портьеру. – Догадался.
– Можно вопрос? Вы любите свою семью?
Он ответил не сразу. Подергал дверь. Было заперто. Прислушался…
– Ты же знаешь, я люблю только себя.
Эвглена Теодоровна привстала.
– Подождите, но ребеночка-то любите?
– Честно? Нет.
– Как – нет?!
– Положение обязывает иметь семью. И семья, п-твоить в жопу, у меня есть.
– Даже ребеночка… – она растерялась. – Значит, моей Ленке не на что надеяться?
Неживой вернулся к кровати. Присаживаться не стал.
– Надежда умирает последней. Но, в конце концов, тоже умирает. По-моему, ты даешь дочери все, что ей нужно, и еще сверху присыпаешь.
Эвглена Теодоровна молча оделась. Неживой с интересом наблюдал.
– Вы, наверное, пришли по делу, – сказала она.
– У-у, ты моя умненькая, – сказал он. – Именно по делу, и не по одному.
– Да, Виктор Антонович?
Она ослепительно улыбнулась; грациозно встала, оправив платье. Секунда – и влюбленная, потерявшая голову кошка обернулась светской львицей.
Неживой усмехнулся.
– Первое, – сказал он. – Мне нужен список твоих клиентов.
– Ого! Вам лично или…
– Полный список. Чтоб всех назвала, прошлых и нынешних.
– Это несерьезно. Как я могу?
– Это более чем серьезно, ласточка моя. Сегодня ты реализовала заказ – десять пальчиков. Как ты думаешь, для кого он предназначался?
– Откуда вы…
– Не отвлекайся, отвечай на вопрос.
– Ну, для Первого зама председателя Кабинета.
– Я спрашиваю, для кого он предназначался на самом деле? Вспомни, пошевели мозгами – кому могло понадобиться столько мелких, подчеркиваю, мелких… как ты называешь эту пакость?
– Иг… игрушками.
– Во-во. Мелких игрушек. Если вспомнишь – поймешь, кто мой король и чей я князь. Я не прошу список клиентов сейчас, зайду на днях. И не рекомендую консультироваться с теми, кто тебя прикрывает. Кстати, кто тебя прикрывает?
Эвглена Теодоровна поднесла руку гостя к своей щеке. Прильнула к этой огромной властной руке. Ее чувственные губы задрожали, ее зрачки расширились. От нее едва уловимо запахло полевыми цветами.
– Виктор Антонович, вы ведь не сделаете мне ничего дурного, – произнесла она. – Во имя нашего прошлого, во имя нашей дочери. Я и так – полностью ваша.
Сила, которую она вложила в эту реплику, сломала бы любого нормального мужика…
– Ты знаешь, что на меня твои фокусы не действуют, – спокойно ответил Неживой. – А плохого я тебе, конечно, не сделаю. Пока.
– Вы задаете абсолютно невозможные, страшные вопросы, – сказала Эвглена Теодоровна в отчаянии.
– Не хочешь разговаривать – я подожду. Давай перейдем к делу номер два. Где ты прячешь свою больничку?
– Здесь, на втором этаже.
– Отлично. Очень хочется посмотреть. Не откажешь старому другу в короткой экскурсии?
Эвглена Теодоровна тяжко вздохнула.
– Если вы настаиваете…
* * *
…Елена отпрянула от двери, возле которой она подслушивала, добежала на цыпочках до операционной, повернула к главной лестнице и выскользнула из медицинского блока. Закрыла стальную дверь с надписью «Второй» (красные буквы на белом фоне) и только тогда надела тапочки…
* * *
…Виктор Антонович Неживой остро взглянул на портьеру, скрывавшую дверь в «больничку», и широко улыбнулся.
18.
Необычные звуки ворвались в мир нашей тоски…
Я привстаю на локте. Сажусь. Тетя Тома тревожно выглядывает из своей каморки, затем выходит и смотрит вдоль коридора. Что ей там видно, не знаю. Слышен рев, то ли человеческий, то ли звериный. И тут же – отчаянный стон Эвглены: «Разбил!»
Все это далеко, но отчетливо. Похоже, из будуара. Наверное, дверь в будуар открыта, иначе хрен бы я что услышал. И вдруг рев обрывается. Торопливое шлепанье – где-то там, в конце коридора (ага, Купчиха забегала), – и снова ее стоны: «Разбил, скотина!.. Урод!.. Вот ведь урод!..» Потом яростно громыхает каталка; звук приближается…
Везут кого-то нового.
Низкорослый крепыш с бычьей шеей – в одних носках. Носки черные, длинные, почти до колен. На редкость волосатый дядечка. Пристегнут к каталке четырьмя ремнями. Лежит неподвижно, глаза закрыты.
Эвглена плюхается на свободную койку и произносит совершенно неожиданное для нее слово:
– Блин…
– Наш друг под наркозом? – интересуюсь.
– Какой наркоз?! – вспыхивает она. – Вазой его по башке долбанула!
И правда, стриженая голова строптивого любовника повреждена. Из темени сочится кровь, постепенно спекаясь в темно-вишневую лепешечку. И ваза пострадала. Уж не китайская ли, которой Купчиха так гордилась?
– Из захвата ногу вырвал, и давай лягаться, – жалуется она. – Просто бешеный. Оба шприца у меня из руки выбил.
– Неблагодарный.
– Ой, только твоих острот не хватало!
– Сотрясение мозга, – констатирую я. – Черепно-мозговая травма. Вам, девочки, на это, конечно, наплевать, но неужели вы собираетесь в таком состоянии его оперировать?
– Утром решу. Кстати, насчет наркоза… – Она встает. – Тетя Тома, пойдем, поможешь.
Женщины уходят.
И в ту же секунду будущий «товар» открывает глаза.
– Меня зовут капитан Тугашев. Я все слышу.
– Все слышу, а сказать не могу, – сочувствую я.
– Вы так шутите, да? Я сотрудник МУРа. Развяжите меня, быстро.
Он силится повернуть раненую голову и посмотреть в мою сторону.
– У тебя есть имя, капитан Тугашев?
– Роман.
– Ты на задании?
– Я всю жизнь на задании. Развязывай, ё-моё!
– Видишь ли, Рома, я не могу выполнить твою просьбу, потому что пока я буду до тебя добираться, девочки уже вернутся. Я не успею даже одну твою руку освободить. Так что если ты не на задании, а пришел сюда клубнички отведать, то плохи наши с тобой дела.
Наконец он увидел меня – в полный, как говорится, рост. Лицо его застывает.
– Попробуй зубами… – вымучивает он. – Рукой – и зубами…
Тетя Тома вносит снаряженную капельницу. Следом – Эвглена со шприцем.
– Держи его руку, – командует Эвглена. Затем – горе-любовнику: – Не дергайся, дурак! Иглу сломаю!
– Ты еще не знаешь Рому Тугашева, сука! – хрипит тот. – Ты, сука, меня еще узнаешь!
– Конечно, конечно, – воркует она, метя пленнику в локтевую вену.
С третьего-четвертого раза Эвглена попадает, куда надо.
– Передай… – говорит капитан слабеющим голосом. – Позвони драматургу… Пиши номер…
Все, спит. Заснул «на острие иглы». Сомбревин действует практически мгновенно, а ему для разгона вкатили, как видно, сомбревин.
Женщины перекладывают тело на кровать.
– Ну, и зачем ты такого жеребца заарканила? – спрашиваю.
Пока тетя Тома ставит капельницу (тоже с какой-то наркотой), Купчиха находит возможным поболтать.
– Никого я не арканила. Сам прицепился, когда я Виктора Антоновича до метро проводила. Тороплюсь обратно домой, и вдруг – этот. «Девушка, вы летите, как эсминец на боевом рейде. Возьмите на буксир побитого штормами клерка». Это я-то девушка!
– А дальше?
– Сам видишь, что дальше. Не прогонять же, думаю. Смотри, какой мясистый парень. Очень, думаю, своевременное знакомство, учитывая заказ Виктора Антоновича. Кроме того, разговор с Еленой из головы не выходит.
– Разговор с Еленой?
– Ой, не спрашивай. Что с девчонкой творится?
И я не спрашиваю. Боюсь себя выдать. Я слишком возбужден, чтобы вот так сразу найти вопросы. Купчиха уходит. Тетя Тома некоторое время сидит возле своего нового подопечного, и тоже исчезает – ложится у себя на топчан. Алику Егорову вообще вся эта сцена до фени – как спал, так и спит, сраженный промедолом. Ложусь и я.
Сердце слепо тычется в обрубках ног, словно щенок, потерявший мать.
19.
…Ночь.
Темная фигура пересекла гостиную и прокралась на кухню. В гостиной и в кухне, разумеется, никого не было, да и весь дом, можно сказать, спал, однако ночной странник изо всех сил старался не шуметь. Босые ноги вымеривали каждый шаг.
Ни еда, ни питье его (или ее?) не интересовали. В шкафу с посудой, в нижнем отделении, стояла роскошная подставка с кухонными ножами. Ножи были шведскими, известного производителя. Качественная сталь, фирменная заточка, стильный дизайн. Очень добротный комплект, не всякому он по карману. Любое из таких орудий воткнешь в тело по самую рукоятку – лезвие не сломается, даже если в кость попадет.
Ночной странник вытащил из подставки ножи – все до единого – и завернул их в полотенце…
20.
Моя супруга похищает и тайно режет людей.
Для чего нужно все это? В чем выгода, в чем смысл? Поначалу я решил – торговля донорскими органами, подпольная сеть, снабжающая клиники трансплантологии. Это когда увидел Сурикова без печени. Как же, думаю, банально! Дурной фильм, снятый по голливудскому шаблону; роман, читанный в сотне вариантов… Оказалось – нет. Увидел я, что и как Купчиха отрезает, что конкретно ее в человеческих телах интересует, и пошел мой мозг винтом…
Ее интересовало буквально все. Все шло в дело. Ноги и руки, как известно, не пересаживают, во всяком случае, пока. А также пальцы. Костный мозг? Чтобы взять его, отрезать ничего не нужно. Или, скажем, уши, носы, языки, – кому это могло понадобиться? Мне она сначала отсекла ступню, а потом, с интервалом в три недели, отнимала от ноги куски сантиметров по десять; хорошо хоть колено оставила. После чего взялась за вторую ногу. На кисти (на левой) сначала сняла все пальцы, лишь затем принялась постепенно уменьшать руку – до локтевого сустава. Никогда и ни у кого она не отнимала конечность сразу и целиком – только по частям.
По частям…
Почему?
Ответ на этот вопрос стОит всех прочих.
И вот новая загадка объявилась – Виктор Антоныч!
Купчиха, по ее словам, провожала гостя до метро. Очень похоже на правду, учитывая, что она смотрела на своего приятеля, как кролик на морковку. На морковку размером со слоновый пенис. А до того – зачем-то привела его к нам в палату…
Опять не заснуть. Просто беда. Как ночь, так желание жить обостряется.
Этот странный Виктор Антоныч, и этот его визит, больше похожий на смотрины… Видеозапись нашей беседы крутится и крутится в моей перегретой памяти. Я закрываю глаза…
* * *
…– Привет, орлы! – гаркает гость с порога.
Никто ему не отвечает.
– Саврасов, мой муж, – объявляет Эвглена, добавив в абсурдную сцену утонченную пикантность. Кроме меня, никого больше она не представила.
Гость представляется сам:
– Неживой. Фамилие такое.
Он подходит и подает мне руку. Я отвечаю на рукопожатие. Некоторое время мы меряемся силой. Он очень хочет победить, но я не уступаю…
Абсурд в высшей фазе.
– Как дела? – любопытствует он.
– Весь чешусь, – говорю я, – особенно под коленками. Особенно под левой, ее отрезали первой.
– Чешусь – значит, существую, – почему-то радуется он и еще прибавляет: – Пока чешусь – надеюсь.
Так и поговорили.
Смутный мужик. По манере двигаться и держать себя, по остротам, по костюмчику – да по всему! – явно имеет отношение к силовым структурам. Или имел отношение в прошлом. Оперативник какой-нибудь. Но тогда почему он один? Где толпа коллег? «Скорая помощь» – где?!
Очевидно, там же, где его совесть. В заднице.
Если же вспомнить то, что он отколол после знакомства со мной, картина будущего становится и вовсе беспросветно черной. «Черный квадрат» Малевича. Ненавижу художников…
– Ожидается заказ, – сообщает Неживой Эвглене, не стесняясь нас с Аликом. – Крупный заказ.
– Не здесь, Виктор Антоныч, – шепчет она в панике. – Умоляю вас, спустимся в кабинет…
– А что? – удивляется он. – Все свои. Кто-то здесь чего-то не понимает? Очень крупный заказ! В ближайшие две недели – двадцать контейнеров, как минимум. А то и несколько десятков. Ты сможешь обеспечить необходимое наполнение? – он многозначительным жестом обводит полупустую палату.
Честно сказать, меня в тот момент затрясло. Не такой уж я храбрый, каким хочу сам себе казаться.
После очередной операции, когда кончается действие наркоза, я всегда плАчу…
А этот тип вдруг опять обращается ко мне:
– Ваша фамилия довольно известна, господин Саврасов. Не ваши ли работы украшают сии стены? – он идет вдоль живописной серии «Наш сад».
– Это работы моих учеников, – отвечаю я ему, подавив страх. – Мои висят в Третьяковской галерее.
– Непременно схожу, – обещает он. – Посмотрю ваши творения и вспомню, какого мастера мы потеряли…
Весело пошутили и расстались.
Вот так оно все и было…
* * *
Нет, не случайно здесь появился капитан Тугашев, не случайно он стал знакомиться с Эвгленой. Это событие – прямое следствие визита Виктора Антоныча. Понять бы теперь – кто-то прокололся или так задумано? И если прокололся, то кто: Купчиха, Неживой, Тугашев?
Но самое непонятное вот что. Жуткий монстр по имени Виктор Антонович, от которого уползти бы и забиться в щель, вызвал во мне противоестественное, совершенно необъяснимое ощущение, будто я ему нужен. Причем, живым. Ни на секунду я не сомневаюсь, что пугал он меня всерьез, и, тем не менее…
Кто он – вестник жизни или смерти?
Вот уж точно: «Пока чешусь – надеюсь».
Открывать глаза не хочется…
21.
Я просыпаюсь оттого, что в помещении кто-то ходит. Прислушиваюсь – не открывая глаз и не переставая сопеть. Тетя Тома? Купчиха?
Кто-то шлепает босыми ногами по линолеуму. А я лежу спиной к палате, то есть даже если попробую подсмотреть – увижу только картину. На картине – колючие, растущие из песка головы Максима Горького. Мексиканский пейзаж… Что делать?
Ситуация решает за меня. Я внезапно оказываюсь без одеяла – сдернули рывком. Ни хрена себе! Лежу голый. Изображаю секундное просыпание, издаю протяженный вздох и переворачиваюсь на другой бок. Пришелец застыл, ждет. Все в порядке, я продолжаю спать. Он отходит. Я приоткрываю веко – осторожно, на микрон…
Кто-то, тщательно завернутый в простыню. Ни головы, ни рук, ни ног пришельца не видно. Привидение? Лучше бы, конечно, оно; жаль только, что этот дом обходят стороной даже привидения.
Как положено, включено ночное освещение. Ледяная синева висит в палате, позволяя рассмотреть, что одеяла лишился не я один. Спящие Егоров и Тугашев также открыты для чужих взглядов. Некто в простыне явно рассматривает нас троих, словно выбирает. Наконец подходит к Тугашеву, склоняется над ним… В призрачном свете ночника лезвие ножа кажется картонным, ненастоящим.
Нож?!
Никаких сомнений. Коротким точным ударом пришелец вгоняет оружие в грудь спящего – в область сердца.
И тут же – металлический стук оживляет жуткую тишину. Похоже, привидение что-то рассыпало по полу.
Остатки наркоза слетают с Тугашева, как кожура с луковицы. Товарищ капитан распахивает глаза, явно не понимая, где он и что с ним. Пытается приподнять голову, затем пытается заговорить. На губах его пузырится кровавая пена, рукоятка ножа вибрирует вместе с диафрагмой. Убийца наваливается – держит жертву, смотрит, как человек умирает.
Тот умирал минут пять…
Что происходит? Совершается преступление или акт милосердия?
Как бы там ни было, я готовлюсь защищать свою жизнь. Я готовлюсь сорвать с ночного зверя покрывало, едва тот приблизится на расстояние удара. Моя единственная рука – это, знаете ли, тоже оружие… Однако ничего такого не нужно. Время подвигов еще не настало. Убийца уходит, оставив труп в постели; он уходит на лестницу, закрыв второй этаж на ключ.
Конец приключению.
Я вскакиваю.
Меня лихорадит.
Встав на краю кровати, осматриваю палату. Дверь к тете Томе закрыта – это в высшей степени странно. Спустившись на пол, я добираюсь до ее комнатенки, приоткрываю дверь, заглядываю в щелку… Жива старушка, надо же. Просто спит.
Идиллия.
Как кстати ее разморило, отметил бы проницательный сыщик.
Тугашев тоже спит – по своему. Я зачем-то тороплюсь к нему. Он мертв, мертвее, чем свет больничного ночника. Мертвенно-синие глаза открыты, из груди торчит рукоятка кухонного ножа. Прощай, Рома; возможно, тебе повезло… Обыскиваю пространство вокруг его кровати и обнаруживаю на полу несколько похожих ножей. Вот, оказывается, что выронил гость. На лезвиях – надпись: «SAAB».
В доме, нашпигованном хирургическими инструментами, убивают кухонными ножами? Смешно…
Я возвращаюсь к себе, не притронувшись к трупу. И, тем более, совершенно незачем бить в барабаны или, там, трубить в трубы, созывая здешних нелюдей. С какой стати я должен поднимать тревогу? Лучшая линия поведения – забросить на свою кровать одеяло и возобновить прерванный отдых, что я и делаю.
Случившееся – не моя проблема.
Три дня назад
Продать человека по частям гораздо выгоднее, чем целиком…
22.
Все смешалось в доме Облонских, написал бы по этому поводу классик.
Разумеется, то, что многие годы творилось на втором этаже, можно было квалифицировать, как серию предумышленных убийств, однако никто из хозяев дома не согласился бы со столь вульгарной формулировкой. Метаморфозы, происходившие с пациентами, ни в коем случае не являлись причиной их смерти. Пациенты умирали от естественных и понятных причин: остановка дыхания, гемотрансфузионный шок, синдром сосудистого сгущения, – и тому подобное.
Теперь же…
Убийство было самым настоящим, в традиционном варианте. Труп обнаружила тетя Тома, выползшая под утро из своей кельи. Тетя Тома, как выяснилось, накануне вечером изрядно приложилась к бутылке, да еще не к одной, потому и проспала все на свете. Когда Эвглена Теодоровна устроила санитарке выволочку, она, корчась от совершенно искреннего чувства вины, вывела дрожащим маркером на доске: «У моего мальчика вчера был день рождения. Хотела выпить за его пропащую душу».
Оглушающая простота!
Из дома никого не выпустили. Руслан остался на вахте, хоть его суточное дежурство и закончилось. Явился сменщик Руслана, менеджер Илья; этого посадили на телефон («Оставьте ваши координаты, хозяйка вам перезвонит»). Борис Борисович сидел в обеденной комнате, потеряв и свой лоск, и свою всегдашнюю уверенность. Все эти холуи ничего не понимали.
Органы охраны правопорядка, по известным причинам, никто извещать не стал. По тем же причинам нельзя было обратиться за помощью к специалистам со стороны. Ситуация вынуждала рассчитывать только на собственные силы. Дочь рисовала схемы – кто где спал минувшей ночью и какими путями мог скрытно перемещаться по дому; мать вела допросы, пытаясь поймать хоть кого-нибудь на лжи.
Напрасные усилия. Самодеятельный сыск лишь обострил общую нервозность, не дав никаких результатов.
Труп Ромы Тугашева убрали из палаты ранним утром – еще до того, как особняк проснулся. Спустили на Нулевой этаж – и все, был человек, нет человека. Обычно подобной работой (переноской останков) занимался Сергей Лю, но сегодня китайца решили не посвящать в подробности. Не тот случай. Носилки тащили мать с дочерью. Тяжело, конечно, а что сделаешь? Эвглена Теодоровна была встревожена и одновременно – весьма, весьма огорчена. Встревожена полным отсутствием смысла в произошедшем (в самом деле, зачем умерщвлять того, кто и так скоро освободится от жизненных пут?). Огорчало ее то обстоятельство, что кровь в покойнике загустела, стремительно шли процессы разложения, иначе говоря, материал был совершенно не пригоден к реализации.
Безумная расточительность…
Ножи, разбросанные вокруг кровати Ромы Тугашева, были аккуратно собраны и отнесены на кухню. Тот экземпляр, который застрял в мертвом теле, вынули, отмыли и тоже вернули на место. И вдруг обнаружилось, что комплект неполон: одного ножа не хватает. Вот такая странность в ряду прочих.
В поисках этой важнейшей улики (пропавшего ножа) Эвглена Теодоровна даже провела личный досмотр, собственноручно ощупав одежду на каждом из обитателей особняка. Затем она перевернула все здание, начав с больничной палаты наверху. Особое внимание было уделено помещениям, где ночевали холуи: каморке тети Томы, учебной комнате (там спал Борис Борисович), комнате повара, комнате охранников-менеджеров. Никакого результата.
Странности прибавлялись и множились.
Пропавший нож рождал очень нехорошие предчувствия.
Психоз незримо вползал в дом.
23.
Разговаривали в будуаре, чтоб никто из домашних не помешал и не подслушал.
– А если Саврасов? – с сомнением произнесла мать.
– Откуда у него ножи? – возразила Елена.
– Ну… Ему принес кто-нибудь.
– Ага. Китаец, например.
– Подожди ты со своим китайцем. Дался тебе этот китаец.
Да, мысленно согласилась Елена, про господина Лю разговор будет особый. Вслух она сказала:
– Даже если Старому кто-то принес ножи, как бы он смог? Такие подвиги не для него, мама. Скорей уж – тетя Тома.
– Если только она окончательно спятила.
– Кстати, почему бы ей окончательно не спятить?
– Мне кажется, если бы наша Тома спятила, то не стала бы в простыню прятаться. Слишком уж это… осмысленно, что ли. Убийца не хотел, чтобы его узнали. Это проявление разума, а не безумия. И вообще, какой смысл ей кончать новенького?
(Подробности убийства, в частности, тот факт, что ночной гость был закутан в простыню, мать и дочь узнали от Саврасова. «Что ж ты сразу кого-нибудь не позвал?! – немедленно вскипела Эвглена Теодоровна, услышав его историю. – Не спасли бы мужика, так хоть материал бы сохранили!» «Я думал, это дурной сон, – был ответ. – Мне, знаешь ли, каждую ночь кошмары снятся, и все – один реальнее другого. Не могу забыть твои ласки, любимая». «Не язви! – взвилась Эвглена Теодоровна. – Как ты смеешь язвить в такой момент!..»)
– Тетя Тома несколько перебрала вчера, – напомнила Елена. – То есть пребывала в состоянии измененного сознания. Разговоры о смысле здесь неуместны. Ударил градус в голову, она и принесла жертву высшим силам, хранящим, блин, ее «мальчика».
– Саврасов слышал, как она храпела… Да нет же, нет, она бы созналась! Ты же видела, как я на нее давила.
– Океан слез и вулкан благородных обид, – согласилась Елена. – Тогда кто – Борька? Или Руслан? Кто еще остался?
…Некоторое время обсуждали тех, кто остался. Борис Борисович? Во-первых, он ничего не знает, – ни о тайной больнице, ни о семейном бизнесе двух Эвглен, – во-вторых… достаточно первого. Менеджер Руслан? Те же возражения. Впрочем, этот парень далеко не так прозрачен, как Борис Борисович. И вынюхать при желании мог достаточно, чтобы сделать выводы, и обращаться с ножами обучен, как-никак бывший десантник. Работает по рекомендации одного генерала. Какого-такого «генерала»? («Тихо, тихо, не шуми, – досадливо поморщилась мать. – Тебе его имя ровным счетом ничего не скажет…») Короче, Руслана нам подсадили, рубанула Елена. Может, и подсадили, не стала спорить мать. Но даже в этом случае – надо же иметь хоть какую-то причину для столь наглой вылазки. А еще – ключ от Второго этажа. Где убийца раздобыл ключ? Например, носил с собой легально, тут же ответила Елена. Мать отвердела лицом. Да, круг подозреваемых очень узок. Настолько узок, милое мое дитя, что в голову лезет чудовищный, непоправимый вздор…
А ведь она меня подозревает, вдруг сообразила Елена. Не кого-нибудь – именно меня. Прежде всего – меня. Вот это да… И мотив убийства под рукой имеется: насолить любимой мамочке. После вчерашнего-то разговора!
В самом деле, что мешало дочери зарезать любовника матери и таким нехитрым способом самоутвердиться? Ничего не мешало. Отношения между двумя Эвгленами в последнее время заметно осложнились. А подростки, как известно, это существа резких суждений и поступков; уж кто-кто, а Эвглена Теодоровна отлично понимает такие вещи, поскольку сама была когда-то исключительно трудным подростком. Вот только повзрослела ли она с тех пор? И, если копнуть поглубже, не найдется ли у нее самой пары-тройки мотивов для убийства – скрытых под толщей дряни?
Кто знает…
Мать и дочь молча смотрели друг на друга, словно соревнуясь, у кого взгляд крепче. Победила мать. Елена потерла глаз, который внезапно зачесался, и тяжко вздохнула:
– Я все-таки хочу вернуться к господину Лю. Почему ты отмахиваешься от слов своего мужа?
Эвглена Теодоровна взялась на секунду пальчиками за виски.
– Прости, Аленькая, я что-то потеряла нить… От каких слов я отмахиваюсь?
– Только не делай вид, что забыла. Твой муж узнал руку убийцы.
– Ну, помню, конечно. Видел якобы сон, который не был сном. В том, что видел, не уверен… Очень сомнительно.
«Дура, блин!» – чуть не ляпнула Елена в сердцах. Сомнительно ей… Рука с ножом, высунувшаяся из-под простыни, была единственной частью тела, которую ночной гость открыл постороннему взгляду. Так вот, Саврасову показалось, что рука эта принадлежит не кому-нибудь, а повару-китайцу.
Может, конечно, и вправду – всего лишь показалось. Но…
– Ты когда-нибудь замечала, с каким трепетом твой муж относится к конечностям? – спросила Елена, стараясь не сорваться. – Особенно к кистям рук. Пунктик у него. Я думаю, наши руки он знает лучше, чем наши лица. С руками господина Лю – та же ситуация.
– Все, хватит! – сказала Эвглена Теодоровна. – Идем по второму кругу!
– Это ты ходишь кругами! А я пытаюсь обратить твое внимание на самого явного кандидата в подозреваемые!
– Ну, ты пойми, Аленькая…
– Я не Аленькая!
Мать картинно всплеснула крылами, словно умирающий лебедь на театральных подмостках.
– Ты пойми, нас столько с Сергеем связывает. Столько грязи, крови… в голове не укладывается, что это он…
– Как ты объясняешь кухонные ножи?
– Сергей не на кухне спит и за столовую утварь не отвечает, – сказала мать упрямо.
– Короче, своему Саврасову ты не поверила, – констатировала Елена.
– С Саврасовым ни в чем нельзя быть уверенным. Этот человек лжет так же очаровательно, как улыбается… из-за чего, признаюсь тебе, я в него и влюбилась.
– Но если он про Лю наврал, тогда как насчет простыни? И про то, что тетя Тома якобы дрыхла…
Эвглена Теодоровна вдруг изменилась в лице.
– Тетя Тома… – пробормотала она. – Спала ли наша дорогая тетя?
Мать и дочь переглянулись, пораженные одной и той же мыслью.
– Отмечала день рождения, – добавила Елена. – Своего, блин, мальчика.
Не сговариваясь, они вышли из будуара в студию и заторопились к лестнице. Минуя операционную, минуя палату. Саврасов моментально сполз с кровати и наблюдал за их передвижениями. Эвглена Теодоровна приветливо помахала ему рукой.
На лестнице они не выдержали, побежали. Со второго этажа на первый – и ниже, еще ниже… Открыли промежуточную решетку и остановились перед стальной дверью, украшенной словом «Нулевой». Красные буквы на белом фоне – так же стильно, как надпись «Второй» двумя этажами выше.
Вход в подвал.
Стальная дверь надежно заперта. Не только на суперсовременный врезной замок, изготовленный по модной технологии «плавающих бороздок», но и на задвижку. Задвижка мощная, а в «уши» ей вставлен солидный навесной замок. Дверные петли укреплены. Все это внушает уважение.
Эвглена Теодоровна с пристрастием подергала запоры.
– Дедуля не мог выбраться?
– Когда мы утром тело вносили, навесной замок был на месте, – ответила Елена. – Я лично открывала. Не с первого раза в дырку попала.
– А ключ?! Ключ где взяла?!
– Мама, не сходи с ума. Ключи от обоих замков мне дала ты, и я их тебе вернула. Не знаю, где ты там их прячешь.
– Похоже, дедуля ни при чем, – покивала Эвглена Теодоровна. – Ты права, Ленусик, не будем сходить с ума.
Дочь дернулась, однако смолчала.
Меня зовут Елена, тупо твердила она, поднимаясь на Второй.
Еще вопрос, кто из нас сошел с ума, шевелила она губами, открывая операционную.
Подозревает! Меня! А китайцу, значит, доверяет?..
24.
Стаканы опустели. Я наливаю нам обоим – на треть. Тост мой незатейлив:
– Да обласкают его шлюхи в ментовском раю.
Пьем. Закусываем шпротами. Тетю Тому ничуть не удивляет, с какой это стати я ляпнул про «ментовской рай», – она вливает в себя водку с тихой обреченностью. Молчит. Что молчит – понятно, но черкнула бы в ответ хоть что-нибудь, зараза. Пластиковая доска и маркер под рукой лежат. Зачем, спрашивается, я раскрутил ее на эти посиделки?
Поминаем безвременно ушедшего Рому Тугашева. Хороший был повод поговорить по душам, если, конечно, такие слова применимы к немой идиотке… жаль, что мои старания (как и ее водка) пропали зря…
– Что-то ты сегодня совсем неконтактная, – признаю я свое поражение. – Аномальная какая-то.
Мы сидим у нее в подсобке, на топчане, бок о бок. Она сливает остатки водки себе одной и приканчивает их одним глотком. Ставит пустую бутылку возле мусорного мешка. Я точно знаю, у нее под топчаном стоит заначка, но намекать про добавку уже нет смысла. Побаловались, и хватит. Напиваться тете Томе нельзя: ее умелые руки очень скоро понадобятся суровой хозяйке.
Купчиха с дочкой – в операционной. Режут Алика Егорова. Его, а не меня.
Не меня…
На самом деле я пил за это, и только за это.
Внеплановый труп, конечно, выбил мясников из привычного ритма, но, как оказалось, ненадолго. Клиенты, кто бы они ни были, ждут с нетерпением, и это – святое. Так что машина, давшая временный сбой, вновь запущена… По логике вещей, лечь на стол должен был именно я. Алика оперировали вчера, тело другого любовника куда-то унесли, кто остается? Эвглена выбрала Алика. В порядке исключения, надо полагать. Обычно пациента сразу после операции не трогали, дарили хотя бы два-три дня надежды, но здесь – особый случай. Очевидно, за столь короткий срок моя супруга не смогла решиться покончить со мной; для столь торжественного акта нужно время. Прежде, чем зарезать законного мужа, ей нужно испытать всю гамму переживаний, нужно поплакать ночами, нужно, в конце концов, отдать на супружеском ложе последнюю дань любви. А на Алика ей наплевать.
Везучий я парень.
Меня вдруг пробирает дрожь… Обошлось. Опять – мимо. Боже… сколько еще раз Ты будешь спасать своего непутевого раба?..
– Придет и моя очередь, – говорю я скорее себе, чем тете Томе. – Отрава – в кровь, упадут шторы, и последнее, что я увижу перед этим – твой уродливый рот. Обидно. Слушай, пышечка… Может, признаешься наконец, кто подрезал тебе язык? Эвглена?
Она отрицательно качает головой и с материнской нежностью обнимает меня. Это довольно неожиданно, однако я не высвобождаюсь. Уткнувшись подбородком в ее теплый бюст, я произношу:
– Думаешь, я не догадываюсь, что ты знаешь убийцу? Когда он ночью прикрывал дверь в твою конуру, ты видела его лицо. Ты ведь проснулась в тот момент, правда?
Эта провокация – моя последняя попытка хоть как-то ее расшевелить. Тетя Тома выпускает меня из варикозных рук, и тогда я кричу шепотом.
– Чего молчишь? Потеряла дар письменной речи?
Смотрим друг на друга. Ее глаза полны слез. Слезы ползут по вялым щекам. Женщина берет доску, берет маркер – и застывает.
– Да что с тобой? – спрашиваю я. – Кто-нибудь обидел?
Она пишет:
«Я УСТАЛА. ТЕПЕРЬ УЖЕ НАВСЕГДА».
25.
Качественно зашитая рана – это совершенство.
Елена смотрела на творение рук своих и ощущала гордость. Тело пациента украшали сразу два федоровских разреза, которые применяются при удалении почек. Вчерашний сделала мать, а сегодняшний – работа Елены. Ровная линия, ровный шов. Красиво… Впервые мать доверила ей операцию от начала до конца, сама выступив в роли ассистента, и дочь не подвела…
Что означает ее показное доверие? – думала Елена. Хотела наладить отношения или, наоборот, искала повод придраться?
Алика Егорова переложили с каталки на кровать. На его счастье, он пока не знал о том, что лишился второй почки, – как и о том, что обе руки ампутированы до локтей. Узнает, когда проснется.
Затем Алика подключили к «искусственной почке» (через катетер, введенный в подключичную вену). Эту процедуру опять же выполнила Елена, а мать придирчиво наблюдала. Еще один катетер, введенный через бедренную вену в паховую, позволил поставить капельницу. Только после этого голый огрызок был наконец закрыт простыней, а бригада врачей смогла расслабиться. Пациент будет жить… недолго, но все же.
Эвглена Теодоровна окинула палату хозяйским глазом. Саврасов сидел на полу возле двери в подсобку, уцепившись своей жуткой пятерней за дверную ручку; тетя Тома не соизволила выглянуть. Вид пустых кроватей вызывал раздражение, смешанное с тревогой, однако давать волю чувствам было нельзя. Наступил сложный период, это да. Не в первый раз. Вытерпим, и не такое в жизни бывало… Эвглена Теодоровна улыбнулась Елене:
– Хорошо поработала, друг мой. Присядь, отдохни. Я полагаю, просить тебя заняться операционной – просто нечестно.
Она шагнула к подсобке. Увидела тумбочку, увидела шпроты, стаканы…
– Пьяница чертова! – закричала она. – Ведь, кажется, опохмелялась уже! Мало?
– Это я ее уговорил, – сказал Саврасов. – Покойника помянуть – святое дело.
– Ой, только не надо в благородство играть! Все кругом, понимаешь, благородные, одна я у вас – неизвестно кто… Марш вниз, на кухню! – приказала она тете Томе. – Пообедай и возвращайся. Приведешь операционную в порядок. Подожди! Захвати пару контейнеров, поможешь отнести ко мне в кабинет.
Контейнеры лежали на той же каталке, на которой привезли пациента, только внизу, на полке. Их было пять штук. Тщательно закрытые, готовые для передачи клиентам. В одном – почка, в четырех – фрагменты конечностей.
– А ты, – мать обняла Елену за талию, – побудь пока тут, чудо мое. Последи за состоянием молодого человека. Хватит нам материал терять.
Эвглена Теодоровна взяла три контейнера, тетя Тома – два. Женщины удалились. Елена бросила в бак фартук, испачканный кровью, затем подтащила стул к капельнице и села.
– Конвейер заработал, – подал голос Саврасов. – Надо же. Быстро она подсуетилась. Я был уверен, что эта история выбьет ее дня на два, на три.
Почему «ОНА»? – подумала Елена. Почему – «ЕЕ»?.. Прозвучавшая реплика, несмотря на внешнюю безобидность, больно резанула слух. Разве заслуга одной матери в том, что чрезвычайное происшествие почти не отразилось на семейном бизнесе? Мать, если хотите знать, только вела переговоры с клиентами да переназначала время! А теперь как ни в чем не бывало пошла раздавать контейнеры с «игрушками»! Вся больничка, вся черновуха легла на Елену… да всегда так было! Почему этого никто не замечает?
Так мне и надо, зло сказала она себе. Пластилин, кукла на ниточках, никто…
Урод подполз к ней, держа зачем-то в зубах пластиковую доску.
– На, посмотри. Вернее, прочитай.
Елена прочитала.
– Что это?
– Это крик души, – пояснил Саврасов. – В исполнении тети Томы. Тебе не кажется странным, что она «устала навсегда» как раз сегодня?
– Тетка с придурью, – Елена пожала плечами.
– Крик души всегда имеет причину, даже у теток с придурью. Я думаю, она чего-то боится. Или кого-то. Эта ее усталость, Елена, вызвана страхом. А вывод простой: тетя Тома далеко не всё вам рассказала про нынешнюю ночь, если, конечно, хоть что-то рассказала.
– Чего, по-вашему, она НЕ рассказала?
– Мне трудно говорить, ведь я такой же подозреваемый, как… – Саврасов виновато улыбнулся.
– Ладно вам, раз уж начали. Никто вас не съест.
– Подозреваю, девочка, меня именно-таки едят. Надеюсь, не ты…
Елена поморщилась – осознала, насколько сомнительной получилась ее шутка.
– А насчет поведения нянечки – могу лишь предполагать, – продолжал Саврасов. – Возможно, она видела убийцу в лицо. Возможно также, убийца ей что-то сказал. Что-то такое, что запечатало ее уста получше отрезанного языка. А теперь подумаем, кого она может бояться в этом доме? Кто тот единственный человек? Кого здесь вообще можно бояться?
«Сергея Лю», – чуть было не вскрикнула Елена. И вдруг поняла…
Она непроизвольно встала.
– Вы хотите сказать…
– Подожди, не торопись. Есть одна вещь, которую ты явно не знаешь. Дело в том, что мужик, которого наша одноклеточная хозяйка притащила вчера в свой будуар и которого ночью зарезали, был сотрудником правоохранительных органов… Что, с тобой не поделились этой информацией? О чем и речь.
– Вы-то сам откуда знаете?
– Перед тем, как его успокоили, он успел перекинуться со мной парой слов. Нас тогда на минуту вдвоем оставили. Звали его – капитан Тугашев. Ментовскую ксиву, правда, я не видел, но… Думаю, удостоверение хранилось в кармане пиджака или рубашки. Так что Эвглена Теодоровна, когда осмотрела его одежду, не могла не сообразить, как сильно вы влипли…
Словно стрела вонзилась Елене в грудь. Предательская стрела, отравленная гневом. Темное пятно стремительно расползалось по телу, как чернила по промокашке; гнев поднимался из груди в голову, наполняя ядом все поры мозга… Тетя Тома боялась в доме лишь одного человека – хозяйку дома, – как же ясно теперь это видится! Приказали – молчит… Мать запаниковала, решила срочно избавиться от опасного любовника, и неважно, чьими руками она это сделала – холуя-китайца или собственными…
Саврасов говорил:
– …Вот как в жизни бывает, любезная моя Елена Прекрасная. Иногда надо пройти через унижение, чтобы узнать себе цену. Может, это не самый удачный момент, но я скажу. Плевать мне и на вашего капитана Тугашева, и на причуды моей жены. Я смотрю на тебя и восхищаюсь. Я впервые вижу девушку, которая в таком возрасте, такая молодая, делает то, что не под силу многим зрелым мужикам. Слушаю тебя и поражаюсь, как этот голос звучит в нашей обители скорби. Смотрю на твое тело, такое гибкое, красивое, и диву даюсь: как же так, как ты могла подчиниться паразиту?! Ты взгляни на себя в зеркало. Во что ты превращаешься, когда слышишь ее голос или даже просто вспоминаешь о ней? В тряпичную куклу. Ты буквально сползаешь на пол. У тебя лицо становится, как маска…
Поддерживать беседу Елена больше не могла. Картинки проносились в ее голове, сопровождаемые вязким голосом комментатора. Как же подло, думала она. Как же подло ты со мной, мамочка. Правду прячешь – и от меня, и даже, страшно выговорить, от своего благодетеля, господина Пагоды. В какие игры ты играешь, что за пакости готовишь?..
Страха не было. Ну, почти не было. Если бы мент попал сюда по заданию – его бы вытащили, не дали так просто прикончить. В крайнем случае, нагрянули бы с утра, забрали полусвежий труп, а всех живых на пол положили. Выходит, в сети попал нормальный похотливый кобель, который честно собирался трахнуть породистую суку. Тем более, сука сама зад подставила. В этом случае, будь он хоть трижды сотрудником, его не сразу хватятся. Кому какое дело, в каких постелях господа офицеры по ночам блядуют? Короче, бояться поздно. Если к вечеру ничего не произойдет, значит, обошлось…
Саврасов мягко ввинчивал реплику за репликой:
– …Из-за Елены была повержена Троя. Из-за такой, как ты. А это существо по сравнению с тобой – что оно? Опухоль, которую надо вырезать. Есть люди, как рак. Ты думаешь, что опухоль маленькая и жить не мешает, а через месяц, через неделю ты уже дышать не можешь. Со мной всё кончено, это так. Но ты?! Она и с тобой сделает то же самое, что со мной. Надо будет, она и тебя под нож пустит, ни секунды колебаться не станет. ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ…
Звучали ужасные вещи. Заткнись, шут гороховый, хотела крикнуть Елена – и не могла. Что за бред?! – хотела топнуть она ногой…
Слова засасывали, как трясина.
– …Твой паразит смеется над тобой. Как она радуется, когда у тебя что-то не получается! Ты обращала на это внимание? Конечно, обращала. И даже этот ваш китаец… Да все они – поимели тебя и выбросили. Они тебя дурой сделали. Один путь тебе – на аккорд. На почетный, но все равно – аккорд. Поверь, недолго осталось ждать. Она чувствует, что ты постепенно занимаешь ее место. Все меньше и меньше любовников ложится на эти койки; ну, и где ей брать материал? Так что придет время и тебе стать материалом…
Елена ударила этого мерзавца. Уродец опрокинулся на спину, нелепо взмахнув культями ног. Девочка крутанулась, чуть не потеряв тапочки, и зашагала прочь – в операционную, отмывать стол от крови.
Она не видела, что Саврасов улыбается.
Почему меня бесит то, что он говорит? – удивлялась себе Елена, надевая свежий халат, фартук и перчатки. Какое мне дело до его параноидальных фантазий? Почему я не могу сдержаться?
Да потому что Старый прав. Он прав.
26.
Из комнаты повара сладко тянуло марихуаной.
Приятный запах, поднимающий настроение. Только это была не марихуана. На самом деле там курилась специальная ароматическая палочка, сделанная из китайского полынника. Наркотического действия никакого, а запах – не отличишь. Из-за этого запаха, собственно, Елена и решила, что китаец находится у себя – отдыхает после обеда. Это значит, что кухня пуста…
Комната повара расположена в торце «холуйского» коридора. В противоположном торце – служебная лестница, ведущая на второй этаж, прямо в будуар; там же – «черный» выход из дома, на задворки особняка (именно этим путем мать обычно проводит к себе любовников). Кухня – рядом с жилищем Сергея Лю. Еще в «холуйском» коридоре есть дверь в комнату гувернера, а также, точно по центру, проход в гостиную.
Елена приоткрыла дверь кухни, осторожно всунула голову….
Блин! Повар, оказывается, был здесь, – возился с говяжьей полутушей, висевшей на крюке. Он не услышал, что дверь пришла в движение – из-за посудомоечной машины: шума от которой не больше, чем от стиральной, но все-таки – звуковая завеса… Елена застыла.
Облом.
Она быстро огляделась. Многочисленные баночки с сухими травами были уже убраны. Стеклянные вазы с водой, похожие по форме на коньячные бокалы, стояли на подоконнике, поближе к свету. В них тоже были травы, только живые, срезанные, которые повар приносил из частной оранжереи (принадлежавшей, естественно, очередному китайцу); эти растения хранились не более двух суток. Короче, чистота и порядок.
Можно тихонько исчезать, пока не засекли. Обыскивать кухню при наличии в ней хозяина – как-то неприлично…
Цель, с которой Елена пришла сюда, была не вполне обычна. Она собиралась взять образцы тех якобы безобидных травок и корешков, которые Сергей клал в соусы и приправы. Образцы были нужны, чтобы затем отдать их одному знающему человеку… Вадиму, кому же еще. Мать не знает о существовании Вадима. Она о многом не знает, и в этом – наше преимущество. Одноклеточная, блин… Елена скривилась. То обстоятельство, что мать доверяет господину Лю, своему холую, больше, чем родной дочери, очень ее задело! А еще Елену зацепили слова Саврасова – мол, китаец над тобой смеется… и правда ведь смеется, пусть и виду не подает! Реальные слова!.. И вспомнилось ей, что любой хороший китайский повар обязательно владеет секретами блюд, которые оказывают психотропное действие. У них, у узкоглазых, издревле трансовые штучки в ходу. И стала юная разведчица ловить момент, когда можно пробраться в тыл врага…
Зачем доверенному слуге использовать психотропную кухню? Чтобы негласно и незаметно управлять – либо в личных интересах, либо по приказу чьему-то. Но, в общем, его мотивы – это второй вопрос. Сначала надо доказать сам факт. И если бы выяснилось, что в аккуратных баночках и вазочках хранится хоть один природный атарактик, то бишь дрянь, снижающая критику и подавляющая волю, вот тогда бы мы посмотрели, кто над кем посмеется…
Ладно, подумала Елена. В другой раз приду. Лучше всего – ночью, когда китаец спит… если он по ночам спит, конечно.
Наверное, так же рассуждал и тот, кто украл столовые ножи.
Она уж почти закрыла дверь, как вдруг обратила внимание на то, чем, собственно, господин Лю занимается. Коровья туша висела на уровне человеческого роста. А в руках у китайца были палочки, которыми тот накладывал еду, которые использовал вместо вилок и ложек. В каждой руке – по две…
Короткий стремительный выпад – и палочки вонзаются в парное мясо.
Разворот, полуприсед – удар второй рукой.
Пауза. Сергей вытаскивает застрявшие в туше палочки… Что он делает? – изумилась Елена. Развлекается, озорничает, пока никто не видит? Что за мальчишество?.. И тут поняла. Это тренировка. Отработка приемов боя.
А говяжья туша – это человек. Враг…
Еле уловимое движение… это ведь удар в область печени, понимает Елена… палочки вытащены из тела, и новое движение – удар в область легких. На этот раз повар вытаскивает палочки не до конца– одним движением обламывает их… Елена обмирает. Она словно видит, что происходит: одна палочка вошла в область легочного ствола, пробила легочную артерию, вторая – пробила легкие. Вся кровь – тут же, моментально, – хлынула в легкие. Мгновенная тампонада. Смертельный удар… да что там, если бы это был человек – все удары смертельны!
Наверное, она что-то непроизвольно сказала или издала какой-то звук. Сергей повернул голову – и конец уникальному спектаклю. Обломки палочек исчезли в рукавах халата. В долю секунды повар преобразился: только что был беспощадный воин, и вот перед нами слуга, просто слуга. Он шагнул навстречу и поклонился:
– Да, хозяйка?
– А что сегодня к чаю? – нашлась Елена.
– Венецианское печенье, – учтиво ответил повар.
Из гостиной в коридор вышла мать.
– Ты здесь, моя дорогая? Входи на кухню, чего в дверях болтаться.
– Я лучше к себе. Надо к зачету готовиться.
Елена ушла. Одна гостья сменила другую.
– Сергунчик, – сказала Эвглена Теодоровна. – Душа моя. Как освободишься, займись, пожалуйста, операционной.
– Вечером клиент? – спросил повар.
– Совершенно верно. Я перенесла время. Ленусик с Бориком, вероятно, после чая в театр отбудут, так что сегодня вечером тебе придется мне помочь.
– Да, хозяйка, – поклонился Сергей.
Тень улыбки скользнула по его лицу.
27.
Новенького привозят после обеда. Он появляется мирно и очень буднично. Никаких истерик и сильных сцен; и никаких вам драк в будуаре. Боже упаси. Не сравнить с предыдущим бешеным животным, которого пришлось обездвиживать при помощи китайской вазы. Наоборот, наш гость демонстрирует веселую покорность судьбе – почти как в моем случае…
…Так и вижу, как это было. Достаточно глаза закрыть. Первая наша ночь, первая настоящая близость. Удивительная кровать – под балдахином и с роскошными спинками. Жадно меняем позы, пока не останавливаемся на той, которую Купчиха предпочитает всем прочим. Она – сверху, я – под ней. Она любит быть Хозяйкой. Расположив мое тело поудобнее, она позволяет мне кончить… А потом, когда жертва расслаблена, нажат скрытый рычажок, отпущены стопора, освобождены мощные пружины. Спинки кровати падают, обрушиваются, как кара небесная, вдавливая мое тело в матрац. Спинки – это захваты, как здесь их называют. Один прижимает ноги, второй, который в изголовье, фиксирует голову и верхнюю часть торса, включая плечи и руки. Не вырваться. Кто только ей сделал такую машину, в какой мастерской? Средневековье. Фэнтези, черт бы его побрал… Шприц наготове, наркотическая дрянь входит в мое тело. Ночная операция, которую я не помню. Утреннее пробуждение, которое ужасно хочется забыть…
Сейчас даже шприц не понадобился. Пациент в сознании: прикованный к кровати, он хохочет на всю студию:
– Эй, тетки! Гитару… где моя гитара, тетки? Хотя бы гитару в живых оставьте…
Успокаивается, только когда брезентовый чехол характерной формы кладут ему в ноги.
Чехол…
Неужели в нем то, о чем я думаю?
Неужели вот так запросто я получу средство, из-за которого вся тропаревская босотá и гопотá с почтением звала меня Скрипачом…
– Почему твой новый друг бодрствует? – спрашиваю. – У тебя что, сонное зелье кончилось?
– Ты же видишь, что это за существо, – отвечает Эвглена. – По-моему, он и так под кайфом, ботаник.
– Я о другом. Всяк сюда входящий оставляет не только надежду, но часть своей плоти. Почему сей счастливый человек миновал белую комнату с зайчиками на сводчатом потолке?
– Ой, некогда с ним возиться. Позже займусь, через час-два. Клиент только к вечеру придет, и желательно, чтоб материал был свежим. Саврасов, возьми его пока под свое шефство… хорошо?
Эвглена и правда торопится. Закрывает голого пленника простыней. Рывком усаживает тетю Тому на стул:
– Чтоб тут сидела, как гвоздем прибитая! И хватит жрать водку, скотина! Уволю!
– Подожди, где ты такого нашла? – останавливаю я супругу, прежде чем она исчезает.
– Такого? Играл на улице, подаяние собирал. От нас неподалеку, на углу.
– И пел! – вдруг гордо добавляет парень. – Ей, кстати, понравилось, как я пел, – он приподымается и смотрит на меня.
Мой вид его не только не пугает, но даже не удивляет! Он ненормальный? Или «аномальный», как сейчас выражаются?
– Увела его для домашнего концерта, – поясняет Эвглена прежде чем пойти на выход.
– Мне нужен тру-уп, я выбрал ва-ас!.. – выводит он сильным, глубоким голосом. И заливисто хохочет.
Остаемся одни, если не считать немую санитарку. Некоторое время пленник пытается вытащить руки из браслетов, тихонько ругаясь. Затем окликает меня:
– Эй, сударь, вы очень странные вещи говорили. Хотя, вы красиво говорили, поэтично. Вы, наверное, поэт? Или писатель? И голос у вас красивый, вам бы тоже петь…
– Сам ты красивый. Ты, вообще, кто?
– Дóлби-Дэн, музыкант. А по совместительству – студент Гнесинки.
– Долби-Дэн… Данила, что ли? (Он кивает.) Сам откуда?
– Из-под Зеленограда. Деревенские мы… Вы сказали, оставь надежду всяк сюда входящий. Мы, значит, в аду?
– Хуже, парень. Мы в художественной студии.
– Я подумал, это мне наказание за грехи, – произносит он на полном серьезе.
– И что за грехи у тебя, музыкант?
– Песни, наверное. Стихи. Когда заигрываешь с инфернальным или споришь с Создателем, будь готов держать ответ. Честно говоря, я всегда ждал, что чем-нибудь таким все и закончится.
Так. Оказывается, он ждал, чокнутый. Теперь понятно, почему этот ботаник не удивлен.
– У тебя в чехле правда гитара?
– «Хохнер», Германия – подтверждает он с гордостью.
– Разреши посмотреть?
– Вы разбираетесь в инструментах?
– Не столько в инструментах, сколько в струнах.
Я раскрываю молнию зубами, стаскиваю чехол. («Аккуратнее, пожалуйста…», – стонет парень.) Осматриваю вещь. Доли секунды мне хватает, чтобы осознать – повезло. Вот оно! Впервые повезло по-настоящему… Внешний вид и звук инструмента меня не интересуют. Только струны. Я боялся, что в его хваленом «Хохнере» окажутся пластиковые струны – вот это был бы облом! Но нет. Хорошая сталь. То, что надо…
Новенький рассматривает спящего Алика Егорова:
– Что с ним?
Алик подключен к аппарату гемодиализа, еще не отошел от операции. Я объясняю:
– Сначала от него отсекли малую часть. Затем – много-много малых частей, как внутри тела, так и снаружи. Ты видишь то, что осталось.
– А какой в этом смысл – отсекать малые части?
– Самый прямой смысл, парень. Бизнес.
– Вы же сказали, здесь художественная студия.
– Изделия из человечины пользуются в некоторых салонах большим спросом.
– Спасибо, что не соврали. Я, правда, ничего не понял, но любопытство удовлетворил… О, как эротично выразился! – он широко улыбается, словно предлагая и мне повеселиться.
Улыбка его вымучена. Губы дрожат. Разыгрывать из себя героя ему все труднее.
– Мне руки когда-нибудь отстегнут?
– Полагаю, к вечеру, – не вру я.
Объяснять ему, что произойдет ДО ТОГО, мне не хочется.
С минуту парень о чем-то размышляет, а потом начинает петь, отстукивая ритм босой ногой по корпусу гитары:
- Искать смысл глупо,
- Найти смысл нельзя,
- Его нет, есть трупы,
- С названьем «друзья»…
Интересно, я-то сам за какие грехи страдаю? Ни песен, ни стихов за мной вроде не числится…
28.
Елена попыталась перехватить карандаши, не выпуская их из руки, и уронила на пол. Оба.
– Черт!
Карандаши играли роль китайских палочек. Они были совсем новые, не заточенные, с тупыми концами.
– Толстоваты, – сказал Борис Борисович. – Почему бы тебе не попросить у Сергея настоящие?
Она и сама не очень понимала, что за блажь ей взбрела в голову с этими палочками. В принципе, она знала, как надо их правильно держать, китаец не один раз показывал. Но… Подсмотренная на кухне сцена все стояла перед глазами, рождая ощущение чего-то важного и упущенного. А еще Елена вспомнила, как повар, разложив во время обедов-ужинов еду по тарелкам и блюдам – палочками, не ложкой! – затем умело их перехватывал и прятал в рукаве широкого халата. Она даже удивилась однажды: зачем он так делает? Тот любезно объяснил: по привычке, мол. Китайские повара никогда не расстаются с палочками, держат их наготове. А еще Елена не раз видела, как Сергей, когда был в хорошем настроении, виртуозно вертел свои палочки в руках… В общем, захотелось вдруг и самой изобразить что-то подобное, повторить хоть один из этих трюков. Ну, чистая блажь… или все-таки – нет?
– Похоже, вы твердо решили стать воительницей, моя валькирия, – сказал Борис Борисович. Он поднялся с диванчика и шагнул к Елене. – Смотрите, как еще делают. Зажимаете палочки крестом… (он особым образом вложил карандаши ей в пальцы) …и получается оружие. Можно вот так ударить (встав позади, он взял ее за запястье и двинул рукой). Можно вот так. Можно перехватить чужую руку, поймать на ударе. Можно ударить по глазам… (каждую фразу он сопровождал показом). Так что вы правильно начали, с основ. Прежде всего нужно овладеть разными хватками и научиться мгновенно их менять.
– Ого! – искренне восхитилась Елена. – Ты крутой? Я думала, ты простой аспирант.
– На службе Ее Величества! – щелкнул тот каблуками.
– Давай, давай, показывай дальше!
– Я теоретик, а не практик. А если серьезно, то в боевых искусствах есть бой короткими палочками, зажатыми в пальцах. Палочки – серьезное оружие, не для воспитанных барышень вроде вас. – Борис Борисович обнял ее, притянул к себе и прошептал: – Так что не вернуться ли нам к учебникам?
…К учебникам они не вернулись. И дверь на сей раз закрывать не стали. Пусть их всех! Целовались, кружа по комнате, натыкаясь то на стул, то на стол; при этом гувернер медленно, но целенаправленно метил в сторону диванчика.
– Подожди! – Елена внезапно высвободилась и метнулась к письменному столу.
В стаканчике стояли заточенные карандаши – грифелями кверху. Она взяла один, вложила себе в пальцы. Здорово заточен, идеально. Грифель на конце – как игла.
Игла шприца…
– Вы чего? – спросил Борис Борисович. – Боитесь меня?
Он был несколько разочарован.
– Есть вещи, которых я боюсь, – задумчиво произнесла Елена, рассматривая предмет в своих пальцах. – Ты не входишь в их число…
Удар палочкой – это укол, мыслила она. Не палочками надо уметь драться, фиг с ними, с палочками. Шприцем!
А лучше – шприцами. Двумя…
Она испытывала сильное возбуждение.
– Я могу тебя и пальцем убить, если захочу. Показать, как?
– Показать-то и я могу, – сказал Борис Борисович. – Ну и шуточки у вас, валькирия. Тоже мне, дева битв.
Неужели я готовлюсь защищаться, изумилась Елена, не обращая внимания на дурака рядом с собой. И ведь готовлюсь! – только сейчас она осознала это. Но от кого? Если от Сергея – никакая тренировка не поможет. От матери? Неужели наши дела так плохи?..
Кстати, о самозащите я задумалась не сегодня, вспомнила Елена. Вчера, например, с пристрастием расспрашивала Бориса Борисовича о «фармакологическом связывании», и тот, простая душа, раскрыл жутковатый рецепт… Назначила Вадиму встречу, о чем мать, разумеется, не догадывается, – тоже забота о безопасности.
Девочка продолжала внимательно смотреть на остро заточенный карандаш в своей руке.
Мало иметь специальные препараты, их еще доставить надо. Куда доставить? В тело врага. Причем, мгновенно, ведь второй попытки никто не даст. Потому и шприц держать – только особым образом, иначе вылетит из руки. Надо представить, что держишь не шприц, а китайскую палочку… Ох, как вовремя Елена увидела тренировку господина Лю! Как вовремя она поняла, чему ей надо срочно научиться!
– Вот возьму и напомню, что сегодня у нас с вами «английский вечер»! – пригрозил обиженный гувернер.
– Еще не вечер, – машинально откликнулась она.
Дева битв… Почему бы нет?
29.
– Знаете, что такое «первач»? – спросил Борис Борисович, с хитрецой оглядев общество.
– Самогон, полагаю, – ответила Эвглена Теодоровна, отхлебывая из чашки.
– Первач – значит, свежезаваренный чай. А вот вопрос посложнее: когда первач весь выпьют и спитую заварку снова заливают кипятком, как этот, с позволенья сказать, напиток называется?
– Вторяк, – буркнула Елена. – Я тоже иногда хожу в общагу.
– Неправильно, милая барышня. Вторяк – это когда спитую заварку используют по третьему разу. А второй раз называется «первач свежёванный».
Гувернер взял печенье и разломил его пополам. По форме оно было похоже на букву «S». Именно такую форму имеет Гранд-канал, если посмотреть на Венецию сверху.
– Остроумно, – сказала Эвглена Теодоровна, не скрывая зевка.
Борис Борисович заткнулся…
Пили чай с бергамотом. Из мейсенского сервиза. Специфический цветочный аромат витал над столом. Печенье было высыпано из пакета в вазу: настоящее венецианское печенье, которое готовят только в Венеции, на островах. Причем продают там же, на островах, даже в материковой части города его не купишь. Доставили эту диковинку самолетом – знакомые матери. По вкусу оно напоминало курабье, только было тверже.
– Так ты не передумала? – спросила Эвглена Теодоровна у дочери.
– Пойду, – твердо ответила Елена. – Когда ты меня еще из дому выпустишь, пусть даже на оперу.
– Завтра в школу выпущу. Силком вытолкаю, если сопротивляться станешь, – мать мило улыбнулась: пошутила. – Но я хочу тебя на всякий случай предупредить, дорогая моя. Наши с тобой вчерашние разговоры не закончены.
– Сегодняшние тоже, – парировала Елена.
Эвглена Теодоровна повернулась к гувернеру.
– И вам я хочу напомнить, уважаемый. Все ограничения, наложенные мной на эту особу, остаются в силе.
30.
Музыкант Данила пел, вернее, голосил во всю глотку, – наверное, чтобы заглушить страх:
- …Проклятый мир, жестокий мрак,
- он жизнь опутал, как паук,
- он враг всего, он лютый враг —
- реальный мир, источник мук…
Инъекцию сомбревина делала Эвглена. Повар-китаец крепко держал руку пациента. Прежде чем уйти в отключку, студент Гнесинки успел-таки дошептать куплет из своей странной песни:
- …Ты знаешь сам, ты испытал
- и мерзость слез, и сладость драк.
- Семнадцать лет тебя пытал
- реальный мир, жестокий мрак…
После чего был благополучно увезен в операционную; там закипела работа.
А палата – вновь полупуста.
Алик Егоров тихо произносит:
– Та сволочь тоже была музыкантом.
Голос его столь слаб, что я вынужден сползти с кровати и приблизиться.
– Какая сволочь?
– Мужик, который мне свой компакт-диск подарил. «Растаманом» себя называл, козел…
– Ты что, бредишь?
Долгая пауза. Стою рядом. Он продолжает, собравшись с силами (речь дается ему непросто):
– Меня недавно из ментовской школы поперли за аморалку… не ту девку хотел трахнуть, которую можно. Средняя школа милиции, знаешь? Город Стрельна, под Питером… а девка – малолетка оказалась. Мамаша у нее – шишка в областном ОВИРе. Брат – песни пишет. Известный дядька, я его потом по ящику видел. Он меня пригласил к себе домой, поговорили по душам. Он сказал, что я нормальный мужик, и что сеструху давно пора кому-нибудь отодрать. Ну а материнский гнев, говорит, это стихия, ты уж пойми нас. Короче, лично он против меня ничего не имел… растаман хренов… и в знак дружбы подарил мне компакт со своими песнями. С дарственной надписью. А я взял да растрепал всем про этот компакт. Говорю, приссал композитор, прощения у меня просил, даже, вот, подарок со страху сделал. До него все это, конечно, дошло… Слышу потом по радио его новую песню. Он там, значит, наяривает нашу с ним историю, в подробностях, как оно все было, а в конце… в последнем куплете… мол, не знал глупый гость, что когда подаренный диск откажется петь, настанет его, гостя, время приссать. Глупый гость – это я, понимаешь?!
Молчу, не перебиваю и не вмешиваюсь. Пусть парень выговорится, всё полегче станет.
– Не понимаешь ты… В четверг, когда я в Москву собирался, стопку дисков случайно развалил. Коробки посыпались на хрен. У пары-другой крышки отлетели, а один диск вообще выскочил… тот самый. Трещина на нем появилась, з-зараза. Я проверил – диск не читается… не играет, значит. Отказывается петь… Что это было? Предупреждение?
Он ждет.
– Да уж, надо было тебе дома сидеть, – говорю. – Компакты просто так не трескаются.
– Дурак, вот дурак… – Алик стонет. – Зачем в Москву поперся? А певун этот хренов… накаркал беду… воронья морда…
– Давай о чем-нибудь другом, – предлагаю я ему. – О футболе. Давай о «Зените».
– А что «Зенит», – шепчет он. – Москва как всегда не отдаст нам первое место. «Мясо» вытянут, а нам – под зад. Поставят карманных свистунов на последние матчи, каких-нибудь Веселовского, Каюмова, Петтая… и опять Петтая… Может, и хорошо, что я это не увижу, – он закрывает глаза и лежит так с минуту.
«Мясо»…
Я не болельщик, но даже я знаю, что добрые питерцы так называют московский «Спартак», – из-за того, что когда-то, еще до войны, он с гордостью носил название «Мясокомбинат». И все-таки от этого обычного, казалось бы, слова меня дрожь пробирает.
– Слушай, друг, – говорит Егоров. – Вот эта штуковина, которая тут жужжит, чего она делает?
– Это аппарат «искусственная почка». Отсасывает у тебя кровь небольшими порциями, очищает и возвращает обратно.
– Я так и думал. Значит, у меня нету почек?
Не отвечаю. Если парень все понимает, зачем ему мое «да»? Он вдруг успокаивается.
– У меня нету почек, – произносит он равнодушно. – Их, наверное, уже вшили в какого-нибудь туза. Нету рук. Нету ног. Ту малолетку я не трахнул, на «Зенит» больше никогда не схожу… Настало время приссать.
– Вот уж – точно.
– От нас ничего не останется?
– Разве что зубы и пирсинг.
– Попались мы, как мухи в паутину… Ты, наверное, многих повидал, таких, как я. Ты тут, смотрю, настоящая Царь-муха. Может, подскажешь чего? Или, пока они там студента режут… поможешь?
Алик силится поймать меня в поле своего зрения. Наверное, хочет посмотреть мне в глаза.
– Помочь – не могу. Я не убийца, мой мальчик.
– А другие, до меня… без рук, без почек… как они? Что делали?
– Другие? Кто-то плакал сутками, кто-то сходил с ума, кто-то входил в ступор и замолкал. Некоторые держались. Но никто – по крайней мере при мне, – никто не попробовал раскачаться в кровати и выдернуть катетер или иглу из вены.
– А это что, получится?
– При определенном упорстве. Раскачиваться можно с боку на бок и вверх-вниз, на кроватных пружинах. Имей в виду, фанат, в этом деле важно, чтобы никого кроме нас на всем втором этаже не было. Ни в операционной, ни в подсобке, нигде. Иначе тебя живо обратно подключат.
– Я буду первым, – загорается он. – Я сбегу от них… спрыгну… соскочу…
* * *
…Слова! Всего лишь слова.
То ли пороху не хватило Алику Егорову, то ли нужной степени отчаяния; во всяком случае, ни одной попытки соскочить не было. Ни одной. До утра он кое-как дотянул.
31.
- Бела донна! О, вы статны,
- Как слеза чиста, краси-ивы!..
- И белье ваше опрятно,
- И повадкой не спеси-и-ивы…
В Большом давали «Казанову». Новые хозяева театра решили идти в ногу со временем. Оперу ставил модный режиссер, либретто писал скандальный куплетист. Лирический тенор (мировая величина!) в жилетке на голое тело и кружевных панталонах «клеил» на глазах сотен зрителей подержанную оперную диву, изображавшую юную красотку.
Огромный зрительный зал, ритмично опоясанный барьерами лож, внимал.
- …Ах, невинность! Счастья птица!
- В жизни раз всего дана-а-а…
- Зазевалась чуть девица,
- глядь – уж женщина она-а-а-а…
Елена с Борисом сидели в главной литерной ложе. Это практически на сцене, слева. Напротив, на другом конце сцены, помещалась правительственная ложа, – мать вполне могла заказать туда билеты, но решила не жлобствовать.
– How is the performance[9]? – шепотом спросил Борис.
– Спектакль не порнографический, но очень хороший, – ответила Елена обычным голосом – чтоб все слышали. Дамы в ложе укоризненно покачали головами. Мужчины хмыкнули, прикрыв рты платочками.
– My fairy lady, – зашептал Борис. – Firstly, such equivocal jokes here are indecent. Secondly, if I’m not wrong, we have got an English speaking evening.[10]
– I beg your pardon, a thousand apologies, a million apologies[11]… – она поднесла к глазам бинокль. – Look, a singer’s eyelids have turned blue[12]. И под глазами синева. Не высыпается, бедняжка – театр, семья, любовники…
– This is a make-up, I suppose.[13]
Елена аккуратно сместила взгляд – к зрительному залу. Положила бинокль на красный бархат. Еще повернула голову…
Вадим сидел совсем рядом – в крайней ложе бенуара. Вадим с завораживающей фамилией Балакирев. До него было метров пять-семь, не больше. От пяти с половиной до шести с половиной ярдов – в пересчете на «английский вечер». Вадима Балакирева совсем не интересовало происходящее на сцене – он смотрел только на Елену, она это чувствовала. Взгляды на миг соприкоснулись. Между ложами проскочила невидимая залу искра… только бы Борька ничего не заподозрил, озабоченно подумала Елена, – он дядька наблюдательный и ревнивый…
Страсти в спектакле, между тем, разгорались нешуточные. Взбешенный дож распекал потерявшую голову дочь:
- …Что себе ты позволяешь?!
- Ах, ты дура! Ах, ты шлюха!
- С Казановой загуляла,
- ты – дрянная потаскуха!
- Ох-ха-а-а…
- Ох-ха-а-а…
- Ох-ха-ха, ха-ха, ха-ха…
Елена наклонилась к самому уху Бориса:
– Пошлятина. I’m so indignant, I can’t find any words. I’m going to look for.[14]
Тот встрепенулся.
– Подождите! Вы куда? – забыв про свой английский.
– Куда – куда?! Мочевой пузырь освободить. Драгоценнее мочевого пузыря у девочки ничего нет, ты сам слышал. Я бы дополнила этот список прямой кишкой. Насчет кишки намек понятен?
– Ну, не знаю, Эва Теодоровна просила…
– Вот тебе моя сумочка, – зашипела Елена. – Залезь в нее и оставь себе. Нет, ты залезь! Там все мои деньги, кредитка, мобильник, ученический билет, паспорт. Куда, по-твоему, я без этого денусь? Мягкую бумажку с собой не беру, думаю, в туалете найдется.
– Я с вами, – сказал Борис. Даже попу от кресла оторвал, скотина.
– Может, вы меня до толчка проводите? Подите, пожалуйста, на фиг, Борис Борисович!
Это было сыграно вполне убедительно. Соседи начали коситься. Елена вышла, а гувернер остался сидеть, тупо глядя в пространство.
Вряд ли он обратил внимание на то, что крайнюю ложу бенуара тут же покинул долговязый, коротко стриженый парень.
32.
Встретились, где договаривались – в боковом фойе с противоположной стороны от сцены. Подальше от глаз ревнивого гувернера. Фойе было просторным и пустым. Елена хотела сесть на диванчик, но Вадим, облапив ее длинными руками, полез целоваться. Разумеется, она была не против, и некоторое время они стояли, слившись в одно целое. Он расстегнул ей пуговицу на брючках и залез в трусы, – разумеется, она была не против. Кто-то вышел из буфета, кто-то вошел – им было плевать. Наконец она опомнилась:
– Стоп, снято!
– Соскучился, бля, – виновато сказал он, убирая руку.
Это Елена понимала. Ощущала нечто похожее. Застегнулась и сказала:
– Я вот для чего тебя вызвала…
– Зайдем, – предложил Вадим и, продолжая держать ее за талию, увлек в буфет.
– Пирожное? – спросил он, показав на подносы. – Бутерброд с икрой?
– Нам долго нельзя, гувернер пойдет искать.
– «Хуйвернем», – пошутил он и сам же засмеялся.
– Представляешь, Борька был готов меня возле толчка караулить.
– Забей.
– Девушкам говорят «отсоси».
– Так то девушкам… Заказываем чего-нибудь?
– Ну, хорошо. Давай просто кофе…
Они учились в одной школе, только Вадим – в выпускном классе. Почти взрослый. Балакирев – была его настоящая фамилия. Наверное, дальний родственник великого композитора, фамилия-то редкая. А может, нет. Елена никогда не спрашивала его о предках – незачем, пустое любопытство. Ценность Вадима состояла в другом – во-первых, это был друг. Нет, не друг, а гораздо больше, гораздо ближе! Во-вторых, он все мог достать. Из области фармакологии – буквально все. Несмотря на возраст, связи у него были фантастические. Собственно, он жил куплей-продажей специальных препаратов, – оплачивал таким образом свое обучение, содержал мать. Бизнес вел вне стен школы, потому как в школе была нешуточная служба безопасности…
Сели за столик. В буфете, столь же просторном, что и фойе, посетителей было мало – только те, кто пришел в театр не ради спектакля.
– Как тебе опера? Кайфуешь? – подколола Елена.
– Отстой галимый, – дал Балакирев краткую характеристику. Он всегда выражался кратко.
Елена передала ему листок с перечнем лекарств.
– Это надо срочно, – сказала она. – Хорошо бы завтра-послезавтра. Потому я тебя и побеспокоила.
– Да хоть всю ночь меня беспокой, – буркнул он, изучая список.
Елена смотрела на него, такого сурового, неулыбчивого, с хищным носом и волчьими глазами, и вдруг подумала: интересно, кто мне нравится больше, Вадик или… Виктор Антонович?
Идиотская мысль! Вадик надежен, как Гохран, и красив, как Аполлон на фасаде Большого, а Виктор Антонович – вот уж зверь, так зверь… вдобавок – отец… короче, сравнение некорректно по всем параметрам. И все же… Плевать, что отец, подумала Елена. Это даже упрощает дело. Какое, собственно, «дело»? Она не знала. Влечение, которое постепенно захватывало ее душу, не имело рациональной основы.
– Тиопентал натрия, – потыкал Вадим пальцем. – Эта позиция… прикольно. Расскажешь потом? Так. Аминазин, атропин…
– Достанешь?
– А то! Стопудово.
– Ну, ладно, пора расходиться. Поцелуй от меня своего Стрептоцида.
– Чего-чего?
– Шучу. Привет ему передавай.
Стрептоцидом звали Вадькиного друга и компаньона.
– Я тебе поцелую… – Балакирев накрыл ее руку своей. – Этот твой «хуйвернем», – он кивнул в направлении зрительного зала, – совсем оборзел. Так? Я приму меры.
– Брось, Борька тут ни при чем, – сказала Елена. – Это все мать. У нас с ней разговор был, я ей мозги вправляла. А она мне: «Милый дружочек, я вынуждена поставить ваши действия под полный контроль». Короче, если б было можно, она бы меня вообще в доме заперла.
– Как президента на острове Фаллос, – понимающе кивнул Балакирев.
– Чего-чего?
– Ну, как Горбачева…
Елена хохотнула:
– На острове Форос, отличник.
– Одна, бля, ерунда…
…Когда она вернулась, избитый Казанова в сопровождении хора мальчиков выползал из сточной канавы. Виды ночной Венеции были великолепны. Хор старательно выводил:
- …Долго выл, пасть разевая,
- головою в муках дрыгал.
- Штаны с воплем надевая,
- на одной ноге запрыгал.
- Восвояси он убрался
- В страшной злобе и обиде.
- Он победы не дождался
- В этой половой корриде…
Опера длилась еще два часа. Елена не следила за происходящим и упустила тот момент, как и когда Казанова умер. А потом на колокольне Сан Марко, скрупулезно воссозданной на сцене, забили колокола, и поехал исполинский занавес – багровый бархат с золотыми кистями. И грянули аплодисменты. Рукоплескали ярусы, рукоплескали ложи. Встал партер…
Когда зажглась люстра, зал целиком был кроваво-красным. Кровавая обивка кресел и мебели, такая же отделка лож, пугающий цвет занавеса, – все как нельзя лучше гармонировало с теми ужасами, коим зрители стали свидетелями. С ужасами любви…
Елена аплодировала стоя – вместе со всеми.
33.
Эвглена приходит ко мне, когда все в доме уже улеглись. Елена с гувернером давно вернулись из театра: в форточку слышно было, как они из машины вылезали, переругиваясь. Вахтер Илья, которого здесь называют «менеджером», обошел дом и закрыл вход. Тетя Тома выключила в медицинском блоке свет, оставив только ночник в палате, и отдыхает у себя – дверь в ее келью, как всегда по ночам, распахнута настежь. Где обретается китаец Сергей, мне плевать. Наверное, где-нибудь при кухне.
…Эвглена приходит в шлепанцах и в халате, с распущенными волосами. Тихонько спрашивает:
– Спишь?
– Нет.
Она садится ко мне на постель. Халат без пуговиц распахивается. Видно, что под ним – голое тело. Кушак торчит из кармана.
– Помнится, ты говорил, что соскучился. – Она лукаво улыбается и лезет рукой под одеяло.
– У тебя феноменальная память.
– Ой, и правда соскучился!
Никуда не денешься, половая функция у меня, несмотря на все испытания, почти не ослабла. А моя супруга считает своим долгом хотя бы изредка делить брачное ложе с законным мужем. Не знаю, зачем ей это надо. Может, чтобы раз за разом доказывать миру, какая она правильная, а может, эта женщина просто нимфоманка. Мне без разницы. Роль брачного ложа исполняет моя больничная койка, которая, кстати, заметно шире остальных. Я не против таких встреч: естество берет свое. И вообще, я подозреваю, что Эвглена до сих пор уверена, будто я без ума от нее.
– Подожди секунду… – она вспархивает с места и прикрывает дверь к тете Томе. Стесняется чужих глаз. Невесомые полы халата – как крылья за спиной. Поворачивается ко мне…
Она невероятно соблазнительна. Увидев ее, Пизанская башня встала бы прямо.
Алик Егоров не спит – молча смотрит на нас из полутьмы. Эти глаза Эве не мешают.
Музыкант Долби-Дэн отходит от операции, поэтому он не с нами: витает в неких сферах – детская улыбка на лице, левая нога прикована к спинке кровати. Ему вкололи лошадиную дозу, чтоб до утра не беспокоил. У бедолаги нет обеих кистей – отошли какому-то клиенту. Его вожделенная гитара, как и прежде, лежит на стуле поблизости, только на что теперь ему это сокровище? И что с человеком будет, когда настанет его новое утро?
Синеватый свет ночника лишает мир реальности. Отбросив одеяло, Эва ласкает меня. Сначала рукой, потом губами. Потом шепчет: «Темно» и включает настольную лампу…
Она видит меня. Она видит меня в подробностях. И случается то, что случается всегда.
Моя жена плачет.
– Что же я с тобой сделала? (Голос дрожит.) Какой великолепный был мужик… какое было тело…
Было неплохое, что правда, то правда. Раз в неделю я ходил на тренажеры, держал форму. Дома – гимнастика. Бег… Женщина, изувечившая меня, всхлипывает.
– Жестокая штука – жизнь… Чего только не сделаешь, чтобы заработать на кусок хлеба…
– С черной икрой.
– Ты прости меня, Саврасов. Муж ты мой, кормилец мой. Знал бы ты, сколько денег в семью принес, – она покрывает поцелуями все, что от меня осталось. – Я твоя единственная радость, я же понимаю… я понимаю…
То, что она говорит – вовсе не садистская насмешка. Эвглена не притворяется, в эту минуту она искренне переживает. Но обольщаться на сей счет не стоит: только что она – сентиментальная дурочка, но прошла минута, и перед нами живодер с отрешенным взглядом. Сколько раз я наблюдал эту жутковатую метаморфозу…
Ее хрупкость – обман. У нее сильные, властные руки хирурга. Точные и быстрые движения. Она ласкает меня так неистово, что я вынужден ее остановить:
– Эвочка, я уже на подходе. Куда мы торопимся?
– Тогда – ты меня.
Она возбуждена, как высоковольтная линия. Чтобы замкнуть контакт, мне достаточно руки и языка. Она ритмично вскрикивает. Раз, считаю я. Слова больше не нужны, только цифры. Она запрыгивает на меня, торопливо помогая себе рукой, и пошли скачки. Я держу наездницу за грудь. «О-ой!.. Еще!.. Еще!.. О-о-ой!..» Через десять минут я считаю: два! Она не кричит, а воет. Спрашивается, кто из нас чья радость?
– А ты? – говорит она, измученно валясь на бок – рядом со мной.
– Я позже.
– Умница. Позже. Обязательно…
Я себя полностью контролирую, иначе нельзя.
– Расскажи что-нибудь, – прошу ее. – Как там, снаружи?
Только в такие моменты и можно раскрутить Эвглену на откровенность.
– Ты меня любишь? – неожиданно спрашивает она.
– К сожалению, да.
– Во всяком случае, ты меня любил, даже если это и в прошлом… Тут Ленка с Борькой обсуждали проблему любви. То гормоны приплетут, то невроз. А я, простая баба, слушаю их и по житейски думаю: как испытать оргазм, ну скажем… во время мытья посуды? Не это ли главная тема русской Камасутры, буде она когда-нибудь возникнет?
Жмурится, кошечка, вот-вот заурчит. Очень довольна собой.
– Испытать оргазм, Эвочка, можно только во время мытья медицинской посуды, и ты это знаешь, как никакая другая женщина.
– Все подкалываешь? Я почему об этом говорю. Мне кажется, Ленка не случайно насчет любви прохаживается. Тонко намекает, что это уже не для меня, что мое время вышло. А вчера перед обедом вообще перл выдала: мол, студия давно пустая, мамочка. Что, мол, перестали на тебя мужики клевать?
– Так вот о чем был у вас разговор, из-за которого бешеный мальчик Рома появился.
Я смотрю на кровать, на которой отдал концы капитан Тугашев. Спящего музыканта положили на другую.
– Нет, это была прелюдия к разговору. (Она гладит волосы на моей груди.) Угомонили мы бешеного мальчика, а Ленка меня в кабинете ждет. И давай правду-матку гвоздить! Клюют на тебя, мамочка, только впечатлительные и безвольные существа, истерики да истероиды. Мужики на тебя, мамочка, не клюют. Вот и получается, что пациенты у нас сплошь безвольные истерики. Пациенты у нас – дерьмо, говорит. И все из-за тебя… из-за меня, то есть.
Эвглена привстает, рассерженная.
– Ну, привела я волевого бойца! И что? Он был идеальным пациентом?
– Если его убили, может, и был идеальным.
– Ну вот. Спасибо, напомнил…
Да уж, убийство продырявило картину их абсурдного мира. В дом вошла Новая Сила, но, по-моему, ни одна из хозяек до сих пор этого не поняла. Я наврал им, что опознал руку повара-китайца, – маленькая пакость. Пусть грызутся друг с другом, пока невидимый игрок осваивается… И еще – я, конечно, сильно рисковал, сообщая Елене, что убитый Рома Тугашев был ментом. Мать и дочь запросто могли помириться и выработать общее мнение. Например, такое: пора рвать когти. Сворачивать больницу, избавляться от свидетелей и трупов, причем, как можно скорее. В этом варианте моя кандидатура – первая на уничтожение. Но я рассчитывал, что неприязнь Елены к матери достигла той стадии, когда разум пасует перед распустившимся цветком паранойи…
Похоже, я не ошибся.
– А ты скажи Елене, что критиковать – все мастера, – предлагаю я.
– Уже. Знаешь, что она ответила? Сама, говорит, пойду на улицу, если мать обос… обделалась. Чертовщина. Что ты обо всем этом думаешь?
– Я думаю, не продолжить ли нам?
Эвглена сбрасывает халат.
– Правильно, хватит о грустном!
Она быстро возбуждается, кошечка. Она ложится на бок и подставляет мне попку. Я провожу пальцем по нежному позвоночнику. Млеет… Я легко могу ее убить. Задушить – одной рукой. Или сломать шею. Или взять за волосы и перекусить горло.
Если бы это могло меня спасти…
Убивать мою супругу нужно со смыслом, продумав все дальнейшее. Но если я почувствую, что меня опять пускают под нож, я сделаю это без всякого смысла. Я сделаю это.
– Ну? – торопит меня Эвочка.
Позы, которые мы практикуем, всего две: она сверху – я снизу, а также: она – спиной ко мне, я – сзади. На первый взгляд, иных вариантов быть не может.
– Давай попробуем по-другому, – предлагаю я.
– Как?
Я рассказываю.
– Ну у тебя и фантазия, – восхищается она. – А не свалишься с кровати?
– Ты меня держи.
Соединяем наши усилия.
Ее лодыжка на моем плече ходит ходуном, соскальзывает на культю. «Быстрее, Саврасов, быстрее!» Можно и быстрее. Теперь вся она бьется – как рыбина, выброшенная на берег. Я позволяю себе отключить самоконтроль, я отпускаю себя на небо. Т… т… три!!! Стонем хором.
Алик Егоров смотрит на нас с отвращением…
– Кстати, про любовь, – вспоминаю я «как бы вдруг». – Может, охлаждение твоих отношений с Еленой объясняется тем, что у нее парень появился?
– В каком смысле, – напрягается Эвглена.
– В том смысле, что не простой кавалер, а молодой человек с перспективой. По-моему, девушка думает о замужестве. Поздравляю, бабушкой станешь.
Она взволнована и не думает этого скрывать. Больше того, она пугается.
– Откуда знаешь?
– Елена сама рассказала. Только, пожалуйста, не ссылайся на меня, а то твой отпрыск меня за это…
– Своих источников не выдаю. И что за кавалер?
– Кажется, в школе с ней учится.
– Понятно… – говорит Эвглена. – Многое становится понятным… – Она сползает с постели, попадая ногами точно в шлепанцы. – Ну, детки чертовы. Сопляки. «Гормоны любви» у них, видите ли…
Потягивается. Набрасывает на себя халат.
– Слушай, ты даже не представляешь, как мне помог!
Она заглядывает к тете Томе («Спит, старушка…») и снова прикрывает дверь в каморку.
– Мой рыцарь, вы достойны награды, – провозглашает она шепотом.
Я знаю это.
34.
Мобильник внезапно заиграл, запел, засветился и даже затрясся.
– Приветствую, – сказал Неживой. – У твоей матери отключено. Не знаю, только трубка или мозги тоже.
– Ее разбудить? – сонно спросила Елена.
– Зачем? И с тобой можно прекрасно поболтать, несмотря на твой возраст. Ты во что сейчас одета?
– В ночную рубашку, – сказала Елена.
– Какого цвета?
– Белая в желтых цветочках.
– А под ней?
– Больше ничего.
Она отвечала с исключительной вежливостью. Ее трудно было вывести из себя столь примитивными способами.
– В твоем возрасте, – сказал Неживой, – девочкам полагаются пижамы. Ты с игрушкой спишь или без?
– С открытой форточкой.
– Ничего смешного. В твоем возрасте, чтобы психика развивалась гармонично, нужно пользоваться большими мягкими игрушками, изображающими сильных самцов – медведя, льва, дельфина.
Честно говоря, третье подряд упоминание о возрасте Елену все-таки достало. Круто достало. Трубка в ее руке вспотела. Она переложила телефон к другому уху.
– В комнате очень душно, Виктор Антоныч. Я вся горю. Я открываю окно и обмахиваю себя подолом ночнушки. Ложусь обратно и обнимаю сильного плюшевого самца ногами. Его морда утыкается мне точно в промежность…
Неживой выслушал до конца, не перебивая. Когда она выдохлась, сказал:
– Про мобильник вместо вибратора – хорошо придумано. Хотя, ясно, что ты никогда вибраторами не пользовалась. Пока, во всяком случае. Можешь затворить окно, подруга. И еще – не поленись, встань и закрой дверь на ключ.
– Зачем? – с трудом переключилась Елена.
– Я повторяю – встань, закройся на ключ. Боюсь, ночи в вашем доме становятся серьезным делом. Беда пришла, бабы дорогие.
– Да ну вас! – она наконец разозлилась. – Не надоело развлекаться?
– Ты против того, чтобы я звонил?
Сказано так, что Елена не смеет дерзить в ответ. Бывают ситуации, когда вдруг понимаешь – одно неловкое слово, и ты в опасности.
– А позвонил я, потому что почувствовал: надо позвонить. Я доверяю своим чувствам, дочка. Собственно, это единственное, чему я доверяю. Разве ТЫ не чувствуешь, что теперь тебе всегда, когда ложишься спать, придется закрываться на ключ?
Она чувствовала. Не совсем то, что сказал Виктор Антоныч, – нет, это был не страх, но… очень близко. Последние ночи Елена спала тревожно и, тем более, тревожно бодрствовала. И еще – она тоже доверяла своим чувствам.
– С какой стати я должна вам верить?
– Я слышал, у вас прошлой ночью труп завелся. А с утреца исчез куда-то. Так что настоятельно советую мне верить.
Она впилась зубами в мобильник. Только бы не ляпнуть что-нибудь… только бы не ляпнуть сдуру… пластмасса хрустнула… но где он мог это слышать? Про убийство не знает никто. Никто – кроме них с матерью, кроме тети Томы да уродов в палате, которые со Второго этажа никуда не выходят и уже не выйдут…
– Что там за звуки? – остро заинтересовался Неживой. – Трубку со злости ломаешь?
– Наверное, помехи на линии. Вы про труп что, пошутили?
– Какие шутки! – сказал он. – Мне приснился вещий сон. А мои вещие сны всегда сбываются… дочка.
Пластмассовый корпус не выдержал-таки, развалился.
35.
Пока Эвглена выпаривает кетамин, я решаю спросить:
– Заказы, о которых говорил твой Неживой – их правда так много?
– Виктор Антонович пока не оставил заказов.
– Не оставил? Ты отрезала у этого гитариста обе руки, обе сразу! Обычно ты все-таки с ног начинаешь.
– А-а… это для вчерашнего клиента. Дня не прошло, ему опять понадобились пальцы. Как можно больше пальцев. Они сказали, вчерашняя порция вся ушла – с восторгом, с ритуальными плясками…
Я непроизвольно убираю с глаз долой свою единственную руку. На ней – целых пять пальцев. Я содрогаюсь, мысленно и телесно. Это не остается без внимания:
– Тебе холодно, мой сладкий?
– Эвочка, ну ты же понимаешь, о чем я спрашиваю. Вдруг эта наша ночь последняя?
– Материала пока хватает, – произносит она, задумчиво наблюдая за огоньком зажигалки. – Два «аккорда», и закрыли заказы. Так что не беспокойся…
Эвглена выпаривает «дурь», как чмо из подвала – на ложке. При помощи зажигалки. Эстетика дна и грязи. Кетамин пузырится, ложка вся уже в копоти. Это и есть та награда, которую Эвглена мне посулила – несколько минут космического кайфа.
Вообще-то кетаминовый наркоз – варварство и обман; не зря он применяется больше к животным, чем к людям. Во-первых, привыкаешь быстро, во-вторых, диссоциация сознания, которую вызывает этот препарат, вовсе не отключает боль. Когда Эвглена оперировала меня, она использовала более солидные средства – берегла мои рецепторы. Но совершенно другое дело – как сейчас…
На дне ложки остается белый порошок. Ждем, пока железо остынет. Это круче, чем ЛСД. Я знаю, я сам и научил мою супругу нехитрому фокусу с кипячением кетамина.
– Позволь, – говорит она, макает палец в порошок и щедро промазывает мне ноздри.
Затем – себе.
Ложится рядом.
Глаза закрыты.
Ждем.
– С Ленкой что-то происходит, – успевает сказать Эвглена. – Ей нужен если не отец, то хотя бы отчим. Мужчина, которого она уважает. Она тебя почему-то уважает, Саврасов, даже непонятно, почему. Помоги мне, и тебя ждет долгая, счастливая жизнь.
– Ты сделала предложение, от которого нельзя отказаться…
А вот и «приход».
Валюсь в сияющую бездну. Этот момент стоит того, чтобы родиться и умереть! Озираюсь в изумлении: цвета яркие, как в рекламе. Палата, в которой я медленно подыхаю, сворачивается до размеров бусины – ее нет. Фальшивка, ложь, сон. Все мои конечности целы! Прорастаю. Вокруг – вселенная, мой настоящий мир. Взлетаю. Лечу.
«Как красиво…», – слышу восторженный голос Эвглены. Она летит рядом, она всегда рядом. Мы – в ее будуаре. Я лежу, маленький и счастливый, а сгусток сексуальной энергии, разорвав джинсы, фантастической колонной уходит в небо…
КОМУ И ЗАЧЕМ ОТДАЛИ МОИ НОГИ?
…Размеры женщины не влезают в сознание. «Я сверху!» – командует она и, раскорячившись, вставляет мою колонну в себя. Если у тебя есть опыт и воля, ты можешь управлять вселенной. Я вырастаю до неба – и пусть крошечная тряпочная кукла беснуется где-то там, внизу. Слышу, как она смеется…
«…Когда-то мы с моими родителями были, ты не поверишь, бедными, как церковные мыши. А он мне – возьми свое. Возьми и продай. Я взяла и продала, а все вокруг удивлялись – откуда у сироты вдруг столько денег? Нет, такой богатой, как сейчас, я тогда еще не стала. Он был мне первым мужем, но ведь он, между нами, просто псих…»
Эвглена с увлечением рассказывает о своей маленькой жизни. Это неинтересно. Куда важнее то, что рассказываю я – о том, как мы с братом мастурбировали перед окном одной девчонки, как дрались с черемушкинскими, как прыгали с моста на самодельных резинках; о том, что погоняло у меня было Скрипач, поскольку я виртуозно владел «струной» – крайне эффективным в драке оружием, изготовленным из гитарной струны, гирьки и штопора…
КОМУ И ЗАЧЕМ ОТДАЛИ МОЮ РУКУ?
…Эвглена меня перебивает:
«Знаешь золотое правило торговцев людьми? Продать человека по частям гораздо выгоднее, чем целиком. Когда я доперла до этого, тут и начался мой путь на вершину. Человек вообще самый выгодный товар, потому как достается бесплатно. Причем, мужчины, как выяснилось, ценятся дороже женщин. Возьмем, к примеру, тебя…»
Она не договаривает, самозабвенно стонет. Я ей подвываю. Четыре! Или пять? Сбились со счета… Раз, два, три. Их трое, зависли неподалеку от спортзала, гопники чертовы. Я иду с тренировки – сумка на плече, в голове шум. «Пацан, дай прикурить». Отвечаю: «Пошел ты на…». Он мгновенно бьет, я автоматически ухожу и левым хуком отправляю его в нокаут. Остались двое. И набегают еще пятеро. Я достаю двоих или троих… меня валят и бьют ногами – я закрываю голову… больница с веселой медсестрой, колющей в вену разведенный спирт и выпаривающей кетамин в ложечке… палата на четверых оболтусов… вернее, студия с развешанными по стенам картинами… продать человека по частям гораздо выгоднее, чем целиком… гораздо выгоднее…
КОМУ МЕНЯ ПРОДАЛИ?
С той драки возле спортзала я и стал всегда носить при себе «струну», спрятанную в рукаве…
И вдруг Вселенная теряет воздух, как развязавшийся воздушный шарик. Нет больше ни объема, ни цвета. Черно-белая тоска захлестывает, как волна. Из сказочной реальности обратно в сон – не хочу, не хочу!
Всё, двери закрываются.
Это жестоко.
Жаль, но химическое блаженство так недолговечно. Пятнадцать минут, всего лишь пятнадцать минут… Пустота входит в мозг, и вместе с ней – острейшее желание вдохнуть новую порцию кайфа, и понимание, что делать этого ни в коем случае нельзя…
Какую судьбу ты расписала мне, хочу спросить Эвглену.
Ее уже нет рядом.
Два дня назад
Любовь, как вода, протекает сквозь пальцы…
36.
Труп тети Томы обнаружили утром, но довольно поздно, когда Елена уже уехала в школу, а Борис Борисович – к себе в институт.
Эвглена Теодоровна поднялась на Второй этаж, встревоженная тишиной, оттуда исходящей. Саврасов дрых без задних ног (до чего же точно, успела подумать она, – «без задних ног»). Алик смотрел в потолок, до сих пор пребывая в ступоре. Студент-музыкант тоже очнулся – он уже обнаружил отсутствие обеих рук, однако не кричал, не бился в припадке, не звал на помощь…
Санитарка лежала на своем топчане – мирная, всех простившая. С улыбкой на лице. А в груди ее торчал кухонный нож фирмы «SAAB». Нашлась-таки пропажа – таким вот образом.
Убили женщину, как и вчерашнюю жертву, ударом ножа в сердце. Вероятно, во сне, поскольку никаких следов сопротивления не было. Тело успело заметно остыть. Насколько Эвглена Теодоровна понимала в судебной медицине, смерть произошла около трех ночи… плюс-минус… неважно.
Кошмар множился.
Однако сегодня хозяйка дома была на удивление спокойна. Словно ждала чего-то этакого. Никакой суеты, никаких нервов, – сплошной сгусток воли и концентрации сознания. Сначала она разбудила Саврасова, что оказалось нелегко сделать, – тот спал, решительно ни на что не реагируя; очень похоже – оглушенный мощной дозой то ли снотворного, то ли наркотика. Проснулся – с мутью в глазах. Ничего, разумеется, ночью не видел и не слышал. Вероятно, их траванули обоих – Саврасова и Тому. Например, с ужином: они вчера вместе ужинали. Каким препаратом? Почему не почувствовали, к примеру, горечи?.. Проводить токсикологические исследования было некому да и некогда. К тому же результат ничего бы не дал, даже если б и был положительным. Ну, усыпили жертву и единственного свидетеля, – и что с этим фактом делать?
Остальных пациентов «студии» спрашивать было тем более бесполезно: снотворные средства входили в их противошоковую терапию.
Кто? – метался вопрос по дому.
Этой ночью, как и прошлой, в особняке ночевали всё те же, да плюс еще менеджер Илья. (Оба молодых человека, Илья и Руслан, в связи с чрезвычайными обстоятельствами отныне работали вне смен и графиков). Гувернер, согласно договоренности, проводил с подопечной весь уик-энд, и только в понедельник утром у него наступало личное время (аспирантура, диссертационные хлопоты, семья). В будние дни Борис Борисович должен был заглядывать сюда по вечерам – проверять у Елены домашние задания, – так что сегодня он еще появится…
КТО?
Впрочем, кое-что любопытное Саврасов все-таки сообщил. Оказывается, Тома вчера, будучи под градусом, почти созналась ему. Она видела, кто зарезал того крепыша… как там его… Рому. Саврасов даже показал доску с весьма показательной надписью: «Я устала. Теперь уже навсегда». Почерк был Томин, нет сомнений. От чего бабка устала? От страха, вероятно; устала бояться. Доживи она до сегодняшнего дня – сама бы выложила, без понуждения, кого видела той ночью… однако, не дожила. А еще Саврасов удивился, что Эвглена ничего не знала ни про Тому, ни про этот ее письменный крик души. Оказывается, вчера он все рассказал Елене… и доску с надписью, говорит, ей показывал… Почему Елена промолчала? Навалились бы вдвоем на Тому – не теряя времени… Почему девчонка скрыла столь важный факт?
Не потому ли, что…
Эти предположения были чудовищны.
Эвглена Теодоровна позвонила Елене на мобильник – в промежутке между уроками. Поставила дочь в известность о случившемся… если, конечно, она еще об этом не знала, поганка… Судя по голосу – не знала. Или – искусно играла?.. С занятий было решено ребенка не снимать: школа есть школа, что бы дома ни творилось.
…Труп тети Томы унесли на Нулевой этаж. Физическая работа легла на плечи Сергея Лю (в этот раз без него было не обойтись). Эвглена Теодоровна сопровождала повара, открыла ему решетку. В нижней части двери, возле пола, была сделана маленькая дверца-окошко, – специально для подачи трупов. Сергей протолкнул туда мертвую Тому, после чего все было закрыто.
Покончив с неприятным, Эвглена Теодоровна взялась за поистине противное дело. Вызвала к себе менеджера Илью и в течение получаса растолковывала ему задачу. Тот, выслушав с каменным лицом, отправился исполнять приказ. Он отправился в школу, где училась Елена, – именно там мать намеревалась нанести первый удар…