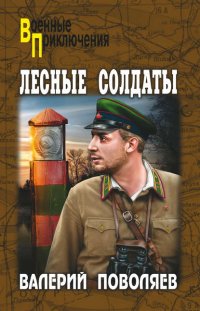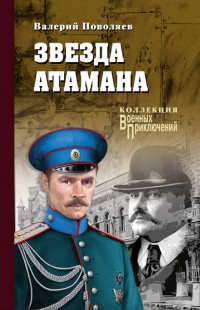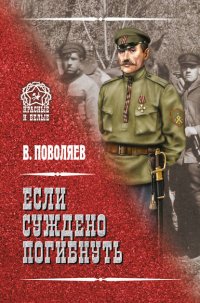
Читать онлайн Если суждено погибнуть бесплатно
- Все книги автора: Валерий Поволяев
© Поволяев В.Д., 2009
© ООО «Издательский дом «Вече», 2009
* * *
Часть первая
Горящая Волга
Ночью в Самаре часто раздавалась стрельба – палили то в одном растревоженном углу города, то в другом; слышались крики; по жестяным крышам доходных домов и старых купеческих особняков грохотали сапоги – люди, не боясь оскользнуться и нырнуть вниз, будто черти, носились по крышам, вызывая ругань стариков, страдающих бессонницей. Иногда внизу по грохочущим сапогам били из маузеров, случалось – попадали, и тогда с верхотуры на землю сверзалась ругань, а иногда – сам человек. Летали люди обычно раскорячившись, по-гусиному раскинув ноги в стороны и ловя широко расшеперенным ртом воздух; приземлялись с воем, будто подрезанные шрапнелью «ньюпоры», и затихали среди луж и липких, набухших влагой куртин земли.
Одни говорили, что это шалят оставшиеся в городе офицеры-фронтовики, вторые – что красные гоняют белых (ныне пошло такое деление – на красных и белых, и это вызывало удивление обывателей), третьи вообще все сваливали на осмелевших мазуриков – те совсем от рук отбились, режут всех подряд, даже дамочек, а потом потрошат у них ножиками нижнее белье в поисках драгоценностей.
В Самаре еще с конца семнадцатого года существовала тайная офицерская организация, которой руководил подполковник Галкин. Начиналась она с малого – с десятка фронтовиков, собравшихся отметить день Покрова в трактире Мякинникова, а к маю восемнадцатого года насчитывала уже двести пятьдесят человек.
Это была сила. Только применять ее было пока негде. Но, как говорится, всему свое время.
В самом центре Самары, где через Волгу был перекинут мост, под опорами два офицера, бывших окопника, поймали огромного сома. С бычьей, похожей на большую шайку головой, украшенной длинными мясистыми усами, и глубоко разрубленной у заднего верхнего плавника спиной. Видно, древний сом этот когда-то угодил под винт парохода, но задело рыбину по касательной, выдрало кусок мяса, а хребет не перебило, поэтому сом и остался жив. На горе всякой волжской мелюзге…
Поймали сома на удочку-закидушку, капитан Вырыпаев был по этой части большим мастером, он даже умел ковать рыболовные крючки, раскаливал их до малиновой красноты на медленном огне, затем так же медленно опускал в плошку с ружейным маслом, чтобы крючок набрал твердости и одновременно не утерял вязкости горячего металла, с таких крючьев сомы никогда не сходят, хотя они по этой части большие мастаки. У иного в огромном рту сидит целый якорь от бронированного волжского монитора[1], а сом поездит, поездит немного, подергает хвостом нервно, и глядишь – якоря во рту уже нет.
И бечевку для закидушек Вырыпаев готовил специально – из нитей шелка, скрупулезно сплетая их в одно прочное целое – бечева получалась такая крепкая, что на ней бурлаки, если бы таковые объявились, запросто могли бы тащить баржу.
Грузила Вырыпаев также отливал сам: однажды, будучи в Москве, приобрел он в рядах Китай-города австрийскую форму для «любителей лова рыбы на реке Лауре», как было написано в визитной карточке, приложенной к плавильной форме. Где находится река Лаура, капитан Вырыпаев не знал, даже не слышал про такую, но, видимо, река эта была большая и рыба там водилась великая, раз для грузил сработали специальную форму. Вырыпаев только довольно посвистывал, подкидывая в руке отлитые и остывшие грузила.
– Этой плюшкой запросто можно свалить с ног бегемота, – посмеивался он, – была бы только охота.
Напарником у него был поручик Павлов – огненноглазый, как цыган-степняк, проворный, усатый, насмешливый, Вырыпаев звал Павлова Ксан Ксанычем – Александром Александровичем, значит, Павлов же своего напарника – с подчеркнутой вежливостью «господином капитаном».
Они снимали комнату на двоих у одной старушки, наследницы большого купеческого богатства, которого та лишилась в ноябре семнадцатого года, – остался только большой, на девятнадцать комнат особняк, который кормил и поил ее: старуха Перфильева сдавала ныне комнаты внаем. Брала дорого.
Выбирать не приходилось; все, что стоило дешевле, плохо выглядело, пахло клопами, мышами, кислой капустой и могло наградить вшами. А Вырыпаев и Павлов были одинаково брезгливы и чистоплотны – плохое жилье со вшами им никак не подходило.
Они вместе воевали, вместе чуть не попали в плен, но счастливо избежали его, откатились на восток и на одной из узловых железнодорожных станций едва не были растерзаны восставшими солдатами. Солдат взбесило, что и капитан, и поручик отказались снять с себя погоны.
Выручил незнакомый полковник Синюков, приехавший на станцию на автомобиле, за неимением бензина заправленном спиртом. Автомобиль, весело пукнув синим спиртовым взваром, обдал солдат вкусным духом, в окно машины высунулся толстый ствол «люськи» – английского пулемета, хорошо знакомого фронтовикам под названием «льюис», следом высунулась голова с красными, блестящими от выпитого спирта глазами, рявкнула свирепо:
– Эй, славяне!
Солдаты, наставившие на офицеров-фронтовиков стволы винтовок, оглянулись, увидели толстый «люськин» кожух и оробели – с их тонкоствольными винтовочками против пулемета не попрешь.
– Чего? – просипел один из солдат, наиболее смелый.
– Я тебе, рыло рязанское, сейчас так чевокну, что у тебя ноздри разом окажутся в желудке… А ну, руки! – скомандовал ему полковник.
Мужик, обозванный «рылом рязанским», поспешно поднял руки. В правой он держал винтовку, подхватив ее пальцами под ремень, и не выпускал.
– Все поднимите руки! – прорявкал полковник. – Винтовки бросьте под ноги!
Солдаты – их было восемнадцать человек, поручик Павлов посчитал специально, – пошвыряли винтовки под ноги, в грязь, и поспешно вздернули руки.
– А теперь отойдите от господ офицеров на двадцать метров, – приказал полковник.
Солдаты замялись. Начали переглядываться друг с другом.
– Ну! – рявкнул полковник и дал короткую очередь из «люськи». Толстое полено пулеметного ствола, забранное в плотный кожух, украсилось диковинными лиловыми цветами.
Пули прошли поверх солдатских голов. Несколько человек плюхнулись коленями в грязь.
– Правильно, – одобрил их действия полковник, пригласил офицеров: – Пожалуйте в мотор, господа!
Когда Вырыпаев и Павлов уже сидели в автомобиле, несколько солдат, осмелев, в едином порыве двинулись к машине. Кто-то выкрикнул зло:
– Золотопогонники!
– Назад! – предупреждающе рявкнул полковник и, новой очередью из «люськи» отогнав солдат, скомандовал шоферу: – Вперед! Не мешкай!
Тот, не оборачиваясь, просипел простудно:
– Вы же хотели узнать, когда прибудет эшелон с казачьим полком.
– Я сказал: вперед!
Шофер скрежетнул рукоятью перевода скоростей, тронул машину с места, полковник глянул в окошко – не бегут ли следом за ними солдаты, и, разом успокоившись, протянул спасенным офицерам руку:
– Полковник Синюков!
– Капитан Вырыпаев!
– Поручик Павлов!
– Что же вы, господа, так неаккуратно сунулись на станцию, а? – укоризненно проговорил полковник. – Сюда, к солдатам, без пулемета ныне нельзя. Так недолго и голову потерять. Нехорошо, господа, нехорошо.
…Полковник Синюков теперь также находился в Самаре, образ жизни вел скромный, иногда появлялся в бывшем купеческом клубе, где сегодня располагалась столовая благотворительного общества Волжского коммерческого пароходства и можно было отведать качественной, еще довоенного производства, монопольки, свежей пробойной и дивной паюсной икры, кулебяки с визигой и нежной, приготовленной на пару стерляди. Хороши были и жареные сомовьи плестки – хвосты. Самое вкусное, что есть у сома, – плесток. Хвост, которым он лупит по воде, оглушая мелюзгу, а потом проглатывает ее сотнями, втягивает в себя, словно пожарный брандспойт воду.
Пласток у сома – нежный, вязкий, тает во рту, жарить его можно без масла, а если к этому жареву подать еще картошку фри, подрумяненную до корочки, либо пюре-растирушку по-крестьянски, на парном молоке, то никакая стерлядь под сметанной крышей с этим блюдом не сравнится.
Полковник Синюков к жареным сомовьим плесткам относился положительно.
Сом насадился на крючок прочно – хапнул его так, что зубастое острие крюка просекло ему голову едва ли не наполовину. Тем не менее сил от этого у сома не убавилось, он натягивал самодельную бечевку до звона – та звенела, словно гитарная струна, а вода под опорами моста вибрировала, будто наверху, по настилу шел бронированный поезд.
– Хоть и крестьянское это дело – ловить рыбу, а люблю я его, – блестя белыми зубами, признался Вырыпаев.
– Ну почему крестьянское? – не согласился с ним Павлов. – Не только. Господин Тургенев любил взять в руки удочку, граф Толстой Лев Николаевич также не брезговал… – Поручик неосторожно перехватил пляшущую бечевку, намотал ее на руку, чтобы удобнее выволочь сома с мелкотья на песок берега, но Вырыпаев поспешно сдернул бечевку с его руки.
– Поаккуратнее, Ксан Ксаныч, – предупредил он. – Сомы бывают сильны, как орудия крупного калибра. Запросто может отрезать вам кисть.
– Свят, свят! – поручик перекрестился. – Такое даже на фронте не всегда случается.
Они значительно выдохлись, прежде чем сом оказался на берегу. Но и на берегу он не успокоился – изгибаясь толстыми кольцами, заскакал, будто собака, по камням, зацепился бечевкой за лодку и сдернул ее с места.
– Нет, друг, дело так не пойдет, – сказал поручик, подбирая на берегу подходящий камень, – слишком уж буйно ты себя ведешь!
Он хряснул сома камнем по большому плоскому темени один раз, потом другой, третий. Сом согнул в баранку свое мощное тело, враз становясь старым, кожистым, слабым, хлопнул хвостом по борту лодки и затих.
– Во, поспи немного, – одобрил действия сома поручик.
Откуда-то появился дедок с просветленным взором и всклокоченной редкой бородкой, на лацкане ветхого рубчикового пиджака у него висела старая солдатская медаль, которую давали еще за Плевну[2]. Дедок вгляделся в сома и воодушевленно потер руки:
– А ведь это он, гад!
– Кто он? – не понял Вырыпаев. – Объясни, служивый!
– Да этот сом корову мою доил.
– Как это? – опять не понял Вырыпаев.
– Очень просто, ваше благородие. Пастух у нас забирает коров прямо с улицы, пригоняет сюда же, на улицу. Все буренки возвращаются полные, а моя каждый раз – пустая. Все время пустая. Ну, начал я, значит, за нею следить – неужели в городе нашелся такой оглоед-разбойник, который на глазах у всего честного люда доит мою корову? Ну, думаю, я его, этого любителя парного молочка, обязательно перепояшу ломом, – дедок храбро взмахнул своей коричневой, в темном крапе рукой, – он у меня долго будет помнить это молочко.
– Неужто сом? – догадался Павлов.
– Сом, – кивнул дедок. – Вечером, когда пастух возвращался со стадом домой, то, естественно, гнал его вдоль Волги, по берегу. Коровы-то и заходили в воду, чтобы напиться. И моя разлюбезная это делала – в аккурат вот здесь вот, у моста. Последний раз я не поленился, залез в воду ну и заметил, как от коровы сом отвалил… Вот гад!
– Молоко отсасывал? – Павлов удивился. – Да у него же острые зубы!
– Нет у него никаких зубов, ваше благородие, только щетка. – Дедок покосился на сома, лежавшего у лодки. – Когда этот вражина подохнет, сами увидите, что у него нет зубов. Вместо них – щетка. Правда, подохнет он нескоро, через несколько часов – лишь на закате. Сом ведь как змея – живет до захода солнца. Как солнце зайдет, так он и подохнет.
Дедок подошел к сому, нагнулся, ухватил его за один ус, подергал. Сом в ответ клацнул огромными жаберными крышками.
– Что, служивый, создала природа чучело? – не удержался от реплики поручик. – А?
– Бог много чего создал. Сом старый, годов пятнадцать ему будет.
– На жарево годится?
– Он и на котлеты годится. Очень вкусно это – котлеты из сомятины. С луком. М-м-ме! – Губы у дедка враз сделались маслеными, он почмокал, подвигал ими, сам становясь похожим на сома. – При определенных навыках и уху можно такую сгородить, что в ней ложка стоймя будет стоять. Не хуже, чем из осетрины. – Дедок выпрямился, вид его сделался озабоченным. – А вам, ваши благородия, подводу надобно-то добыть, чтобы вражину этого домой транспортировать. На себе вы его не доволокете.
– А мы и не собираемся волочь, – сказал Вырыпаев.
– Правильно, – одобрил дедок, – не офицерское это дело.
– Может, у вас есть подвода?
– У меня сейчас нет, она на хутор с бабкой отбыла, а вот у соседа есть. Могу попросить у него в порядке взаимной выручки. А вы ему за это сомовьего мясца подкиньте… Годится?
– По рукам! – сказал Вырыпаев, громко хлопнул своей ладонью о ладонь дедка. Он действовал как заправский купец, купец и добытчик, уже даже совсем не по-дворянски бить ладонью о ладонь.
Через двадцать минут на телеге, запряженной старым Воронком, чья шкура была сплошь изряблена шрамами от жестокого кнута, клочками седины и пятнами старых заживших язв, появился дедок и лихо скатился с песчаного взгорбка.
– Транспорт подан! – объявил дедок, остановившись около офицеров.
Втроем, с большим трудом, сопя и пачкаясь сомовьей слизью, они взгромоздили рыбину в телегу.
– Однако здоров, вражина, – довольным тоном произнес дедок, – отъелся, нехристь, на коровьем молоке.
Прошло еще двадцать минут, и сом был доставлен во двор купеческого особняка старухи Перфильевой, где квартировали офицеры. Павлов взял у прислуги топор и разрубил им живого, мелко подергивающего хвостом сома на несколько частей. Плесток отложил в сторону. С кухни тем временем принеслась грудастая ширококостная молодуха. Павлов отдал ей плесток. Повернулся к деду:
– Выбирай, служивый, любую часть!
Дедок с сожалением проводил молодуху, унесшую с собой плесток, и, вздохнув по-ребячьи, ткнул пальцем в здоровенный кусок, килограммов в десять, не меньше.
– Вот эту!
– Бери! – разрешил Павлов. Добавил, усмехнувшись: – Гонорар.
– Гонорарий, – хмыкнул дедок, с кряхтеньем подхватил кусок и поволок его к телеге. Уложил на старый чистый мешок – бабка недавно выстирала, словно бы специально, – сверху «гонорарий» прикрыл другим мешком, таким же старым и чистым, повернулся к офицерам и поклонился им в пояс. Произнес чисто, звучно: – Благодарствую!
Павлов в ответ махнул рукой; на жестком, с подобранными щеками лице его возникло что-то размягченное, далекое, словно бы дедок этот возник из его детства.
– Поезжай!
– А вы это… ваше благородие, вы мой адресочек запомните. Волжский проулок, три… Вдруг я еще понадоблюсь когда-нибудь.
– Как зовут-то тебя, дед?
– Игнатий Игнатьевич я. Фамилия – Еропкин.
Самара, несмотря на ночную стрельбу и мазуриков, жила в общем-то тихо. Война – обычная кровавая бойня, переросшая в самую страшную и беспощадную из войн, грохотала на севере и на юге, на западе и на востоке – везде, словом. А в Самаре все же не грохотала. Здесь и организация большевиков была сильная, и поскольку она ощущала свою силу, то хорошо знала, что при случае может сделать, – в общем, большевики здешние были миролюбивыми, а руководил ими человек крепкий – Валерьян Куйбышев.
Впрочем, офицеры, квартировавшие в городе, тоже были не слабенькими и так же, как и большевики, понимали, что произойдет, если сила схлестнется с силой. От этой сшибки вспыхнет и сгорит весь город.
А кругом шла война. И понятно было как божий день – Самару она стороной не обойдет.
В городе появились чехословаки. То ли беглецы, то ли лазутчики, то ли просто обычные побирушки, шатающиеся по дорогам войны, – не понять.
В своих куцых, словно бы специально укороченных шинелях, в кепи с отстегивающимися «ушами» и матерчатыми козырьками, горластые, кадыкастые, каждый, вооруженный двумя, а то и тремя ложками и увесистым котелком – главным своим оружием, они, даже если их и собиралось мало, производили впечатление большой грачиной стаи. Стаи, которая любит погалдеть, пожрать и погадить под ближайшим деревом. Ходить в сортир не обязательно: Россия – это ведь не Германия.
В плен их было взято видимо-невидимо, воевать под немецкими знаменами они не хотели да и побаивались, поэтому в плен чехословаки сдавались пачками – батальонами и даже целыми полками.
Лозунг, провозглашенный российским государем Николаем Александровичем: «Защитим братьев-славян!», чехи приняли на «ура». Поскольку пленных было много, а к немцам они относились так же, как и русские, было решено сформировать Чехословацкий корпус численностью в сорок тысяч человек – три дивизии.
Чехословаки очень неплохо дрались в середине семнадцатого года на Юго-Западном фронте, спасая самого генерала Корнилова во время крупнейшей наступательной операции, когда солдаты, разложенные братаньем и агитаторами, оставляли свои окопы и на фронте образовалась огромная дыра. Но после того как в Петрограде грянул залп «Авроры», чехи решили перейти в подчинение украинским властям.
В плен ни немцам, ни австрийцам чехословаки старались не сдаваться – и те, и другие их вешали без всякого суда и следствия. Как изменников. Когда немцы выдавили чехословаков из «самостийной» и они оказались в России. Хорошо организованные, любящие вкусно поесть и пощипать за толстые зады кухарок, превосходно вооруженные – нешуточная сила в только зародившейся Гражданской войне, где счет потерь пока шел на десятки… До тысяч дело не докатилось – это было впереди.
Троцкий предложил чехословакам вступать в Красную армию.
Те отрицательно покачали головами:
– Ни! Быть карателями, как латыши и эстонцы, мы не хотим, это противно нашему характеру. У нас на то жестокости не хватит.
В это время к Ленину обратилась Франция, которая просила сохранить хотя бы капельку верности союзническому долгу – несмотря на Брестский мир, уже заключенный, по которому Россия позорно выбыла из войны как проигравшая сторона, – и передать Чехословацкий корпус во Францию, на фронт, где немцы в это время давили так, что из французов только пузыри лезли.
Советская Россия согласилась: чехословаки были уже не соринкой в глазу – целым бревном. Такую опасную силу иметь у себя под боком, в доме, – номер смертельный. Оставалось решить один вопрос: как чехословаков переправить во Францию?
Самый простой путь лежал через Архангельск. Там был хороший порт, корабли Антанты отлично знали туда дорогу, она была проложена на всех морских картах, однако имелось одно «но»: чехословакам надо было предоставить коридор, который проходил через Москву, а кроме того, дальнейшая часть пути пролегала в непосредственной близости от Петрограда. А что, если этим ребятам вздумается пограбить две столицы? А заодно и сменить политическую власть?
Решили разделить чехословаков на четыре группы и отправить их в Европу дальним путем – через Владивосток.
Решение это стоило России дорого. Думаю, что Гражданская война не была бы такой затяжной и лютой, если бы чехословаков во Францию отправили через Архангельск или даже через Мурманск (тоже неплохой вариант). И что еще было плохо – эшелоны чехословакам почти не давали, а если давали, то при каждом удобном случае вагоны, которые были сплошь в дырах, загоняли в тупики, а самих пассажиров держали на голодном пайке…
И стали чехословаки расползаться по всей России. Будто парша по капустному полю.
В тот вечер в купеческом клубе появились трое чехословаков. В офицерской – старой, но вычищенной и отутюженной – форме. Держались они особняком, по-русски говорили хорошо, хотя речь их была какой-то каркающей, замедленной – русские люди по-русски так не говорят.
Чехословаки заказали пиво – в Самаре традиционно варили хорошее пиво – и кулебяку с рыбой. На большее не решились: может, денег у них не было, а может, желудки не принимали икру и отварную севрюгу.
Павлов внимательно осмотрел чехов:
– Не пойму, то ли это друзья-союзники, то ли враги-противники.
– А сейчас никто ничего не может понять, Ксан Ксаныч, все перемешалось: полосатое выдают за пятнистое, розовое за синее и так далее. Вы слышали, генерал Толстов с казаками осадил Астрахань?
– Слышал другое: атаман Дутов поднимает оренбургское казачество. На Дону тоже все готово вспыхнуть… Там, похоже, вообще затевается что-то грандиозное.
– Пора, пора, Ксан Ксаныч. Не то власть нынешняя уже здорово надоела.
– А появление чехословаков – это штука знаковая. Это нам словно кто-то знак подает.
– Куйбышев собирает свои части в кулак. Тоже знак.
– Правильно делает, грамотно. Если из оренбургских степей навалится Дутов со своими казаками, то Куйбышеву надо будет выставлять очень прочный заслон. Вот он и собирает своих людей в кучу.
– А Дутов навалится обязательно.
– Да, Ксан Ксаныч, Дутов навалится обязательно. Хотя бы ради пива из самарских пивоварен. – Вырыпаев не удержался, усмехнулся. – Атаман очень любит пиво.
– Как и эти вот… с длинными козырьками. – Павлов продолжал бесцеремонно разглядывать чехословаков.
– Вы напрасно относитесь к ним с неприязнью, дорогой друг. Думаю, чехословаки для нас – больше друзья, чем освобожденные из сибирского плена, из лагерей, немцы.
– Господин капитан, есть хорошая поговорка: «Поживем – увидим». Время все расставит по своим местам. – Павлов приподнялся на стуле и сделал приветственный жест рукой: – Господин полковник!
В дверях показался Синюков – круглоголовый, с красными, будто бы посеченными ветром щеками. Увидев Павлова, полковник кивнул, направился к столику, за которым сидели поручик и капитан Вырыпаев. Поздоровавшись, Синюков голодно блеснул глазами и потер руки:
– А я, господа, проголодался так, что могу съесть не только целую стерлядь – готов съесть пароход вместе с колесами и рулевым управлением. – Он пощелкал пальцами, подзывая к себе «человека» – кудрявого малого в желтой атласной рубахе, сделал ему заказ и, опершись локтями о стол, строго глянул на офицеров: – Ну-с, об чем ведем речь?
– Да вот, – Павлов показал глазами на чехословаков, – обсуждаем появление иноземцев в глухой Самаре.
Полковник покосился на чехословаков, прогудел в кулак:
– Это все неспроста.
В клубе было дымно. Тихий рокоток переходил от стола к столу. Из соседней комнаты доносилось звонкое костяное щелканье. Там офицеры, наряженные в штатские кургузые пиджачки – по революционной моде – и кителя со споротыми погонами, резались в бильярд.
Двое официантов принесли большой, натуженно пыхтящий – словно бы он готов был взорваться – самовар и поставили на соседний стол, где собралась группа однополчан-уланов. Уланов всегда можно было узнать по прямой, словно бы натянутой на доску спине и замедленной походке.
Хлопала входная дверь.
Вот она хлопнула в очередной раз, и на пороге появился человек в деповской форменной тужурке с петлицами на воротнике, при красной повязке, охватившей рукав. На ремне у деповского висел наган в большой кожаной кобуре. Медленно оглядев зал, деповский заметил чехословаков и, повернувшись к двери, приоткрыл ее. На пороге возникли двое рабочих с винтовками. Деповский – старший в наряде, скорее всего, представитель городского ревкома – кивнул на чехословаков. По выражению его лица было понятно, что произойдет дальше.
Рабочие подошли к столику, где сидели чехословаки.
– Допивайте, ребята, пиво, – по-простецки сказал им один из рабочих, седоусый, с косматыми серыми бровями, стукнул прикладом винтовки о пол, – а кулебяку эту прихватывайте с собой, каждый по куску, и потопали с нами.
Чехословаки поспешно допили пиво и, ежась, поднялись. Рабочие увели их.
– Убей меня бог, не пойму, как они здесь оказались. – Полковник налил водки в рюмку, залпом выпил. – Большевики же яро ненавидят их… Как пропустили? Ведь по России расставлено столько кордонов!
– Вот потому они их и арестовали.
– Исправили свою ошибку, значит?
– Так точно, господин полковник!
Полковник крякнул, подцепил на вилку крепкий, до сего времени успешно ускользавший от уколов рыжик, выпил и так смачно захрустел соленым грибом, что Вырыпаеву и Павлову захотелось сделать то же самое.
В соседнем помещении, откуда доносился стук бильярдных шаров, послышался шум, – очевидно, там играли по-крупному.
Синюков пальцем подозвал к себе кудрявого малого, стоявшего неподалеку от них с перекинутым через руку полотенцем, ткнул рукой в дверь бильярдной:
– Узнай, что за шум, а драки нету?
– Уже узнал.
– И что же?
– Прапорщик Дыховичный проигрался вдребезги. Теперь на кону «русская рулетка».
Полковник присвистнул и осуждающе покачал головой:
– Молодые дураки! – отведя голову назад, спросил: – И сколько же раз он в случае проигрыша должен крутить барабан револьвера?
– Три.
Прапорщику Дыховичному в последнее время вообще не везло: его оставила любимая женщина, укатила в Астрахань с капитаном единственного парохода, плавающего из Самары на Каспий и по Каспию в Дербент; из Парижа пришло письмо, что там, в квартире на бульваре Сюше, умерла мать прапорщика, бывшая замужем за колонелем[3], интендантом французской армии. Дыховичный скрипел зубами, мечтая добраться до колонеля – подозревал, что интендант приложил руку к этой трагедии. В довершение всего те несколько золотых пятнадцатирублевок, которые прапорщик отложил на черный день, в последние два часа перешли в карман другого человека – жгучего черноволосого корнета Абукидзе, мастера лихих финтов на бильярдном столе.
То, что корнет проделывал с шарами, вызывало удивление даже у опытных бильярдистов: вперившись глазами в катящийся по зеленому полю шар, он мог остановить его либо заставить свернуть в сторону. Иногда даже под прямым углом.
Такого проделывать в Самаре не мог никто. Где корнет обучился таким штучкам, было неведомо – вполне возможно, что брал уроки у великого Гарри Гудини.
Прапорщик тоже мог неплохо лупить кием, иногда с ходу загонял в лузу сразу три шара, но все равно от Абукидзе отставал; Удар у корнета-грузина был и хитрым, и железным одновременно. Он и сейчас упрямо наседал на обобранного Дыховичного. Хрясь! – и желтоватый костяной шар, украшенный цифрой 10, отскочил от нафабренного мелом кончика кия сантиметров на двадцать, по пути неожиданно остановился, будто бы споткнулся о преграду, затем медленно, под прямым углом покатился в сторону, в среднюю лузу.
Он катился все медленнее и медленнее, словно по пути терял свою силу, перед самой лузой сила в нем вообще сошла на нет, он должен был бы остановиться, но не остановился – в последний момент вдруг обрел резвость и буквально спрыгнул в лузу.
Вот чудеса! Колдовство какое-то!
Собравшиеся, затаив дыхание, следили за шаром, и, когда тот нырнул в сетку, раздался сожалеющий вздох – собравшиеся сочувствовали прапорщику.
– Ну что ж, осталось забить еще один шар, – довольно молвил Абукидзе. – За этим дело не станет. – Голос у него был высоким, с резковатыми бабьими нотками. Абукидзе глянул насмешливо на прапорщика и опытным глазом, будто Наполеон, окинул бильярдное поле.
Прапорщик в ответ молча кивнул.
Напоследок корнет решил слихачить – поразить собравшихся королевским ударом, когда шар превращается в снаряд и даже способен обломить бортик у бильярдного стола. Абукидзе обошел стол кругом и выбрал один шар, очень простенький шар, который можно было не то чтобы кием – пальцем закатить, такая примитивная это была подставка.
Абукидзе ударил резко, с лету, но шар, обычно послушный, делающий все, что желал хозяин, неожиданно позорно оторвался от сукна, пронесся с полметра по воздуху и вновь шлепнулся на бильярдное поле… Проскочив по всему пространству и не зацепив ни одного шара, он ударился о бортик и, отскочив назад, задел за оказавшийся на его пути шар.
Корнет сыграл так, как не играет даже ребенок – более чем плохо, и все же выдержка не изменила ему, и он в благодушной улыбке растянул губы, украшенные тоненькой ниточкой усов.
– Мой подарок вам, прапорщик, – сказал он, обращаясь к Дыховичному.
– Не надо мне никаких подарков, корнет. Подарки при такой игре оскорбительны… Возвращаю его вам. – Дыховичный, почти не глядя, ткнул концом кия в шар, и тот, загромыхав глухо, ткнулся в один шар, потом в другой, в третий и остановился. Дыховичный сделал легкий поклон в сторону Абукидзе.
– Больше, господин корнет, прошу не делать мне никаких подарков.
– Больше не буду, – с усмешкой пообещал корнет, неторопливо обошел бильярдный стол – чувствовал, стервец, что на его улице наступает праздник, отстрелил взглядом несколько шаров, поделил их на свои и чужие, примерился к одному, но не ударил, выпрямился с кием в руке – шар чем-то не понравился ему, остановился у другого шара.
Тишина возникла такая, что звук пролетевшей мухи был похож на рев подбитого «ньюпора», устремившегося к земле.
Корнет покосился в одну сторону, потом в другую – такая тишина ему нравилась, еще раз окинул взглядом зеленое суконное поле и, подняв кий, примерился ко второму шару.
Тишина сделалась еще более прозрачной, натянутой, тревожной, от подобной тишины у фронтовиков седеют виски, а в ушах начинает заполошно биться кровь: они прекрасно знают, что это такое – угрюмая звонкая тишина, в которой запросто может остановиться сердце.
Полковник Синюков первым засек эту опасную тишь, исходящую из бильярдной комнаты, потяжелел лицом и произнес короткое, похожее на пыханье мигом сгоревшего пороха:
– Ох!
– Что-то там происходит, – произнес Вырыпаев, лицо у него тоже сделалось тревожным. – Отвратительная штука – тишина, в которой слышно, как летают мухи.
За столом у них появился четвертый человек – подполковник Генерального штаба Каппель, с темно-русыми вьющимися волосами, аккуратной бородкой и внимательным взглядом. Говорил Каппель мало, если же говорил, то только по делу. Был он одет в чистый, хорошо отглаженный китель, с которого были спороты погоны; справа, на кармане, под клапаном, виднелись две крохотные дырочки – следы серебряных академических знаков. Каппель тоже прислушался к тишине, установившейся в бильярдной комнате.
– Это все от безделья, от того, что люди не знают, куда деть себя, – сказал он, – все мы оказались выбитыми из седла. Все без исключения.
– Верно, – Синюков вздохнул, налил себе очередную стопку водки, предложил водки и Каппелю, но тот отказался, – мы были нацелены на войну до победного конца, а в результате получили сапогом по морде. Тому, кто готовил позорный Брестский мир, я бы оторвал все, что висит ниже пояса, – полковник, ожесточась, сжал пальцы в кулак, оглядел побелевшие костяшки, словно хотел ими ткнуть кого-нибудь из сидящих за столом, – или бы вообще всадил пулю между глаз… Ох, всадил бы.
– История всадит эту пулю, – спокойно отозвался Каппель, – история ничего не прощает. За все потребует ответа.
– Ну, те, кому надобно отвечать, на это просто-напросто плюют, – поморщившись, будто от боли, произнес Вырыпаев.
– Совершенно напрасно. Я бы на месте этих господ-товарищей истории очень боялся. И относился бы, извините за дамское словечко, трепетно. Шляпу при встрече поднимал бы за два квартала…
Тем временем корнет Абуладзе ударил по шару. На этот раз он продемонстрировал удар настоящего мастера – шар точно пошел в лузу, по дороге столкнулся со вторым шаром, который сделал неожиданный рывок в сторону и нырнул в другую лузу. У Дыховичного не осталось ни одного шанса на выигрыш.
Он побледнел, по-боксерски подвигал нижней челюстью из стороны в сторону, словно ожидая прямого удара в лицо, глянул корнету в глаза.
Тот приподнял плечо и произнес с зажатым, будто запиханным куда-то в грудь смешком:
– Крутите барабан, прапорщик, исполняйте свой долг.
– От исполнения долга я никогда не отказывался. – Прапорщик положил кий на стол, достал из кармана аккуратный револьвер, взятый им на фронте у убитого оберста, с тихим клацаньем разъял ствол. Револьвер был ухожен, в пустых гнездах барабана не было ни одного патрона.
Прапорщик протянул руку к собравшимся.
– Один патрон, пожалуйста! Взаймы… Прошу вас!
Никто не дал прапорщику патроны, ни одного… Оружие было у многих, и патроны были. Люди отводили глаза в сторону и отрицательно качали головами. А артиллерийский поручик Булгаков подошел к корнету и попросил:
– Сведите все к шутке, пожалуйста! Не хватало еще ради каких-то глупостей играть в «русскую рулетку».
Вместо ответа Абуладзе усмехнулся, произнес жестко и одновременно высокомерно, с некоей брезгливостью:
– Играть надо лучше! – сунул руку в карман, вытащил оттуда револьвер – другой системы, не такой, как у Дыховичного, но того же калибра. Вытряхнул из барабана один патрон. – Держите! – произнес он убийственно вежливым тоном.
Дыховичный перехватил патрон, сунул его в барабан револьвера, пальцем крутнул барабан и в ту же секунду поднес ствол к виску. Нажал на курок.
Звонко клацнул боек, всаживаясь в пустоту гнезда, – всадившись, отскочил назад, на исходную позицию. Дыховичный снова крутнул пальцем барабан и вторично нажал на спусковую собачку револьвера.
Выстрела опять не последовало. На щеках Дыховичного появились розовые, пятна, он словно начал оживать, корнет Абуладзе, наоборот, побледнел, на лбу у него выступили капли пота. Дыховичный вновь резким движением пальца прогнал барабан вокруг оси, приставил ствол к виску и надавил на курок.
По тому, как дрогнул воздух в бильярдной, стало понятно – сейчас произойдет непоправимое. Раздался выстрел.
Лицо у Дыховичного сделалось плоским, как доска, даже нос и тот втянулся внутрь, остались две черные страшные дырки ноздрей. Пуля снесла Дыховичному половину головы, он, выронив револьвер, взмахнул руками и грохнулся спиной на пол.
Услышав выстрел, полковник Синюков выскочил из-за стола и стремительно – от полнеющего тела трудно было ожидать такой прыти и слаженности движений, но что было, то было, и такое проворство вызывало уважение: Синюков умел в пиковые минуты преображаться, – в следующее мгновение влетел в бильярдную комнату.
Вернулся оттуда мрачный, вытер руки салфеткой.
– Прапорщик Дыховичный… – сообщил он. – Самострел.
– А причина? – спросил Каппель. Он не знал, что происходило в бильярдной.
– Формально – бильярдный проигрыш. Проиграл этому подонку из Грузии, корнету Абуладзе. На деле же причина более глубокая. Потеря ориентиров, потеря цели и как окончательный результат – потеря России. Что может быть хуже!
Лицо у Каппеля потемнело, он отставил в сторону тарелку.
– Скоро начнется лютая война, – неожиданно произнес он, – очень затяжная, жестокая.
Синюков на слова Каппеля не обратил внимания.
– Жалко Дыховичного, – сказал он. – Славный был молодой человек.
– Славный, – согласился Каппель. – Я с ним сталкивался.
– Половину бильярдной забрызгало кровью. – Синюков проводил взглядом трех половых, которые бегом с шайками в руках проследовали в бильярдную комнату. – Вот и пролил Дыховичный кровушку свою во славу России. – В горле у Синюкова что-то булькнуло, глаза сделались влажными.
Люди начали подниматься из-за столов: клуб могли окружить ревкомовские патрули, оставаться здесь было нельзя. Если окружат – начнется такая матата, что… Проверка документов, обыски, чужие пальцы будут выворачивать наизнанку портмоне, а матросы с потными чубами, прилипшими к крутым лбам, станут составлять протоколы. Попадать в кастрюлю с этим супом не хотелось никому.
К черному ходу, чтобы покинуть клуб через него, поспешил и корнет Абукидзе. Тонкие губы его были плотно сжаты, глаза полуприкрыты тяжелыми веками, вид он имел какой-то болезненный, сонный. Корнета перехватил прапорщик Ильин, однополчанин Дыховичного по отдельному пехотному батальону.
– Ну что, корнет, довольны? – враждебно спросил он.
Абукидзе приподнял одну бровь.
– Дыховичный рассчитался за проигрыш, и только, – сказал он.
– И только?
– Ничего другого за этим нет. Ни ссоры, ни недомолвок, ни неприязни.
– Из-за каких-то жалких бильярдных костяшек вы позволили человеку расстаться с жизнью? Не остановили его?
– А вы где были, прапорщик? Могли бы остановить.
– К сожалению, я появился только что, – голос у Ильина зазвенел горько, – роковой выстрел уже прозвучал.
– Так что я здесь ни при чем. – Абукидзе ловко обогнул прапорщика и вышел на улицу.
Утром следующего дня по городу на простой телеге, едва прикрытой куцым брезентовым полотном, провезли тела трех чехословаков, арестованных накануне в клубе: их сочли лазутчиками и расстреляли во внутреннем дворике – специально огороженном, глухом – городской тюрьмы.
На нескольких заборах, примыкающих к зданию ревкома, появились распоряжения, в которых населению было объяснено, за что были расстреляны «братья-славяне».
– «За шпи-о-наж», – по слогам прочитал Павлов, остановившись у одного из таких распоряжений.
– Ну все, – мрачно проговорил Вырыпаев, – теперь жди сюда гостей. Странно, что Куйбышев, осторожный человек, пошел на это.
Куйбышева в Самаре не было, он находился в шестидесяти километрах от города, пытался организовать оборону: сведения о том, что со своими казаками поднялся атаман Дутов, взял Оренбург и теперь идет на Самару, были проверенными. Атамана предстояло во что бы то ни стало остановить.
– По мне, чем хуже – тем лучше, – заметил Павлов, сорвал листок с распоряжением с забора, хмыкнул одобрительно: – А грамотно научились писать, стервецы. Складно. Литературная гостиная, а не ревком.
– Ах, Ксан Ксаныч… – укоризненно произнес Вырыпаев, – скоро начнется такое, что люди вообще про грамоту забудут.
– И что же начнется, господин капитан?
– Самое страшное из всего, что может быть – гражданская война.
– По мне, я уже сказал: чем хуже – тем лучше. Я не приемлю новую власть. Впрочем, старую, Керенского, Гучкова и прочих, вплоть до современного государя, тоже не очень жаловал. Слабые все это люди… Были… Не люди, а людишки. – Павлов скомкал революционное распоряжение, швырнул его под ноги. – Были… Все в прошлом.
– Что же вы, Ксан Ксаныч, – вновь укоризненно проговорил Вырыпаев, вскинул голову. – Ощущаете, как сильно пахнет в городе сиренью?
– Я не только это ощущаю, я еще слышу, как поют соловьи.
Над Самарой плыли розовые летние облака. Ничто не предвещало ни войны, ни беды, но люди чувствовали и войну, и беду, а одно неотъемлемо от другого, свилось в тяжелый черный клубок. Уйти от этого накатывающегося вала было невозможно.
На берегу реки Самары стояли со сбитыми замками купеческие лабазы – в них глазастые патрули ревкома искали припрятанные пулеметы, но ничего, кроме небольших запасов пшеницы-перерода и проса, не нашли, обнаружили также съеденные мышами корабельные канаты. Целые бухты смазанных салом канатов – чтобы лучше скользили – со стальным проводом, проложенным внутри канатов для прочности, были съедены до самой середки. На земле лежала голая, с приставшей трухой проводка, и все.
Кто-то испохабил памятник Александру Второму – белой краской покрасил покойному самодержцу усы, и это почему-то вызывало истерический смех у залетных матросов, охранявших ревком. Сами матросы с удовольствием трескали в Струковском саду моченые арбузы и очень хвалили продукт, запивали его вонькой водкой неизвестного производства. Беда бедою, а жизнь жизнью. Жизнь шла.
Расстрелянных чехословаков ревкомовцы закопали на Кинеле, на песчаном берегу вздорной, во время летних суховеев становившейся совсем крохотной речушки.
Молодые люди, которым ни войны, ни революции были нипочем, плавали на лодках к живописному камню, откуда и Волга, и степь здешняя просматривались едва ли не до Царицына; гимназисты занимались тем, что ловили в Самаре и в Соке щук-травянок и вели разговоры о будущем. Поговаривали, что офицеров, осевших в Самаре, пошерстят, отберут у них оружие, но этого пока не произошло.
Лето ожидалось лютое – если подуют степные ветры, то сожгут не только все хлебные посадки, сожгут даже огороды, где никогда уже не вырастут ни огурцы, ни помидоры, а мелкие речки Моча, Безенчуг и Чагра высохнут до дна, ничего в них не останется, только пыль, и будут ходить по руслам этих речек задумчивые верблюды в поисках занесенных туда жестким ветром клубков перекати-поля.
Похоронить прапорщика Дыховичного на городском кладбище не позволили – самоубийца! Самарский благочинный высказался против, переговоры ничего не дали, и Дыховичного похоронили за кладбищенской оградой. Благочинный против этого не возражал.
Через два дня после похорон в Струковском саду нашли Абукидзе – корнет валялся в срамных кустах, куда любили оправляться обожравшиеся моченых арбузов матросы, с простреленной головой.
– Собаке – собачья смерть, – узнав об этом, проговорил Павлов, как всегда, резко – он был открытым человеком, без карманов, куда всегда можно что-нибудь спрятать, а потом, в нужную минуту, выудить пару козырных картишек и сделать партию, – он и резко высказывался, и резко мыслил.
– Вы – максималист, Ксан Ксаныч, – по обыкновению мягко произнес Вырыпаев.
Каппель, сидевший с ними за одним столом, деликатно промолчал.
Появившийся с опозданием полковник Синюков, как обычно, был шумен:
– Господа, вы слышали, к Самаре приближаются чехи.
Значит, все-таки не атаман Дутов, а чехи.
– Не надо было расстреливать тех трех несчастных, и любители шпикачек двинулись бы на Казань. – Павлов сжал пальцы в кулак, легонько постучал им по краю стола.
– Что будет делать господин Куйбышев? – спросил Вырыпаев.
– Товарищ Куйбышев, – поправил Синюков. – Для начала попробует подтянуть к городу войска Урало-Оренбургского фронта, который он создал, чтобы защищаться от атамана Дутова.
– Вряд ли успеет, – подал голос молчавший Каппель.
– В Самаре только что создано новое правительство, называется Комуч – Комитет членов Учредительного собрания… Комуч объявил местный ревком вне закона, готов поддерживать советскую власть, но только без большевиков, и командующий Урало-Оренбургским фронтом Яковлев уже перешел на сторону Комуча.
– Браво! – похлопал в ладоши Синюков. – Что же вы молчали, подполковник?
Каппель улыбнулся краешком рта:
– Так получилось.
– А почему не слышно выстрелов? – спросил Павлов.
– Выстрелы еще будут. – Каппель улыбнулся вновь, спокойное лицо его посмуглело, глаза обрели блеск, он придвинул к себе тарелку с жареной осетриной, приправленной топленым сливочным маслом и крошеным куриным яйцом, взялся за вилку и рыбный нож, но есть не стал, обвел глазами офицеров. – Создается добровольческая военная дружина. Советую в нее вступить.
Доесть им не удалось. На улице раздалась пулеметная очередь, от грохота выстрелов в клубе задзенькали стекла. Павлов стремительно поднялся, бросился к окну, поспешно оттянул тяжелую темную портьеру.
По улице пронеслась бричка, на козлах сидел парень в нижней рубахе и кожаной фуражке, украшенной красной звездой, в саму бричку был закинут станковый тупорылый «максим». Чтобы пулемет не ерзал по сиденью, его загнали в цинковое корыто, в каких обычно купают детей. Около «максима» возился, что-то крича, крепкий белозубый мужик с растрепанными волосами. Лошадь, запряженная в бричку, была взмылена.
Белозубый красноармеец приложился к пулемету, саданул очередью вдоль улицы – только пыль поднялась да где-то неподалеку заполошно залаяла собака. На соседней улице ахнул взрыв, следом – другой. В обеденный зал клуба вбежал Ильин, отер потный лоб. Выкрикнул:
– Чехи уже захватили мост через Самару!
Новость эта была грому подобна. Хоть и ожидали ее, а все равно она стала неожиданностью.
Пронеслась бричка с пулеметом, и на улице, где располагался клуб, все стихло. А вот на соседней улице стрельба сделалась густой, частой – там ревкомовцы вступили в тяжелый бой с группой прорвавшихся в город чехословаков.
– Эх, друг Дыховичный, вот сейчас ты бы пригодился в самый раз, – пробормотал Ильин, смахивая пот с загорелого лба. – Жаль!
В клубе вновь зазвенели стекла – неподалеку взорвалась граната. Покидать сейчас клуб было нельзя – легко можно попасть под осколок или пулю. Едва ли не все повскакали со своих мест – метались теперь по залу, стараясь угадать, где прозвучал очередной взрыв, лишь Каппель продолжал сидеть на месте, спокойно орудуя вилкой и ножом, словно все происходящее его совершенно не касалось.
Павлов восхищенно глянул на него:
– Ну и выдержка у вас, господин подполковник!
В ответ Каппель махнул рукой:
– Пустяки!
– У меня такое впечатление, что вы очень хорошо знаете, что будете делать завтра.
Каппель не удержался, улыбнулся:
– Совершенно верно, я это очень хорошо знаю.
На улице, стреляя на ходу, пронеслись несколько всадников, одетых в чешскую форму, в плоских фуражках – английских, перехваченных внизу, под подбородком, ремешками, потом неожиданно раздался многоголосый вой.
Вой этот заинтересовал даже Каппеля, он отставил в сторону тарелку, прищурился выжидающе: что за психическая атака?
Разгадка оказалась проста: несколько потных лабазников, чьи амбары недавно шерстили ревкомовцы, гнали по улице усталых мужиков, по виду деповских рабочих. Лабазники размахивали кольями и выли, но близко подступиться к работягам боялись – те были вооружены маузерами, и хотя они не стреляли – похоже, кончились патроны, – все равно подступиться к ним было боязно, и лабазники только выли протяжно да крутили в воздухе дубины. Один из рабочих прихрамывал, мокрое лицо его было тоскливым – понимал, что лабазники не отступятся от них, обязательно достанут.
– Гу-у-у-у! – вопили те, загребая сапогами пыль.
Мимо них проскакали несколько всадников-чехословаков, сверкнул один клинок, потом другой, и рабочие упали – чехословаки зарубили их. Выстрелов не было – магазины маузеров у деповских рабочих действительно давно опустели.
Тот, который прихрамывал, пытался после удара клинком приподняться – половина его лица была окровавлена, лохмот кожи вместе с отрубленным ухом лежал на плече, но лабазники подняться ему не дали, злобно заработали палками. Каппель, увидев это, покачал головой и произнес тихо и грустно:
– Камо грядеши[4], Россия?
В тот день лабазники чуть не изловили самого Куйбышева – если бы не подоспела подмога, убили бы.
Позже, через несколько лет Куйбышев отметил этот факт в своих воспоминаниях: «Меня хотели схватить разъяренные против большевиков обыватели…»
Красноармейцы и ревкомовцы покинули Самару. На дворе стояло 6 июня 1918 года.
Власть в городе окончательно перешла к Комучу – Комитету членов Учредительного собрания, в который вошло пять человек – Климушкин, Нестеров, Вольский, Фортунатов и Брушвит.
Первое, что сделал Комуч, – провозгласил себя единственным законным правительством на «освобожденной территории» – официально, через печать – и объявил мобилизацию в Народную армию.
Красный флаг, реявший над зданием ревкома, чехословаки расстреляли из винтовок, с перешибленным пулями древком он упал на землю. Встал вопрос: какой флаг вешать вместо красного?
Депутат Учредительного собрания Климушкин озадаченно почесал затылок:
– Может, красно-сине-белый? Но это – торговый флаг, этакий намек на то, что мы хотим продать Россию, а мы совсем не хотим ее продавать… Оранжево-черный, Георгиевский? Но это – военный флаг… Мы же совсем не хотим войны, мы – мирные люди. Тогда какой же? Пусть останется красный флаг, цвет нашей крови! – Климушкин оглядел своих товарищей, членов Комуча, и спросил: – Кто «за»?
Руку он поднял первым. Следом за ним за красный флаг проголосовали и остальные – не было ни одного голоса против.
Над зданием Комуча вновь взвился красный флаг.
Дальше Климушкин повел речь совсем неожиданную:
– Большевики утекли из Самары, их нет, но жены-то остались! Жена Цурюпы, жена Брюханова, жена Кадомцева, жена Юрьева…
– Что вы предлагаете? – спросил нетерпеливо Брушвит.
– Арестовать их и выслать к мужьям, в Сибирь… Без права возвращения в Самару.
Так и сделали. Жены руководителей Советов держались тесно, угрюмо, на вопросы не отвечали; у Климушкина, прибывшего поглядеть на них, спросили ехидно:
– Ну что, мануфактура, с бабами теперь будешь воевать?
Климушкин смутился и поспешил ретироваться.
Тогда арестованные жены поперли на конвой:
– Расстреляйте нас! Расстреляйте!
Расстреливать их не стали – обменяли на депутатов Учредительного собрания, арестованных красными в Уфе.
Не только в Самаре новая власть решила жить под красным флагом, но и во многих других городах России. Старый флаг надоел, все, что было связано со старым строем, тоже надоело, народ требовал обновления. В Ижевске и Воткинске восстали рабочие-оружейники – люди с золотыми руками, умеющие и блоху подковать, и с иностранцами разговаривать на «ты»; они прогнали большевиков и решили строить свои Советы. Без большевиков. По улицам ходили с красными флагами, в бой также направлялись с красным флагом, друг к другу обращались прекрасным словом «товарищ», рождающим тепло и чувство общности, единения, главной своей песней сделали «Варшавянку» – с ней, если требовалось, поднимались и в атаку.
Половина рабочих с ижевских заводов воевала, вторая половина корпела у станков, обеспечивала тех, кто находился в окопах, оружием, боеприпасами.
Атаман Дутов тем временем взял Оренбург, следом – Уфу. Восстал Омск. Восстание там возглавил полковник Анатолий Пепелев – будущий генерал-лейтенант. За Омском восстал Томск. Вскоре заколыхала вся Западная Сибирь. Вспыхнул Северный Казахстан. Там объявились сразу три казачьих атамана, в том числе и самозваные – Анненков, полковник Иванов-Ринов, полковник Гришин-Алмазов, все – опытные фронтовики. В Забайкалье поднялся есаул Семенов, подмял под себя не только офицеров и часть иркутского казачества, но и монголов, и китайских хунгузов – отпетых бандитов, решивших половить в мутной российской водице свою «рыбку». В Уссурийске начал активно помахивать острой шашкой атаман Калмыков.
Во Владивостоке также вспыхнуло восстание, власть перешла к Временному правительству во главе с эсером Дербером.
Сибирь оказалась заполненной чехословаками. Они вмешивались во все дела, и в первую очередь – громили ревкомы, Советы и гонялись за большевиками, отлавливая их.
Троцкий, обеспокоенный тем, что чеки взяли большую силу, разослал по ревкомам и частям Красной армии свой приказ: «Все Советы депутатов обязаны под страхом ответственности разоружить чехословаков. Каждый чехословак, найденный вооруженным на железнодорожной линии, должен быть выгружен из вагонов и заключен в концлагерь».
Оказывается, и тогда слово «концлагерь» было уже в большом ходу.
В Пензе красноармейцы, получив грозный приказ Троцкого, окружили чешский лагерь. Чехословаки схватились за винтовки. Завязался бой. Терять чехословакам было нечего, они находились на чужой территории, и шансов на жизнь у них имелось немного. Чехословаки это прекрасно понимали и дрались, сцепив зубы. В результате разбили красноармейцев и свергли в Пензе власть Советов.
Этого им показалось мало – они передали по железнодорожному телеграфу в эшелоны, идущие на восток, что произошло в Пензе, и объявили Советы своими врагами. В итоге прямо в пути начали восставать чехословацкие эшелоны – сорок тысяч штыков, растянувшиеся на расстояние в две тысячи километров. Действовали восставшие умело, беспощадно, занимались не только тем, что громили красные отряды, но и грабили…
Брали все – от бабьих юбок и валенок до граблей и сенокосилок. Непонятно только, как они рассчитывали довезти этот товар до своей далекой родины.
На Дону, в Новочеркасске, собрался Круг Спасения Дона – приехали делегаты из ста тридцати станиц. Старики выдвинули нового атамана – генерала Краснова.
Краснов познакомил собравшихся со своей программой: коли уж единой России, как раньше, больше не существует, то Дон должен стать самостоятельной державой со своей властью и органами управления, заключить мирные договоры с Украиной и Германией, помочь Москве, своей бывшей столице, избавиться от большевиков и усадить там на трон нового царя. О Петрограде речь не шла вообще, Петроград казаки не признавали.
«Здравствуй, Царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону!» – такой лозунг провозгласил новоиспеченный атаман (Краснов был избран 107 голосами против 13 при 10 воздержавшихся).
Новый атаман предложил собравшимся свод законов – целый пакет, по которому вся власть между заседаниями Круга передавалась атаману. Он командовал Донской армией, регулировал внешние взаимоотношения, утверждал подзаконные акты, если таковые возникали, контролировал исполнение законов, назначал министров и судей.
Флаг был утвержден трехцветный, «полосатый матрас» – сине-желто-красный; герб оставила старинный: голый вооруженный казак, сидящий на винной бочке, как на лошади; гимн утвердили тоже старинный – песню «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон».
Из зала Краснова спросили:
– Почему вы стремитесь к единовластию? Может, лучше создать правительство, которое и распределит между собой обязанности – каждый министр будет тянуть свой возок, а?
Краснов сложил в кармане галифе фигу, но наружу ее не вытащил, ограничился лишь витиеватой фразой:
– Власть атамана на Дону должна быть единоличной – творчество никогда не было уделом коллектива. Мадонну Рафаэля создал Рафаэль, а не объединенный комитет художников, состоящий из полусотни бездельников.
В зале зааплодировали.
Делегатов, приехавших с верховий Дона, из станиц, где было полно инородцев, объявившихся в хлебном краю, чтобы подкормиться, интересовал вопрос: а может ли их превосходительство Петр Николаевич Краснов что-либо изменить в законах, им предложенных?
Краснов ответил в обычном своем духе:
– Могу, – и вновь сложил фигу в кармане, – могу изменить статьи о флаге, гербе и гимне. Можете предложить мне любой другой флаг – кроме красного, любой другой герб – кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, любой гимн – кроме «Интернационала».
Генерал Краснов казакам понравился – он был им ближе, понятнее, чем интеллигентный Каледин или вялый генерал Попов.
На огромной территории России, во всех ее углах поднимались, готовые противостоять друг другу, две огромные силы – белые и красные. Начиналась одна из самых страшных, самых опустошительных и позорных войн, которые только придумало человечество, – Гражданская. То там, то тут вспыхивали костры, на которых горели не тела – души человеческие.
В Самаре шла запись в Народную армию – ту самую, которая могла бы противостоять армии Красной.
Первыми в нее записались бывшие корниловцы. Из подполья вышла офицерская организация подполковника Галкина. Капитан Вырыпаев на удивление быстро сформировал отдельную конно-артиллерийскую батарею, получившую номер один. Корнет Карасевич занялся кавалерией.
Через два дня после ухода красных из Самары состоялось собрание офицеров Генерального штаба. Вопрос стоял один: кому возглавить первую добровольческую дружину, уже сформированную – ядро будущей Народной армии?
Председательствовал на собрании Галкин, сияющий, как хорошо начищенный самовар, в тщательно отутюженной офицерской форме, украшенной серебряным генштабовским знаком.
– Освобождение России началось, – торжественно провозгласил он, – союзники наши в этом благородном деле – доблестные чехословацкие воины.
Собравшиеся вяло похлопали подполковнику, тот поправил кончиком пальца усы и сообщил, что назначен командовать всеми вооруженными силами Самарской губернии.
– Если дело так и дальше пойдет, то скоро появятся командующие вооруженными силами волостей, уездов, сел, хуторов, – неожиданно язвительно заметил капитан Вырыпаев, сидевший в зале рядом с Каппелем. – Бедная Россия!
Каппель, лицо которого было печальным и сосредоточенным одновременно, вежливо кивнул.
– Россия пока еще не бедная, – помедлив, произнес он. – Бедной она еще будет. Ей столько предстоит пережить. – Сухие глаза Каппеля неожиданно сделались влажными. – И нам пережить вместе с нею, – добавил он.
Подполковник словно предвидел и свою судьбу, и судьбу России.
Галкин продолжал подробно рассказывать, какое оружие имеется на руках офицеров, что могут дать склады, что должно прибыть из Ижевска, с тамошних заводов, чем способны подсобить Уфа и уральский Екатеринбург…
Сообщение Галкина вызвало одобрительный рокоток.
– Вопрос последний, гос… господа, – сказал тем временем подполковник, поморщился, словно съел зеленый перечный стручок, и Каппель догадался, в чем дело. На первом заседании Комуча обсуждали болезненный вопрос: как обращаться друг к другу – «товарищ» либо по-стародавнему «господин» или же, как при Керенском, «гражданин», но пока так ни о чем не договорились. – Кто возглавит добровольческие части, и прежде всего – первую дружину?
В зале сделалось тихо. Никто не подал голоса, каждый будто примерял эту одежку на себя, смотрел, хороша она или нет, и отступал в сторону – блестящим офицерам, прошедшим Великую войну, как тогда в печати называли Первую мировую, не хотелось натягивать на свои плечи этот кафтан… Неведомо еще, какой он… Надо было выждать.
– Ну что же вы, гос… тов… господа? – вытянулся за столом Галкин, перевел взгляд на генерал-майора Клоченко, с надеждой всмотрелся в него. – Может быть, вы, ваше превосходительство?
Клоченко медленно качнул головой:
– Я – узкий специалист, моя профессия – артиллерия. Тут нужен опытный командир.
– Тогда кто?
В ответ – тишина. Пауза затягивалась.
Каппель вздохнул и поднялся со своего места.
– Раз нет желающих, то временно, пока не найдется старший, разрешите мне возглавить дружину, – произнес он и смущенно отвел глаза в сторону, посмотрел в окно, за которым ярилось красное вечернее солнце.
Каппеля знали не все. В Самаре он держался особняком, в буйных офицерских пирушках участия не принимал, по крышам с маузером в руке, дразня ревкомовцев, не бегал, в большевиков из-за угла не стрелял, и те не имели к нему претензий. При этом много времени проводил за книгами и образ жизни вел замкнутый.
Однако в зале находилось и несколько офицеров-корниловцев, воевавших в так называемом ударном полку. Они, в том числе и поручик Павлов, тоже оказавшийся в зале, знали Каппеля. К выпускникам Академии Генерального штаба Павлов отношения не имел, но ему было интересно, как будут развиваться события, и он пришел на собрание генштабистов.
– Браво, Владимир Оскарович! – воскликнул поручик и громко захлопал в ладоши.
Павлов был одним из немногих, кто знал Каппеля и до Корниловского ударного полка: на фронте им вместе пришлось пережить газовую атаку немцев. Хорошо, что у них оказались исправные резиновые респираторы с консервными банками воздухоочистителей – иначе погибли бы.
– Я тоже знаю Владимира Оскаровича Каппеля, – сказал Галкин и сделал легкий полупоклон в сторону подполковника – будто птица решила клюнуть зернышко, – я поддерживаю это предложение. – Галкин похлопал в ладоши. – Это – мужественный поступок.
…Иногда Каппель, находясь здесь, в Самаре, вспоминал свое маленькое, вконец разрушенное, разоренное временем и бедами имение, поставленный на кирпичное основание деревянный дом с большими чистыми окнами, которые никогда не закрывали ставнями – семейству Каппелей нечего было скрывать от глаз людских.
Вспоминал и дом в крохотном уютном городе Белеве, где он родился, – дом этот был еще меньше, чем в имении, – старый, с облупившейся краской и такими же, как в имении, тщательно вымытыми окнами.
Семейство Каппелей любило чистоту.
Отец – Оскар Павлович, мрачноватый, почти всегда погруженный в себя, говорил мало. Но бывали минуты, которые превращались в часы, когда отец снимал с себя всякие оковы, раскрепощался и рассказывал, рассказывал… Рассказать он мог много – Оскар Павлович во время турецкой кампании был ординарцем у самого генерала Скобелева. За взятие крепости Геок-Тепе в морозном январе 1881 года был удостоен ордена Святого Георгия – самой высокой воинской награды.
Именно в такие минуты откровений сын узнал то, о чем вряд ли бы ему поведали другие – как русские солдаты переходили зимние Балканы, как в пропасть срывались люди и лошади, как художник Верещагин[5] совершал вместе с войсками тяжелый переход.
Верещагин не боялся ни пуль, ни снарядов, которые в ту пору величали гранатами, ни мороза – под огнем расставлял свой складной стул и делал наброски. Вокруг кипел бой, люди кололи друг друга штыками, умирали, но Верещагин этого словно не замечал. От названий, которые произносил отец, пахло дымом, морозом, потом, порохом, горелым человеческим мясом – Чикирли, Казанлык, Имитли, Хаскиое… Но потом в отце срабатывал некий внутренний тормоз, и рассказчик, отерев рот рукой, замыкался, уходил в себя. В течение нескольких часов мог уже не проронить и слова.
Дед Каппеля также был георгиевским кавалером – крест он получил за оборону Севастополя. Был знаком с молодым артиллерийским поручиком Львом Толстым.
Ныне, по истечении времени, установить, кто были Каппели по национальности, невозможно. Многие говорят, что происходили они из прибалтийских немцев, а вот соратники Каппеля, ушедшие впоследствии в Китай, а потом в Австралию, утверждают, что Каппели были скандинавами.
Нести погоны на плечах – это, видно, было на роду у Каппелей написано, поэтому Владимир не задумывался о своей судьбе, не маялся в сомнениях, знал, кем будет – военным.
Окончил он Николаевское кавалерийское училище и в чине корнета был направлен служить в Польшу, под Варшаву, в 54-й драгунский Новомиргородский полк. В 1906 году, после событий печально известного 1905 года, полк был переброшен в Пермскую губернию – там объявилась крупная разбойная шайка бывшего унтер-офицера Лбова, терроризировавшая буквально всю губернию. Шайка, прикрываясь революционными лозунгами, умудрилась пролить столько крови, что против нее решено было бросить регулярное войско.
Расквартировали полк в большом селе – нарядном, богатом, голосистом, называвшемся Мотовилиха[6]. В селе был расположен пушечный завод.
Едва полк осел на зимних квартирах, как из Санкт-Петербурга, из военного ведомства пришло распоряжение о переименовании его в 17-й уланский Новомиргородский полк.
Директор пушечного завода инженер Строльман – старый, с седыми усами и ухоженной бородкой, насмешливо покусывающий кончик одного уса, – к драгунам, переименованным в уланы, отнесся строго. Он вообще считал офицеров, независимо от рода войск, обычными пустобрехами, годными лишь на одно – волочиться за дамскими юбками да пить водку фужерами. Строльман фыркал иронично, когда ему говорили о новых сельских постояльцах что-нибудь хорошее, он даже не захотел повидаться с командиром полка – боевым человеком, награжденным многими орденами… Когда с ним заводили об этом речь, директор доставал из кармана большой платок, словно хотел им, как полотенцем, вытереть руки.
– И этот – из тех же! – говорил он. – Прожигатель жизни! Командир большой кучи пьяниц и интриганов!
В его доме офицерам уланского полка в приеме было отказано.
– Раз и навсегда! – пафосно воскликнул Строльман. – С прожигателями жизни я не вожжаюсь!
Причина такой строгости скоро стала понятна: у Строльмана была на выданье дочь Ольга – девушка умная, воспитанная (много умнее и воспитаннее своего отца, исключая, правда, знания по пушечной части), очень деликатная, никогда не позволяющая себе произнести хотя бы одно неосторожное словцо по отношению к кому бы то ни было. Старик Строльман охранял ее пуще глаза.
Сейчас нам уже не дано узнать, как и где Каппель познакомился с Олечкой Строльман, но молва людская считает, что произошло это на уездном балу.
Как ни старался директор пушечного завода посадить свою дочь под колпак, огородить ее забором, заставить заниматься яблонями в собственном саду, а произошло то, что должно было произойти.
У Строльмана были свои виды на одного заводского инженера, человека бледной внешности, вдумчивого, из хорошей семьи. Старик несколько раз приглашал его к себе в дом, но инженер на Олю никакого впечатления не произвел: слишком унылый, много потеет, старомодное пенсне, прицепленное к журавлиному носу, будто бельевая прищепка, всегда мутное, захватанное, за стеклами даже глаза невозможно разглядеть.
Нет, этот молодой человек с инженерными погончиками на плечах был Оле совершенно неинтересен. Строльман только вздыхал и прикладывал платок к носу. Трубно сморкался.
– Олечка, ну, право, будь поласковее с ним, – просил он. – Ну пожалуйста!
Но Олечка ничего поделать с собой не могла, пыталась произносить какие-то ласковые слова, но вместо них рождались обычные деревянные, совершенно безликие фразы.
Совсем другое дело – корнет Каппель. Обаятельный, элегантный, с лучистым взглядом, умеющий интересно говорить, да и кончик носа всегда сухой.
Общались Ольга Строльман и Владимир Каппель через шуструю, тонконогую, похожую на синичку горничную. Очень проворная и хитрая была девушка, ей немало перепало серебряных рублей из скромного жалованья корнета.
Встречались Каппель и дочка Строльмана тайком и на большее пока не могли рассчитывать – Олин папенька по-прежнему не мог видеть бравых кавалеристов, морщился недовольно:
– Интриганы! В седлах спят, в седлах едят, в зубах ногтями ковыряют… Тьфу!
Как-то старика Строльмана вызвали в Санкт-Петербург, в управление, которому подчинялись пушечные заводы России. Поехал он туда с женой, поскольку возраст уже не позволял ему совершать такие поездки в одиночку. Дома оставалась лишь Ольга с шустрой горничной. Строльман почесал затылок, подумал о том, что домашнюю крепость надо бы укрепить хотя бы одним мужчиной… Пусть в доме Строльманов в отсутствие хозяина витает мужской дух…
Поразмышляв немного, директор пришел к выводу, что это будет совсем неплохо, и попросил старенького, давно уже вышедшего в тираж инженера Селезневского пожить немного в его «латифундии», присмотреть за хозяйством, за Олей, и ежели что, то и внушение сделать – без всякого, естественно, стеснения.
Селезневскому такое доверие польстило, он покивал головой, на которой смешно подрагивал пушистый белый венчик:
– Не извольте тревожиться!
С тем супруги Строльманы и отбыли в Санкт-Петербург. Рассчитывали они провести там не менее месяца – этот вызов был для них вроде дополнительного отпуска, тем более Строльману надо было проконсультироваться с врачами по части урологии и крепости сердечной мышцы: что-то «магнето», как он называл сердце, начало работать неровно: то убыстрит свой бег, то замедлит…
Стояла зима, роскошная, холодная, такая зима может быть только в России – с высокими прямыми дымами, вертикально уходящими в небесную высь, с хрупким рассыпчатым снегом, пахнущим молодой капустой, со звонким тюканьем синиц, с затихшими селами – каждая яблоня до уровня человеческого роста побелена известкой и заботливо укутана рогожей, чтобы комли не обгладывали зайцы.
Каппель любил такую зиму – она и под Тулой была такой же красочной, как и под Пермью. Когда он приезжал на рождественские каникулы из училища домой, то очень любил кататься днем на санях, а вечером – заглянуть в какой-нибудь теплый, с гудящей печью трактир, выпить пару стопок монопольки либо местного вина, которое тут гнали из яблок, вишни и крупных, как картечь, ягод черной смородины. Вино это, как сидр, продавали в бутылках, и оно, игривое, легко вышибало пробки…
Когда Строльманы отбыли в Санкт-Петербург, Оля и Каппель стали видеться чаще. Корнет, очень ладно скроенный, с мягкой улыбкой, нравился девушке, в нем было скрыто что-то колдовское, очень притягательное, заставляющее в сладком страхе сжиматься сердце. Оля как-то сказала об этом Каппелю, в ответ он только засмеялся…
Селезневский переехал в дом, поселился в кабинете директора, но что мог сделать этот старый подслеповатый хрен, когда двое молодых влюбленных людей тянулись друг к другу. Строгая Ольга Сергеевна призналась себе – она влюблена в корнета, и это признание далось ей непросто. А жизнь была такой прекрасной, таинственной, светлой, в ней было столько хорошего…
Ночью Мотовилиха погружалась в темноту – ни одного огонька, ни-че-го. Только в глубине ночи, там, где располагался пушечный завод, что-то басовито ухало, в небо взлетали белые пушистые клубы пара. Пар оседал на деревьях, делал их сказочными, громоздкими, иногда под тяжестью инея не выдерживали, трещали сучья, хлопали пистолетно, и тогда пушмы инея сползали с веток вниз, врубались в снег, взбивая султанчики нежного белого пуха; потревоженные деревья стонали сонно, сладко, и все вновь погружалось в тишину.
Смотреть бы да смотреть инженеру Селезневскому за молодой госпожой Строльман не в два глаза, а в четыре, но старичок, большой любитель поспать, упустил Ольгу Сергеевну.
Темной ночью к саду Строльмана была подогнана лихая тройка, запряженная лучшими лошадьми уланского полка. Оля, ожидавшая сигнала – стука в ставню, накинула на плечи шубку и, не издав ни одного звука, вышла из дома. В санях ее ждал Каппель. Тонконогие кони рванули с места, только снег тугим вихрем взметнулся следом, попробовал достать до задка саней, застеленных ковром, но куда там…
Венчание происходило в маленькой деревенской церкви, из которой после записи в церковной книге Ольга Строльман вышла Ольгой Каппель.
Утром Оля заехала домой, чтобы забрать свои вещи. Старик Селезневский только что проснулся, вытащил из ушей затычки, увидел подопечную с незнакомым офицером и едва не грохнулся в обморок, заморгал жалобно, на глазах у него появились слезы, рот скривился страдальчески. Ольга не выдержала, подскочила к старику и, будто девчонка-гимназистка, чмокнула его в щеку.
Молодые отправились в Петербург. Остановились у матери Каппеля – та очень обрадовалась, супруга сына ей сразу понравилась… Хотя Ольга была крайне встревожена: предстояло свидание и с ее родителями. Как они, совершенно не терпящие военных погон, воспримут Володю, кавалерийского офицера?
Встревожена была Ольга недаром: строгие родители закрыли перед молодоженами дверь дома, где остановились Строльманы, отказались принять. Старик Строльман приказал горничной даже захлопнуть за ними калитку и никогда не пускать на порог. Это было сурово.
Каппель до сих пор помнил озноб, пробежавший у него по коже – ему было очень жаль заплаканную Ольгу, от этой жалости на глазах появились мелкие слезинки, но он быстро справился с собой и повел жену к ожидавшему их возку.
Не приняли Строльманы молодоженов и на следующий день. Жить молодые остались у матери Каппеля, в ее небольшой квартирке.
Владимир стал готовиться к поступлению в Академию Генерального штаба. Старики Строльманы, прослышав про это, сделали неприступные лица, хотя и переглянулись довольно: они считали, что кавалерийский офицер только и умеет, что сабелькой сшибать макушки у репьев да сдергивать с головы кивер перед дамами, а Академия Генштаба – заведение серьезное, пожалуй, самое серьезное из всех учебных заведений России. Чтобы поступить в эту Академию, надо иметь отменные мозги.
– Может, простим их? Все-таки родная дочь, не чужая…
– Подождем, когда муженек ее в Академию поступит, – ответил супруге несгибаемый Строльман.
– А если не поступит?
– Тогда снова подождем.
Каппель был принят в Академию, и старики Строльманы оттаяли, признали его за своего. Директор пушечного завода облачился по этому поводу в парадный мундир и велел накрыть в честь зятя стол.
Жили супруги Каппели дружно. Ольга Сергеевна оказалась великолепной, очень бережливой хозяйкой, скромных денег, которые получал Каппель, им вполне хватало.
В 1909 году у супругов родилась дочь Таня, а в тревожном 1915-м, полном раненых, боли, невнятных новостей, запоздало приходивших с фронта, появился на свет сын Кирилл.
На фронт Владимир Каппель ушел в чине капитана Генерального штаба – обнял жену, прижался щекою к ее щеке, кончиками пальцев поправил тяжелый локон, свалившийся на висок, и прошептал едва слышно:
– Береги детей, Оля! – через несколько секунд, подождав, когда прекратит реветь паровоз, вставший в голову воинского эшелона, добавил: – Жди меня, ладно?
Ольга, у которой глаза были склеены слезами, прижалась к груди мужа, кивнула.
Должность, что Каппель получил на фронте, – адъютант 37-й пехотной дивизии, если по-нашему – заместитель начальника штаба. В самом конце военной кампании, завершавшейся для России печально, он стал начальником штаба. Несмотря на два ранения, полученные на фронте, на замены частей, когда командиров переставляли с места на место, как фигуры на шахматном поле, Каппель продолжал служить в одной и той же дивизии – 37-й пехотной.
С фронта он вернулся в чине подполковника, с ходу, без остановки, попробовал прорваться к своим, к жене и к детям, которые находились на Урале, в Екатеринбурге, но не сумел – застрял в Поволжье: туда была переброшена 37-я пехотная дивизия.
Уйти из части, махнуть к своим самостоятельно – означало бы дезертировать. А дезертиром Каппель никогда не был, ему даже само слово это было противно.
С Олей и детьми находились старики Строльманы. Директор пушечного завода уже пребывал в отставке, да и орудия ныне производили совсем иные, что привык отливать Строльман: старик был специалистом по пушкам времен осады Севастополя да по кремневым ружьям, а пушки сейчас начали производить скорострельные, безоткатные – загляденье, а не орудия. Вот Строльмана и отправили домой, на печку.
Заняты были старики тем, что помогали дочери воспитывать Танюшку и Кирилла… Жалко, не удалось Каппелю дотянуться до них, несмотря на то что он стремился хотя бы на двадцать минут попасть к ним – глянуть на детишек, обнять Ольгу – и назад, в Самару. После такого свидания можно в любой бой… Даже и последний.
Расстроился Каппель сильно, хотя виду не подал, в общении с товарищами был ровен, мог с ними выпить водки, закусить тугим, как сыр, осетровым холодцом, сыграть в городки, сходить на рыбалку… Одного он только не одобрял: не любил волокитничать и никогда не появлялся в компаниях веселых молодцов-ухажеров – был верен своей Ольге Сергеевне.
Часто он брал лист бумаги, доставал походную чернильницу-непроливашку, ручку со стальным австрийским пером и выводил тихо и грустно: «Милая моя Оля…»
На почту, чтобы отправить письмо в Екатеринбург, не спешил – знал, что оно все равно не дойдет. Взгляд его делался страдальческим, неподвижным, уголки губ горько опускались.
Ему очень хотелось увидеть жену, но это желание было невыполнимым. И вообще, он чувствовал, что не увидит Ольгу Сергеевну уже никогда.
Через сутки отряд Каппеля, в который вошли артиллерийская батарея, кавалерийский эскадрон, подрывная команда, а также группа чехословаков – сводный пехотный батальон под командованием капитана Чечека, выступил из Самары.
Стояло лето – милая пора. Начало июня. Все было зелено, безмятежное небо лоснилось от солнца. В распадках пели соловьи. Ах, как заливались, как пели профессора-соловьи, рождали в душах людей невольное щемление, восторг, что-то еще – радостное, надолго западающее в сердце, то самое, что превращает будни в праздник, облегчает дыхание и вообще помогает человеку ощущать себя человеком.
Командир взвода поручик Павлов с новенькой трехлинейкой, перекинутой по-походному через плечо, шагал в первом ряду сводной роты и слушал соловьев. Рядом с ним шагал прапорщик Ильин.
Поручик не знал, как зовут прапорщика, спросил – оказалось, так же, как и Павлова.
– А по отчеству как будет? – спросил Павлов. – Вдруг мы двойные тезки?
– Викторович.
– Жаль. Я – Александрович.
В километре от них на крутой зеленый бугор, похожий на старую татарскую насыпь, под которыми кочевники хоронили своих знатных воинов, выскочил конный разъезд красных – всадники хоть и далеко находились, а были хорошо видны, словно на ладони. Из походных порядков комучевцев раздалось сразу несколько выстрелов, винтовки бухали громко, азартно. Павлов на ходу развернулся и угрожающе взмахнул кулаком:
– Отставить!
– Почему? – выкрикнул кто-то возмущенно.
– По кочану да по кочерыжке. Стрелять бесполезно – все равно что в воздух… Рассев большой. Берегите боеприпасы.
Красные картинно развернулись на бугре и ускакали.
На круглом мальчишеском лице Ильина возникли багровые пятна – была бы его воля, он бегом бы понесся за неприятельским разъездом.
– Тихо, юноша, – придержал его за рукав Павлов. – Это мы сделаем чуть позже.
– Кто возглавляет красных, не знаете? – спросил Ильин.
– Да там ничего не поймешь, сам черт ногу сломает… Из штатских у них старшим сам Куйбышев, из военных – Тухачевский.
– Откуда он, этот Тухачевский? Из солдат-дезертиров? Разложенец? – голос у Ильина сделался звонким, будто у гимназиста, глаза заблестели: чувствовалось – попади ему сейчас Тухачевский в руки, он бы из него сделал такое… в общем, что надо, то бы и сделал. – А?
Павлов не ответил. Он обратил внимание, что за последние двадцать километров, когда они двигались походным порядком, не встретилось ни одного вспаханного поля. Поля заросли, на них – сорняки, трава, худая зелень да черные высокие остья засохшей полыни. И вороны. Кругом сидят вороны, ждут чего-то, недобро поглядывают на людей. Выло в этих птицах что-то колдовское, мистическое, рождающее в душе холод: сколько же человечины могут сожрать эти твари!
– Господи, сколько же ворон! – невольно воскликнул Павлов. Вопроса прапорщика он не услышал. – Это они на мертвечину прилетели. Война началась… Теперь мы будем молотить друг дружку до изнеможения. Так что птицам этим корма будет много – под завязку… Охо-хо!
Прапорщик растерянно покосился на стаю ворон, сидевшую неподалеку на берегу плоского дождевого озерца. Птицы были жирные, носатые, голенастые, уверенные в себе и в уверенности этой, не птичьей, казавшиеся беспощадными, страшными.
– Да, – подавленно произнес Ильин.
– Вот кто будет жрать нас.
Ильин протестующе мотнул головой: человек ведь устроен так, что до конца не верит в собственную уязвимость, в смерть, считая, что жизнь вечна и он будет жить вечно, и потом до изжоги, до коликов бывает разочарован…
– Интересно, красные дерутся за Россию или за что-то еще? – спросил Ильин.
– Думаю, что за Россию, – не задумываясь, ответил Павлов, – среди них есть немало неглупых людей. Только у них Россия одна, у нас – другая. Это две разные России. Хотя кровь у нас цвет один, общий, имеет.
– Тухачевский – он кто? – вернулся на старые рельсы Ильин. – Из наших?
– Говорят, из наших. Офицер.
– Чего же он в таком разе продался? Ведь что большевики, что немцы – едино.
Снисходительно улыбнувшись, Павлов поправил винтовку на плече – тяжела, однако, зараза!
– Надо поменьше читать газеты, прапорщик. Я не верю в то, что большевики заодно с немцами. Среди них немало русских людей. Думаю, что они – честные, Россию не продадут ни при каких обстоятельствах. У меня сосед по имению в Елецком уезде ушел к красным – Мишка Федяинов. Контужен был на фронте. Воевал так, как дай нам Боже воевать. Получил Владимира с мечами[7] и Святого Георгия. Я уже не говорю о разных заморских знаках отличия. Во всяком случае, французский орден Почетного легиона у него есть точно. Так вот, свои ордена он выкинул на помойку и пошел воевать за красных.
– А у красных есть свои ордена?
– Не знаю, – честно признался Павлов. – Должны быть… То же самое произошло, как я полагаю, и с Тухачевским. Что-то управляет этими людьми, а вот что именно – мне неведомо. Чтобы их понять, надо влезть в их шкуру.
Каппель тоже думал о Тухачевском. Он ехал впереди колонны на гнедом длинноногом жеребце, взятом из конюшни самарского ревкома – о коне в спешке просто забыли, – сумрачно поглядывал вокруг из-под защитного козырька полевой фуражки и размышлял о бывшем поручике Тухачевском: что же именно толкнуло поручика на ту сторону баррикад, какая такая сила? Каппель пытался себя поставить на его место и не находил ответа.
Говорят, у поручика этого есть редкостное увлечение – он мастерит скрипки. Сам подбирает для этого дерево, сушит, обрабатывает его, делает звонким. Из рыбьих костей варит особый прочный клей, точно такой же клей, но для других целей, варит из костей говяжьих и потом приступает к работе.
Скрипки, сказывают, получаются у него звонкие. Уступают, конечно, скрипкам профессиональных мастеров, но те, кто на них играл, ничего худого об инструментах, сработанных Тухачевским, не говорят. Воевал Тухачевский на фронте неплохо. Но одно дело – фронт, обзор не дальше соседнего окопа, и совсем другое – огромные российские расстояния…
К Каппелю запоздало приблизился на коне полковник Синюков – у него начала распухать, вздуваться правая нога, и полковнику из запасных коней батареи выделили бокастого, с лохматой мордой мерина.
– Красный разъезд видели, Владимир Оскарович?
– Видел. Они нас теперь до самой Сызрани не отпустят, будут держать за хлястик.
– А в Сызрани?
– А в Сызрани будет бой. Нам надо взять город. Там нас уже ждут. – Каппель усмехнулся.
До Сызрани нужно было добраться как можно скорее, иначе Тухачевский с Куйбышевым перегруппируют свои силы и первыми нанесут удар. Город надо брать, пока красные не опомнились. Чем быстрее Каппель окажется в Сызрани, тем лучше.
В строю, в соседней роте, Павлов заметил красивую девушку с бледным лицом и толстой золотистой косой, переброшенной через плечо. Одета девушка была в просторную солдатскую гимнастерку, перепоясанную брезентовым ремнем, и длинную, до щиколоток, юбку, сшитую из армейской ткани в рубчик. Идти в такой юбке было тяжело; командир второй роты, подполковник с точеным узким лицом, несколько раз предлагал девушке сесть на телегу, но она отказывалась – предпочитала тянуть походную лямку наравне со всеми. Девушку звали Варя Дудко, и была она сестрой милосердия.
На рукаве ее гимнастерки белела повязка, украшенная красным крестом. Единственное, на что удалось уговорить Варю, так это на то, чтобы ее тяжелую сумку положили на повозку. Варя вначале не соглашалась, но потом все-таки отдала сумку.
Девичье лицо с усталыми тенями, образовавшимися в подскульях, посвежело, посветлело, сделалось милым. Всякий раз, когда Павлов оглядывался, то видел Варино лицо.
Сызрань встретила каппелевский отряд хмурым молчанием – город словно вымер, не кричали даже горластые в эту пору петухи. Не было слышно лая собак.
– Это что же получается: большевики эвакуировали город и сами ушли? – пробормотал недоуменно полковник Синюков, глянул на молчавшего Каппеля, понял, о чем тот думает, и хмыкнул: – А может, у них голод, может, они не только петухов, но и всех собак уже поели?
Одну роту Каппель послал в обход города, она пошла слева – по оврагам и замусоренным долинкам, из которых горожане пробовали сделать свалку, и весьма преуспели в этом, вторую роту пустил справа, а перед городом выставил батарею Вырыпаева и скомандовал:
– Огонь!
Грохнул залп из четырех пушек. Снаряды с воем ушли в город. Каппель подозвал к себе командира подрывной команды – маленького капитана в мешковатой форме, развернул перед ним карту:
– Где здесь самое слабое место?
Капитан озадаченно приподнял плечо:
– Узнать можно, только попробовав красных на зуб. В бою.
– Это вовсе не обязательно. По моим данным, на станции Батраки скопилось несколько эшелонов. В вагонах – боеприпасы, винтовки, амуниция, на платформах стоят орудия, один эшелон – наливной. Ваша задача, капитан, – не дать красным все это угнать. Эшелоны должны остаться на станции. Задание ясно?
– Так точно! – весело ответил капитан, козырнул лихо, будто на учениях. С этой задачей он справится, она ему по зубам. Он даже помолодел – соскучился по настоящему делу.
– Возьмите, капитан, с собою взвод пехоты, – сказал ему Каппель, – своими силами вам не обойтись.
Капитану был выделен взвод Павлова.
Подрывная команда, пригибаясь, лощинками ушла в сторону от города, вместе с ней ушел и Павлов со своими людьми. Напоследок поручик остановился, поискал глазами симпатичную сестру милосердия, не нашел и, огорченно качнув толовой, побежал следом за взводом.
Батарея Вырыпаева обстреливала город недолго – не было снарядов, да и чего попусту разносить в пыль городские домишки обыкновенных обывателей – в лоб на город пошел чешский батальон Чечека.
Две роты, посланные Каппелем в обход Сызрани, ворвались на улицы города. Поднялась стрельба. Каппель спокойно ждал. Невозможно было понять, о чем он думает, что переживает – его лицо совершенно ничего не выражало, никаких эмоций, лишь посветлевшие глаза напряженно поблескивали, и все – больше никаких зримых примет, говоривших, что Каппель волнуется.
Главным должен быть не уличный бой, самые важные события должны произойти совсем в ином месте, и отзвук того, что произойдет, обязательно донесется до него. Каппель ждал.
…Подрывная команда тем временем достигла станции Батраки. Станцию венчало серое унылое здание – то ли вокзал, то ли железнодорожная контора, то ли еще что-то – какое-нибудь нужное путейское строение; на крыше серого здания был установлен пулемет.
Около пулемета горбился бородатый солдат в кожаном картузе и из-под руки озирал окрестности. Чаще всего он поворачивался в сторону города, откуда уже доносилась стрельба, а над домами поднимались сизые дымы.
Начальник подрывной команды из-за вагонов оглядел станцию – тут набилось не менее десятка эшелонов, уйти скоро они никак не смогут, в головах лишь трех составов стояли паровозы.
Рельсы надо было рвать около стрелок – закупоривать эшелоны на станции, только так можно задержать вагоны, груженные воинским и прочим добром. Но пока пулеметчик находится на крыше, минировать стрелки нельзя: он легко достанет подрывников, скосит, не морщась.
Все это начальник подрывной команды хорошо понимал и морщился недовольно. Подозвал к себе Павлова:
– У вас во взводе хорошие стрелки есть?
– Это первый бой, я пока еще не знаю, кто на что способен…
– Нужен хороший стрелок, который с одного патрона снял бы вон того дудака. – Начальник подрывной команды показал на пулеметчика.
– Можно попробовать. – Поручик стянул с плеча трехлинейку.
– Тут не пробовать надо, тут нужно действовать наверняка.
– Я же сказал – можно. – Павлов прикинул расстояние от вагона, за которым они стояли, до пулеметчика – получалось метров восемьдесят, не меньше. – У него второй номер должен быть.
– Второго номера, как видите, нет.
– Не растворился же он, в конце концов.
– Придется вам во время всей операций держать эту точку под прицелом, – сказал начальник подрывной команды, – если появится второй номер – снимите его. Иначе этот пулемет не даст нам заминировать рельсы.
Пулеметчик тем временем выпрямился, как будто специально приподнялся на цыпочки, сделался приметным. Павлов не удержался, хмыкнул:
– Молодец! – пристроил ствол винтовки на срезе металлического кронштейна, как на упоре – кронштейн этот словно специально был кем-то прикручен к стенке вагона, похоже, на него крепили сигнальный фонарь, плечом притиснулся к вагону, замер. В следующий миг протер пальцами глаза. – Главное, чтобы дудак этот, как вы его величаете, не шлепнулся головой вниз, а остался лежать на крыше.
– Главное – в него попасть.
– Тоже верно. – Павлов усмехнулся.
Стрельба в городе усилилась, в центре Сызрани что-то заполыхало, занялось сильно, в небо потек жирный черный дым.
Пулеметчик занервничал, оглянулся, ища кого-то глазами, не нашел; помял пальцы, словно ему было холодно. Павлов понимал состояние этого человека – он еще живет, ощущает жизнь каждой клеточкой своего тела, каждым крохотным нервом и не знает, что уже мертв, – однако то, что пулеметчик уже мертв, ощущала его душа. На войне часто так бывает – сознание само, без всяких подсказок, ощущает, что тело скоро будет пробито пулей. Так и здесь.
Павлов подвел мушку винтовки к низу груди пулеметчика, в разъем ребер. Пулеметчик сейчас стоял вполоборота к поручику, рассматривал что-то вдали, дуля своим ударом, как кулаком, должна будет отшвырнуть его назад, на крышу, что, собственно, и требовалось сотворить. Павлов сделал небольшую поправку на ветер и нажал на спусковой крючок.
Выстрел внимания людей, находившихся на станции, не привлек – слишком много стрельбы было кругом. Пулеметчик вскинул руки к небу и повалился на спину. Мелькнули его ноги в обмотках, в глаза ударили две мелких тусклых молнии – до блеска вытертые железные подковки, прикрученные к резиновым каблукам ботинок, и ноги исчезли. Ни пулеметчика, ни ног. Поручик отер со лба пот.
Начальник подрывной команды восхищенно воскликнул: «Лихо!», махнул рукой, подзывая к себе подчиненных, и первым побежал по железнодорожным путям. За ним устремились четыре человека, которые несли два ящика с толом; замыкал команду крупный, похожий на лошадь фельдфебель с круто выступающей вперед нижней челюстью. Фельдфебель передвигался прыжками, и в такт прыжкам у него внутри гулко екала селезенка.
Поручик продолжал следить за крышей.
Начальник подрывной команды оказался прав – за крышей надо было приглядывать: минуты через три там появился второй номер – губастый деревенский парень с бледным лицом, густо украшенным конопушками. Он захлопал суматошно руками, склоняясь над первым номером. Павлов взял конопатого на мушку.
Гулко бабахнул выстрел. Второй номер лег на крыше рядом с первым – сложился кулем и так, кулем, застыл около своего напарника.
– Мир праху вашему, ребята! – проговорил Павлов удовлетворенно и перекрестился. – Спите спокойно.
Он подумал о том, что перед ним были такие же русские люди, как и он сам, рождены той же землей и поклонялись тому же Богу – а значит, в нем обязательно должна родиться жалость к этим людям, но ничего не было – ни жалости, ни сочувствия, он чувствовал только пустоту, усталость да еще, может быть, желание выпить.
На станции по-прежнему было тихо. Из города же продолжала доноситься стрельба. Павлов расставил своих людей по всему периметру станции. С одной стороны, это было опасно – если завяжется серьезный бой, он не сумеет собрать их в кулак, а с другой стороны – вступать в бой в его задачу не входило, ему надо прикрыть подрывную команду.
Поручик глянул в сторону железнодорожных стрелок, где копошились подрывники, мысленно подогнал их: «Быстрее! Быстрее!» Губы у него шевелились сами по себе, словно поручик что-то произнес, но он ничего не говорил, лишь подумал о том, что жарко – все-таки начинается лето восемнадцатого года.
На станции по-прежнему все, вроде бы, было спокойно – никто не бряцал оружием, не бегал – ни рабочие, ни красноармейцы. Либо здесь силы незначительные, которым вести войну совершенно несподручно, либо находившиеся здесь люди, зная, что они прикрыты пулеметом, уверовали в собственную безопасность, либо было что-то еще… Поручик вновь глянул в сторону подрывников.
Те продолжали копаться: под рельсы, на главной стрелке, вырыв яму, подсунули ящик с толом, потом несколько брикетов взрывчатки рассовали под соседними стрелками, сводящими все колеи в две – одна колея вела в одну сторону, вторая в другую.
«Чего они там копошатся? – раздраженно подумал Павлов. – Время-то идет! Дорогое время…»
На руке, на ремешке, у него висели большие часы, переделанные из карманной луковицы – он подсмотрел на фронте у англичан, которые приезжали в окопы с инспекцией и все как один были с наручными часами. Павлов глянул на часы и удивился: а подрывники-то копошатся совсем недолго, всего три с половиной минуты… Напрасно он придирается к ним. Глянул на крышу – не появился ли там какой-нибудь сменный расчет? Если появится, а Павлов зевнет – расчет точно выкосит половину подрывной команды. На это пяти секунд хватит.
Крыша была пуста – ни одного человека.
На солнце наползло круглое, с провисшим тяжелым низом облако, принесло дождь. Через минуту на землю посыпалась тихая мелкая мокрота.
«Грибной дождь, – отметил Павлов, – у нас под Ельцом все куртины после таких дождей бывают полны грибов. Интересно, как там сейчас? Цел ли дом? Цела ли в Ельце гимназия, в которой я учился?» Воспоминания о доме родили у Павлова тяжелое щемящее чувство: почта не работает, ехать домой опасно, он не знает, что там происходит.
Если уж до дождя на станции не было никого видно – так, мелькнет какой-нибудь чумазый сцепщик с ведерком и молотком, иногда солдатик торопливо пробежит, лавируя между вагонами, и все, – то когда же посыпалась противная теплая мокреть, похожая на пар из котла, станция со странным названием Батраки и вовсе обезлюдела.
У станции не только название было странным – она сама производила странное впечатление. Обычно на станциях толкаются, пыхтят, пуская белые струи и хрипло гудя, паровозы-маневрушки, ругаются сцепщики, где-нибудь в углу сиротливой кучкой обязательно жмутся пассажиры, по перрону важно прохаживается усатый человек в красном картузе – железнодорожный начальник, – а здесь ничего этого не было. Ни пассажиров не было, ни служащих в форменной одежде, паровозы стояли – может быть, ими некому было управлять? Эта безлюдность, невольно бросающаяся в глаза незащищенность станции, рождала в душе беспокойство.
На крыше тем временем неожиданно показался еще один человек. Белобрысый парень в черной железнодорожной тужурке, украшенной блестящими форменными пуговицами, с растерянно пламеневшим лицом. Увидев убитых, он что-то залопотал, замахал руками.
Павлов поспешно взял его на мушку. Пожалел только, что больно уж глупо он ведет себя, наверное, никогда не был на войне, другой бы немедленно смылся с этого страшного места – растворился бы, не произнеся ни одного звука, – а молодой белобрысый железнодорожник словно специально искал смерти, очень неосторожно подставлялся под пулю. Павлов нажал на спусковой крючок винтовки.
Чернотужурочник вскрикнул надорванно и повалился на пулемет. Голова его с изумленно открытым ртом свесилась со щитка «максима» вниз, на каменную площадку закапала кровь.
Поручик выругался: все, конспирация на этом закончилась, сейчас первый же паровозный масленщик, увидев кровь, задерет башку и заорет так, что крик его не только в Сызрани будет слышен – его услышат даже в Самаре.
Хорошо, что хоть дождик капает, пока он будет нудно всачиваться в землю, люди постараются из помещения носа не показывать.
Ну что там телится подрывная команда? Павлов оглянулся вновь – подрывников не было. Он изумленно потер глаза: может, ему просто мерещится, что их нет, может, это оптический эффект мелкого противного дождя? Но нет – подрывников действительно не было. Павлов понял – сейчас рванет. Невольно сжался, делаясь ниже ростом.
Дождь пошел сильнее. В голове возникла нелепая мысль: а что, если у подрывников отсырели боеприпасы либо бикфордов шнур намок под дождем? Убогая, конечно, мысль, жалкая, но на войне в голову и жалкие мысли приходят.
Он почувствовал, как кожу на щеках и на лбу стянуло что-то клейкое, словно к лицу прилипла паутина, во рту сделалось сухо. Фронт научил Павлова ощущать опасность загодя, когда ею еще и не пахнет. Человек о ней не думает, а бренные кости, мышцы, сухожилия думают за него, ощущают боль, немоту, жжение, резь – то, чего еще нет, но может быть.
Поспешно оттолкнувшись от вагона, больно стукнувшись о большой круглый буфер, Павлов пробежал метров тридцать, перескакивая через рельсы, и прыгнул в замусоренную, забитую шлаком канаву.
В тот же миг дрогнула земля. В воздух полетели обломки шпал, несколько скрученных рельсовых нитей с грохотом всадились в бока вагонов. Кислый белый дым сдвинул в сторону дождевое облако, вагоны задергались, запрыгали, застучали лепешками буферов – музыка эта была чудовищной, рождала внутри дрожь. С одного из вагонов сдернуло крышу, и в прогал выплеснулось темное красное пламя, взвилось вверх.
Земля под Павловым дрогнула вновь, приподнялась, стараясь выбросить человека из ямы. Его винтовка зацепилась ремнем за какую-то железку, взлетела, будто ничего не весила, и рухнула вниз, больно ударив поручика прикладом по руке. Павлов боли не почувствовал, он вцепился что было силы в толстый оплавленный камень, вылезающий из-под груды шлака, по запястья влез в жесткие мелкие комки горелого угля. Ноги его все-таки выволокло из ямы, подняло, поручик задергал ими по-птичьи, а в следующий миг он, не удержавшись, приподнялся и сам, повис в воздухе всем телом, но висел недолго – свалился в яму.
За первым вагоном рвануло второй. С крыши серого станционного здания невесомым перышком слетел пулемет; труп убитого чернотужурочника с широко раззявленным ртом пронесся над вагоном, словно большая птица, и нырнул в раскаленное жерло первого вагона, из которого продолжало врываться пламя.
За вторым вагоном рванул третий, потом четвертый. Павлову показалось, что у него лопнули барабанные перепонки и из ушей течет кровь. Он застонал, провел ладонью по щеке, застонал сильнее, увидев ладонь, красную от крови. Выругался, не слыша своего голоса:
– Н-ну, подрывники, мать т-твою!
Подрывники были ни при чем, команда пожилого капитана сработала как надо – сдетонировали вагоны с боеприпасами, стоявшие почти у самой стрелки – главной, выводящей на магистраль – красные хотели этот эшелон увести со станции в первую очередь, и правильно сделали бы. Однако плохая осведомленность, слабая разведка, которая что у красных, что у белых была одинаково никудышной, противоречивые слухи плюс лень, нежелание лишний раз оторвать зад от скамейки – все это решило судьбу эшелона с боеприпасами: он на какие-то полчаса застрял на станции Батраки и погиб.
Следом снесло крышу с серого станционного здания; она с грохотом сорвалась, обнажая чердак, заваленный старой мебелью, опустилась прямо на железнодорожные пути, взбив целую скирду едкой пыли. Один из взорвавшихся вагонов въехал в серую стену, проломил ее и застрял внутри здания, раздавив сразу несколько человек.
В городе, словно отзываясь на станционные взрывы, также что-то сильно рвануло, потом взрывы повторились, и город загорелся. Послышался далекий колокольный звон – одна из церквей звала на помощь.
На станции среди горящих вагонов неожиданно мелькнул стремительный темный силуэт – пронесся лихой конник. Павлов узнал в этом коннике прапорщика Ильина, закричал что было сил, высовываясь из ямы:
– Саша! Саша!
Ильин не услышал его, растворился в пламени, в треске, в дыму. Поручик махнул рукой обреченно – запоздало вылез он из своей невольной схоронки… А Ильин наверняка привез какой-то приказ. Молодец, уже и конем успел обзавестись.
Через несколько секунд Павлов вновь увидел прапорщика – тот несся прямо на него.
– Ильин! – закричал поручик, высунувшись из ямы.
Прапорщик поднял коня на дыбы, навис над ямой и спрыгнул на землю. Смахнув рукой пот с закопченного, в черных потеках лица, он улыбнулся белозубо, выкрикнул что-то. Павлов слов не разобрал, но выкрикнул ответно:
– Что случилось?
– Ну и наворотили вы тут!
– Преисподняя! Я и сам не ожидал, что из двух жалких окурков подрывники такой фейерверк сгородят.
– Действительно, преисподняя… Вам велено со взводом перемещаться в город – в распоряжение самого Каппеля.
– Что в городе?
– Город наш. Красные отходят. Много пленных.
– Даже пленные есть? – Павлов удивился. В следующее мгновение удивление сменилось усталостью: гражданская война, как и всякая иная война – это не только стрельба и грохот взрывов, не только пули и мертвые люди, это и пленные… Русские люди в плену у русских людей. До чего дожили! Тьфу!
– Даже пленные, – подтвердил прапорщик. – Несколько сот человек. И артиллерию взяли.
– Много?
– Две батареи.
Подполковник Каппель, отправляя донесение в Самару, в Комуч, написал вечером того же дня: «Успех операции достигнут исключительно самоотверженностью и храбростью офицеров и нижних чинов отряда, не исключая сестер милосердия. Особо отличаю мужественные действия подрывной команды и артиллерии отряда. Последние, несмотря на огонь превосходящей артиллерии противника, били по его целям и позициям прямой наводкой, нанося большой урон и сбивая его с позиций. Красные вели свой огонь крайне беспорядочно, поэтому потери отряда невелики».
У поручика оказалась сильно рассечена локтевая часть правой руки – требовалась перевязка. Если в горячке боя он не чувствовал боли и не заметил кровь, просочившуюся сквозь ткань, то сейчас и кровь в глаза бросилась, и боль сильная появилась. Прапорщик Ильин, увидев залитый кровью рукав павловского кителя, настоял:
– Ксан Ксаныч, надо в соседнюю роту к фельдшерице. – Он, как и Вырыпаев, стал звать поручика Ксан Ксанычем. – Там очень толковая фельдшерица, может быть, даже лучше врача. Все так говорят… Надо к ней.
Павлов вспомнил, как на марше он все поворачивал голову, оглядываясь – искал и всякий раз находил милое женское лицо.
– Считаешь, что надо? – в голосе поручика проступила несвойственная ему робость.
– Надо, надо, – сказал Ильин. – Я даже узнал, как ее зовут. Варюха она.
– Варвара, значит.
Варвара Дудко заботливо мазала посеченные руки Павлова какой-то душистой прохладной мазью, пояснила:
– Мазь на травах. Заживет быстро, поручик.
– На мне все всегда быстро заживает. Как на собаке.
– Грех сравнивать себя с собакой.
– Простите, это я по-солдатски… Понимаю – грубо. – Поручик неожиданно смутился, извлек из распаха рубашки маленький золотой крестик, поцеловал его. – Грешен перед Богом.
– Перед Богом мы все грешны. – Варвара закончила перевязку, склонившись, завязала на бинте узелок, чтобы марля держалась, не сползала. Павлов ощутил, как пахнут ее волосы, внутри у него что-то дрогнуло, щеки сделались красными.
Он не ожидал, что это мальчишеское качество еще сохранилось в нем, думал, что фронт и годы давным-давно выбили ненужные здесь чувства, оставив только то, что необходимо на войне…
От Вариных волос пахло чем-то вкусным – то ли травами, то ли особым мылом, то ли еще чем-то, запах этот заставлял усиленно биться сердце.
– Все, – сказала Варя.
– Премного благодарен, – произнес Павлов смятенно.
Он хотел сказать что-то другое, найти иные, менее сухие слова, а произнес то, что произнес, и недовольно покрутил головой, не узнавая себя.
Прапорщик, находившийся в перевязочной, также не узнавал поручика, который почему-то вел себя скованно и был на себя совсем не похож.
Павлов поднялся, с трудом просунул перебинтованную руку в китель. Варя помогла ему.
Из перевязочной поручик выскочил стремительно, словно его ждали срочные дела, пронесся полквартала по кривой, хорошо утоптанной улице, остановился у дома, окруженного палисадником. Двинул прикладом трехлинейки в калитку.
– Эй, славяне! Есть кто живой в доме? – крикнул он зычно.
Неподалеку догорал какой-то сарай, вонючий белесый дым полз по улице, щипал ноздри, выдавливал из глаз слезы. Павлов закашлялся и вновь ударил прикладом по калитке:
– Славяне!
Поручик приподнялся на носках, глянул на частокол – в палисаднике цвело все, кажется, даже трава, непривычно ярко зеленевшая в углу, и несколько былок молодой крапивы, не говоря уж о даже нежных, с маленькими твердыми головками розах, начавших протискивать сквозь броню облаток кремовые пахучие лепестки. Каких только цветов тут не было!
На зов поручика явилась старуха с землистым перекошенным лицом и одним зубом, вылезающим из-под верхней губы.
– Чего надо? – хмуро поинтересовалась бабка. Ни войны, ни винтовок, ни белых, ни красных эта ведьма не боялась.
– Как чего? – в голосе Павлова появились недовольные нотки: и как это только старая яга не понимает, чего надо молодому человеку?
– Цветов!
– Цветы стоят денег, – сказала бабка.
– Рви! – приказал поручик.
– Сколько дашь? Только имей в виду – керенками я не беру. И царскими бумажками тоже не беру.
– А чем берешь?
– Золотом. Серебром.
– Ну, золото за этот полупрелый мусор… Это слишком.
– Мусор требует ухода. Можешь заплатить серебром.
– Сколько?
– Смотря сколько возьмешь цветов.
– Букет. Большой.
– Рублевку найдешь?
– Найду.
– Гони! И можешь рвать цветы. Сам. Я тебе верю.
Поручик сунул ведьме большой серебряный рубль с изображением родного батюшки последнего российского императора и перемахнул через изгородь.
– Только корни смотри не вырви, – предупредила ведьма.
– Не боись, бабка, не трепещи, все равно я ущерба нанесу меньше, чем на серебряный рубль.
Поручик набрал целую охапку цветов и перемахнул обратно через изгородь.
Дымы пожаров, висевшие над Сызранью, рассеялись, хотя и сильно пованивало гарью, но этот едкий дух изжить сразу нельзя. Он исчезнет, когда на пепелище вырастет кипрей, прикроет своими розовыми цветами изувеченную землю, останки жилья, чужую беду – лишь тогда этот мерзкий дух и истает.
По улице в сторону Батраков пронеслось несколько всадников. Павлов проводил их взглядом, подхватил винтовку и побежал к Варе Дудко. У той подоспела работа: привезли двух раненых. У одного – юного дружинника – было прострелено пулей плечо, он закусывал до крови губы, стараясь не стонать, у второго рана была попроще – ему прострелило ногу. Варя занималась с первым раненым, его надо было срочно оперировать: пуля воткнулась ему в кость и застряла там. Варя втолковывала помощнику – рябому санитару, где в Сызрани можно разыскать врача. Санитар бестолково топтался на месте, мял тяжелыми сапогами землю и повторял тупо, без всякого выражения:
– Дык… дык… дык…
– Я добуду вам врача, Варя, – сказал Павлов, – дайте мне на это минут десять.
Он извлек из-за спины букет и отдал его девушке.
– Это вам в знак благодарности за то, что избавили меня от боли.
Варя смутилась:
– Перестаньте, поручик, что вы…
– Держите, держите букет. Это – гонорар за лечение. – Павлов почувствовал, что лицо у него вновь сделалось горячим, пунцовым.
Варя тоже покраснела – не привыкла к цветам и подаркам. Павлов улыбнулся снисходительно и, увидев ведро с водой, воткнул в него цветочную охапку и приложил руку к козырьку фуражки:
– Разрешите выполнять задание! Через десять минут я буду с врачом…
Красные отступили в сторону Симбирска. Одна часть ушла на пароходах в Мелекесс, другая поспешно закрепилась в Ставрополе-Волжском[8], где стоял большой красный гарнизон – очень сильный, имевший артиллерию и пулеметы; кроме того, там были заранее вырыты линии окопов, как на фронте, в полный профиль – перемещаться по ним можно было не пригибаясь.
Каппеля не отпускала мысль о Тухачевском, он никак не мог припомнить, встречались они на фронте или нет – впечатление было такое, что все-таки встречались.
Из данных разведки он знал, что Тухачевский – мелкопоместный барин из-под Пензы, из Чембарского уезда, сейчас командует Первой армией, пользуется особым доверием у Троцкого и, судя по всему, у самого Ленина, в бою бывает сообразителен и сегодняшнее его поражение совершенно ничего не значит – Тухачевский себя еще покажет.
Только что на этом фронте назначен новый командующий – известный столичный сердцеед, бывший гвардейский полковник Муравьев[9]. Вот с Муравьевым-то Каппель точно встречался и хорошо его запомнил.
Случилось это в Петрограде, куда Каппель приехал с фронта на полторы недели в отпуск. Попав в гости на один званый ужин, он увидел там подвижного смуглокожего белозубого гвардейского полковника, который очень остроумно рассказывал об окопных буднях. Собравшиеся хохотали, а Каппель сосредоточенно молчал: ему казалось кощунственно между двумя блюдами – заливной морской рыбой и рагу из куриных голяшек – говорить о крови, о том, как люди после газовых обстрелов выблевают из себя легкие. Это было даже более чем кощунственно, поэтому Каппель и молчал.
– Может, вы тоже что-нибудь расскажете, Владимир Оскарович? – обратилась к Каппелю хозяйка салона, полная седая дама с живыми, навыкате глазами; один глаз у хозяйки слегка косил, поэтому казалось, что она все видит и от лукавого ее взора невозможно спрятаться.
Каппель отрицательно покачал головой:
– Нет. У меня таких ярких впечатлений нет.
А гвардейский полковник продолжал распаляться – так он весь вечер и пробыл в центре внимания честной литературной компаний.
Фамилию его Каппель запомнил хорошо – Муравьев.
И вот он, похоже, встретился с Муравьевым вновь – если, конечно, это тот самый Муравьев. Однако другого гвардии полковника, который мог бы поступить на службу новой власти и занять такой высокий пост, представить себе было невозможно, значит, и сомневаться не стоит – это тот Муравьев…
Он, кстати, разбил наголову «жовто-блокитников», взял Киев и отдал его на откуп мародерам; за два дня там были расстреляны две тысячи офицеров, решивших отказаться от военной карьеры и не поступивших на службу в Красную армию, хотя им настойчиво это рекомендовали… Муравьев приказал всех их поставить к стенке. Офицеров-орденоносцев фактически расстреляли только за то, что они хорошо воевали на фронте и били в хвост и в гриву приспешников кайзера…
Троцкий этот расстрел одобрил.
Собственно, Муравьев Каппеля не очень беспокоил – гораздо больше беспокоил Тухачевский. Разведка донесла, что Тухачевский также объявил призыв бывших офицеров в Красную армию, причем призыв добровольный, без всякого муравьевского нажима, и начал железной рукой наводить в своих частях порядок. Собственно, Каппель, будь он на его месте, сделал бы то же самое и начал именно с этого, точно так же стал бы бороться с партизанщиной и разбоем… В общем, Тухачевский был достойным противником.
Из Симбирска офицер-разведчик привез Каппелю листовку, подписанную Тухачевским. Листовка была отпечатана на серой, плохого качества бумаге. Впрочем, другую бумагу в стране, охваченной войной, сейчас вряд ли можно было найти. Каппель прочитал листовку очень внимательно, стараясь вникнуть не в текст, а в то, что находилось за текстом, потом дважды перечитал ее.
«Товарищи!
Наша цель – возможно скорее отнять у чехословаков и контрреволюционеров сообщение с Сибирью и хлебными областями! Для этого необходимо теперь же скорее продвигаться вперед, необходимо наступать: всякое промедление смерти подобно!
Самое строгое и неукоснительное исполнение приказов начальников в боевой обстановке без обсуждений того, нужен ли он или не нужен, является первым и необходимым условием нашей победы!
Не бойтесь, товарищи! Рабоче-крестьянская власть следит за всеми шагами ваших начальников, и первый же необдуманный приказ повлечет за собой суровое наказание.
Командарм Тухачевский».
– Вполне в духе Робеспьера и вождей Французской революции, – сказал Каппель, кладя листовку перед собой на стол. – Текст не может не вызывать недоверия к тем офицерам, которые пошли служить в Красную армию. А это нам на руку.
– Кроме Тухачевского, есть еще Муравьев. Не кажется ли он вам более серьезной фигурой, чем Тухачевский, Владимир Оскарович? – спросил Вырыпаев, находившийся здесь же, в передвижном штабе. Первая рота захватила в Сызрани штабной вагон, отделанный бронзой и бархатом; говорят, это был личный вагон Троцкого, в котором тот любил принимать гостей, в частности приезжавших на фронт дам. Каппель ко всем этим бронзулеткам относился брезгливо, но содрать дорогой металл со стенок вагона нельзя было, слишком оборванным выглядел бы тогда салон, и Каппель обреченно махнул рукой: пусть остается все, как есть!
– Нет, не кажется. – Каппель снова вспомнил лощеного гвардейского полковника, лихо разглагольствовавшего в литературном салоне. – Муравьев любит гусарить, а гусары – принадлежность прошлого века, но никак не нынешнего. Малиновые чикчиры, серебро, цыгане со скрипками, знойные женщины, шампанское из изящных лаковых туфелек, авантюра на авантюре – вот весь Муравьев. А Тухачевский… Тухачевский – человек серьезный.
– Но ведь именно Муравьев разбил под Гатчиной Краснова, а у Украинской Рады отнял Киев…
– Ну и что? Зато он так доблестно и так позорно драпал от румын. – Каппель невольно поморщился: румын он вообще не считал за солдат. Максимум, на что они способны, – работать в армии парикмахерами. – Велел разрушить Одессу… Это шут какой-то, а не главнокомандующий.
– Я слышал об Одессе, Владимир Оскарович.
Муравьев действительно драпал с румынского фронта так, что только пятки сверкали. По дороге он отдал следующий приказ: «При проходе мимо Одессы из всей имеющейся артиллерии открыть огонь по буржуазной и аристократической части города, разрушив таковую и поддержав в этом деле наш доблестный героический флот. Нерушимым оставить только прекрасный дворец пролетарского искусства – городской театр». И подпись свою поставил, для истории – «Муравьев».
Копия этого приказа в конце концов оказалась у Каппеля – он поместит его в специальную папку: срабатывала штабная привычка знать о своем противнике как можно больше, желательно все, вплоть до того, какую кашу он предпочитает есть на завтрак. Точно такую же папку он решил завести для материалов, касающихся Тухачевского, и она – Каппель в этом не сомневался – также будет все время пополняться.
– Тухачевский много серьезнее Муравьева, – сказал он, развернув карту, лежавшую на столе, – и относиться к нему надо как к серьезному противнику.
Каппель расстегнул несколько пуговиц на кителе. Такие вольности он позволял себе редко, но в вагоне было душно, сыро, в воздухе парило, собирался дождь, и Каппель чувствовал себя муторно.
Пуговицы на своем кителе он обшил тонкой тканью, многие офицеры вообще заменили пуговицы с вычеканенными на них царскими орлами на обычные черепаховые. Орлы были уже не в ходу – это старая символика, а новая еще не придумана, вот и приходилось довольствоваться тем, что оказывалось под руками. Вырыпаев, например, заменил пуговицы на сугубо гражданские, мещанские – роговые…
Со станционного телеграфа Каппелю принесли ленту: наспех, клочками наклеенную на старый почтовый бланк, украшенный николаевским гербом. Телеграмма была от Бориса Савинкова, с которым Каппель был едва знаком. «Поздравляю блестящей победой», – написал Савинков. Точно такую же телеграмму Каппель получил и от полковника Галкина; командующего военными силами Комуча.
К телеграммам он отнесся равнодушно: что были они, что не было их – все едино.
Вырыпаев взглянул на карту:
– Что будем делать дальше, Владимир Оскарович?
– Воевать. Пока Муравьев не соединился с Тухачевским – а он сейчас находится где-то в районе Царицына, – будем бить Тухачевского. Когда подоспеет красный главнокомандующий – будем бить обоих.
В Поволжье, на огромной территории затягивался мощный узел, непонятно было, кто кого сомнет, а смяв – победит – красные ли победят белых, или белые красных… И у тех, и у других имелись свои гении. И были эти гении отнюдь не доморощенными. Тухачевский стоил Каппеля, Каппель стоит Тухачевского.
– Сегодня вечером выступаем, – приказал Каппель. – На Ставрополь-Волжский.
Этот поход был легче сызранского. Во-первых, появились кони, много коней. Командиры рот и взводов пересели в седла. Во-вторых, шли все время берегом реки, обдаваемые дыханием воды, прохладой – было не так жарко. В-третьих, дух в частях был совершенно иной, приподнятый: то, что они сумели победить в сызранской схватке, здорово всех подбадривало.
– Если дело так дальше пойдет, мы скоро всю Россию освободим и поставим на верный путь, – говорили старые солдаты, шагающие с винтовками в строю, и поучали солдат молодых: – Вы, парни, силы свои соизмеряйте с расстоянием. Сегодня нам надлежит отшагать не тридцать верст, что положены бойцу на марше, а все пятьдесят. – Сказав это, говорящий обязательно поднимал заскорузлый указательный палец и продолжал разъяснять: – А это, считай, в два раза более обычного, но с Божьей помощью мы этот серебряный полтинник одолеем… Дыхание только, парни, держите ровное, не рвите, не сбрасывайте резко на поворотах да ноги старайтесь не напрягать – нога на марше должна быть расслабленной. Тогда икры не сводит, и мышцы не так устают… Понятно?
Бывшие ударники-корниловцы шли весело, готовы были даже на ходу «тянуть носок» – шаг тогда делается торжественным, как на параде.
Ставрополь-Волжский считался городом захолустным, невесть как городской статус получившим. По сравнению с ним Сызрань почитай что столица, в ней имелись даже колокола с малиновым звоном, а купцы сколотили такие состояния, что им могли позавидовать самарские богатеи.
Природа же тут была много краше, чем в мокроносой Сызрани, радовала глаз. Волга под Ставрополем была широкая, наполнялась неожиданной синью, простор дышал, и если на этом просторе вдруг возникал маленький белый треугольник паруса, душа замирала от невольного восторга. Каменные утесы поражали размерами, высотой, гигантскими соснами, которые своими толстыми сильными корнями разваливали прочные камни, дробили их и одновременно скрепляли. Такой природы, как под этим маленьким захолустным городком, нигде на Волге не было – по всей своей длине она была другая.
Сызрань Каппель оставил и тем самым допустил ошибку. С севера подоспел красный батальон, полновесный и хорошо вооруженный, быстро занял город, перестреляв дружинников-одногодков из учебного взвода, которые тренировались на небольшом зеленом лугу, обучаясь делать резкие уколы штыком, потрошили чучела, сшитые из старой одежды и увенчанные диковинными суконными шлемами – их потом стали называть буденновками.
Из Сызрани вырвался только один казак – застрявший у какой-то вдовушки посыльный, он проскочил через несколько огородов, нырнул в ложок и был таков. Погоня, посланная за ним, успеха не принесла – казак, легкий в кости, цепкий, припав к конской спине, оторвался от десяти всадников, тесной толпой бросившихся за ним – всадники только друг другу мешали, – и ускакал.
Погоня вернулась в Сызрань. А казак из одного лога нырнул во второй, потом в третий, затем на пути его попался лесок – так и ушел. Потом он свернул к Волге и берегом поскакал вслед за каппелевскими частями. От берега старался не удаляться – река была хорошим ориентиром.
Намеченные пятьдесят верст, о которых упрямо талдычили старики, одолеть не удалось – слишком непосильной оказалась эта задача для людей. Тридцать верст – норма, после которой солдат снопом валится на землю и дышит хрипло, кашляет надсаженно, тяжело, того гляди, вот-вот выкашляет свои легкие и загнется, но ничего, проходит немного времени, и солдат поднимается на ноги. Крутит головой устало и начинает зыркать вокруг глазами: а где полевая кухня?
Получив миску гречневой каши с говядиной и кружку горячего чая, он окончательно приходит в себя, а через полчаса и вовсе оказывается, что он готов шагать дальше.
Вот такие солдаты водятся в России.
Подойдя к Ставрополю-Волжскому, Каппель решил применить старую тактику – проверил ее на Сызрани, она оказалась верной: взять город в клещи и накрыть его артиллерийским огнем.
Снарядов у капитана Вырыпаева было теперь более чем достаточно.
– Могу вести огонь десять часов без перерыва, – доложил он Каппелю, – главное, чтобы стволы пушек выдержали.
Стволы от беспрерывной стрельбы могли просто потечь.
Конечно, неплохо было бы зажать Тухачевского в этом городе и прихлопнуть котел крышкой – бывший поручик в нем и сварился бы. Но и Тухачевский был не дурак, прекрасно понимал, чего хочет Каппель, и, пораскинув мозгами, не обращая внимания на тяжелый, рвущий барабанные перепонки свист снарядов, разложил перед собой карту и принял решение: город сдать!
Тухачевского знобило – в эту жаркую пору он ухитрился подхватить насморк, переросший в обыкновенную противную инфлюэнцу[10]. Болезнь эта хоть и не опасна, но очень изматывает, кажется, что человек варится в собственной одежде, делается противно липким, горячим, от слабости кружится голова и трясутся пальцы.
Чтобы унять дрожь, Тухачевский натянул на плечи старую, в нескольких местах порванную шинель с длинными кавалерийскими полами, пахнущую дымом, конским потом, еще чем-то неприметным, но очень родным, рождающим тепло под ключицами. Командарм расслабленно морщился и двигал головой так, будто на горло ему сильно давил воротник.
– Отступаем к Симбирску, – решил он, – в Ставрополе-Волжском хоть и отрыты окопы в полный рост – лошадь можно водить, а толку от них с гулькин нос – они не защищены с флангов, не имеют укрепленных стыков. Пока есть коридор – будем уходить. Перекроют коридор – Каппель раздавит нас прямо в городе. Как мух… Перехлопает поштучно.
Тухачевский присматривался к Каппелю, как и Каппель к Тухачевскому. В судьбах их было много общего. Тухачевский принадлежал к разорившимся, едва сводящим концы с концами дворянам. Каппель тоже был таким же – его полуразобранное имение находилось в Тульском уезде. Тухачевский прошел фронт, видел войну из окопов, и Каппель прошел фронт, он также видел войну из окопов и умел держать винтовку в руках. И у того, и у другого имелись общие знакомые, разбросанные по всей России от Екатеринодара до Хабаровска.
Пожалуй, только о личной жизни Каппеля – это была тайна за семью печатями – командарм ничего не знал. У Тухачевского же имелась «единственная и неповторимая» – бывшая ученица Шор-Мансыревской гимназии Маруся Игнатьева, с ней Миша Тухачевский познакомился на гимназическом балу в Пензе, в дворянском собрании. Они вместе танцевали печальный вальс «На сопках Маньчжурии», исполнили его так, что аплодировало все собрание.
А потом Тухачевскому пришлось уехать из Пензы в Москву – в кадетское училище. После кадетского было Александровское юнкерское училище, которое он закончил с отличием в чине фельдфебеля. И – сбылась его мечта: он попал в лейб-гвардию, в знаменитый Семеновский полк.
В полку служили люди богатые. Офицеры могли запросто швырнуть на ломберный столик «катеньки» веером. Тухачевский таких денег не имел, а двести десятин земли его поместья были уже несколько раз заложены и перезаложены… Оставалось одно – надеяться на себя.
Интересно, похожа ли на его судьбу судьба Каппеля?
У Владимира Каппеля была такая же судьба, и в жизни он сталкивался с теми же проблемами, что и у Тухачевского. Детали только были разными.
Но не в деталях суть. А в том, что они очутились по разные стороны баррикад. И оба сражаются за Россию. Что один, что другой. Только у каждого из них своя Россия, свои идеалы, свой народ, хотя разным народ быть не может, он – один… Оба хорошо проштудировали Кляузенвица и Суворова, оба назубок знали биографии Мольтке и Бонапарта. Они оба были достойны друг друга, достойны того, чтобы стать хорошими товарищами…
Но они стали врагами.
Тухачевскому в эти дни пришло письмо из Пензы, от сестры. Странно было, что оно добралось в Ставрополь-Волжский сквозь гигантские расстояния и не сгинуло. Измятый конверт с пятнами грязи и масла, видимо, побывал во многих переделках… Сестра писала, что Маша Игнатьева стала ее близкой подругой, они теперь «не разлей вода», даже питаются вместе, и Маруся по-прежнему помнит и любит сероглазого гвардейского поручика… Независимо от того, продолжает ли он носить офицерские погоны или же перешел под другие знамена и повесил на грудь пышный красный бант. Письмо было приятно Тухачевскому, он перечитал его дважды.
Симбирск ожидал прибытия Муравьева, командующего всеми красными силами на фронте. Было известно, что Муравьев очень близок к Троцкому. Тухачевский хоть и был болен и пробовал избавиться от инфлюэнцы разными снадобьями – от порошков до отваров из трав, и не до встречи ему было, а этой встречи ожидал со смутным чувством.
Имя бывшего гвардейского полковника было у всех на слуху, газеты писали о Муравьеве едва ли не каждый день. Тухачевский эти газеты читал, но одно дело – газеты, и совсем другое – увидеть человека, что называется, живьем, посмотреть ему в глаза, подышать с ним одним воздухом.
Он слышал, что Муравьев – писаный красавец, черноволосый, черноглазый, с бронзовым чистым лицом, умеющий великолепно говорить и, судя по успехам под Гатчиной и в Киеве, умеющий неплохо воевать.
Когда Муравьева бросили на румынский фронт, он собрал остатки разбитых русских подразделений, создал из них более-менее боеспособный кулак и назвал это разношерстное формирование довольно выспренне – «Особая армия по борьбе с румынскими олигархами».
Речи, которые Муравьев произносил во время своих грозных походов, как правило, заканчивались угрозой, что он обязательно «сожжет Европу».
Еще знал Тухачевский, что до войны, в тринадцатом году и в начале года четырнадцатого, Муравьев любил появляться в дорогих ресторанах Санкт-Петербурга вместе с высокой глазастой негритянкой, имевшей умопомрачительную фигуру, и пил вместе с нею дорогое французское шампанское в количествах немереных» Шампанское это поставляли царскому двору, но часть его, естественно, попадала в рестораны.
Негритянку гвардейского полковника Муравьева Санкт-Петербург – ныне Петроград – помнил до сих пор.
Вот, пожалуй, и все, что знал о Муравьеве Тухачевский – примерно столько же, сколько знал и Каппель, и от того, как поведет себя Муравьев – вот странное дело, – зависела судьба и того, и другого.
Путь от Сызрани до Ставрополя-Волжского Каппель проделал на коне. Наломался. Кроме того, он, как и Тухачевский, подхватил от не вовремя расчихавшегося полковника Синюкова инфлюэнцу – мерзкую штуку, способную вывести из состояния равновесия кого угодно. Каппель потел, плавал в горячей одежде, ощущал себя червяком, которого решили сварить; земля перед глазами дергалась, никак не могла удержаться на одном месте, болезненно кренилась то в одну сторону, то в другую, раскачивалась, и никакие лекарства не помогали.
Полевой доктор Никонов, появившийся в группе после Сызрани, накормил Каппеля какими-то горькими, пахнущими дробленым мелом порошками, потом сдернул с головы офицерскую фуражку и вытер ладонью блестящую лысину;
– Тут, ваше высокоблагородие, такое дело: что принимай порошки, что не принимай – один лях. Если будете принимать – выздоровеете через семь дней, если не будете принимать – проболеете целую неделю.
Каппель в ответ усмехнулся, ничего не сказал, отпустил лысого доктора-шутника, покачал головой, то ли осуждая его, то ли, наоборот, приветствуя такой грубоватый, мужицкий юмор.
На станции под Ставрополем-Волжским Каппель вновь перебрался в штабной вагон, походил по нему, дивясь дорогой отделке, бронзе, покрытой особым, похожим на лак, французским составом, из-за которого бронза не требовала чистки, мягкому плюшу, и, не выдержав, отрицательно покрутил головой.
– Не могу, – сказал он, – не могу ездить в таком вагоне.
– Отчего же? – озадаченно поинтересовался Синюков. – Вы командуете крупной группировкой, у вас сейчас под началом как минимум – бригада плюс приданные подразделения со своим хозяйством – артиллерия, подрывники, кавалерия… Скоро, наверное, и флот подтянете. Вам положен такой вагон. Штабной. – Полковник неведомо кому погрозил пальцем. – Он просто необходим.
– Слишком роскошный, – пожаловался Каппель, – и, кроме того, уж очень напоминает дамский будуар. Не могу я из дамского будуара командовать боем. Не привык…
– А если посдирать все эти цацки? – Синюков поддел ногтем трехрожковое бра, прикрученное латунными шурупами к стенке вагона. – А?
– И что прибить на их место? Железные подсвечники, позаимствованные в каком-нибудь трактире? Нет. Жалко этакую красоту рушить. Пусть она существует сама по себе, а я буду существовать сам по себе. Подвернется подходящий вагон, попроще – я в нем поселюсь. А этот… – Каппель красноречиво развел руки в стороны, – этот – нет.
Но все равно бросать вагон было жалко.
– А его и не надо бросать, – сказал Каппель. – Зачем бросать? Это же военный трофей. Пусть находится в обозе… в железнодорожном обозе, – поправился он, – пока мы не передадим его какому-нибудь достойному генералу.
– Вы, Владимир Оскарович, не слышали, Комуч что учудил?
– Нет. – Каппель невольно поморщился – он не любил слухов, а то, чем хотел его угостить Синюков, принадлежало, очевидно, к этому разряду.
– Утвердило обращение друг к другу «гражданин»…
– Это было и раньше.
– Да, это было и раньше, только против этого не выступали офицеры, Владимир Оскарович. На воинской форме – никаких погон, лишь отличительный знак в виде георгиевской ленточки.
– Бред какой-то, – пробормотал недовольно Каппель. – Как может быть форма без погон? Это красные обходятся без погон, но и они – будьте уверены – в конце концов введут у себя погоны. Бред, – повторил он. – Противоречит психологии, более того – противоречит даже идеологии всякой армии.
– Согласен. Но что есть, то есть.
– Единственное, с чем не могу спорить, так это с обращениями «ваше высокоблагородие», «ваше высокопревосходительство» и так далее. Но и в это тоже была вложена государственная идеология, это тоже имело свой смысл и, в конце концов, дисциплинировало подчиненных. – Каппель закашлялся – болезнь давала о себе знать. Откашлявшись, скомандовал: – Выступаем на Симбирск!
К Симбирску по Волге подплывала целая флотилия. Впереди резал носом воду белый, с изящными формами корабль под названием «Межень», на якорной палубе которого была выставлена пушчонка, также окрашенная в белый цвет. Это был бывший пароход царицы, очень удобный, продуманно сработанный, с тихой, но сильной машиной и роскошными полуприводненными каютами. Не корабль, а сказочная яхта, какая только царю и положена.
Впрочем, по роскоши, удобству, скорости «Межень» нисколько не уступала знаменитому царскому «Штандарту» – балтийской яхте Николая Второго.
За «Меженью» шли еще четыре корабля – «Владимир Мономах», «София», «Алатырь», «Чехов», везли хорошо вооруженные отряды, сколоченные бывшим гвардейским полковником. Кроме русского отряда, на «Чехове» находился батальон молчаливых, жестких в бою латышей, а на «Софии» – рота китайцев под командой Сен Фуяна. Сен Фуян называл себя «капитаной китайской слузбы», был зубаст, груб, глаза имел какие-то непрорезанные, уже обычного, а голос тихий – «капитана» не любил тех, кто говорил громко.
На передней палубе «Межени», около пушчонки, был поставлен стол, накрытый хрустящей от крахмала, белой, как рождественский снег, скатертью. За столом сидел сам главнокомандующий Муравьев, наряженный в алую, цвета давленой клюквы черкеску, украшенную серебряными газырями и большим шелковым бантом, – красное на красном. Стол окружали несколько плечистых охранников-грузин с мрачными лицами.
Муравьев говорил, что только два человека в России предпочитали в последние двадцать лет иметь охрану из мюридов-грузин: он и свергнутый царь Николай Второй.
– Преданнейшие люди! Если не торгуют мандаринами – очень хорошо несут охранную службу, – утверждал бывший гвардейский полковник, ставший главнокомандующим.
Адъютантом у Муравьева тоже был грузин – гибкий, как танцор, белозубый, тонкоусый человек с редкой для горца фамилией Чудошвили.
Муравьев завтракал. Напротив него за столом сидел Чудошвили, рядом, тесно прижавшись с обеих сторон к командующему, чтобы можно было обнять и одной рукой, и другой – две гастролирующие певицы, юные жизнерадостные особы, похожие друг на дружку, как близнецы, с пухлыми розовыми щечками, отмеченными очень милыми ямочками.
Руки у Муравьева были украшены дорогими перстнями, хотя камни, вставленные в перстни, никак не сочетались друг с другом: в одном перстне краснел огромный кровавый рубин, во втором – поблескивал искрящимся синим холодом сапфир, в третьем – зеленел редкостный мадагаскарский изумруд. Муравьев, не снимая перстней, рвал пальцами холодную курицу – очень любил простонародное блюдо – холодную рябу под острым аджичным покрывалом, с пристрявшими к белому мясу комочками нежного желе.
– Я видел, как воюют эти чехи, – говорил он громко, напористо, обращаясь только к певичкам, адъютанта он не замечал, – день посидят в окопах, потом уходят на два дня в ближайшие сады собирать сливы. Ну, кто такой Гайда[11], новоиспеченный чешский генерал? Или он еще не генерал? Это – обыкновенный барахольщик, привыкший у баб из лифов выдергивать ассигнации, спрятанные на черный день. Был в армии у австрийцев обыкновенным фельдшером, чирьи солдатам зеленкой прижигал. В плен сдался добровольно. Ну разве может из фельдшера получиться толковый командир полка? Не понимаю, как он мог потеснить наших… Это надо же! – Муравьев взмахнул рукой, отправляя за борт «Межени» очередную куриную кость, выругался. – Сдали Сызрань и Ставрополь-Волжский… Позор!
– Там, кроме Гайды и Чечека, есть еще Каппель, – осторожно вклинился в разговор адъютант, мазнул пальцем по тонким черным усикам.
– Каппель? Не знаю такого. Но будь уверен – узнаю! И спущу штаны с толстой белой задницы. Прикажу сечь плетками до тех пор, пока задница не будет располосована на ремни.
Певички дружно засмеялись. Чудошвили тоже засмеялся – ему нравился шеф, умеющий так красочно изъясняться.
– Ну что, скоро там Симбирск? – повернувшись к охране, спросил Муравьев.
– Сейчас узнаем, – склонил голову один из охранников, низкорослый, широкоплечий грузин. Через несколько минут он доложил, нагнувшись к уху главнокомандующего: – Капитан сказал – остался час хода.
– Через час будем в Симбирске, – громко провозгласил Муравьев, подхватывая со стола бутылку с шампанским, ловко разлил вино по фужерам – налил дамам и себе, адъютанту наливать не стал – чин не тот.
Чудошвили, всем своим видом показывая, что нисколько этим не ущемлен, сам наполнил себе фужер.
– Почистим этот город, покажем местным сундукам, как правильно произносить слово «Ленин». – Муравьев перевел взгляд на адъютанта: – А ты – Каппель… Если же найдутся инакомыслящие, то… – Муравьев сжал руку в кулак, кулак был крепкий, тяжелый, словно налитый свинцом. – Инакомыслие лучше всего ликвидировать вместе с его носителями. Чтобы больше ни у кого не возникало никаких вопросов. Главное – с именем Ленина не свернуть с ленинского пути.
Муравьев говорил грамотно, умел убеждать, и хотя в голове у него был сумбур, идти по ленинскому пути он не собирался. Одно дело – адъютант, похожий на кудрявого барана, и эти профурсетки с аппетитными ляжками, и совсем другое – Тухачевский, с которым он очень скоро поведет душевный разговор. Как дворянин с дворянином. С глазу на глаз.
Тухачевский в это время находился на Симбирском вокзале, его вагон стоял в небольшом зеленом тупичке, метрах в семидесяти от здания вокзала. Инфлюэнца никак не могла отвязаться от командующего, продолжала трепать, и Тухачевский зябко кутался в старую шинель. Адъютант предложил ему свою шинель, новенькую, сшитую из превосходного генеральского сукна, но Тухачевский вежливо отказался.
– Михаил Николаевич, но вы же – командующий! – с неожиданной обидой воскликнул адъютант.
– Ну и что?
– Не понимаете вы большой революционной значимости своей фигуры, Михаил Николаевич!
Тухачевский промолчал. Он пытался выстроить в мыслях предстоящий разговор с нервным, кокетливым, горячим как кипяток – именно так только что ему охарактеризовали главнокомандующего – Муравьевым… Только в кипятке этом чаю не заварить. И вот ведь как – разговор этот у него никак не получался. Не склеивался, не выстраивался. В конце концов Тухачевский перестал заниматься этим бесплодным делом: и начаться и закончиться разговор с главнокомандующим должен был благополучно.
Муравьев, Каппель… В бинокль Тухачевский увидел знамя, под которым каппелевцы шли в атаку. Знамя было красного цвета. Что бы это значило?
Тухачевский воюет под красным знаменем, и Каппель тоже воюет под красным… Одновременно они безжалостно молотят друг друга, русские – русских. Тухачевский вытащил из кармана сверток со снадобьями, вытряхнул из него один пакетик.
Врач рекомендовал порошок растворить в стакане воды и выпивать, оставляя малость на дне – там остается шлак, вредный для организма, его надо обязательно вытряхивать, поскольку от шлака этого не только в почках, но и в желчном пузыре и в мочеточнике образуются камни, – но возиться с водой, растворять порошок Тухачевскому не хотелось, и он высыпал порошок прямо в рот. Запил тепловатой, противно пахнущей болотной тиной водой. Спросил вслух, ни к кому не обращаясь:
– Ну, где же Муравьев?
А Муравьеву еще только подали второе – с кухни принесли барашка, приготовленного по степному рецепту, в собственном соку. Готовится такой баран долго, несколько часов, томится на медленном огне, мается, но зато вкус у него не сравним ни с чем. Десяток живых баранов на «Межень» доставили аж из-под самой Астрахани. К подносу с томленым бараном повар поставил три бутылки настоящего французского «Божоле».
– Вино, ваше высокопревосходительство, – м-м-м! – повар сложил пальцы в щепоть и звучно чмокнул. Он называл Муравьева «вашим высокопревосходительством», как генерал-лейтенанта, и Муравьев против этого не возражал, хотя в Красной армии было совсем другое обращение – «товарищ». – В самый раз вино. «Божоле», которое делается из винограда сорта «гамэ», – на мой взгляд, лучшее вино в мире, – продолжал заливаться повар, которого Муравьев отыскал в Санкт-Петербурге, увез с собою на фронт в Румынию, в Киеве поселил в лучший особняк на Крещатике, а на «Межени» отвел ему каюту по соседству с капитанской, предназначенную для царского наследника.
– «Гамэ», – зачарованно повторил вслед за поваром Муравьев, повернулся к одной даме, потом к другой, подмигнул им и поднял указательный палец: – Это – великолепный виноград.
– На всякий случай, если барашка окажется мало, я еще приготовил телятину и стерлядь, все с легкими соусами. «Божоле» тяжелых соусов не терпит. Лучше стерляди могла быть семга, но, ваше высокопревосходительство, семга – северная рыба, а поставки с севера к нам временно затруднены.
– Да-да, – рассеянным тоном произнес Муравьев и сделал рукой жест, отпуская повара. Тот удалился.
Уже был виден Симбирск – колокольни, соборы с золочеными куполами, справные купеческие дома, вставшие на высоких волжских откосах.
По берегу, следом за пароходами Муравьева двигались неуклюжие, похожие на больших неповоротливых жуков броневики; битюги, запряженные попарно, тянули тяжелые пушки. Бывший гвардейский полковник представлял собой грозную силу, способную свернуть голову кому угодно.
И Муравьев это осознавал. Барашек, приготовленный в собственном – чуть горчившем от приправ – соку, показался Муравьеву лучше холодной курицы. Он похвалил повара:
– Молодец! Много лет знаю этого человека и ни разу в нем не ошибся.
Певички, сидящие рядом, вели себя манерно – мясо отщипывали крохотными кусочками, оттопыривая прелестные мизинцы, отправляли эти крохи в рот. Муравьев не удержался от едкого замечания:
– Не будьте курицами!
Певицы в ответ жеманно улыбнулись.
– У нас еще десерт есть, – сказал молчавший Чудошвили. Говорил он с таким акцентом, что иногда его невозможно было понять – искажал все до единой буквы алфавита. – Шампанское и ананасы.
– Свежие ананасы или консервированные? – деловито осведомился Муравьев.
– Свежие, – проклекотал горец.
День был жаркий, небо блистало голубизной, будто было покрыто лаком, на огромном пространстве от горизонта до горизонта не было видно ни одного облачка, на колокольнях грохнули звоны. Звук колоколов был хорошо слышен.
– Сегодня что, праздник какой-то? – недоуменно поинтересовался Муравьев.
Адъютант пожал плечами:
– Не знаю.
Точно такой же вопрос задал своему адъютанту Тухачевский.
– Троица, – ответил тот, – великий православный праздник. Пятидесятница.
Тухачевский понимающе кивнул.
Через полтора часа на набережную вывалилась толпа матросов, одетых во все черное. Их тяжелые маузеры в деревянных коробках болтались на длинных тонких ремешках, мешали шагать, а уж при быстрых перемещениях по пространству, когда надо было проявить ловкость и ухватить за зад какую-нибудь смазливую бабенку, вообще становились настоящим препятствием: ремешки, попав в широкий шаг, запутывали ноги, и революционный матрос прикладывался всей мордой о булыжную мостовую.
Несколько таких случаев было зафиксировано в тот день в славном городе Симбирске.
Муравьев встретился с Тухачевским на вокзале – ему сказали, что командарм-один болен, почти не выходит из вагона, и главнокомандующий поехал к командарму.
Разговор между ними не получился, хотя оба они, и Тухачевский, и Муравьев, были гвардейцами. А все гвардейцы, как земляки, – родственные души.
– Отсюда, из этого маленького пыльного городка, начнется освобождение Европы, – патетически провозгласил Муравьев.
Тухачевский дипломатично промолчал. Хотел было сказать, что в этом «маленьком пыльном городке» родился Ленин, но не сказал, промолчал. Муравьев еще несколько минут говорил о том, что значит мировая революция для Европы, из Европы она перекинется в Америку, а потом вообще охватит Галактику, потом неожиданно оборвал свою пламенную речь и спросил у Тухачевского:
– Вы коммунист?
– Коммунист.
– А почему в драной шинели ходите?
Сам Муравьев был одет как актер из оперетты: на плечи накинул роскошную, расшитую малиновыми и серебряными цветами венгерку, под венгеркой – диковинная желтая рубаха из тончайшего шелка, наряд дополняли алые чикчиры и сабля, украшенная дорогими каменьями. На пальцах сияли перстни.
В ответ на вопрос о шинели Тухачевский неопределенно пожал плечами.
– А я – левый эсер, – подчеркнул Муравьев. Он сделал это специально, ему надо было расставить точки над «i», определиться и показать, кто есть кто. Муравьев понял – Тухачевский никогда не станет его союзником, несмотря на общее гвардейское прошлое. Подумал отрешенно и зло: «Ну что ж, кто не с нами – тот против нас…»
Вслух же произнес совсем другое:
– Надеюсь, разница в наших политических платформах не помешает нам сработаться.
Тухачевский и на этот раз промолчал.
У Муравьева уже был выработан план – свергнуть большевиков, которым он пока продолжал служить, и установить в России свою собственную власть. Такие люди, как Тухачевский, могут этому либо помочь, либо здорово помешать… Расстался Муравьев с Тухачевским холодно.
На следующий день в штабной вагон, где находился командарм-один Тухачевский, ворвались матросы, вооруженные маузерами и гранатами.
– Именем революции вы арестованы! – объявили они ему.
Тухачевский в ответ недоуменно усмехнулся. Впрочем, в этой усмешке недоумения по поводу того, что он арестован, было мало – усмехался он тому, что Муравьев слишком поздно это сделал.
Его бросили в черный автомобиль и отвезли в городскую тюрьму, в одиночную камеру.
Следом был арестован руководитель симбирских коммунистов латыш Варейкис, затем – члены губкома большевики Гимов, Иванов, Кучуковский, Фельдман, Малаховский.
Муравьев собрал горожан на большой митинг и объявил, что ожидаемой войны с чехословаками не будет, с ними он подпишет мирное соглашение и вместе они двинутся на запад – добивать немцев.
Больше всех этому сообщению радовались китайцы – они азартно палили из винтовок в воздух и что-то певуче кричали. Горожан пламенные речи Муравьева оставили равнодушными, их больше беспокоили погромы, которые устраивали матросы.
Матросы громили лавки, в витринах которых были выставлены бутылки с монополькой – старой вкусной водкой, выпущенной еще до Великой войны. Некоторые, будто метлой, огребая пыль с симбирских тротуаров широкими, как бабские юбки, клешами, настолько возбудились, что перепутали бакалейные лавки с керосиновыми и напились керосина.
Пришлось служивых откачивать. Рвало матросов до желчи, сделались они зелеными, как весенняя трава, но выжили. Отовсюду доносились женские крики – китайцы оказались также весьма охочими до бабских юбок, и весьма проворными – как увидит китаеза бабу с широким задом, так винтовку наперевес и – за ней, словно в атаку.
То там, то здесь раздавались взрывы – матросы баловались бомбами, кидали их в непонравившиеся лавки. Особенно свирепствовали опившиеся балтийцы – в своих бедах и в зеленом цвете собственных физиономий они винили кого угодно, даже петухов, хрипло орущих в этот солнечный день, но только не самих себя.
Во дворе тюрьмы, в которой сидел Тухачевский, хлопали выстрелы: муравьевцы расстреливали большевиков. Тухачевский зябко кутался в рваную шинель: в тюрьме с ее метровыми стенами было знобко, как в подземелье. Да и от инфлюэнцы он так и не вылечился.
Настроение было хуже некуда, в таком подавленном состоянии он не находился со времен немецкого плена, и то там это чувство мучило его лишь в первые дни, когда он еще не ориентировался, не осознал, что с ним произошло, а потом, когда через несколько дней он принял решение о побеге, от подавленности и следа не осталось. Матросы сменили охрану в тюрьме, поставили своих людей, заняли телеграф и указывали комиссару Панину, какие телеграммы можно передавать, а какие рвать на клочки и швырять в мусорную корзину, распотрошили и кадетский корпус, в генеральском кабинете с мебели сорвали «бронзулетки», а на соборной площади города, в самом центре поставили три броневика с пулеметами.
Суд, которым управлял Муравьев, вынес приговор: арестованных большевиков, в том числе и Тухачевского с Варейкисом, – расстрелять. Только вот что-то медлил Муравьев, его матросы пили не просыхая, сам главнокомандующий надрался так, что не мог оторвать голову от стола, бубнил о создании некой Поволжской республики – речей о том, что он разложит большой костер в Европе и сварит континент, как курицу, больше не было. Когда же он приходил в себя, то немедленно вызывал охрану и мчался в латышский полк – уговаривать тугодумных стрелков.
Латыши не верили Муравьеву, и он это чувствовал, ловил на себе их настороженные взгляды, стискивал зубы так, что желваки на щеках становились кирпично твердыми, и произносил слова, которые у многих уже набили оскомину – о создании Поволжской республики и о том, что надо помочь чехословакам добить Германию.
…Темной августовской ночью латыши окружили тюрьму. Тухачевский не спал – ожидал, когда за ним придут и поведут на расстрел. Варейкис тоже не спал. И того, и другого удивляло, почему же Муравьев медлит, почему теряет время? Что ли спился окончательно?
Неожиданно внизу, под окнами, послышалась стрельба – но не во внутреннем дворе, где матросы расправлялись с приговоренными заключенными, а у ворот, у будки с охраной. Потом два выстрела грохнули в коридоре, следом раздались сопение, топот, возня… Сердце у Тухачевского сжалось: это конец. Через пару минут распахнется дверь камеры, и пьяный, с расплывающимся лицом матрос скомандует: «Выходи!»
Через две минуты дверь камеры действительно распахнулась, Тухачевский одернул на себе шинель и поднялся со спокойным лицом.
На пороге стояли два латыша с винтовками. На фуражках у них краснели революционные ленточки.
– Выходите, товарищ Тухачевский, – проговорил один из них, светловолосый, с льдисто-твердыми глазами. – Вы свободны!
Речь у латыша была негромкая, отчетливая, каждое слово он отливал, будто пулю из свинца. Тухачевский помял пальцами свои запястья, словно они болели после кандалов, и, пригнувшись, чтобы не задеть за низкую железную притолоку, выбрался в коридор.
В коридоре горело несколько тусклых электрических лампочек, в самом его конце он увидел Варейкиса. Тот приветственно поднял руку. Прокричал:
– Собираемся на срочное заседание губкома, товарищ Тухачевский! Наши уже все свободны!
Под «нашими» Варейкис подразумевал Гимова, Иванова, Кучуковского, Фельдмана, Малаховского, Шера.
– Где сбор? – деловито спросил Тухачевский.
– В кадетском корпусе. Корпус занят интернациональным полком, оставшимся верным советской власти.
– Где Муравьев?
– На «Межени». Спит.
– Неплохо бы арестовать мерзавца, – сказал Тухачевский.
– Обязательно попробуем это сделать.
Электрические лампочки в тюремном коридоре замигали – сейчас вырубят свет. Тухачевский вышел на улицу, в теплую летнюю ночь. Шинель он так и не снимал.
В кадетском корпусе осталось лишь несколько неободранных комнат – пострадал не только генеральский кабинет. Одну из комнат, под номером четыре, решили использовать для экстренного заседания. В комнатах, находящихся рядом – номер три и номер пять, – разместили по пятьдесят латышских стрелков. Варейкис разговаривал с ними на родном языке. Напротив комнаты номер четыре, в небольшом чуланчике, установили пулемет, задрапировали его тряпками.
– Если этот гад будет сопротивляться, открывай огонь не раздумывая, – инструктировал Варейкис пулеметчика, – руби всех подряд, и своих, и чужих. Потом разберемся. Муравьев не должен уйти.
Однако нужно, чтобы Муравьев пришел на это заседание, а он мог этого и не сделать, мог просто скомандовать своим пароходам отход и поплыть куда угодно – двинуться на север, к Нижнему Новгороду, либо на юг, к Царицыну, или даже уйти к самой Астрахани.
Разбудил Муравьева Чудошвили. Главнокомандующий долго не мог понять, чего от него хочет адъютант, поскольку вечером здорово перебрал. На мягком роскошном диване по-мужски грубо храпела одна из каскадных певичек, которых Муравьев привез с собой, при появлении Чудошвили она даже не открыла глаз.
Наконец адъютант дотолкался до главнокомандующего. Тот сел на постель, покрутил головой:
– Чего надо?
– Вас приглашают на заседание губисполкома.
– Ночью? Зачем? – удивился Муравьев.
– Для выяснения обстановки… Так велено передать.
– Что за народ, что за народ, – удрученно произнес Муравьев, свесил ноги с постели, – они что, до утра не могли подождать?
Надо было одеваться.
Собравшиеся в кадетском корпусе большевики ждали. Не верилось, что Муравьев явится на заседание – не дурак же он, в конце концов, – и тем не менее ждали: а вдруг ему глаза заволочет пьяным туманом или в черепушке что-нибудь сместится?
– Придет, вот увидите, придет, – убеждал своих товарищей Варейкис, – не может не прийти.
Он был прав.
Муравьев рассчитывал на обычное свое красноречие – толкнет пламенную речугу, укажет пальцем на смутьянов, матросы-бомбисты, подметая клешами пол, кинутся арестовывать виноватых, уведут их, а оставшиеся, как кроткие овечки, пойдут, куда укажет Муравьев.
Так было уже не раз.
У входа в кадетский корпус ему сообщили, что все большевики, в том числе и Тухачевский с Варейкисом, освобождены латышами. Нет бы тут Муравьеву развернуться и поскорее драпануть от кадетского корпуса, но он этого не сделал – опять понадеялся на себя. И не рассчитал свои силы.
Он не вошел в комнату номер четыре – влетел, как птица, совсем не обратив внимания, что за его спиной, за матросами-бомбистами, незамедлительно возникают молчаливые стрелки-латыши – солдаты интернационального полка.
Посредине комнаты Муравьев остановился, выдернул из лакированной черной кобуры маузер и взмахнул им.
– Вы кто? – спросил он громко у собравшихся. – Враги мне или товарищи? Настал решительный час. На моей стороне – фронт, войска, в моих руках Симбирск, завтра я возьму Казань. С кем вы, товарищи? Разговаривать с вами долго не буду, извольте мне подчиняться!
– Свиньи тебе товарищи, – вдруг негромко, на «ты» проговорил Варейкис. – Шулер ты, Муравьев!
Муравьев побледнел. Щелкнул курком, взводя маузер. Варейкис напрягся лицом – вдруг Муравьев опередит латышей, выстрелит первым? С треском распахнулась дверь, и в комнату всунулось тупое пулеметное рыло. Матросы, окружавшие Муравьева, горохом сыпанули в разные стороны. Муравьев остался один.
Он стоял посреди огромной комнаты с маузером в руке и кусал губы. Пулеметчик откатил «максим» чуть в сторону и лег за него, ствол пулемета направил на Муравьева. Дверь снова закрылась. Пулеметчик готов был накрошить из людей капусту.
Видные симбирские большевики загалдели, будто малые дети, перебивая друг друга, они кричали Муравьеву прямо в лицо:
– Изменник!
– Шулер! – это слово, пущенное легким на язык Варейкисом, потом долго гуляло по Симбирску.
– Предатель революции!
Муравьев собрал остатки сил, имевшиеся у него, и гаркнул оглушающе:
– Вы со мной или против меня?
– Мы против тебя, гнида! – так же оглушающе, что было мочи, гаркнул Варейкис.
Один только Тухачевский со спокойным видом сидел в углу комнаты на стуле, закинув ногу на ногу, и молчал, словно все происходящее никак его не касалось.
Муравьев выругался. Крепко выругался, наверное, раньше он так никогда не ругался. Дверь снова распахнулась с чудовищным треском, и в комнату вкатился Чудошвили. Увидев шефа, адъютант пожаловался слабым, разом осевшим голосом:
– Меня только что разоружили латыши.
Теперь Муравьев окончательно понял, только сейчас это до него дошло, а до этой поры не верил, что его могут тронуть: он попал в ловушку. Сам, добровольно залез в западню. Красивое лицо его исказилось.
Он взмахнул маузером и резко, на одном каблуке, повернулся к двери, проговорил громко, четко:
– Я успокою этих людей… Сам!
С силой ударил ногой по двери, та, затрещав, открылась, главнокомандующий остановился: на него смотрело два десятка штыков. Впереди стоял рослый латыш в кожаной тужурке и, неприятно шевеля нижней челюстью, целил из нагана Муравьеву прямо в переносицу.
– Измена! – закричал Муравьев громко, оглушая самого себя и людей, навскидку ударил из маузера и в ту же секунду получил пулю в голову.
Следом грохнуло еще несколько выстрелов, все пули – в Муравьева: за несколько мгновений его тело буквально изрешетили. Он, бывший гвардейский полковник, должен был упасть, но не падал, ловил собственным телом пулю за пулей и не падал, словно заговоренный.
Одна из пуль, пробив Муравьеву шею, врезалась в потолок, украшенный большой лепной розеткой, в белый потолок устремилась длинная страшная струя. Это была кровь Муравьева.
Наконец ударил еще один выстрел – из винтовки прицельно саданул длинноволосый латыш в кожаной фуражке, похожий на сельскохозяйственного рабочего, – и Муравьев застонал мучительно. Последняя пуля добила главнокомандующего. Он развернулся к стрелявшему боком, ноги у него подогнулись, ослабли, и он рухнул на пол. Маузер отлетел в сторону.
Тухачевский поднялся со стула, произнес просто:
– Вот и все!
Надо было возвращаться к своим делам. Штабной вагон куда-то угнали из Симбирска, нужно было подыскивать новый, и Тухачевский решил пока переселиться в обыкновенный пассажирский вагон.
Утром, едва он проснулся, ему сообщили:
– Каппель подходит к Симбирску.
Опасность поражения была ощутима в Москве, куда переехало советское правительство, гораздо острее, чем в Симбирске, в Казани, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в других волжских городах. Вот как описал правительственные заседания той поры Роман Гуль[12] – историк, литератор:
«Идут непрекращающиеся заседания. Тут – рассеянный барин, моцартофил Чичерин, желчный еврей с язвой в желудке Троцкий, грузин, дрянной человек с желтыми глазами Сталин, вялый русский интеллигент Рыков, инженер-купец Красин, фантастический вождь ВЧК поляк Дзержинский, бабообразный, нечистый, визгливый председатель Петрокоммуны Гришка Зиновьев и хитрый попович Крестинский. Председательствует Ленин, нет времени в стране, две минуты дает ораторам, многих обрывает: «Здесь вам не Смольный!»; комиссару Ногину кричит: «Ногин, не говорите глупостей!»
Главный вопрос, который обсуждается на этих заседаниях, – пошатнувшееся положение на Волжском фронте: если фронт не будет выправлен, Красная Россия может просто рухнуть. Это понимали все, и в первую очередь Владимир Ильич Ленин.
На внеочередном заседании Совнаркома было решено – на Волжский фронт отправить Троцкого: этот человек, похожий на чахоточника и ракового больного одновременно, желтокожий, очень язвительный – бывший журналист, а ныне красный российский Робеспьер, – быстро выправит положение.
Худая тонкопалая рука Троцкого обладает железной силой – в это верили все члены Совнаркома без исключения, вплоть до «дрянного человека с желтыми глазами», как величал Сталина будущий полпред России в Германии Н.Н. Крестинский».
Удержать Симбирск Тухачевскому не удалось: подполковник Каппель обыграл бывшего гвардии поручика. С одной стороны, Муравьев здорово навредил своею страстью к заговорам и желанием управлять Россией, с другой – армия Тухачевского была слаба, в ней и дисциплины той, что у комучевцев, не было, и слаженности в действиях, и орудий не хватало. Артиллерия Первой армии перешла к Каппелю.
Тухачевский, выйдя из тюрьмы, немедленно занялся делами своей армии. Он понимал, что сейчас быстрота, натиск, время – важнее всякого оружия. Выиграет тот, кто окажется быстрее… Быстрее и хитрее. Тухачевский подготовил Каппелю в Симбирске «подарок» – ловушку, в которую Каппель обязательно должен был попасть. По его плану каппелевские колонны вместе с артиллерией должны войти в притихший настороженный город, втянуться в него, и когда Каппель будет в городе, все сработает – не уцелеть удачливому подполковнику.
Каппель нутром своим, кожей почувствовал, что его ожидает, и сделал шаг совершенно неожиданный: бесследно растворился в приволжских просторах. Только что на Тухачевского наступала целая армия, запыленная, усталая, с громоздким обозом и артиллерией, – разведчики, которые засекли, что каппелевцы остановились на ночлег прямо в голой степи, съедаемые комарьем, даже пересчитали разведенные противником костры и доложили об этом Тухачевскому. И вдруг армия исчезла…
Колдовство какое-то, ведьминские штучки. Тухачевский даже лицом потемнел, уткнулся в карту, соображая, что же это могло означать, но прийти к какому-либо выводу не успел: в южной части города, на окраине, вспыхнула перестрелка. Тухачевский сразу догадался, что это такое, никаких докладов ему не понадобилось: пришли каппелевцы. Он застонал от бессилия и от какого-то странного унижения, которое испытал в те минуты.
Каппель обвел его…
А Каппель поступил просто. Раскинул в поле большую палатку и вызвал к себе командиров. В палатке стояли скамейки и большой разборный стол, привезенный из ближайшего села.
– Прошу отведать чайку, – предложил командирам Каппель.
На столе горой гнездились две связки баранок, взятых в Сызрани, несколько головок синеватого, прочного, как камень, сахара – также из старых сызранских запасов, твердый сахар этот надо было колоть топором, простые щипцы его не брали… Командиры оживленно загалдели. Каппель молча наблюдал за ними.
Он вообще был человеком немногословным, и когда можно было молчать – старался молчать. Каппель походил на тихого русского интеллигента, который многое знает и многое умеет, но никогда не использует свои знания и умение во вред кому-то, более того – даже побаивается, стесняется этого, невольно зажимается, но неожиданно становится очень жестким, твердым, когда дело касается чести, доброго имени.
Несколько артиллеристов внесли в палатку сразу три самовара – больших, на пару ведер каждый, вкусно попахивающих дымком. Каппель окинул самовары знающим взглядом, приказал:
– Два самовара отдайте в роты, столько мы не одолеем. Оставьте нам один, этого хватит…
Когда собравшиеся, хрустя баранками, выпили по первому стакану чая, Каппель сказал:
– Ночевать сегодня не придется, так что надо подкрепиться, господа.
Синюков с интересом покосился на Каппеля.
– Сдохнем ведь от усталости, Владимир Оскарович. – Голос полковника сделался жалобным, он отер рукою красные глаза.
– Ничего, Бог поможет удержаться нам на ногах, – сказал Каппель. – Зато, когда войдем в Симбирск, отоспимся. Пейте, пейте, господа, – Каппель. сделал радушный жест рукой, – подкрепляйтесь. Сейчас будем есть баранину. У меня тут целая команда баранину готовит…
Словно в подтверждение этих слов, полог палатки распахнулся, и двое дюжих артиллеристов внесли поднос с горячей дымящейся бараниной. И будто сама степь ворвалась в палатку – запахло не только мясом, но и душистыми травами, ветром, еще чем-то, чем пахнет только степь.
– Тухачевский готовит нам ловушку, – сказал Каппель, подошел к самовару, подставил под тугую фыркающую струю стакан, – надо бы, конечно, выслать разведку и узнать поточнее о деталях этой ловушки, но на этом мы потеряем целые сутки, если не больше… А у нас этого времени нет. Плюс за эти сутки Тухачевский сможет укрепиться еще больше. Поэтому сегодня ночью мы должны совершить длинный марш-бросок. Не менее пятидесяти километров.
Полковник Синюков с сомнением покачал головой:
– Пехота этого не одолеет. Свалится с ног.
– А нам и не надо, Николай Сергеевич, чтобы она одолевала… Мы пехоту посадим на телеги.
Предложение было неожиданным. Синюков задумчиво пожевал губами, потом ухватил с подноса кусок баранины, отправил его в рот, начал жевать энергичнее.
– Интересный фортель, – наконец произнес он. – Такого в истории войн еще не было.
– Все когда-то должно совершаться впервые.
– Выходит, задача у нас следующая: к утру окружить Симбирск? Так, Владимир Оскарович?
– Кольцо замыкать не будем, оставим Тухачевскому коридор для вывода своих солдат.
– Зачем, Владимир Оскарович?
– А к чему нам лишняя мясорубка? Красные будут прорываться с боем, положат уйму своих людей, а заодно и людей наших. А потом… – Каппель коротким нервным движением потеребил темную искристую бородку, – потом я не верю, что началась полновесная гражданская война… Такая война – самое страшное из всего, что может быть. Пока это еще не война, пока это локальные стычки. Если же грянет война полновесная, мы утонем в крови. Это не нужно ни красным, ни белым. Ни-ко-му.
К поручику Павлову в темноте подошел дедок с кнутом, слегка похлопал им по ноге.
– А я вас, ваше благородие, помню, – сказал он.
– Откуда?
– А вы в мае месяце со своим товарищем из Волги большого сома вытащили… Было такое дело?
– Было. Вкусный сом. – Павлов вгляделся в дедка, шевельнул пальцем медаль, висевшую у того на рубахе, покивал головой мелко, как-то по-птичьи: – И я тебя, дед, помню.
– Вот так, – удовлетворенно произнес дедок. – Еропкин я, Игнатий Игнатьевич. Обоз со мною прибыл, пятнадцать подвод. Все – в ваше распоряжение.
– Подгоняй, дед, через десять минут будем садиться.
– Игнатием Игнатьевичем меня зовут, – напомнил дедок на всякий случай. – Подводы находятся в двадцати метрах отсюда. Лошади накормлены, напоены, к дальней дороге готовы.
– А чего дома, в Самаре, не остался, а, Игнатий Игнатьевич? – спросил Павлов. – Чего понесло в такой далекий край?
– Дома скучно, ваше благородие, – серьезно ответил дедок. – Одиночество заедает. – Он снова несколько раз стукнул длинным деревянным кнутовищем по ноге. – Бабка у меня вскоре после той нашей встречи умерла, общался я, когда оставался один, только с мышами. С ума трехнуться очень недолго. А здесь что… Здесь я на виду, с людьми, среди людей. Чувствую себя нормально… Вот и все мои секреты, ваше благородие.
Под начало к поручику Павлову попал и соседний взвод – командир его, подпоручик Сергиевский, получивший ранение еще в Сызрани, вынужден был остаться в Ставрополе-Волжском, где спешно развернули госпиталь, – Павлов теперь стал командиром роты.
– Игнатий Игнатьевич, держись меня, – приказал он дедку, – не отставай и не теряйся!
– Не боись, – голос у дедка сорвался на фальцет, – не потеряюсь. Только рыбоедов своих предупрежу, чтобы были готовы, – проговорил Еропкин и исчез в ночной темноте.
К полуроте Павлова была прикреплена сестра милосердия Варя Дудко.
– Варюша! – поручик расплылся в улыбке и уже готов был при всех ринуться ей навстречу, но Варя глянула на него строго, осуждающе, и Павлов разом пришел в себя, хотя настроение его хуже от этого не стало. – Варюша! – произнес он еще раз и умолк.
Тележный десант был разбит на две половины: одна должна была взять в кольцо город, вторая же получила приказ сделать дальний бросок, на Казань: Каппель уже понял, что Симбирск он возьмет без особых осложнений. Тухачевский просто не сможет противостоять – в его армии разлад. К Каппелю поступили сведения и об истории с Муравьевым. Так что Тухачевскому сейчас не до серьезной драки, он не в форме – это во-первых, а во-вторых – лучше плохой мир, чем хорошая война – хоть и затерта эта истина донельзя, а ничего незапятнанного, незахватанного в ней нет, а Каппель все еще продолжал надеяться, что красные и белые в конце концов сойдутся, хлопнут по рукам и обо всем договорятся. Ведь умные люди есть и среди одних, и среди других… Потому он и оставлял Тухачевскому коридор для вывода людей.
Полурота Павлова попала во вторую половину. Поручик, узнав об этом, довольно потер руки:
– Превосходно!
Улыбка, возникшая на его лице, была откровенно счастливой, мальчишеской. Собственно, Павлов в свои двадцать два года, несмотря на ордена и звездочки, украшавшие его погоны, был еще мальчишкой. Два с половиной года, проведенные в окопах, рукопашные драки с германскими солдатами, газовые налеты не сумели убить в нем восторженную душу, выхолостить память о былом, о детстве, проведенном под старинном русским городом, о первой охоте на зайцев-беляков по чернотропу, которую они совершали вместе с Мишкой Федяиновым… Где ты сейчас, Мишка? Улыбка сама по себе сползла с лица поручика – когда он думал о Федяинове, вид его делался озабоченным.
– Варюша, вы поедете на головной подводе, – предупредил он сестру милосердия.
– А вы, поручик, где поедете?
– Пока не знаю, – ответил Павлов, хотя хорошо знал, что поедет там же, где и Варя, на первой подводе.
Варя молча закинула в телегу сумку с медикаментами. Павлов запоздало кинулся к ней:
– Давайте помогу! Тяжело ведь!
– Ничего. Это своя ноша. А своя ноша, как известно, не тянет. – Варя проворно забралась в телегу, глянула вверх – небо над головой было огромным, чистым, черным, на глубоком сажево-черном бархате блистали, переливались, словно бы играли друг с другом, звезды, вид их рождал восторг и тепло.
Приложив руку ко лбу – на былинный манер, Варя попыталась отыскать Стожары – мощное скопище звезд, в котором, как ей говорила бабушка, есть и ее звездочка, но не нашла…
– Трогаем! – послышался где-то совсем рядом окрик, заскрипели колеса, и несколько подвод ушло в темноту.
Это были подводы первого, ближнего броска.
Если они будут так быстро наступать, то очень скоро могут очутиться в Москве. Варя неожиданно для самой себя легко и счастливо рассмеялась, представив, как въезжает в Златоглавую на телеге.
Через несколько минут поручик впрыгнул в телегу, следом за ним проворно забрался дедок в рубахе, к которой была прицеплена медаль, и под колесами загудела, заколыхалась дорога.
– Вы же, поручик, собирались ехать на другой подводе, – неожиданно капризно произнесла Варя.
– Варюша, места мне на другой подводе не нашлось, все забито, – проговорил искренним тоном поручик, прижав руку к груди, – как в последнем поезде, уходящем из оккупированного города на свободу.
Когда было необходимо, поручик умел изъясняться цветисто – вон какую словесную вязь сплел…
– Ай-ай-ай, поручик, – укоризненно произнесла Варя.
– Меня зовут Сашей, – сказал Павлов, – Александром Александровичем, если полно. – Он почувствовал, что молчать сейчас никак нельзя, молчание будет непонятно для этой привлекательной девушки, да и долгая дорога в разговоре не будет казаться такой долгой.
– Александр Александрович… В этом есть что-то немецкое. У нас сосед был, Александр Александрович, Репер, земский врач. Немец.
– Каппель – тоже немец. Так все говорят… Но на фронте немцев бил почище всякого русского.
– Владимир Оскарович – это особая статья.
– Просто это человек чести.
По небу вдруг понесся длинный желтый хвост и угас, родив в душе тревогу.
– Видели? – спросила Варя.
– Человек умер, чья-то жизнь кончилась, – с печальными нотками в голосе провозгласил Павлов, – яркий был человек, потому и след на небе был такой яркий.
– Скажите, Александр Александрович, вы верите в колдовство?
– Меня Сашей зовут, Са-шей, – мягко поправил Павлов.
– Извините, Александр Александрович.
– Всегда так получается, – поручик весело помотал головой, – все почему-то зовут меня по имени-отчеству. Даже капитан Вырыпаев.
– Это который артиллерист?
– Он самый.
– У вас много орденов, потому, наверное, и величают по имени-отчеству.
– В колдовство я верю. У меня отец как-то ехал по лесной дороге, задумался и не заметил, как конем толкнул старичка. Невесть откуда взялся этот старичок – только что не было его, и вдруг появился. Старичок зло посмотрел на отца и сказал: «Ну, погоди, ты меня еще попомнишь!» С этого дня отцу стали отказывать ноги. Чем дальше, тем хуже. И к врачам его возили, и к бабушкам-знахаркам, и на курорт в Баден-Баден – все бесполезно. Никто не мог понять, в чем дело. Тогда отцу сказали, что под Мценском, в леске живет один старик, который не только тех, кто не ходят – даже переставших ползать, и то ставит на ноги. Повезли отца к этому старику. Долго везли, сам отец уже передвигался еле-еле, на костылях. Подъехали к домику в лесу, а хозяин уже стоит в дверях, ждет. И к отцу по имени-отчеству: «Заходите, – говорит, – Александр Николаевич», – хотя раньше они никогда не виделись. Отец сполз с телеги, а старик ему: «Иди-ка, Александр Николаевич, для начала в баньку, я, пока ты ехал ко мне, специально ее истопил, попарься часик и – ко мне в дом. Я жду тебя». Отец, значит, попарился, потом перебрался на костылях в дом, а старик сидит там за столом и держит в руках зеркало. Перед зеркалом лежит полотенце, на полотенце – нож…
Под колесами телеги что-то ухнуло, телега вдруг стремительно понеслась вниз. Еропкин с криком придержал вожжи, поручик встревоженно привстал в подводе:
– Что случилось?
– Овраг. Оврагов тут уйма, но мы все их благополучно обошли, а этот – главный – обойти никак нельзя, объездной дороги нет. Вот и ухнул в преисподнюю. Тьфу!
– В преисподнюю? – Павлов усмехнулся.
– И что было дальше? – заинтересованно спросила Варя у поручика. Она и боялась этого рассказа, но одновременно ей хотелось узнать, что было дальше, вылечился ли отец поручика? – колдуны – это бр-р-р! Их все опасаются.
– Старик повернул к отцу зеркало и сказал: «Смотри! Вот причина твоей болезни!» Отец глянул в зеркало, а там – тот самый лесовичок, которого он случайно задел конем.
– Надо же! – громко выдохнула Варя. Ей сделалось страшно.
Грохотал под колесами твердый пыльный проселок, над головами людей качались звезды, ночь была черна, колдовски глубока. Где-то невдалеке послышался вой волка.
– Неужто волк? – неверяще прошептала Варя.
– Он самый, – подтвердил старик, придержал захрапевшего коня.
– Что было дальше? – поежившись, спросила Варя.
– Дед этот, значит, и говорит отцу: «Ты можешь убить этого лесовика – возьми нож и ударь прямо в зеркало. Он умрет, а ты излечишься or болезни». Отец отказался. Дед в ответ только вздохнул да затылок себе пальцем почесал. Сказал: «Ладно! Вылечить мне тебя, Александр Николаевич, будет в таком разе, конечно, труднее, но я попробую». Два месяца он лечил моего отца, на звезды заговоры делал, на луну, на молодой месяц – по-всякому, словом, припарки готовил на ноги, на поясницу клал, золой кормил и – вылечил.
Варя снова зябко поежилась:
– Боюсь я колдунов.
– Казаки на Дону специально шашки себе заговаривали, чтобы те не тупились, если попадался колдун.
– А у немцев колдуны есть?
– Конечно. Колдуны даже в Африке есть.
За первым оврагом последовал второй – такой же глубокий, сырой. Старик Еропкин выругался:
– Видать, в темноте я малость промахнулся, мать честная! Надо бы чуть правее взять, ближе к Волге, там никаких оврагов нет, а мы спрямили дорогу – вот и кувыркаемся.
Одна телега действительно закувыркалась, но ее быстро подняли, поставили на колеса. Проверили ноги у лошади – не переломала ли? – и двинулись дальше. Варя под шумок, под досадливый говор людей и веселое перемигивание звезд уснула.
Целый караван телег, наполненных вооруженными людьми, двигался по берегу Волги на север. Ни один разъезд красных не встретился им по дороге, словно армии Тухачевского не существовало.
Может, так оно и было?
Утром Каппель вошел в Симбирск. Улицы, вызолоченные ярким солнечным светом, были пустынны, в городе даже не лаяли собаки, словно муравьевцы, пока властвовали, выловили их всех до единой. Кто знает, может, так оно и было – ведь у Муравьева на службе находилась китайская рота Сен Фуяна, а китайцы, как и корейцы – большие доки по части собачатины. Вот в городе и не осталось ни одного тузика.
Каппель сузившимися, каким-то враждебными глазами осмотрел улицу, на которой остановился штабной эскадрон.
– Не люблю таких городов. Всякая тишина обладает зловещими свойствами и враждебна человеку.
На соборной площади лежали двое убитых красноармейцев – погибли ночью. Каппель приказал коротко:
– Похоронить!
В кадетском училище, в комнате номер четыре, с пола даже не стерли кровь убитого Муравьева, она въелась в старые нециклеванные доски, почернела и перестала походить на кровь – будто бы темную краску пролили…
– Владимир Оскарович, может, займем училище под штаб? – предложил Каппелю Синюков.
– Нет. В Симбирске мы задерживаться не будем – сегодня же двинемся на Казань.
Комучевцы Каппеля набирали скорость, победный запал этот нужно было не только сохранить, но и развить, а это было непросто: никому уже не хотелось воевать, люди устали от войны, от стрельбы, от того, что на мир уже четыре года подряд приходится смотреть сквозь прорезь прицела… Нервы не выдерживали.
Единственное, чем Каппель мог поддержать своих людей – кроме, конечно, надоевшей трескотни, что Россия должна быть свободна от большевиков, – хорошим питанием, хорошим – ладным, как говорят на Волге, – обмундированием да почаще поить их сладким вином победы. Других рецептов нет.
И алый флаг Комуча, под которым уже два с половиной месяца воюют его солдаты, надо сменить на другой. Можно было вернуться к «матрасу» – бело-красно-голубому флагу царской России, но он был здорово замазан, запятнан, неудачно застиран. Каппель не хотел ходить под этой линялой торговой тряпкой, ему больше нравились другие цвета. Например, цвета георгиевской ленты на славных солдатских крестах: оранжевый и черный, с перемежающимися полосами.
«Под этим флагом мы будем ходить в бой, – думал он, глядя на пустынные симбирские улицы, – и хотя Комуч возражает против погон, погоны у моих солдат должны быть. Погоны – это то самое, что дисциплинирует людей, митингующий сброд превращает в солдат… Как ж можно солдату быть без погон? Погоны не носят только дезертиры…»
Спокойное, чуть припухшее лицо Каппеля неожиданно обузилось, проглянуло в нем что-то татарское, скуластое… Может, и не немцем, не прибалтом он был вовсе, а татарином, потомком монголов, с воем и свистом ворвавшихся в тринадцатом веке на тихую нашу землю?
Каппель уже понял – более того, он знал это точно, – он возьмет Казань, а вот дальше, за Казанью, начнутся трудности. На фронте появился Троцкий – председатель Реввоенсовета Красной России, человек жестокий, мающийся желудком, а желудочники, как известно, – люди беспощадные.
Даже среди белых стал широко известен приказ Троцкого, пущенный по частям, от солдата к солдату, из рук в руки: «Предупреждаю, если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар, вторым командир. Мужественные храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники, предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной Армии. Троцкий».
Прочитав грозную бумагу, Каппель произнес просто:
– Такие приказы издают беспомощные люди. Солдата в атаку надо поднимать иначе. Во всяком случае, не бумажками, в которых слишком много желчи…
Он скомкал бумагу, подержал мгновение в руке, словно пробуя на вес, и швырнул в мусорную корзину.
В Симбирске Каппель оставил два комендантских взвода с одним станковым пулеметом «максим» и двумя «люськами» – ручными пулеметами «люис» – для поддержания порядка в городе и спешно двинулся на север, к Казани.
Скорость, которую он набрал, терять было нельзя ни в коем разе.
Беспокоило то, что по нему в любую минуту могли ударить с воды: с Балтики по Мариинской системе на Волгу переправились боевые миноносцы «Прочный», «Прыткий», «Ретивый». Противопоставить им на воде было нечего. Каппель приказал внимательно осмотреть пароходы, стоявшие в волжских затонах, и те, которые годились для военных действий, укрепить броневыми листами и вооружить пушками.
Он понимал, что Казань – это не Самара и не Симбирск, драка за город предстоит нешуточная, к ней надо хорошенько подготовиться.
За создание Волжской флотилии взялся человек, от воды и кораблей далекий – генерал Болдырев, по происхождению, кстати, из рабочих: Болдырев был сыном кузнеца.
Генерал знал толк в металле, был хорошо знаком с инженерными науками, имел светлую голову. Довести Болдыреву дело по созданию Волжской флотилии не дали – генерал был назначен главнокомандующим вооруженными силами Комуча, названными, как мы знаем, с размахом – Народной армией.
Офицерам, служившим в Народной армии, было предложено снять погоны. Болдырев пытался противиться этому, но безуспешно: Климушкин на заседании Комуча несколькими ослепительными громкими фразами разбил его.
Каппель тем временем взял Мелекесс и Бугульму.
С запада к Казани подтягивались боеспособные красные части – курские, белорусские, брянские полки. Особый, Мазовецкий и Латышский конные полки, Московский полк, бронепоезд «Свободная Россия», отряд аэропланов, отряд броневиков – в общем, потасовка затевалась крупная.
Троцкий наводил порядок в Красной армии железной рукой, не щадил никого, ни старых, ни малых. Из Симбирска в Казань эвакуировался штаб Восточного фронта во главе с новым командующим Вацетисом, здесь находилось банковское золото России, сюда была эвакуирована главная военная академия – Генерального штаба, вместе с преподавателями и офицерами-слушателями, в Казанском кремле размесилось многочисленное сербское воинство.
Посидев над картой, Каппель пришел к выводу, что его преимущество сейчас заключается только в одном – в быстроте действий. Надо стремительно атаковать. Если он промедлит хотя бы немного, затянет, упустит время – потеряет все.
Никто не видел в эти дни, чтобы Каппель отдыхал, но лицо у него не было усталым – лишь тени пролегли под глазами да заострились скулы…
Полурота Павлова расположилась на отдых в кудрявой зеленой рощице, густо заселенной певчими дроздами. Пели дрозды самозабвенно, громко, ярко, они славили последний месяц лета – самый сытый для них, воздавали хвалу этому неуемному солнцу, занявшему чуть ли не половину неба, созревающей рябине – лучшему лакомству для дроздов, теплу…
Поговаривали, что зима в этом году будет ранняя, морозы вызвездятся злые, снега, же выпадет мало, совсем мало, так определили старики по своим «ревматическим» приметам.
– Я пение дроздов люблю больше соловьиного, Варюша, – проникновенно произнес поручик, присев на сухой почерневший пенек рядом с телегой. – Соловьиное пение – изысканное, предназначено для утонченного вкуса, оно более для женщин, чем для мужчин, а пение дроздов – самое что ни есть наше – для нас, для солдат. Я бы в марш Народной армии включил дроздовые трели.
Варя улыбнулась:
– Вы – увлеченный человек, Александр Александрович.
– Не Александр Александрович, а – Саша, – поправил Павлов.
Сестра милосердия отрицательно качнула головой:
– Простите, Александр Александрович!
Поручик поднял обе руки, лицо его сделалось огорченным: в этом он был сам виноват – при знакомстве с Варей Дудко представился Александром Александровичем. На западе громыхнул далекий задавленный гром. Павлов приподнялся на пеньке.
– Не пойму, что это, – проговорил он, – то ли гроза, то ли орудия ударили залпом.
Раскат грома повторился.
– И кто ее выдумал, войну эту? – неожиданно беспомощно, с какой-то странной слезной обидой, натекшей в голосе, проговорила Варя, смахнула с уголка глаз то ли пылинку, то ли мокринку, поглядела на Павлова с укором, словно он мог ответить на этот сложный вопрос, зябко передернула плечами.
– Вы, случаем, не заболели, Варя? – встревожился Павлов.
Варя качнула головой:
– Нет! – снова смахнула с уголка глаза что-то невидимое, мешающее смотреть.
Когда раскат грома всколыхнул пространство в третий раз, Павлов стремительно поднялся с пенька, озадаченно похлопал прутиком по сапогу.
– Пушки, – сказал он. – Пушки бьют. Целая батарея.
– Это опасно? Не попадем ли мы в какую-нибудь ловушку?
– Не должны попасть. – Павлов суеверно сплюнул через левое плечо и сорвал какую-то увядающую былку с узкими продолговатыми капелюшками-семенами, висящими на стебле. Он растер ее пальцами, понюхал и сказал восхищенно:
– Ах, как здорово пахнет! Этой травкой, говорят, лечат запойных людей – она делает их невинными и чистыми, как младенцы.
– Что это?
– Чабрец! – Павлов вгляделся в кудрявую зелень рощицы, выкрикнул зычно: – Ильин!
Через несколько минут запыхавшийся прапорщик предстал перед Павловым:
– Гражданин командир!
Поручик сердито оборвал его:
– Не ерничай!
Из Самары, перед самым тележным походом, прямо в войска пришла сердитая «указивка» Комуча – к командирам обязательно обращаться не по званию, а по должности: «гражданин комроты», «гражданин комбат», «гражданин комбриг». Бумага эта вызвала среди офицеров нервный недовольный шепоток – такое не укладывалось в представления о дисциплине, некоторые офицеры, например полковник Синюков, вообще отнеслись к этому брезгливо, поручик Павлов принадлежал к числу таких офицеров.
Круглое мальчишеское лицо Ильина покраснело: понял, что с поручиком на эту тему лучше не шутить.
– Возьми с собою пять человек, возьми коней и быстрее вон туда. – Павлов ткнул пальцем на запад, откуда несколько минут назад слышалась канонада. – Неведомая батарея сделала три залпа. Надо узнать, что за батарея, кто в ней, сколько орудий и нельзя ли ею овладеть. Ступай и возвращайся назад со сведениями как можно скорее.
– Есть! – Ильин по всей форме взял под козырек, скосил насмешливые глаза на сестру милосердия и исчез.
– Хороший офицер будет, – бросил ему вслед Павлов.
– Если только офицеры в нашей армии вообще останутся, – Варя улыбнулась, – не то будут одни граждане комбриги, комдивы, комвзводы… Есть что-то козье в этих названиях.
Наступила очередь Павлова улыбаться.
– Армия без офицеров не имеет права на существование, – сказал он, – это будет уже не армия, а банда. Офицеров… вообще всех нас уже попытались превратить в бандитов. Нас, Варюша, убрали с фронта под лозунги «Долой войну!», и мы вернулись в Россию, не имея ничего, кроме ран и орденов. До сих пор мы не разобрались в бесовщине мирной жизни. У нас нет ни домов, ни квартир – жилье себе снимали на последние гроши… Вы слышали о судьбе прапорщика Дыховичного?
– Нет.
– Он застрелился из собственного пистолета, попросив взаймы патрон – у него даже патронов не было, не говоря о деньгах. Проиграл в бильярд грузину – корнету Абукидзе, поставил на «русскую рулетку» и снова проиграл…
– А корнету… ему что… за это ничего?
– Корнета за подлость и мелкую душу через несколько дней положили рядом с Дыховичным. Корнет получил то, чего хотел. Часть офицеров вообще обзавелась курами и огородами… Офицерство, одинаково лояльно настроенное и к монархистам, и к большевикам, и к социалистам, и к анархистам, начало гнить. Жалованье Москва перестала платить, казенным довольствием, как раньше, уже совсем не пахнет. Худо стало всем нам. Мы с капитаном Вырапаевым, например, промышляли тем, что ловили в Волге сомов и продавали их. Разве это дело для офицера-фронтовика? Так и догнили бы мы, Варюша, в своих чуланах, если бы не самостийность Малороссии, захотевшей подстелиться под германский сапог, если бы не потеря Крыма и Закавказья, если бы не Финляндия, сданная Лениным в декабре семнадцатого года финским националистам, если бы не угроза отделения от России Сибири и Дальнего Востока… Это и заставило всех нас подняться. Потому мы и сидим в этих телегах, потому и держим винтовки. – Речь поручика была горячей, говорил он громко, вдохновенно, а сам все тянул и тянул голову вверх, желая услышать далекий орудийный грохот и угадать, что же все это значило.
Варя слушала его, не перебивая, лишь качала головой да с печальным видом мяла в пальцах травинку. В лесу в нескольких местах горели костры, звучал негромкий говор, кто-то варил кулеш, а кто-то со дна котелка выскребал остатки старого, ругался, если в ложке оказывался какой-нибудь чересчур проворный жучок. Немногочисленное воинство это совсем не походило на армейское подразделение – больше смахивало на бригаду косцов, забредших в рощу перевести дух, либо лесорубов, решивших пообедать под ласковыми белыми березами.
На востоке снова громыхнул гром; лицо у Павлова потемнело, сжалось, он откинул в сторону размятую былку чабреца:
– Послал я Ильина, конечно, потому, что послать больше некого было… Как бы он в беду не угодил.
– Прапорщик – человек проворный, – сказала Варя, – увидит опасность – обойдет.
– В чем, в чем, а в этом я как раз не уверен. Парень он действительно толковый, но, во-первых, горячий, а во-вторых, слишком молодой. У него нет опыта войны, который есть у фронтовиков.
Пока стояли в лесу, прискакали разведчики с Волги. Они прошли по берегу реки двенадцать километров, засекли серый военный корабль, который медленно тащился по фарватеру, с корабля по разведчикам ударил пулемет, и конники, развернувшись, ушли.
– Это флотилия с Балтики, – уверенно проговорил Павлов, – спешит на помощь к Тухачевскому, флаг на корабле был красный? – спросил он у командира разведки, черноусого фельдфебеля, перетянутого новенькой двойной портупеей.
– Красный.
– Они, балтийцы. Неплохо бы этому кораблю какую-нибудь ловушку подстроить.
– А как? – фельдфебель развел руки в стороны. – Для этого надо как минимум пару таких посудин иметь.
Павлов погрустнел:
– Да, с берега миноносец не взять. Скорее, он нас возьмет. – Поручик сделал рукой выразительный жест. – Что еще было замечено?
– В сторону Казани проскакал эскадрон красных.
– Так, та-ак… Эскадрон красных. – Павлов достал из полевой сумки блокнот, сделал в нем пометку, потом еще одну.
На ясное небо наползла тучка, она была одна-единственная во всем огромном пространстве, с отвисшим животом, с кудрявыми краями, медленная, – и умудрилась точно попасть на солнце. Она дрогнула, встряхнулась, из нее на землю посыпался мелкий ласковый дождик.
Варя обрадованно подставила под капли руку.
– Теплый дождик, грибной.
Поручик Павлов озабоченно глянул на серебряную луковицу, висевшую у него на руке: группа Ильина должна бы уже вернуться… Может, что-нибудь случилось?
Если что-нибудь случилось – была бы стрельба, они бы ее услышали, но стрельбы не было… Тучка продолжала осыпать землю ласковым тихим дождем.
Группа Ильина вернулась через полтора часа. У прапорщика была перевязана голова. Свежее красное пятно расползлось по повязке.
– Господи, прапорщик! – удивленно воскликнул Павлов. – Что стряслось?
– Две батареи красных окопались на тракте. В очень, выгодном месте, на высоте. Насыпали брустверы. Красные ждут нашего наступления по тракту.
– Это понятно. А что за канонада была?
– Снарядов у красных много – делали пристрелку.
– Залпами? – не поверил Павлов.
– Такой, Ксан Ксаныч, у них главный артиллерист, с выдумкой… Держит он под прицелом все пространство. По тракту не пройти.
– А по железной дороге?
– Железная дорога тоже сильно охраняется, мышь не проскочит. Если по железке – могут быть большие сложности.
Впрочем, это Павлов знал и без прапорщика.
Было ясно, что Тухачевский ждет появления Каппеля в местах наторенных, наезженных, много раз исхоженных, тех, что уже стали привычны.
– А с головой что?
– В лесу наткнулись на взвод красных. Пуля задела по касательной, сорвала лохмот кожи.
– Варюша! – зычно позвал поручик.
Ильин испуганно замахал руками.
– Не надо, не надо… Право, не стоит тревожиться!
– Как это не надо? Надо, прапорщик! – прежним зычным голосом придавил Ильина поручик. – Не то какой-нибудь антонов огонь[13] прицепится… Тогда махать руками будет поздно.
Прапорщик покорно опустился на пенек, который облюбовал Павлов, свесил с коленей красные, неожиданно сделавшиеся тяжелыми, чужими руки. Варя нравилась ему так же, как и поручику, – было сокрыто в ней что-то неземное, нежное, рождающее в душе ответную нежность; круглые мальчишеские щеки Ильина попунцовели.
– Право, Варвара Петровна… – попросил он, – не надо. Не тревожьтесь.
Но девушка уже размотала бинт на голове прапорщика, свернула в трубочку – бинт этот, выстиранный, снова пойдет в дело.
Павлов, склонившись над телегой, начал писать донесение Каппелю, в котором сообщал подполковнику и о миноносце, и о батареях, перекрывших дорогу на Казань, и о стягивании красными сил к этому городу. Оторвался он от писанины и поднял голову, поправил пальцем растрепавшиеся, влажные от дождя усы и спросил:
– Ну, что с прапорщиком, Варя? Жить будет?
Та тихо рассмеялась:
– Надежды есть…
– Варвара Петровна, ну зачем же так? – еще более заливаясь краской, произнес прапорщик.
– О, ты даже отчество Варюши знаешь? – запоздало удивился поручик. – А я – каюсь, не знаю…
Прапорщик промолчал. Хотя Палов подставился – ответ на эту фразу мог прозвучать резко и остроумно. Только в груди, под сердцем, у него заполыхал огонь, растопил все внутри, красные круглые щеки погорячели, он выразительно глянул на поручика, тот взгляд прапорщика засек, все понял – хмыкнул и вновь углубился в бумагу.
Через десять минут всадник повез к Каппелю донесение.
Каппель атаковал Казань внезапно, ночью, когда на черном небе даже звезд не было – куда-то попрятались, – испуганные, притихшие, они словно растворились в сажевой глуби. Подполковник со своим отрядом благополучно обошел и Волгу, которую охраняли миноносцы, и главный почтовый тракт, перекрытый артиллерией, и проселочные дороги, на которых фланировали крупные красные разъезды.
Вышел Каппель к Казани внезапно, в темноте, и без остановки, без предварительной подготовки двинулся на штурм. Он рассчитывал, что его поддержат офицеры, пошедшие служить к красным. Впрочем, многие из них, приняв присягу в Красной армии, так в этой армии и остались. Вацетис[14], Каменев, Коленковский, Менжинов, Андерс, кавалер золотого Георгиевского оружия Балтийский… Но многие все-таки вновь надели на плечи погоны.
В июне восемнадцатого года из Екатеринбурга в Казань была переброшена Академия Генерального штаба России. Каппель рассчитывал, что ее преподаватели и слушатели перейдут на его сторону – тем более что его, бывшего выпускника Академии, там хорошо знали.
Часть преподавателей и слушателей действительно перешла на его сторону. Но не все.
В Казанском кремле засел большой отряд сербов, отказавшийся выполнять приказания красного командования. Городские жители поддержали сербов. Обстановка в городе сложилась самая неблагоприятная, и Тухачевский вместе со штабом командующего фронтом Вацетиса был вынужден срочно бежать из Казани в Свияжск. Причем сам Вацетис с комендантской ротой, охранявшей штаб, едва не попал в плен.
В Ижевске рабочие заводов образовали свои полки, к ижевцам присоединились воткинские повстанцы – также рабочие. Это была мощная сила, подчиняющаяся собственной воле и железной дисциплине; взялись за дело ижевцы и воткинцы серьезно – им надоели порядки, которые на их заводах завела новая власть, надоело бесхлебье. В общем, Поволжье заполыхало.
Это было на руку белым силам. Впрочем, если Каппель верил в ижевцев и воткинцев, то в собственное самарское правительство, в Комуч, не верил совсем – оттуда шли бумаги, противоречащие одна другой, невыполнимые, а то и просто глупые. После первых побед правительство присвоило ему звание полковника, но новое звание это не грело Каппелю ни душу, ни сердце.
Капитан Вырыпаев, сумевший буквально из ничего создать собственную артиллерию, стал подполковником.
Единственная надежда была, что в Самаре в военном штабе остались сидеть мыслящие люди – подполковник Галкин и два его заместителя – Лебедев и Фортунатов. Все трое, кстати, были эсерами. Но очень часто эта надежда так и оставалась надеждой – в силу политических привязанностей этих людей.
Еще был разумный человек генерал-майор Болдырев. Но что он мог сделать один?
Каппелю не хватало людей, катастрофически не хватало – чтобы проводить крупные операции, нужны были совершенно иные силы. А сил у Каппеля было, как он сам выразился, с «гулькин клюв» – обычный «летучий полк»: два батальона пехотинцев-добровольцев, два артиллерийских эскадрона и батарея орудий. Все остальные – писари, комендантский взвод, ездовые, даже маленькая подрывная команда были не в счет.
Офицеры, которые успели обжить теплые места у разных молодых вдовушек, не спешили эти места покидать.
В Симбирске в отряд Каппеля вступило всего лишь четыреста человек юнкеров и офицеров, более двух тысяч остались безучастны ко всем призывам – в штабе Каппеля они так и не появились. Впрочем, Каппель не ругал их – люди устали от войны.
Несмотря на внезапность удара, бой в Казани все-таки длился несколько часов.
Хорошо сработала небольшая речная флотилия, которую успел создать из обыкновенных гражданских пароходов Болдырев. Она ушла в одну из проток, пропустила мимо себя миноносец, медленно ползущий к родине Ильича – городу Симбирску. Троцкий после падения Симбирска объявил: «Социалистическое отечество в опасности!» Сдачу города он перенес как личную оплеуху, залепленную ему прямо по физиономии, и кинул на поддержку морские силы. Речная флотилия слаженно, вместе с отрядом Каппеля атаковала Казань.
Каппель, так и не надевший на плечи полковничьи погоны, знал, что в Казани находится золото Российского государства – половина всего запаса. Вторая половина обреталась не так далеко от Казани – в Нижнем Новгороде. Охранялись обе кладовые как зеница ока. В частности, в Казани золотой запас охраняли два полка латышских стрелков.
Поручик Павлов со своей полуротой очутился в самом центре боя. Латыши умели драться. Угрюмые, жесткие, настырные, они неплохо стреляли из винтовок, но у них не было того, что в достаточном количестве оказалось у Павлова при штурме Казани – пулеметов.
Отряд Каппеля вместе с дивизией генерала Бокича назывался теперь Народной армией. Он увеличился: с появлением новых людей в нем появилось и много нового оружия. Среди прибывших повстанцев из Ижевска и Воткинска оказались такие умельцы, которые ни в чем не уступали Лесковскому Левше. Они, кажется, могли превратить в пулемет даже обычную швейную машинку «Зингер».
Один взвод ижевцев перед самым штурмом Казани был передан для усиления полуроте Павлова. Поручик осмотрел каждого новичка и остался доволен – эти мужики латышским стрелкам не уступали ни в чем.
Когда на улице солдаты Павлова наткнулись на завал, за которым сидели латышские стрелки, поручик, поняв, что ждет его людей, остановил полуроту и скомандовал зычно:
– Наза-ад!
Полурота поспешно отступила в темный, совершенно вымерший переулок, в котором находилось несколько купеческих лавок, украшенных жестяными вывесками, и приказал поднять на крыши домов два пулемета.
Наверх полезли ижевцы: четыре человека на крышу одного здания, четыре – на противоположную сторону, на крышу старого купеческого особняка. Пулемет «максим» – штука тяжелая, меньше чем четверм с пулеметом не справиться. Павлов тряхнул головой:
– Эх, жалко, «люсек» нету… Пару «люсек» бы сюда! Действительно, ручной пулемет «люис» – самое милое дело для войны на крышах. Но «люисов» не было.
Стрельба уже слышалась в нескольких местах города. Где-то совсем недалеко, в двух или трех кварталах отсюда, горел дом, неровное пламя бродило тревожными отсветами по низкому небу; латыши, сидевшие за завалом, нервничали – у них не было сведений о том, что происходило вокруг.
– Без моей команды – не атаковать, – предупредил Павлов своих людей и особо подчеркнул это, обращаясь к воткинцам, – и огня не открывать… Все – только по моей команде.
– А какая будет команда? – деловито осведомился старший одного из пулеметных расчетов, плечистый мужик с пышными соломенными усами.
– Выстрел из маузера. – Павлов хлопнул себя по кобуре, болтавшейся на длинном «морском» ремне – этим оружием он обзавелся несколько дней назад.
– Понятно, – кивнул ижевец.
– Как твоя фамилия будет, мастеровой?
– Дремов.
Латыши продолжали нервничать. Над завалом поднималась то одна голова, то другая – стрельба раздавалась уже совсем недалеко, бой шел на соседних кварталах, здесь же было странно тихо. Павлов внимательно наблюдал за баррикадой. В проулке, скрытом от глаз латышей, вдоль лавок и стен домов расположились его солдаты, притихшие, сосредоточенные. Около дверей скобяной лавки, прижав к боку большую сумку с медикаментами, стояла Варя. Павлов сморгнул, прогоняя с глаз что-то теплое, неожиданно заслонившее взор, и отвернулся.
Сердце у него билось учащенно. Он опять подумал о городе, которого давно не видел и который стал для него родным – о Ельце. Там церквей столько – не сосчитать, и у всех золотые головы, а по городу, рассекая его, течет светлая чистая река, имя которой известно, наверное, каждому ребенку в России… Павлов покрутил головой из стороны в сторону – дышать становилось еще труднее.
Пулеметчики втаскивали свои «швейные машинки» на крыши грамотно – без единого стука. Вот только действовали бы они побыстрее.
Над завалом в рост поднялось несколько латышей. Стрелки озирались недоуменно – не могли понять, что происходит, почему их никто не атакует. Павлов глянул на часы – время шло быстро, а пулеметчики действовали медленно. Он нетерпеливо щелкнул пальцами по стеклу часов: скорее, скорее!
Вновь оглянулся, безошибочно выхватил взглядом из неровной шеренги людей, прижавшихся к домам, Варю и вновь подумал о Ельце. С каким бы удовольствием он прошелся бы вместе с этой девушкой по главной елецкой улице… Там расположена гимназия, в которой он учился. Павлов улыбнулся неверяще – не верил своим мыслям, тому, что такое может быть, и от этого неверия, внезапно родившегося в нем, поручику сделалось горько.
Он снова посмотрел на часы.
С крыши тем временем свесился Дремов, махнул рукой – пулеметы, мол, установлены. Павлов дал ему отмашку – понял, мол, втянул в грудь воздух, как всегда делал перед атакой, перед быстрым бегом, и вытащил из деревянной кобуры маузер.
Поднял его, резко вдохнул, пальнул в сторону баррикады. Было видно, как пуля проворной красной точкой всадилась в перевернутую телегу, отскочила от железного обода и ушла вверх, в черное, начавшее стремительно приподниматься над городом небо.
В ту же секунду на крыше оглушающе резко, с металлическим отзвоном заработал пулемет, на соседней крыше отрывисто, как-то по-собачьи застучал другой.
Павел снова втянул в грудь воздух, оглянулся на своих людей и махнул рукой:
– Вперед!
Когда они подбежали к завалу, живых там почти не было, пулеметы искрошили буквально всех. Павел взметнулся на верх завала, перемахнул через железную погнутую бочку, спрыгнул вниз:
– За мной!
Пулеметы перенесли огонь в глубину улицы, где виднелось темное здание с широким – двухстворчатым – парадным подъездом; пули с треском прошлись по широкому каменному крыльцу и, искрясь ярко, разлетелись в разные стороны, несколько рикошетом ушло вверх, увязло в черной наволочи.
Несмотря на пляску пуль, визг и опасность, на крыльцо из дома выскочили несколько человек, попали под очередь и свалились на ступени. Даже в темноте было видно, как задергались их тела; один из латышей, опираясь на винтовку, попробовал подняться, но пуля выбила из его рук винтовку, и он вновь упал на ступени.
Павлов, увлекая за собой людей, понесся вдоль улицы к зданию, украшенному роскошным крыльцом, увидел ствол винтовки, направленный на него из-под груды тел, валявшихся на ступенях, выстрелил, целя в раненого латыша, стремившегося отрезать его, не попал, выстрелил еще раз. Латыш выстрелил ответно. Оба выстрела – мимо. Очередной пулей поручик заставил латыша бросить винтовку.
До крыльца оставалось несколько метров, когда из двери опять выбежали люди, выставили перед собой стволы винтовок. Павлов отпрыгнул в сторону, на лету несколько раз саданул из маузера – ударил удачно: свалил двух латышей. Один из них взмахнул руками и распластался, будто птица, спиной навалился на своих товарищей и, накрыв их, вогнал назад в помещение.
Дверь закрылась вновь.
Полурота поручика Павлова за несколько минут окружила громоздкое здание, кто-то бросил в приотворенное окно брикет тола, похожий на кусок хозяйственного мыла с торчащим из боковины шнурком запала.
Внутри здания рванул взрыв.
– Отставить динамит! – закричал Павлов. – Так мы половину Казани спалим.
Из окна высунулся винтовочный ствол, раздался выстрел. Мимо! Выстрел был неприцельным.
Двери здания вновь распахнулись, на улицу опять вывалились люди – это были латышские стрелки. Спустя мгновение все они погибли под штыками ижевцев – хмурые заводские работяги предпочитали не стрелять, а действовать штыками.
– Правильно! – крикнул им ободряюще Павлов. – Еще Суворов говорил: «Пуля – дура, а штык – молодец!»
Перед ним мелькнуло и исчезло лицо Дремова. Поручик, если честно, побаивался за ижевцев – как-то они себя поведут? В боях-то ведь еще не были… Ижевцы повели себя так; как надо, бились упрямо. Пулеметчик Дремов, оставив «швейную машинку» на второго номера, появлялся то в одном месте, то в другом, проворно орудовал штыком, ощерив зубы, бил, колол. В драке его кто-то зацепил, и лицо у Дремова было залито кровью.
Уже в самом здании, в вязкой продыми на Павлова прыгнул дюжий латыш, перебинтованный грязной марлей, косо державшейся у него на голове, с белыми слезящимися глазами и ртом, распахнутым в тихом яростном рычании. Латыш ткнул в Павлова штыком, поручик увернулся, навскидку выстрелил в нападавшего из маузера, но выстрела не последовало – раздался отчетливый пустой щелчок… Странное дело, но Павлов услышал его в вязком засасывающем грохоте, в дыму, в стрельбе и криках. Латыш щелчок этот тоже засек и в радостной широкой улыбке показал поручику зубы – крупные, крепкие, перекусившие на берегу Балтийского моря хребет не одной рыбине – наделав ловкое движение винтовкой, снова ткнул в Павлова штыком. Движение было коротким, резким, латыш знал, что делал, – видно, не раз ходил в штыковые атаки, впрочем, он понял, что противник у него тоже опытный, взять просто так не удастся, и оказавшийся перед ним офицер тоже хорошо – накоротке, а не понаслышке – знаком с искусством штыкового боя, поэтому лучше потратить на него патрон.
Латыш стремительно подвернул головку предохранителя, ставя оружие на боевой взвод, и вскинул трехлинейку. Нажал на спусковой крючок. Латышу не повезло так же, как и Павлову. Вместо выстрела раздался металлический щелчок. Поручика словно что-то полоснуло по горлу, он неожиданно для себя торжествующе рассмеялся и, запоздало уходя от выстрела, отпрыгнул в сторону. Если бы выстрел все-таки прозвучал, он точно снес бы Павлову половину головы.
Шансы хоть и были равны – у латыша имелся штык, да и самой винтовкой можно орудовать как дубиной, поручик этот бой не думал проигрывать. Запоздало он ощутил страх – тот самый сдавливающий тисками душу страх, который должен был прийти к нему, когда латыш нажимал на спусковой крючок винтовки, но тогда страха не было – появился сейчас, несколько мгновений спустя. Уворачиваясь от удара штыком, Павлов сделал еще один прыжок, ухватил латыша за рукав и рванул его на себя. Ему важно было выбить из рук противника винтовку. Латыш пошатнулся, выкрикнул что-то непонятное, воронье, картавое, Павлов снова рванул его за рукав.
Латыш оказался мужиком сильным, очень сильным, тем не менее Павлов ухватился одной рукой за винтовку – удалось сделать то, к чему он стремился, – дернул трехлинейку, но попытка оказалась тщетной, – лицо латыша оказалось рядом с лицом поручика. Латыш дохнул на него густым чесночным запахом – когда вечерял, видно, хорошо заел все, что было отправлено в желудок, чесноком, у Павлова от этого крутого духа даже глаза заслезились, в голове что-то помутнело, захотелось откусить латышу нос, он подавил в себе это людоедское желание и вторично дернул винтовку на себя.
Пальцы у латыша были железными, и тогда Павлов, вдруг вспомнив, что в правой руке держит маузер, ударил противника рукояткой в лоб.
У того от боли завращались в разные стороны глаза, делаясь совершенно прозрачными, латыш замычал нечленораздельно, но за винтовку продолжал держаться по-прежнему крепко. Поручик еще раз ударил противника рукоятью маузера в лоб, вложив в удар всю силу, что у него имелась. Такой удар наверняка запросто мог уложить на землю теленка, даже корова и та задрала бы вверх копыта, а латыш вновь устоял на ногах и винтовку в руках держал крепко.
– Отдай винтовку! – неожиданно рявкнул на него поручик.
Вместо ответа латыш отрицательно мотнул головой.
Откуда-то сбоку, как заметил Павлов, на странной замедленной скорости, словно собирался разбегаться, в пространство между противниками вполз испачканный кровью Дремов, он обошел поручика, ткнул концом винтовки в латыша, и тот, захрипев обессиленно, предсмертно, начал оседать на колени. Дремов вышиб дух из него одним ударом.
Дремов с силой рванул винтовку к себе, послышался костный хруст – Павлов только сейчас увидел, что ижевец вогнал в противника штык целиком, по самую пятку.
– Спасибо, – задавленно просипел Павлов, – чуть меня этот трескоед не отправил на тот свет…
Он нырнул за колонну, отщелкнул обойму, тряхнул маузером, выбивая ее из металлического короба, – обойма вывалилась вместе со струйкой дыма, поспешно расстегнул на поясе «кошелек», извлек из него запасной магазин.
Маузер этот был утяжеленный, «долгоиграющий», шестнадцатизарядный; освободившуюся обойму Павлов сунул к себе в карман, поспешно загнал в маузер новый магазин.
– Еще раз спасибо, – пробормотал он благодарно, тряхнул ижевца за плечо, – если бы не ты, лежал бы я сейчас на земле, башмаки сушил…
Поручик поймал себя на том, что обращается к ижевцу на «ты», обтер лицо – показалось, что оно и у него, как и у ижевца, в крови. На ладони остались гарь, грязь, еще что-то, но крови не было.
– Мастеровой, ты ранен? – спросил поручик у ижевца.
Тот тоже отер ладонью лицо, тоже посмотрел на ладонь. Качнул головой отрицательно:
– Не ранен. Это – чужая кровь.
Стрельба затихала. Напоследок, несколько раз в углу этого здоровенного здания грохнула винтовка – непонятно, своя ли, чужая ли, – и все смолкло. Стрельба и взрывы раздавались теперь только в городе. Поручик отогнул рукав, глянул на многострадальные, испачканные грязью и кровью часы.
– Далеко ли до рассвета? – спросил ижевец.
– Далеко. Часа два еще.
Из двух латышских полков, оборонявших Казань, один был уничтожен полностью – в живых не осталось никого, даже командир с комиссаром не сумели спастись. Второй латышский полк, не выдержав натиска каппелевцев, отошел. Троцкий, узнав об этом, едва собственной слюной не захлебнулся от ярости. Взметнул над головой тощие желтые кулаки:
– Ну, латыши соленоухие! Чесночники! Они у меня попробуют мацу из коровьего дерьма!
В прошлом Троцкий был журналистом, и теперь, став представителем Реввоенсовета республики, иногда любил выражаться красиво, замысловато, иногда заковыристо, иногда грязно, умел говорить по-всякому, словом, навыков не растерял. Все зависело от настроения и обстановки. При всем том приближенные знали хорошо: если Троцкий обещал кого-то накормить мацой из коровьего дерьма – обязательно накормит.
К Каппелю присоединился отряд сербских добровольцев под командованием майора Благотича. Поскольку сербы отказались выполнять приказы красных командиров, то Каппель отнесся к ним с некоторым недоверием: точно так же они могут подвести и его самого.
Главным трофеем затяжного ночного боя в Казани было золото – Каппель взял казенное золото России, находившееся в этом городе. Понимая, что красные попытаются отбить это золото, он приказал немедленно пересчитать его и погрузить в вагоны.
Погрузка происходила в жестких условиях, под охраной солдат – полурота Павлова была поставлена в оцепление. Золота, камней, серебра, платины, ценных бумаг было много: набралось сорок пульманов – вместительных прочных вагонов. Четырехосных, между прочим – эти большегрузные вагоны стали выпускать уже тогда.
Второе охранное кольцо выставили чехословаки – они очень внимательно присматривались к дорогой добыче и прикидывали: не удастся ли что-нибудь отхватить? И – впоследствии – отхватили. Такой солидный кусок оттяпали, что через несколько лет смогли открыть в Праге так называемый «Легионбанк» – очень богатую финансовую структуру. А пока сорок пульманов были загружены, что называется, под самую завязку, доверху. Это был дорогой груз.
Самого же Каппеля золото интересовало мало, он был человеком, лишенным жажды богатства и вообще всякой корысти, непритязательным в еде и одежде, а все его имущество помещалось в обычном фанерном чемодане, купленном по случаю на самарском рынке. Крышку чемодана, оборотную его часть, украшали роскошные клейма – оттиски медалей разных выставок: чемодан этот, приобретенный у оголодавшей дамы с голубоватой благородной сединой, был «фирменным».
Волновало сейчас Каппеля совсем не золото, а то, что в своем движении на север – в конечном счете к Москве – он потерял скорость, увяз. Ему бы сейчас уже подступать к Нижнему Новгороду надо, а он все еще продолжает сидеть в Казани. Кстати, если говорить о Нижнем, то там находится вторая половина золотого запаса России; если они возьмут его, то Ленину нечем будет расплачиваться с немцами по Брест-Литовскому мирному договору (доподлинно известно, что Владимир Ильич отвалил кайзеру ни много ни мало 94 тысячи килограммов золота, в декабре 1918 года это золото целиком было захвачено французами). И тогда – все, тогда и будет конец красным. Наступят времена, когда не станет ни красных, ни белых…
Но принять самостоятельное, без отмашки Комуча, решение о походе на Нижний Новгород Каппель не мог – за это его могли снять с должности, за которую он пока не получил ни копейки, и расстрелять. Он запросил по телеграфу Самару: дайте «добро»!
Самара на запрос не ответила.
– Что делать с золотом, Владимир Оскарович? – спросил Синюков, ввалившись в штабной вагон Каппеля.
– Сколько эшелонов получилось в итоге – один или два?
– Два. По двадцать вагонов в каждом.
– Пусть оба эшелона стоят под парами и ждут приказа об отправке. И обеспечьте надежную охрану эшелонам, Николай Сергеевич. Надежная охрана – прежде всего. Беречь эти эшелоны надо как собственные головы. Я думаю, это золото придется отправить в Самару либо в Уфу. Нам с вами… нам с вами, Николай Сергеевич, от этого золота ничего, кроме беспокойства, нет. Меня лично заставляет заниматься этим… металлом, – Каппель в слово «металл» вложил долю иронии, даже какого-то странного презрения, – только одно обстоятельство: металл этот принадлежит России. Кстати, мне доложили, что кроме российского золота тут еще находится золотой запас Румынии. Кажется, в слитках. Но найти его, и тем более отличить российское золото от румынского мы пока не в состоянии. Э! – в голосе Каппеля появились досадливые нотки. – Что же по мне, то я бы никогда не имел с ним дела!
Золота досталось много: сорок пульманов – это сорок пульманов. А если быть точнее, то золотой запас, взятый в Казани, тянул на 657 миллионов рублей. Это не просто много – а очень много.
У Каппеля имелись сведения о том, что Ленин принял решение перевезти золотой запас из Казани в более безопасное место, более того – лично утвердил состав группы, которая должна была заниматься этим делом – возглавил ее старый член партии Андрушкевич, Входили в группу кроме Андрушкевича еще пять человек: Добринский, Богданович, Наконечный, Леонов, Измайлов.
Группа эта прибыла в Казань 28 июля 1918 года, решила погрузить золотой запас на пароходы и отправить его по Волге в Нижний Новгород, а оттуда перевезти на Оку. Эвакуация золота началась 5 августа, но ее сорвал Каппель своей стремительной атакой: на пристани появилась целая рота комучевцев, и Андрушкевич понял, что золото он не спасет, погибнет вместе с ним, и отступил.
Впрочем, он все-таки успел вывезти из Казани на четырех автомобилях сто ящиков золота. Помог казанский министр финансов Бочков – если бы не он, запас, попавший в руки к Каппелю, потянул бы не на 657 миллионов рублей, а на сумму гораздо большую.
Когда казанское золото очутилось уже в Сибири, в распоряжении правительства Колчака, то в Омске министерством финансов была обнародована другая цифра – сведения, между прочим, официальные, подтвержденные подписью министра. Вот текст, опубликованный в газете в ноябре 1918 года:
«Всего запасов из Казани вывезено золота:
а) в русской монете на 523 458 484 руб. 42 коп.
б) в иностранной валюте на 38 065 322 руб. 57 коп.
в) в слитках на 90 012 027 руб. 65 коп.
Всего: 651 535 834 руб. 64 коп.»
Произошла усушка с утруской на пять с половиной миллионов золотых рублей. Куда подевались эти деньги – можно только строить предположения. Каппель к их исчезновению не имеет никакого отношения.
– Всякое золото обладает отрицательным зарядом, колдовской силой, способной погубить человека, и далеко не одного, она способна погубить целую армию, – сказал он, потер руки, словно ему было холодно, хотя в Казани и вообще на Волге стояла жаркая погода. – Когда началась Великая война, господин Путилов, владелец девяти оружейных заводов, очень неглупый человек, сказал, что именно золото приведет Россию к революции, а революция, в свою очередь, погубит Россию. От буржуазной России мы незамедлительно перейдем к России рабочей, а от нее – к России крестьянской. Круг таким образом будет замкнут. Начнется анархия, распад, пугачевщина… Дословность, точность пересказа я не гарантирую, но мысль господина Путилова я передаю верно. Он боялся анархии, крови, разнузданности, бессмысленности, беспорядков, жестокости толпы… Я этого тоже очень боюсь.
– Этого все боятся, Владимир Оскарович. – Синюков прижал руки к кителю.
Каппель глянул в окно, по лицу его проползла озабоченная тень, он неожиданно прицокнул языком:
– Эх, какое дорогое время мы теряем! Нам бы сейчас двинуться на штурм Нижнего… А мы тут сидим, протертыми котлетками балуемся.
– Я на кухню велел подать живого осетра, – сказал Синюков, – несколько штук всплыло – оглушило снарядом. Здоровенные боровы. Голова едва в чугунок влезает. – Синюков развел руки в стороны, жест был красноречивый.
Каппель невольно позавидовал полковнику – никаких терзаний у человека. Такие люди долго живут, прекрасно чувствуют себя в любой обстановке, они бывают храбры в бою, любят крепкое вино и не держат зла… Каппель же был слеплен из другого теста. Хотя в храбрости ему тоже нельзя было отказать – в Великой войне он был дважды ранен, награжден боевыми орденами и умом, острым, способным все схватывать на лету, не был обделен… Недаром он окончил одно из самых блестящих учебных заведений России, по-настоящему аристократических – Академию Генерального штаба.
Но он бы никогда не смог с такой легкостью прийти к командиру и сказать ему об осетре, поданном на кухню, – сделал бы то же самое, только не стал бы об этом сообщать. Он не мог – не хватало пороха – поведать какую-нибудь плоскую, хотя и веселую байку или запросто пожаловаться на несварение желудка, а Синюков все это может… Характер у Синюкова легкий, общительный – завидный характер.
– Бог даст, будем наступать и на Нижний, – запоздало проговорил Синюков.
– Но время, время, время! – не удержавшись, воскликнул Каппель. – Мы теряем дорогое время!
Глаза у него неожиданно сделались влажными, размягченными, он отошел от окна к столу, на котором была расстелена карта, и склонился над ней.
А тем временем с отступившими красными частями разбирался сам Троцкий.
Он, сутулый, худой, едкий, с желтым, странно истончившимся лицом, подслеповатый, с крикливо-резким голосом, приехал в уцелевший латышский полк – как мы знаем, один полк был уничтожен полностью, второй отступил и потому уцелел. Сопровождали Троцкого четыре грузовика охраны с дюжими, вооруженными пулеметами стрелками.