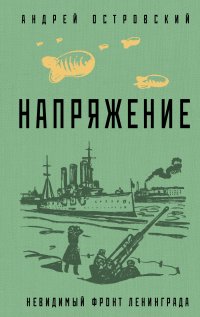Читать онлайн Напряжение бесплатно
- Все книги автора: Андрей Островский
Ночь не скроет
1
К вечеру с Балтики потянуло сырым холодом. Ветер гнал сизую рванину туч над самыми крышами; временами на город обрушивался ливень, и тогда из водосточных труб шумно и гулко выплескивались пенистые потоки.
Потом ветер, как нередко бывает весной, внезапно утих. Небо осталось затянутым ровной, без полутонов, пеленой; лишь далеко на западе слабо желтела, словно приклеенная к серому холсту, полоса. Она не светила, но угадывалась, и постовой, выйдя на проспект, невольно повернул ей навстречу. Шел он медленно, вяло покачивая короткими руками, иногда останавливался на краю тротуара, точно не зная, куда бы пойти, потом переходил на другую сторону пустынного проспекта и шагал дальше по одному ему известному маршруту.
Участок был большой, но хорошо знакомый. За Нарвскими воротами брал свое начало проспект, бывший в старину Петергофским трактом. Серьезно он начал застраиваться после семнадцатого года, и разностильные дома, поднятые по его сторонам за каких-нибудь два-три десятилетия, зримо носили на себе отпечаток архитектурных веяний до- и послевоенного времени. И только верстовой столб, счастливо уцелевший на перекрестке, напоминал о том, что это была когда-то самая заурядная проезжая дорога.
Пересекали проспект узкие улицы, не столь светлые и чистые. Они вели к длинным глухим заводским заборам, складам, автомобильным паркам. Сюда же выходил задами небольшой сад. Зажатый с двух сторон зданиями, он ничем особо не привлекал, если бы не парадная решетка, на которую неизменно обращали внимание иностранцев гиды. Она не выглядела легкой, стройной, невесомой, как фельтеновская у Летнего сада, хотя и была отлита из того же металла. Наоборот, сложный рисунок, построенный на плавных линиях, завитках, словно застывших завихрениях волн, был массивен, груб, подобно кружеву, которое бы вздумали сплести из корабельных канатов. Посредине, между тяжелыми, оштукатуренными столбами-брусьями, чугунные ветви так же плавно огибали пустоту, образуя овальную раму. До революции, когда ограда стояла у Зимнего дворца, в рамах сидели двуглавые орлы. Но потом решетку перенесли сюда, гербы сняли, так ничем их не заменив, и она осталась стоять, внушительная и слишком уж роскошная, прикрывая со стороны проспекта этот невзрачный садик.
После полуночи наступала томительная пора дежурства. Тишина и безлюдье как бы тормозили время, и минуты тянулись мучительно долго. Постовой подошел к дворничихе, дремавшей у дверей парадной на деревянном ящике.
– Что, холодно? – спросил он глуховатым голосом, потирая озябшие руки. – Говорят, заморозки ожидают.
– А чего ж им не быть, – охотно ответила женщина, запахивая на груди ватник. – Ладожский лед пошел.
– Поздно что-то нынче.
– Так ведь и зима-то какая была, поздняя.
– Зима, – вздохнул милиционер и пошел.
На углу он услышал какой-то щелчок, похожий на далекий пистолетный выстрел, поднял настороженно голову, проверяя себя и оценивая, что бы это могло быть, взглянул на часы и быстро зашагал к саду…
Вскоре к старинной ограде подъехала синяя «Победа». Люди, поспешно вышедшие из нее, обогнули карликовый пруд, пробежали по центральной аллее и свернули на боковую. Впереди, натянув поводок, бежала овчарка.
На скамейке в конце аллеи сидел человек в коричневом пальто, запрокинув голову. Было похоже, что он спал. Сзади валялась в луже крови продырявленная пулей кепка. Старший, с погонами полковника, подошел к человеку, приподнял его руку, еще хранившую тепло, и отпустил. Она упала на колени.
– Когда вы услышали выстрел? – спросил он постового.
Тот ответил.
– А где вы находились в это время?
– У двадцать третьего дома. Ходил по той стороне, хотел проверить дворы, и тут – выстрел.
– Ходил, ходил, – ворчливо проговорил полковник Быков, глядя на скуластое напряженное лицо милиционера. – Ходите не там, где надо. Кто-нибудь вышел из сада, вы видели?
– Нет, никого не было. Это точно.
– Составляйте рапорт о происшествии и выясните, не видел ли кто-нибудь людей, выбегавших из сада. А вы, – кивнул полковник двоим в штатском, – приступайте к осмотру.
Шумский, невысокий, коренастый, чрезмерно суетливый, вынул из чехла фотоаппарат. Вспыхнул магний. Потом приблизил свет карманного фонаря к кожаному портфелю, лежавшему на скамейке рядом с убитым, нажал поочередно кончиком перочинного ножа на замки и открыл их.
В портфеле оказались серые брюки, ношеные, но отутюженные, завернутые в газету две новые рубашки из шелкового трикотажа, учебник высшей математики и несколько журналов «Новое время» на русском и французском языках.
– Студент, – предположил Шумский.
– А брюки-то ему должны быть великоваты, – развернув их, заметил Быков. – Что за газета?..
– Прошлогодняя «Ленинградская правда», – сказал Шумский.
– Посмотрите, почта не проставила номер квартиры?
Шумский наскоро обвел светом фонарика края газеты, согнул ее пополам и передал Быкову:
– Абсолютно чистая.
– Как у вас дела? – повернулся Быков к другому оперуполномоченному, Изотову, который молча, невозмутимо копался в карманах убитого.
– Все цело. Заводской пропуск на имя Красильникова Георгия Петровича, шлифовщика механического цеха…
– Его пропуск?
– Да, на фотографии он… Записная книжка, деньги, расческа.
– Сколько денег, вы посчитали?
– Семьсот восемьдесят три рубля[1].
Быков заложил руки за спину, прошелся по аллее грузной, размеренной походкой.
– Какое сегодня число? – спросил он, неожиданно обернувшись.
– Двенадцатое, – ответил Изотов. – То есть сейчас уже тринадцатое.
– Когда на заводах бывают получки?
– По-разному, Павел Евгеньевич. Первого и пятнадцатого, пятого и двадцатого. Где-то в этих пределах.
– Значит, двенадцатого числа в любом случае человек не может получить зарплату?
– Пожалуй, что так, – согласился Изотов, – если только ему не выдали командировочных.
– И если он не таскает сбережений с собой, – вмешался Шумский.
– Все у вас? – спросил Быков Изотова.
– Осталось осмотреть пальто.
В правом наружном кармане лежали мелочь, ключ, свалявшийся трамвайный билет. Из другого Изотов достал клочок бумаги, поспешно вырванный из тетради в линейку.
«Гоша! – читал Изотов, с трудом разбирая косой размашистый почерк. – Сложилось так, что нужно было уехать к 7 часам. Дома буду в 12 час. Извини, пожалуйста».
Записка была сунута в карман небрежно и скомкалась, но сначала кто-то сложил ее вчетверо, надписал тем же карандашом «Г. К.» и пришпилил кнопкой: в четырех местах виднелись проколы.
– Интересно, числа нет. Но есть что-то вроде подписи. Как ты думаешь, что это – «Л», «П» или «И»?
– Пожалуй, «П», – предположил Шумский.
– Да, на «П» больше похоже, – согласился Быков. – Учтите, записка может быть сегодняшней. Видите, какие сгибы? Как вы думаете, кто ее писал – мужчина, женщина?
– По почерку скорее мужчина, – сказал Изотов.
– Мне тоже так кажется, – сказал Быков, осторожно укладывая записку в планшет. – Ладно, осматривайте труп.
Убийца стоял сзади, в кустах. Он выстрелил в затылок Красильникову с близкого расстояния – это было видно по рваной ране и по дыре в кепке. Изотов приподнял голову Красильникова, стараясь не встречаться с открытыми, невидящими глазами, и крикнул:
– Свет, Алеша…
Шумский поднес фонарик.
– Что это? Кровь? – спросил Изотов.
На желтой, тщательно выбритой щеке Красильникова заметно проступала темно-красная черта. Шумский достал блокнот, вырвал чистый листок и потер по щеке.
– Нет, не кровь. Губная помада.
– Я так и предположил, – удовлетворенно сказал Изотов. – Это уже кое-что… Выходит, здесь замешана женщина.
– Не торопись с выводами, – проговорил Быков. – Ищите гильзу. И постарайтесь найти пулю.
– Гильза должна быть где-то в кустах, – сказал Шумский, – но Ларионов не пускает, землю бережет, затопчем.
Ларионов, потный, раздосадованный неудачей, снова присел на корточки с Пиратом за скамейкой – там, в кустах, на влажной, пахнущей весной земле довольно четко отпечатались следы ботинок. Пират прерывисто обнюхивал их, потом рванул поводок, и Ларионов, едва успевая за псом, прыжками помчался в сторону, противоположную проспекту. На улице поводок начал слабнуть. Пират завертелся на месте, завилял хвостом и заскулил.
– Ищи, Пират, ищи, ищи, – строгим голосом настойчиво погонял Ларионов, теряя терпение. – Не можешь? Потерял, да? Потерял? Эх ты, псина…
Они вернулись, и не успевший отдышаться Ларионов сказал Быкову, что след прерывается на мостовой, где проезжавшие машины смешали запахи.
– Очень плохо, – проговорил Быков, насупившись.
– Можно еще попытаться, товарищ полковник, но бесполезно, мостовая мокрая, грузовики все-таки ходят и ночью. Город ведь…
– Ну что ж, давайте искать гильзу и пулю.
Начали от тех же кустов. Ладонями, как слепые, ощупывали холодную землю, слабую нарождавшуюся траву, оголенные корни…
Незаметно рассвело. Исчезла тишина, теперь сад пропитался неумолчным щебетанием птиц. Пробежал вдали трамвай, гудела, разбрызгивая воду, поливальная машина.
– Да погасите вы фонари, диогены, – пробасил Шумский, смеясь, и выключил свой.
– Вот она! – воскликнул невозмутимый Изотов, очищая от земли гильзу. – Калибр 7,65. Система иностранная.
2
Шумский пришел в управление после обеда. Его нервное, узкое, с острым носом и острым подбородком лицо было бледно, а под глазами набухли мешки. Шумскому было под сорок, и в этом возрасте беспорядочный сон, еда урывками и нехватка кислорода ставили свои горестные метки на лицо.
Изотов был уже на месте. Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел в окно.
– Долго спишь, начальник, – сказал он, подойдя к столу Шумского. – Убийца пойман, раскололся и жаждет разрешения поговорить с великим сыщиком – гражданином Шумским.
– Неостроумно, – ответил Шумский. – Фантазии мало. За то время, что ты здесь, мог бы придумать что-нибудь посмешнее. Но кому не дано… Экспертиза есть?
– Нет. Быков интересовался тобой. Ты возглавишь группу, а мы будем на подхвате.
– Кто это «мы»?
– Я и Сережа Чупреев.
– Славная компания… за столом в ресторане. – Шумский взялся за телефонную трубку. – Галина Михайловна? Здравствуйте, голубушка. Шумский. Вы про нас забыли?.. Совершенно верно, таких, как Изотов, забыть нельзя. Ночью снятся, и вскакиваешь в холодном поту. Что?.. Идет Людочка? Хорошо, ждем.
– Я навел справки о Красильникове, – сказал Изотов. – Уроженец Вологодской области, отец погиб на фронте, мать работает в колхозе, два брата и сестра проживают с матерью. Двадцать два года. Холост, служил в армии, после демобилизации остался в Ленинграде, живет в общежитии на Банной, беспартийный, наград не имеет, судимости тоже, за границей не был.
Шумский кивнул, откинулся на спинку стула, закурил. Пришла Людочка, черноглазая толстушка, молча передала бланки с ответами экспертов Шумскому и покосилась на Изотова. Изотов имел обыкновение задавать ей с совершенно серьезным видом шутливые вопросы, как маленькой, чем ставил ее в тупик и вгонял в краску. Но Изотов, занятый своими мыслями, не обратил на нее внимания, и Людочка, высоко подняв голову, удалилась своей гусиной, покачивающейся походкой.
Экспертиза подтвердила первоначальные предположения. Самоубийство исключалось – выстрел произошел с расстояния примерно 25 сантиметров. Пуля застряла в голове, ее извлекли и установили, что пистолет, из которого стрелял убийца, был чешский, системы «Збройовка», калибра 7,65. Незадолго до смерти Красильников спиртного не пил. Никаких других ран, синяков, кровоподтеков на теле убитого медики не нашли, что давало возможность говорить об убийстве внезапном, из-за угла. Отпечатки пальцев на замке портфеля были самого Красильникова.
– Все-таки мне кажется, – сказал Шумский, – наиболее правдоподобным было бы предположить убийство из ревности. Вообрази: она (икс) изменяет мужу, а может быть, даже не мужу – просто безумно, как в семнадцатом веке, влюбленному в нее человеку. Этот человек выслеживает ее и застает с Красильниковым здесь, в саду… Может быть так? Вполне.
– Оч-чень романтическая картина, – язвительно произнес Изотов, – но она тотчас же рухнет под моим трезвым, сугубо земным вопросом: зачем Красильников, идя на свидание, понес портфель со шмотками, учебником и журналами? Странно, не находишь?..
– Может быть, брюки и рубашки он сначала понес на барахолку? – предположил, подумав, Шумский.
– Хорошо, допустим, что так. Рынок когда закрывается?
– В шесть часов.
– А в шесть он был еще дома…
– Дома? Откуда тебе известно? Это еще надо проверить.
– Тогда, может быть, он шел не на рынок, а в скупочный пункт или, скажем, в комиссионку?
– Это не меняет дела. Они закрываются в восемь часов. Какая разница – в шесть или в восемь? Ты прав, если ему, скажем, не удалось продать вещи, то он, конечно, не потащился бы в сад с тяжелым портфелем, а занес бы его домой. Тем более что и живет-то он неподалеку…
– Тогда возможен такой вариант, – сказал Изотов, присаживаясь на край стола Шумского. – Красильников идет с вещами к кому-то, кто его ждет…
– К женщине?
– Не знаю, либо к женщине, либо к мужчине, сейчас это не имеет значения. Но человек куда-то уходит и оставляет записку: «Дома буду в двенадцать часов», Красильников ждет…
– С семи до двенадцати? – улыбнулся Шумский. – И потом идет на свидание?..
– Мы же не знаем, – возразил Изотов, – что Красильникова ждали именно в семь часов. Время может быть любое после семи – в девять, в десять…
– Да, но тогда обычно в записке не пишут: «ушел в семь, буду в двенадцать». Кому какое дело, когда ты ушел, важно, что будешь в двенадцать. А уж если «случилось так, что я должен был уехать к семи», то, стало быть, Красильникова ждали в семь или даже в шесть тридцать, а он опаздывал. Ну ладно, ладно… Вообще-то, тут что-то есть. Давай, Витя, развивай свою мысль.
– Ну вот. Найдя записку, Красильников пошел домой, по пути встретил знакомую женщину или познакомился с какой-нибудь девицей…
– Это уже никуда не годится, – замахал руками Шумский. – Встретил женщину, а заодно и своего убийцу. Просто так, случайно…
– Минутку, – не сдавался Изотов. – Не встретил, а Красильникова ждала женщина, с которой он договорился о свидании. Даже, может быть, шел с ней к тому человеку, рассчитывая, что пробудет у него недолго, а она подождет где-нибудь на улице. Ну а дальше твоя версия с обманутым мужем…
– Ловкий ты парень. Но тогда при чем тут записка? Она могла быть, могла и не быть. Возникает несколько вопросов: какую роль во всей этой истории играет записка? Что делал Красильников с семи до двенадцати ночи? Пять часов гулял со своей возлюбленной, а убийца все это время ходил за ними по пятам? Сомнительно. Если он все же ждал до двенадцати, то, следовательно, у Красильникова была веская причина ждать. Какая?
– Да, вопросов много, – проговорил Изотов. – Как всегда.
Шумский побарабанил пальцами по столу.
– Ну вот что. Версии есть, надо добывать факты. Ты сейчас пойдешь в общежитие, Сергея я отправлю на завод. Узнайте все о Красильникове: когда последний раз был на заводе, дома, его характер, привычки, склонности, знакомства – словом, все. А я займусь записной книжкой.
3
Заводское общежитие занимало пятиэтажный корпус новой постройки. Изотов вошел в вестибюль. Две полукруглые лестницы с грубыми бетонными перилами вели к раскрытым настежь дверям, возле которых сидела вахтерша, щуплая бойкая старуха с крикливым голосом. Час был вечерний, хлопали поминутно входные двери, мимо старухи взад и вперед шастали люди.
– Нету Кошельковой, сказано ведь русским языком – нету. Когда придет, тогда и пущу… – кричала старуха. – Токмаков, не будет тебе ключа, твой сосед уже третий потерял, разиня… Как? А вот так: дверь ломать придется… Ну ладно, попробуй от тридцать второй, может, подойдет…
– Мне бы повидать коменданта, а? – вкрадчиво, с располагающей улыбкой спросил Изотов и положил руки на деревянную загородку, отделявшую вахтершу от прохода.
– Коменданта? – переспросила вахтерша, бросая изучающий взгляд на Изотова. – Вам он зачем? По личному делу?
– По личному.
– Чей-нибудь родственник или знакомый?
– Родственник.
– Чей же? – Изотов увидел в тусклых, некогда серых глазах старухи любопытство. – Я тут всех знаю, не первый год сижу.
Два парня, гогоча и гикая, пронеслись мимо Изотова, едва не сшибив его с ног, перемахнули через ступени и выскочили на улицу.
– Во кобели, во кобели, – укоризненно качала головой старуха. – Хоть бы ноги поломали… И воспитывают их, и в театры водят, и телевизор-то им купили – все нипочем. Балбесы… Ну и чей же ты родственник?
– Красильникова Гоши.
– М-м, – неопределенно промычала вахтерша. – Красильникова… А чегой-то я его не припоминаю. Высокий такой, да? Видный…
– Ну во-от, – разочарованно проговорил Изотов, – а говоришь, что всех знаешь.
– Помню, помню, из шестьдесят девятой, Гоша. Ничего парень, положительный, тихий, не матерится. Ты говоришь – не помню. Я помню тех, кто в глазах рябит. А ваш Гоша – нет: переночует, и целый день его не видно. Его и сейчас вроде бы нет. А ты откуда приехал? Издаля? И чего тебе комендант? Подожди, сам придет.
– Слушай, бабуся, хватит меня допрашивать, – все так же улыбаясь, но настойчиво сказал Изотов, – организуй-ка мне коменданта, быстренько. Мне он нужен по очень важному делу.
– Ну обожди тогда… Мишустина! – крикнула она проходящей по коридору женщине. – Найди-ка Федор Петровича, тут товарищ его спрашивает.
– К вам попасть, как на военный завод, – сказал Изотов.
Старуха развела руками:
– Порядок такой. Не будет порядка в общежитии – знаешь что получится? Не приведи господь…
От нечего делать Изотов прочитал афиши, приколотые к доске, пожелтелый от времени распорядок дня, висящие тут же записки о найденных вещах и обернулся на строгий недовольный голос: «Кто там меня спрашивает?» Седой мужчина неторопливо сошел с лестницы. Изотов, избегая лишних вопросов, тихо сказал, что он из уголовного розыска. Комендант засуетился, стал обходительным, повел Изотова за собой.
– У нас, конечно, всякое бывает, – говорил комендант, заискивающе поглядывая на Изотова, и в голосе его улавливалось беспокойство. – Народу много, текучесть кадров большая. Сегодня работает, завтра уже уволился, за всеми не углядишь…
Они прошли длинный коридор, по которому бегали ребятишки; из кухни неслись запахи щей, жареного мяса, в умывальной шумела вода. Поднялись по внутренней лестнице.
– На первом этаже у нас семейные, на втором – женщины, потом опять семейные, а уж выше – мужчины, – объяснял комендант, борясь с одышкой.
Он стукнул костяшками пальцев в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. В комнате было четыре кровати, посередине стоял стол, захламленный вещами и остатками еды. Небритый парень в расстегнутой нижней рубашке опустил ноги с постели, вопросительно посмотрел на коменданта.
– Спал, что ли? – вместо приветствия сказал комендант.
– Да так, самую малость.
Изотов оглядел комнату, пытаясь определить кровать Красильникова. Над одной висели вырезанные из журналов цветные фотографии красавиц. Они завлекающе улыбались, манили томными, дерзкими, надменными взглядами и как бы насмехались над теми, кто на них смотрит, но не может ими обладать. Изотов подошел ближе.
– Эта кровать Красильникова? – спросил он.
– Нет, рядом, в углу, – ответил парень.
– Он вчера ночевал дома? Когда вы его видели последний раз?
Парень накинул на плечи пиджак, присел к столу, зевнул.
– А чего случилось-то?
– Ты, Василий, отвечай, отвечай, – вмешался комендант. – Не спрашивай, а отвечай.
– Когда я видел его в последний раз? – в раздумье проговорил Василий. – Вчера под вечер, часов в пять. Я эту неделю в ночь работаю. Пришел утром, на часы не смотрел, но было что-нибудь около восьми: я с завода никуда не заходил, прямиком сюда. Пришел – койка его пустая была, застеленная. Так что не скажу, ночевал он или нет. Потом я лег спать, после ночной-то. Часов в пять – я уже встал, умылся – он идет, как и должно – с первой смены. Ну мы с ним почти не говорили. Он занят своими делами, я – своими. Он тут повертелся, взял портфель – а у него большой такой портфель, кожаный, – и ушел.
– Куда, не сказал? – спросил Изотов.
– Нет. А я и не спрашивал – мало ли куда человеку надо. Мы никогда не спрашиваем. Вот. А сегодня он не ночевал – это точно. Когда он заходил, в тумбочке рылся, бросил на кровать носки, так они и валяются. Значит, не был.
– А он что, парень-то пьющий?
– Не-ет… Чего нет, того нет. Я вам скажу, он вообще парень, ну так, между нами, некомпанейский. Мы тут иногда с получки… – Василий осекся, вспомнив о присутствии коменданта, выразительно посмотрел на него и, вздохнув, продолжал: – Федор Петрович уж нас извинит, но не мы одни… Вот, значит, Тихомиров, Гайдулин и я – это их койки – скинемся на пол-литра, закуску кое-какую купим, ну и, конечно, говорим: «Гоша, давай с нами…» Не, ни в какую… Да он и дома-то бывает редко.
– Где же он пропадает?
– Работает и еще учится. На лекции ходит, может, в библиотеку. В комнате много не назанимаешься.
– А где он учится?
– В университете.
Изотов открыл тумбочку Красильникова, подозвал коменданта и Василия. На верхней полке лежала стопка тетрадей и книг. Тут же валялись мыльница, зубная щетка, бритва и еще разные мелочи. Изотов перелистал общую тетрадь, отметил, что Красильников учился на первом курсе физического факультета заочно. В тетради же он нашел сберегательную книжку. Последняя запись была сделана седьмого мая – Красильников внес тридцать рублей, и общая сумма составила четыреста сорок пять рублей. Изотов отметил: Красильников не брал, а только вносил деньги по тридцать-сорок рублей довольно аккуратно, через каждые десять-двенадцать дней.
– Переводы Красильникову приходили откуда-нибудь, не замечали?
Поджав губы, Василий поморгал белесыми ресницами, ответил:
– Нет, как будто не приходили.
– А деньги у него водятся? В долг у него берете? Или, наоборот, он не просит у вас взаймы?
– Так мы что… Мы зарабатываем. Я тысячу сто – тысячу двести в месяц выколачиваю. Одному хватает. Зачем я занимать буду? Ну и он тоже… Но деньги он любит, не то что любит, а считает, все до копейки.
– Почему вы так думаете?
– Хм… Черт его знает. Так не объяснишь. Пожить надо с человеком…
– Ну хорошо, – сказал Изотов, – а девушка у него есть?
Василий вздохнул, улыбнулся, потер небритый подбородок.
– Уж вы и задаете вопросы… Не знаю. Что знаю, я вам все выложил, а чего не знаю, говорить не стану. Он ведь человек неразговорчивый, с нами своими делами не делится, все про себя. Сюда девушки к нему не ходят, я их не видел, ну а там где-нибудь… Его самого надо спросить.
Изотов просмотрел письма – они были от матери, взялся за книги. Присев на кровать, тряхнул учебник по физике. Из него выпали две фотографии. На одной, меньшего размера, была снята вполоборота девушка, юная, круглолицая; на другой – женщина постарше, полная, самодовольная. Изотов обратил внимание на ее подкрашенные губы. Он перевернул фотографии. Надписей не было.
– Кто это? Вы знаете этих женщин? – спросил Изотов, положив фотографии на одеяло.
Василий покачал головой.
– А вы? – повернулся Изотов к коменданту.
– Первый раз вижу. В нашем общежитии они не живут, я вам гарантирую. Ну а если они сюда и приходили, то я их не встречал.
Изотов поднялся, поблагодарил Василия, взял с собой кое-какие тетради, письма, фотографии, сберегательную книжку и пошел, сопровождаемый комендантом.
– У вас где-нибудь есть телефон?
– Да, пожалуйста, у меня в комнате – услужливо ответил комендант и наконец решился спросить: – А вы мне не скажете, что все-таки случилось? – И поспешил добавить: – Можете быть уверены, что я никому ни слова…
– Красильников убит сегодня ночью, – сказал Изотов.
– Что вы говорите?! – ужаснулся комендант, останавливаясь и качая головой. – И неизвестно кто?..
– Да, ищем, – ответил Изотов. – Я вас вот о чем попрошу: я сейчас выпишу повестки, вы их передайте тем двоим в комнате – Тихомирову и Гайдулину, пусть завтра зайдут ко мне в управление.
Пока Изотов писал, комендант ходил по комнате; от тяжелых шагов его дребезжал стакан, придвинутый к графину.
– Вот ведь чертовщина какая, – заговорил комендант, не заботясь, слушает его Изотов или нет, – случится с человеком что-нибудь этакое, начинаешь задним числом копаться в памяти и вспоминаешь о нем всякую ерунду. Я не знаю вашу работу, может, вам это совсем и не нужно, но я вспомнил, что на днях Красильникову все время звонила какая-то женщина…
При слове «женщина» Изотов перестал писать и взглянул на коменданта:
– Откуда вы знаете?
– Да я сам разговаривал с ней, по этому телефону.
– Вот как? – заинтересовался Изотов, отставляя стакан. – Ну и что?..
Комендант остановился, широко расставив руки, медленно произнес:
– Да нет, ничего, вы там, наверху, спрашивали о женщинах, а мне как-то невдомек, только сейчас, придя сюда, вспомнил.
– А раньше ему звонили женщины?
– В том-то и дело, что никто никогда… Мы вообще проживающим здесь не разрешаем давать этот телефон, служебный он. Так вот, в тот день, во вторник это было, два дня назад…
– То есть десятого?..
– Ага, десятого. Я полдня на заводе был, в АХО, потом пообедал и приехал сюда. Что-нибудь в шесть – начале седьмого звонит она, просит позвать Красильникова. Я отвечаю, что мы к телефону не зовем. Ведь дай всем волю, каждому трезвонить начнут, только знай бегай по этажам, работать некогда будет. Хотел уже положить трубку, а баба настырная такая, извиняется, говорит, что у нее какое-то очень важное дело и срочное, ну просто умоляет меня, чуть не плачет. А тут как раз уборщица сидела, Мелентьева. Я ее и послал в шестьдесят девятую. Мелентьева-то как услышала, что Красильникова спрашивают, говорит: «Да она целый день сегодня звонит, могла бы уж сама сто раз приехать, не барыня…»
– А какой голос был у женщины, вы запомнили?
– Какой голос? – озадаченно переспросил комендант. – Обыкновенный. Голос как голос…
– Низкий, высокий, звонкий, глухой, молодой женщины или пожилой… Разные же бывают голоса, – настаивал Изотов.
– Чистый голос, не сиплый, молодой, может быть, немного резковатый, – ответил комендант, подумав.
– Ну и что потом? Пришел Красильников?
– Пришел, и они стали разговаривать.
– Он называл ее имя?
– По-моему, нет.
– А о чем он говорил?
Комендант виновато развел руками, вздохнул.
– Кабы знать, я бы, конечно, прислушался. А у нас ведь как: один зашел, другой, этому что-то нужно, тому тоже… Разве будешь слушать, что там болтают по телефону?
– Ну о чем хоть речь-то шла? Долго они разговаривали?
– Нет, совсем немного. Мне кажется, договаривались о чем-то. О свидании, наверно. Потому что Красильников сказал: «Ладно, приду». Это я запомнил. Еще подумал: «Вот ведь молодежь нынешняя – баба на свидание зовет, целый день добивается». В наше время не так было… А впрочем, кто знает, может, больна она, может, и правда дело важное. Разве в чужую душу влезешь?
– Все может быть, – согласился Изотов. – Все может быть…
Он вынул из портфеля листы бумаги, записал все, о чем говорил комендант, прочел ему и попросил подписать. Потом выяснил в управлении, что Чупреев еще на заводе, и позвонил туда.
– Сережа, ты не уходи, дождись меня и задержи кадровиков, дело есть… Я сейчас выезжаю.
4
Шумский раскрыл потрепанную записную книжку. Красильников, как видно, не был аккуратен, и сокращенные строчки, записанные наспех, то карандашом, то чернилами, сцеплялись, перемешивались одна с другой, точно хозяин книжки сам не знал, пригодятся они ему или нет. Почерк его был мелким, непонятным. Все это затрудняло чтение, и Шумский то и дело подносил к записям лупу.
На одном листке между математическими формулами записано: «бел. 11 р. 25. об. 8 р., пар. 3 р. 20, пон – внеоч. лекц. м-лен», а следом значилось: «Назар. В-5—81–32 16/III».
Своим заостренным почерком Шумский выписал на чистый лист бумаги номер телефона. Перевернул страницу книжки, прочитал: «Ольга Николаевна». Ни фамилии, ни адреса не было. Затем намного ниже следовало: «от гл р. – 2 дв.». Было непонятно, относится эта странная строчка к Ольге Николаевне или она самостоятельна. На всякий случай Шумский соединил их, переписал и поставил большой вопросительный знак.
Далее были записаны, по-видимому, какие-то хозяйственные расчеты; Шумский пролистал страницы без интереса и натолкнулся на еще одно имя: Валерий Семенович. Оно было обведено в кружок, но тем не менее фамилия опять-таки отсутствовала. Шумский снова поставил вопросительный знак.
На последней странице Красильников записал: «А.И. – 21 р., 18 р., 11 р., 32 р.». Первые две цифры были написаны карандашом, третья – чернилами, последняя – карандашом. «Получал он эти деньги от А. И.? Или давал взаймы? – думал Шумский, перенося запись в свой список. – И кто скрывается под А. И.?»
Изотов приоткрыл дверь. Шумский сидел неподвижно за столом, подперев голову руками.
– Смотри, как работает, – громким шепотом сказал Изотов нажимавшему на него сзади Чупрееву. – Не видит, не слышит…
– О, давненько я вас не видел, – поднялся Шумский. – Заходите, не стесняйтесь. Выкладывайте новости.
Чупреев бросил на стол личное дело Красильникова, взятое с завода, Изотов положил перед Шумским запись показаний коменданта.
– Пока все идет как надо, – довольно сказал Изотов, когда Шумский прочитал бумагу.
– Угу, – отозвался Шумский. – Судя по всему, мы на правильном пути.
Тогда Изотов, улыбнувшись, выложил фотографии.
– Ничего… – сказал Шумский, разглядывая лица. – У парня был недурственный вкус.
– Алексей, – предостерегающе проговорил Изотов. – Не то смотришь.
– То есть как «не то»?
– Не туда… – улыбнулся Чупреев.
– Ну ладно, давайте серьезно. Кто они, установили?
– Знаешь, мне сегодня немного повезло, – пододвигая стул и садясь на него верхом, сказал Изотов. – Представляешь, фотографии. А кто на них – неизвестно. Ищи-ка по городу… В старину хорошо было: фото наклеено на картон, внизу – адрес фотографии, негативы сохраняются… Теперь же снимают на каждом углу. Ну поэтому первое, что пришло в голову, – ехать на завод. Может быть, кто-нибудь из заводских? Подняли мы с Сережей на ноги отдел кадров. И что ты думаешь? Докопались.
– Обе на заводе работают?
– Нет, одна… Поэтому-то я тебе и сказал, что мне немного повезло. Но и то хлеб… Вот эта девочка – Орлова Галина Петровна, чертежница конструкторского бюро.
– Как она работает, в какую смену? – спросил Шумский.
– Все дни одинаково – с девяти до пяти.
– То есть вечерами свободна и могла встретиться с Красильниковым в саду?
– Вполне. Я уже послал ей повестку с курьером, завтра Орлова будет у нас. А что у тебя?
Шумский поморщился:
– Не бередите мои раны. Сплошная головоломка. Тут нужен не следователь, а дешифровщик. – Шумский протянул Изотову листок с выписками. Чупреев подошел к Изотову.
– Я вижу одни вопросительные знаки, – весело сказал Изотов.
– А ты хочешь восклицательные? – Шумский порывисто вскочил, выхватил из рук Изотова листок. – Что это, по-твоему: «от гл р. – 2 дв.»? Отдел главного… главного… р. Что такое «р.»?
– Района, – подсказал Изотов. – Отделение главного района? Что бы это могло означать? Или ремонта? Какая-нибудь ремонтная контора.
– А «2 дв.»? Две двери? Два дворника? Два двигателя? Чушь какая-то. Как курица лапой царапала.
Изотов вдруг рассмеялся:
– Ничего звучит: «Отдел главного ремонта – два дворника».
– Тебе бы только потрепаться, – раздражаясь, сказал Шумский. – Несерьезный ты товарищ, Виктор Батькович.
– Я думаю, сейчас не то что бесполезно, но, пожалуй, бессмысленно ломать голову над этими записями, – сказал Чупреев. – Если найдем людей, то записи сразу приобретут целенаправленность, и их легче будет расшифровать.
– Наш мудрый, рассудительный Чупреев! – воскликнул Изотов.
– Посмотрим, Сережа, посмотрим, – неопределенно сказал Шумский. – Прежде всего надо запастись терпением. Придется, мальчики, как следует поработать. Завтра с утра, Сережа, поедешь в университет, а ты, Виктор, – на завод и в общежитие.
– Но я же вызвал Орлову и двоих ребят из комнаты Красильникова.
– Ничего страшного, их допрошу я. Вы оба – в университете, на заводе и в общежитии – наведите справки о женщинах, носящих имя Ольга Николаевна, и о мужчинах по имени Валерий Семенович. И еще, на всякий случай, помните инициалы «А.И.». Может быть, человек, имя и фамилия или имя и отчество которого начинаются с этих букв, сможет нас заинтересовать.
– В университете тысяч двадцать народу… – начал Чупреев, но Шумский прервал его:
– Ну и что? Не все же Ольги Николаевны или Валерии Семеновичи.
– Но имена распространенные. Сотня, а то и больше наберется. Была бы еще фамилия, а так нужно перебирать всю картотеку.
– Что я могу поделать, дорогой мой, – сказал Шумский. – Надо искать. Действуйте методом исключения. Того, кто вызовет подозрение, приглашайте сюда.
– Я знал: Шумский не оставит нас без дела, – невесело пошутил Изотов. – Кормилец наш. Но ты, Сережа, не унывай. Помни, что ты не одинок: у меня на заводе народу не меньше, чем у тебя в университете. Пошли…
– Обождите, – остановил их Шумский. Он снял с телефона трубку, покрутил диск. – Риточка? Как живем, дорогая? Лучше всех? Ну тогда будь другом, запиши номерок: В 5—81–32. Этот телефон, по-видимому, принадлежит человеку, фамилия которого начинается с «Назар.» – Назаров, Назаренко, Назарчук, Назарянц… Поняла? Ты у меня умница. Выясни, пожалуйста, полную фамилию абонента, имя и отчество, а если это семья, то имена и отчества всех, по справочному. И адрес, конечно, где этот телефон стоит. Мне подождать?..
Шумский закрыл ладонью мембрану.
– Сейчас выясним. Возможно, Назарова Ольга Николаевна? Или Назаров Валерий Семенович? Тогда все упростится.
– А вдруг Назар – имя? Не фамилия, как мы думаем, а обычное имя? – предположил Чупреев.
– Тогда будем искать по телефонной книге всех живущих в Ленинграде Назаров. Тоже неплохая работенка, – мрачно пошутил Изотов.
Шумский не уловил юмора, постучал себя по лбу и взглянул выразительно на Изотова:
– Зачем? Номер-то телефона известен. Назар, так пусть будет Назар… Да, слушаю, Риточка, внимательно. – Шумский схватил карандаш и, придерживая локтем скользившую бумагу, записал: «Назарчук Илья Аполлонович, Назарчук Екатерина Васильевна, Саперный переулок, 8…» Спасибо, дорогая, все ясно.
Изотов, заинтересованно следивший за кончиком карандаша, отвернулся и проговорил с сожалением:
– Да, все ясно…
– Хотел вам помочь, – сказал Шумский, – но не вышло. Бывает. Придется искать Ольгу Николаевну, Валерия Семеновича и «А. И.».
– Надо вызвать Назарчуков.
– Обязательно. Только обоих сразу, одновременно.
5
Если не было ночного дежурства, Шумский приходил на работу раньше других. Не из-за своей особой аккуратности, а потому, что дома был заведен строгий порядок. Ирина, жена Шумского, женщина твердых правил, поставила дело так, что все просыпались по будильнику в семь, и ни минутой позже. Она готовила завтрак и первая убегала в свое конструкторское бюро: ей приходилось ездить через весь город. Шумский тащил в детский садик сонного, нерасторопного Кирюху и шел, сдерживая себя от быстрого шага, на Дворцовую площадь.
Взяв ключ, он направился по длинному сводчатому коридору, тускло освещенному редкими лампочками, к своему кабинету. На широкой скамейке, поджав ноги и ссутулившись, сидела девушка. Шумский прошел было мимо, но потом остановился и спросил:
– Вы кого ждете?
– Товарища Изотова, у меня к нему повестка, – робко ответила девушка и встала.
– А-а… – проговорил Шумский, догадавшись, что это Орлова. – Ну подождите.
Он отпер дверь, прошел в комнату, морщась от застоялого запаха табачного дыма. Прибрав на столе, достал из сейфа папку с делом Красильникова, полистал акты, протоколы и после этого пригласил Орлову. Это была худенькая длинноногая девушка; Шумский увидел пылающие щеки, большие черные глаза, которые настороженно, но и доверчиво смотрели на него.
– Садитесь, пожалуйста, – густым басом проговорил Шумский. Девушка присела, положив на колени черную сумочку. – Чего вам не спится?
Она не ответила. Шумский заметил, как ее передернула нервная дрожь. Надо было дать девушке успокоиться, расположить к себе. На этот случай у Шумского нашлась забавная история про обезьяну, которая выбежала из клетки зоопарка, всю ночь разгуливала по городу и пугала прохожих. Он рассказывал мягко, со смешными подробностями, и Орлова, кажется, действительно отвлеклась от своих мыслей. Потом Шумский незаметно перевел разговор на нее, узнал, что она живет с родителями, что сегодня ночью у них никто не спал из-за этой повестки. Отец с матерью допытывались, что она натворила, а она и сама не понимает, зачем ее вызвали.
– Вы замужем, Галя? – спросил, как бы между прочим, Шумский.
– Нет.
– А собираетесь? Жених у вас есть?
Она смутилась, Шумский, чтобы сгладить неловкость, сказал:
– Я хочу заранее извиниться за вопросы, которые задаю, но я вынужден это делать, нам важно кое-что выяснить. Так что условимся заранее: вы будете отвечать искренне и не стесняясь, – так будет лучше и вам, и мне. Договорились?
Орлова обреченно кивнула, а Шумский повторил:
– Ну, так есть у вас жених?
– Нет.
Шумский порылся в бумагах, нашел фотографию, на вытянутой руке показал ее:
– Это ваша фотография?
– Моя, – изумленно проговорила девушка.
– А не вспомните, кому вы ее подарили?
Шумский встал, походил по комнате, ожидая ответа, но Орлова молчала, теребя ремешок сумочки.
– Вы часто фотографируетесь?
– Не очень.
– Ну тогда, наверное, не так уж трудно вспомнить, кому вы могли ее подарить.
– Честное слово, не помню…
– Хорошо, я вам помогу, – садясь, сказал Шумский. Он сцепил руки и поднес их к своему острому подбородку. – Вы знаете Георгия Красильникова?
– Знаю.
– И что же?..
– Да, у него может быть моя карточка.
– Вот видите! – довольно проговорил Шумский и укоризненно посмотрел на Орлову. – Оказывается, я лучше вас знаю, кому вы дарите свои фотографии. Он ухаживает за вами?
Девушка замялась, потом сказала как-то деловито, по-женски:
– Это все несерьезно.
– Почему?
– Как вам сказать? Я его мало знаю. Мы познакомились на заводе, зимой. Как-то он пригласил меня в кино, а один раз были в театре, на «Потерянном письме»…
– Вы часто с ним встречались?
– Редко. По-моему, когда ему нечего делать, он звонит мне. Ну а если я свободна, почему не пойти?
– Когда вы его последний раз видели?
– Недели две-три назад, наверно. И то мельком, в проходной.
– А каким образом попала к нему ваша фотография?
Орлова пожала худенькими плечами:
– Случайно… Я должна была сдать две фотокарточки в отдел кадров. Сфотографировалась, получила снимки и шла домой. На улице встретила Георгия. Он узнал, откуда я иду, попросил показать карточки и взял одну… Мне не хотелось отдавать, но он очень просил… Сказал, что я ему здесь нравлюсь… Я и отдала…
– И правильно сделали, – улыбнулся Шумский. – Что ж тут такого? Раз попросил, надо было дать. Тем более что причина просить была у него веская… Ну а теперь откройте сумочку и положите на стол все, что там есть.
Орлова удивленно посмотрела на Шумского и вытряхнула заводской пропуск, зеркальце, деньги, носовой платок, бутылочку с духами, раскрыла кожаный кошелек, высыпала мелочь.
Не притрагиваясь к вещам, Шумский искал губную помаду.
Ее не было.
– Складывайте все обратно, и давайте я подпишу пропуск, – решительно сказал он. – Можете идти на работу, домой, куда хотите.
Когда дверь за Орловой закрылась, Шумский расслабился, вытянул ноги, закурил. Годы работы в управлении научили его довольно точно распознавать людей с первых же минут знакомства. Походка, манера держаться, взгляд, выражение лица, голос, построение фраз и другие частности давали ему право судить о том, с кем имеет дело, еще до допроса. В пестроте человеческих характеров, в повадках каждого подследственного Шумский выискивал и выделял главное для себя – искренность собеседника, ибо искренность – сестра правды.
Перед Шумским, на том самом стуле, на котором только что сидела Орлова, перебывали разные люди – от махровых, отпетых преступников и негодяев до невинных свидетелей, нужных дознанию. Их-то, случайных посетителей его кабинета, он жалел, как жалел сейчас ни в чем не повинную девушку, которая опрометчиво дала малознакомому человеку свою фотографию. Шумский представил, с каким нетерпением дожидаются от нее вестей родители и сколько будет потом разговоров, домыслов и суждений по поводу ее поспешного и непонятного вызова в милицию. И подумал о противоречивости, несовершенности своей работы: чтобы сделать добро людям и обществу, раскрыв преступление, он, Шумский, вынужден наносить им зло. Из-за одного преступника он должен выбить из накатанной жизненной колеи десятки людей, подозревать их, сомневаться в их честности, врываться в их жизнь и держать в нервном напряжении. Почему общество, карая преступника, карает его лишь за само преступление и забывает о моральном уроне, нанесенном другим? Разве это справедливо?
Затрещал телефон. Звонил Быков – голос сильный, молодой, властный, – просил подготовиться и доложить о расследовании.
– Если можно, ближе к вечеру, Павел Евгеньевич, – сказал Шумский. – Все мои в разгоне.
– Хорошо, я сегодня допоздна, – согласился Быков.
6
Собрались в девятом часу. Изотов неторопливо выложил из папки ворох каких-то бумажек, сказал по обыкновению ворчливым тоном:
– Тридцать восемь и пять десятых Ольг Николаевн, будь они неладны. Правильно, Ольг Николаевн?
– Меня интересует, что за пять десятых, – улыбнулся Шумский.
– В жизни, или, как раньше говорили, в миру, – Ольга Николаевна, по паспорту – иначе. Как считать? Но не стоит ломать голову. Этой Ольге Николаевне шестьдесят четыре. Отпадает. Вообще после шестидесяти – шесть, от пятидесяти до шестидесяти – девять. Итого – пятнадцать. Этих – долой. Остаются двадцать четыре…
– Придется пока отложить и их, несмотря на блестящую статистику.
– Почему? – удивился, подняв белесые брови, Изотов.
– Потому что мне неприятно видеть, как маются люди, выполняя бесполезную работу.
– Ну не таи, чего у тебя там?
Вместо ответа Шумский протянул Изотову протокол допроса Гайдулина.
– Читайте оба, – кивнул он Чупрееву. – Тебе тоже пригодится.
В плотно исписанном листе были сильно подчеркнуты красным карандашом строчки.
«Девятнадцатого октября у меня день рождения. Отмечали в общежитии. Красильников сильно выпил, стал приставать к Валентине Ступиной, которая была со своим мужем Николаем Ступиным, моим другом. Чтобы избежать скандала, я увел Красильникова и сказал, что он не умеет ухаживать за женщинами. На это Красильников ответил, что умеет, и похвалился своим знакомством с Олей, артисткой цирка, которая недавно уехала. Красильников сказал, что был у нее в гостинице и их застал муж. Фамилии Оли я не знаю, Красильников ее не назвал. Название гостиницы тоже не знаю».
– Что-то здесь не того… – усомнился Чупреев. – Красильников же не пил. Это подтверждают все.
– Липа, – категорично заявил Изотов. – Во-первых, он не пил; во-вторых, по своему характеру он не стал бы приставать при всех к женщине; в-третьих, по этой же самой причине не будет он рассказывать о каком-то приключении человеку, с которым не так уж близок.
Шумский стоял, скрестив на груди руки, и насмешливо смотрел то на Чупреева, то на Изотова, покачивая головой:
– Ах, какие же вы догматики и метафизики! Не ожидал. Учат вас, учат диалектическому методу, а вы… Не пьет – значит не пьет, и точка. А вот случилось так, что выпил, и даже сильно. Что же нам, бедным, делать? Закрыть глаза и сказать: «Не может быть»? А что такое водка и как она влияет на человека, я думаю, не мне вам рассказывать, не маленькие. И, кроме всего, надо учитывать, что неразговорчивый человек, выпив, становится болтливым, может быть, даже чересчур болтливым. Так бывает – не всегда, понятно? – кольнул Шумский. – Не всегда, но бывает. Я тут никаких противоречий не улавливаю. Скорее, наоборот, вижу лишний штрих в биографии Красильникова.
– Не знаю, – угрюмо проговорил Изотов, перечитывая протокол. – Придется заняться цирком, хотя Оля – это еще не Ольга Николаевна.
– Цирком займется Сережа… И еще одну любопытную деталь сообщил Гайдулин. У Красильникова есть двоюродный брат, который дважды приезжал с Дальнего Востока. Зовут его Игнатом, фамилия неизвестна. Гайдулин сказал, что у Красильникова с братом были какие-то нелады, ссоры. Из-за чего – неясно, но надо поинтересоваться. Вот пока все, пошли к бате, он ждет нас.
Кабинет у Быкова большой. На старинном дубовом столе, похожем на бильярд, пусто – все бумаги в сейфе, в углу. Чернильный прибор тоже старинный, бронзовой чеканки, с двумя гончими псами и стаканом для ручек. Ручки торчат перьями вверх, как штыки, но Павел Евгеньевич ими не пишет, прошел их век. Все бумаги он подписывает вечной ручкой с золотым пером, подаренной польскими коллегами, которые приезжали обмениваться опытом.
– Заходите, рассаживайтесь, – пригласил Быков, вставая из-за стола.
Быков много лет в управлении. Здесь он поседел, погрузнел, здесь начал надевать очки, которые, впрочем, не носил, вытаскивая их из кармана лишь тогда, когда надо было что-нибудь прочесть. Его любили, называли заглазно батей, но и побаивались: он бывал крут и резок.
Докладывал Шумский. Быков слушал, положив на зеленое сукно тяжелые, с синевой руки. Изотов держал на коленях папку и чертил квадратики; Чупреев ковырял под ногтями разогнутой скрепкой.
– Итак, что представлял собой Красильников, мы более или менее знаем, – сказал Быков, подняв крупную голову. – Одинокий, скрытный, скуповатый, способный, но не сверх меры работящий, общественно пассивный. Что это нам дает? Немного. Очень немного. Такие люди есть, они незаметны, о них трудно что-либо сказать. И все же я считаю, что группа выбрала, пожалуй, единственно правильный путь, по крайней мере на сегодняшний день. Как видно, женщины играли не последнюю роль в жизни Красильникова… Показание… – Быков поднял руку и пощелкал пальцами.
– Гайдулина, – подсказал Шумский.
– Показание Гайдулина в этом плане весьма любопытно.
– Но это же очень зыбко, Павел Евгеньевич, – не отрывая карандаша от квадратиков, проговорил Изотов. – Прямых подтверждений о его чрезмерном увлечении женщинами нет. Только две фотографии. И то одна нам уже неинтересна.
– Зыбко? – Быков покраснел, метнул сердитый взгляд на Изотова, налег грудью на стол. – Незыбко у строителей, когда они заколачивают сваи в землю, у них под ногами твердо, а у нас – все зыбко. Любое дело, которое мы начинаем, Виктор Никанорович. Так что не будем об этом говорить. Вы думаете, все женщины обязательно дарят свои фотографии любимым? Отнюдь не все.
– Да и помада… – напомнил Чупреев.
– Словом, продолжайте разрабатывать версию… Виктор Никанорович, при обыске в комнате убитого вы не обнаружили каких-либо писем, бумаг с почерком, похожим на тот, что в записке?
– Я имел это в виду. Ничего схожего не нашел.
– Алексей Иванович, список имеющих чешскую «збройовку» у вас есть?
– Запрашиваем, Павел Евгеньевич, завтра утром он будет готов.
7
Екатерина Васильевна Назарчук шумно пододвинула стул и села, натянутая и оскорбленная.
Изотову не нужно было всматриваться в ее лицо: он знал его, великолепно знал – глубоко вдавленные глаза, смотрящие недобро и самодовольно, крупные уши с мясистыми мочками, чуть выпяченная нижняя губа… Перед ним была женщина, которую он настойчиво, но тщетно разыскивал по фотографии в общежитии и на заводе. Изотов не ждал этой встречи сейчас, но не удивился – профессия давно приучила его ничему не удивляться.
– Это не ошибка, что вызвали меня… сюда? – спросила Назарчук, поморщившись.
– Нет, не ошибка, – спокойно ответил Изотов, располагаясь удобнее и поигрывая карандашом. – Мне хотелось выяснить, были ли вы знакомы с Георгием Петровичем Красильниковым?
Женщина настороженно повернулась к Изотову, в карих глазах ее мелькнуло беспокойство.
– Почему «была»? Разве с ним что-нибудь случилось?
– А вы не знаете?
– Что, что произошло? Он арестован?
– Нет, хуже, убит.
Изотов внимательно наблюдал за Назарчук. «Лжет, что не знает? Или нет?» – думал он, глядя, как женщина вдруг обмякла, опустила голову и заплакала.
– Простите, что мне пришлось сообщить вам прискорбную весть. Я думал, вам уже известно… Успокойтесь, пожалуйста, – проговорил Изотов, протягивая стакан с водой. – Я вижу, вам очень дорог этот человек…
– Неужели Жорж убит? – всхлипывая, говорила Назарчук. – Неужели его нет? Как это случилось?
«Играет или не играет?..» Изотов знал, что лучше всего сейчас выйти и дать женщине успокоиться. Быть может, у нее действительно большое горе.
Когда он вернулся, Назарчук сидела в той же позе, притихшая, утомленная, и прикладывала к сухим глазам кружевной, сильно надушенный платочек.
– Почему вы сразу спросили, не арестован ли он? У вас были на то какие-нибудь основания?
Она медленно покачала головой.
– Когда вызывают в милицию, то это первое, что приходит на ум.
– Что вы можете сказать о Красильникове? Вы понимаете, что мы ищем убийцу и найдем его, – жестко и уверенно сказал Изотов. – И вы должны нам помочь. Поэтому мне приходится просить вас рассказать о себе и о ваших отношениях с Красильниковым.
Женщина выпрямилась, бледное лицо ее приняло оскорбленное выражение.
– О господи, какая может быть зависимость между убийством и нашими отношениями? Это никого не касается.
– Я прошу вас не спрашивать, а отвечать, – сухо сказал Изотов, – хотя, разумеется, ни на чем не могу настаивать – это дело ваше. Но думаю, для вашей же пользы лучше прямо и полно отвечать на мои вопросы.
– Это что, угроза?
– Нет, – улыбнулся Изотов, – ни в коей мере. Однако вы должны иметь в виду: все, что нам нужно узнать, мы так или иначе узнаем. Дело только во времени, а оно нам дорого. Вместо одного раза вам придется приходить сюда дважды, трижды, а может быть, и того больше. Зачем это вам? Уж лучше сразу…
Назарчук прикоснулась пухлыми пальцами к волосам, поправляя прическу, еще раз отерла платочком глаза.
– Ну как хотите, – с безразличием в голосе сказала она. – Только не знаю, с чего начать…
– Вы ленинградка? Или приехали откуда-нибудь?
– Ленинградка… Родилась я в семье очень простой. Отец работал продавцом в мясном магазине, мать – гардеробщицей. Ну вы знаете, как в таких семьях… Жизнь однообразная, разговоры одни: деньги, кто что купил, сколько заплатил, кто на ком женился, кто с кем развелся… Книг не читали, о театрах и говорить нечего. Жили от получки до получки, и в эти дни – выпивка, ругань, непристойности… Я, конечно, ни о чем не думала, как будто все так и должно быть. До войны кончила шесть классов. Во время войны мы с матерью уехали на Урал, работали в колхозе. Там, в глуши, на полевом стане, я случайно наткнулась на книжку, – не знаю, кто ее написал, не знаю, как называется, она была без начала и без конца, ее рвали трактористы на самокрутки. В ней как-то попросту говорилось о человеческой жизни, о культуре человека, о его мудрости, умении создавать и умении понимать прекрасное, радоваться ему. Вы знаете, это было невероятное открытие! Сколько людей живет и сейчас вот так, бездумно, безлико, тупо. Год за годом… В школе мы иногда ходили культпоходом в театр, в музей, в кино, но по обязанности, из-под палки. Дома мне вообще говорили, что нечего тратить деньги на ерунду, лучше сидеть дома. И читала я только потому, что задавали в школе, или даже не читала. А тут я принялась за книги, доставала, выклянчивала где могла. Когда вернулась в Ленинград, начала бегать по театрам, музеям как очумелая… И вот, представляете, встречается мне человек, художник, у которого в фойе кинотеатра выставка его собственных рисунков! С ума сойти можно!.. Но вам, наверное, все это неинтересно? Зачем я говорю?..
– Нет, нет, продолжайте, – сказал Изотов, отметив, что Назарчук быстро оправилась от потрясения и как будто даже забыла о нем.
– Да, я была молода и глупа, совсем девчонка, но недурна собой. Назарчук вскружил мне голову своими красноречивыми и умными, как мне тогда казалось, рассуждениями о живописи, своими акварелями и своим чисто внешним лоском – это я тоже узнала потом. Мы поженились, но семейная жизнь у нас так и не сложилась. Очень скоро я поняла, что ему нужна была жена – стряпуха, поломойка, прачка – одним словом, жена-домработница. Я умела все делать, но я хотела другого и не желала возвращаться в обывательский мир, от которого сбежала. Я немного рисовала, пела, а Назарчук держал меня в кухне, не пускал учиться, не давал читать и закатывал истерики по всяким пустякам, скажем, по поводу не протертого от пыли стола. Сам он вел легкий, светский образ жизни, был занят своими делами, иногда исчезал из дому на несколько дней, не сказав мне ни слова, по телефону его вызванивали какие-то барышни… И ко всему я поняла, что он безнадежно бездарен. Выставка в кинотеатре была единственной его выставкой и, судя по всему, последней. Он взбалмошен, капризен и мало работает. Я стала бунтовать: раз он так, и я так… Жизнь наша пошла наперекос, а когда я познакомилась с Красильниковым, и вовсе наши отношения с мужем испортились… Что вам сказать о Жорже? – Назарчук закрыла глаза, потерла виски. – Он хороший мальчик, добрый, спокойный, я бы сказала, немного холодноватый и расчетливый. Но я с ним как бы пережила вторую молодость. Мы встречались довольно часто у меня дома, и мне было с ним хорошо…
– Скажите, а муж знал о вашей связи?
– Вероятно, да, – опустив глаза, тихо проговорила Назарчук. – По совести говоря, мне безразлично, знал он или нет. Я думаю о себе, а он заботится о себе, и, поверьте, ему не до меня…
– И он никогда ничего не говорил вам по этому поводу?
– Я же вам сказала, что мы чужие друг другу. Он никогда не спрашивает, где я, а меня не интересует, где и с кем он.
«Зачем так люди живут? – подумал Изотов. – Что их связывает? Почему не разойдутся? Разве можно так жить?» Но спрашивать не стал, – к делу это не относилось.
– Дети у вас есть?
– Нет, – ответила Назарчук и, словно догадавшись о мыслях Изотова, сказала: – Нас ничего не связывает, мы пытались разойтись, подали заявления, но суд нас не развел.
Вошла Галочка, сотрудница отдела, положила перед Изотовым потрепанную папку:
– Виктор Никанорович, вы просили дело Петрикеева, я его вам нашла.
Изотов кивнул головой. Никакого дела Петрикеева он не требовал, но понял, зачем ему передали папку.
– Продолжайте, я слушаю вас, – сказал он, не спеша развязывая тесемки. В папку были натолканы ненужные ему бумаги, а сверху лежала записка:
«В ночь на 13-е Е.В. Назарчук дома не было».
Это Шумский в соседней комнате допрашивал художника и поспешил сообщить наиболее важное, что ему удалось выяснить.
Изотов невозмутимо завязал папку, отложил в сторону.
– Вы ревновали его когда-нибудь? – вдруг спросил он.
– Кого, мужа?
– Нет, Красильникова.
Женщина умоляюще посмотрела на Изотова, как бы прося его не спрашивать, не вмешиваться в ее чувство. Но Изотов выдержал взгляд, и она сдалась.
– Да, ревновала, – глубоко вздохнула Назарчук. – Я… я ведь старше его на шесть лет, я замужем, а он – интересен, молод, холост… Вы должны понять меня.
– Может быть, скажете, к кому?..
– Так уж ли это важно? Наверное, это ужасно, но я ревновала ко всем, не только к женщинам. Когда приезжал к нему брат, кажется, двоюродный…
– Простите, что перебиваю вас. Не помните, как его фамилия и откуда он приезжал?
– По-моему, из Владивостока. Зовут его Игнатом, а фамилии его не помню – кажется, Гуляев, но я не уверена. Он военный, танкист…
– Вам известно, как они друг к другу относились?
– Этого я вам не скажу, не знаю. Жорж мне про него ничего не говорил… Да, так вот я ревновала к нему, потому что он проводил с ним много времени, а на меня уже времени не оставалось… И к Нине Михайловой, жене инженера. Но, кажется, зря… По-моему, между ними ничего не было. Нина, конечно, симпатичная женщина, этого у нее не отнимешь, но не так уж она красива, как думает сама о себе…
«Теперь начнутся дамские разговоры», – с неприязнью подумал Изотов.
– Кто это – Нина Михайлова? Вы знаете, где она живет?
Назарчук охотно рассказала о Михайловых: муж – инженер, Нина – домохозяйка, у них двое детей и еще держат домработницу, и дала адрес, добавив, что сейчас их в городе нет, уехали. Изотов записал.
– Знаете, мне всегда было неприятно, когда Жорж даже просто разговаривал с какой-нибудь девушкой или женщиной. Конечно, глупо, я понимаю, но ничего с собой поделать не могла.
– Может быть, случалось что-нибудь и серьезное? Он не изменял вам?
Назарчук поспешно ответила:
– Нет, нет… Только не это…
– Хорошо, – безразлично проговорил Изотов, зная, что сейчас задаст самый важный для следствия вопрос. Как она среагирует на него? Он поднял глаза и, казалось, не видел ничего, кроме ее вишнево-красных губ, блестящих от помады. Спросил быстро и тихо: – Где вы находились в ночь на тринадцатое мая?
– Дома, – сказала Назарчук после едва заметной паузы.
«Лихо врет», – подумал Изотов, ничем не выдавая себя. Теперь весь их разговор приобретал иной смысл. Сдерживаясь, Изотов сказал, разделяя слова:
– А если хорошо подумать? Вас ведь дома не было…
Бледные щеки Назарчук заалели, она сжала кулаки и в каком-то бессилье проговорила с тоской:
– Ах, не все ли равно, может быть, и не было.
– Ну как знаете, хотелось бы услышать искренний ответ, – печально проговорил Изотов. – Придется на сегодня закончить разговор, но, надеюсь, мы еще встретимся.
Назарчук поднялась и медленно побрела к выходу. «Играет и лжет», – ответил себе Изотов на мучивший его все время вопрос.
Он собрал бумаги, запихнул их в стол и пошел обедать. В коридоре его нагнал Шумский. Они спустились в столовую, встали в очередь за талонами.
– Пиво будешь пить? – спросил Изотов.
Шумский энергично помотал головой:
– Мне нельзя, толстею.
– Напрасно. Раз толстеешь, будешь толстеть и без пива, – назидательно сказал Изотов и направился к буфетной стойке.
Принесли щи. Шумский густо намазал горчицей хлеб, Изотов пододвинул салат из свежих огурцов, налил пиво.
– Ну, что художник? – спросил он. Шумский покривился, махнул рукой:
– А, хлыщ, пижон… Два часа поливал грязью жену как только мог.
– Сходится… Отношения у них дрянь… Но, знаешь, Назарчук так и не призналась, где была тринадцатого.
Шумский что-то пробормотал, жуя; Изотов принялся за щи.
– Так что художник отпадает, – сказал он. – При таких отношениях с женой глупо подозревать его в убийстве. Но надо будет посмотреть, нет ли у нее еще кого-нибудь. Почему она скрывает, где была двенадцатого и тринадцатого? Странно, а? Не находишь?
– Знаешь что? – сказал Шумский, смеясь одними глазами. – Где-то я читал, что для нормального пищеварения человек должен пережевывать пищу семьдесят два раза. Когда же он ораторствует, то жует гораздо меньше и у него начинает болеть животик. Понял?
Изотов разрезал ножом мясо, сунул кусок в рот.
– Спасибо тебе, товарищ и брат… Всегда придешь на помощь в трудную минуту. Правильный ты у нас человек, Алексей Иванович… Только скажи, а семьдесят пять можно?..
8
Перечитав показания Гайдулина, Чупреев решил, что теперь-то найти Ольгу Николаевну – плевое дело: цирк – не университет с тысячами народу. И в Ленинграде он один. День рождения Гайдулина – в октябре. Красильников демобилизовался и приехал в Ленинград немногим более года назад. Программа в цирке менялась дважды в году. Что может быть проще?
Но первое же посещение дирекции цирка перепутало все.
До Нового года в Ленинграде выступала труппа, в которой Ольги Николаевны не было. В предыдущем сезоне гастролировала Ольга Николаевна Гауди, дрессировщица собак, 1890 года рождения; вдова. Чупреев занес ее на всякий случай в список, но тут же вычеркнул.
– И все? – спросил он удивленно администратора.
Холеный администратор слегка качнул седеющей головой:
– Как видите, все.
– Но могли выступать в это время в Ленинграде еще какие-нибудь артисты?
– О, понимаю, – оживился администратор. – У нас есть еще цирк на сцене. Кроме того, вам следует посмотреть областную филармонию, гастрольно-концертное объединение. Там полно цирковых артистов.
Чупреев потер высокий лоб, чертыхнулся про себя за наивность и стал прощаться.
Худая, молодящаяся женщина из областной филармонии, Софья Романовна говорила ласковым, усыпляющим голосом:
– Не волнуйтесь, найдем вашу Ольгу Николаевну, найдем, – и перебирала тонкими пальцами замусоленные картонные карточки. – Вот, пожалуйста, Ольга Николаевна Бирюкова, исполнительница старинных романсов. Ах, как она поет, если бы вы слышали! Ей-богу, не хуже Вяльцевой. – Софья Романовна приложила руку к сухой груди, закрыла глаза и пропела томно, фальшиво:
- Утро туманное, утро седое,
- Нивы печальные, снегом покрытые…
– Что-то божественное… Когда она поет, слезы навертываются, хочется рыдать. А голос какой! Густой, чистый… Контральто.
– Мне нужны цирковые артисты, – напомнил Чупреев.
– Да, да, простите, я совсем забыла. – Софья Романовна забегала пальцами по карточкам. – Так… Ольга Николаевна Бюлова – речевик. Не годится. Ага, Ольга Николаевна Вагнер. Это как раз то, что вам нужно. Правда, на афишах она Ватышева, но я думаю, вам это безразлично. У нее муж Тышкевич, они выступают вместе в оригинальном жанре под одним общим псевдонимом. Откровенно говоря, я не поклонница фокусов, хотя публика их обожает. Не терплю обмана, даже ничтожного, а тут один сплошной обман. Но не буду грешить: работают они безупречно.
Софья Романовна знала всех и о каждом имела свое твердое мнение, которое разрушить, казалось, уже невозможно.
Чупреев записывал:
«О.Н. Вагнер (Ватышева), 1927 г. рожд., оригинальный жанр, замужем;
О.Н. Горячева, 1928 г. рожд., гимнастка, замужем;
О.Н. Кузьменко, 1918 г. рожд., музыкальный эксцентрик, замужем;
О.Н. Разумова, 1930 г. рожд., акробат, незамужняя;
О.Н. Щеглова, 1926 г. рожд., канатоходец, замужем…»
– Скажите, а могу я узнать, где находились эти люди в какой-то определенный день – скажем, двенадцатого-тринадцатого мая?
Софья Романовна задумалась, поджав тонкие губы, сказала:
– Пожалуй, нет. Во всяком случае, это чрезвычайно сложно. У нас ведь актеры перекати-поле: все время в разъездах – одни здесь, другие там, иногда месяцами, третьи готовят программу… Так что выяснить, где они находились в какой-нибудь день, можно, наверное, только в бухгалтерии, подняв денежные документы.
– Значит, надо поднять документы, – решительно сказал Чупреев. – Проводите меня в бухгалтерию.
Вечером он вернулся в управление и принялся обрабатывать записи. Отламывая хлеб и запивая молоком прямо из горлышка бутылки – то и другое прихватил по дороге, – он листал странички потертого блокнота с выписанными ровным почерком фамилиями. Возле номера – крестик. Крестик, обведенный зеленым кружком, означал потребность личной встречи, черным – дополнительную проверку в адресном столе, красным – полную неясность. И лишь когда справа от фамилии появлялись сведения, которые его интересовали, Чупреев либо вычеркивал все, либо оставлял, заканчивая строку жирным восклицательным знаком.
– Работаем? – сказал Изотов, входя. – В поте лица своего добываем хлеб насущный?
– А что же еще остается делать, – отозвался Чупреев, дожевывая. – Хочешь подкрепиться?
Изотов отломил корку, допил остаток молока. Чупреев пододвинул ему блокнот.
– Цирк… – сказал Изотов, перелистнув страницы.
– Вот именно, цирк, – усмехнулся Чупреев. – Столько возни, а пока все один пшик.
Изотов зевнул, стер ладонью выступившие слезы, сказал лениво:
– Ничего, ничего, терпение и труд все перетрут… Пошли-ка лучше домой, думать надо на свежую голову.
– Какое там – домой… Я сейчас еду в Москву, в Главное управление цирками. Может быть, хоть там что-нибудь прояснится.
9
В Москве список разросся еще на несколько листков, но после отбора Чупреев оставил, и то с большими сомнениями, лишь Симову. Ольга Николаевна Симова, гимнастка, одна из сестер Симовых, 1933 года рождения, была на гастролях в Ленинграде, но была за несколько месяцев до того, как появился в городе Красильников. Кроме того, Симова была незамужняя, а Красильников говорил Гайдулину, что их застал в гостинице муж.
Чупреев вызвал соседа Красильникова по общежитию, предполагая в протоколе неточность. Гайдулин, встревоженный повторным вызовом к следователю, улыбался заискивающе, говорил ровным, приглушенным говорком долго и повторяясь. Выходило все так, как и было записано в протоколе Шумского.
Разочарованный разговором, Чупреев снял колпачок с ручки, посмотрел на часы и, проставив время на пропуске, размашисто подписался.
– А не врал Красильников про эту артистку? – спросил он, глянув исподлобья на плутоватую физиономию Гайдулина.
– Хе-хе, – заулыбался Гайдулин, показывая щербатые зубы. – Кто ж его знает, может, и врал. Мало ли кто что языком треплет по пьянке. Проверять мне ни к чему, у меня своих болячек навалом. Но разговор такой был – это точно. – Гайдулин похлопал себя по груди.
– Ну а вы-то сами как думаете? Мог он соврать? Вы жили вместе. Были ли случаи, когда он вам что-нибудь рассказывал, а у вас возникало сомнение: врет парень, заливает.
Склонив голову набок, Гайдулин поморгал хитрыми глазами, потом вздохнул и сказал:
– Что-то не припоминаю. Подумать надо. Я вам позвоню, если что-нибудь такое вспомню.
– Ну хорошо, идите, – сказал Чупреев и проводил его невидящим взглядом.
Только сейчас Чупреев остро ощутил нехватку знания характера, личности Красильникова. Опытный Быков сразу отметил это. В самом деле, что известно о Красильникове? Общие, внешние черты. Шумский, Изотов и он, Чупреев, приняли на веру показания Гайдулина, которые, по всей видимости, были правильными. Но ведь сам Красильников мог придумать всю эту историю с цирковой артисткой. Однако людей с буйной фантазией, придумывающих события, которые не происходили с ними в жизни, выделяют сразу. Этим людям не верят, хотя с удовольствием и слушают их рассказы, над ними потешаются, их называют трепачами, и именно эта черта становится главной при характеристике человека. Если Гайдулин не смог вспомнить нечто подобное, то, следовательно, Красильников не был таким. Но Красильников мог исказить, переиначить, перенести в другое время и место происшедшее с ним, а возможно, и с кем-нибудь иным, действительное событие. Может быть, цирковая артистка вовсе не цирковая? Или вообще не артистка? Возможно, встреча была, но не в Ленинграде, а в Минске, где он проходил службу в армии?
Не веря в успех, Чупреев все же решился на последний шаг – попробовать отыскать Ольгу Николаевну по записям в гостиницах.
Две недели он почти не бывал в управлении. С утра, прямо из дому, отправлялся в гостиницу, листал сданные уже в архив толстые книги и, обалдевая от промелькнувших за день имен и фамилий, возвращался поздно вечером домой. Иногда звонил в управление:
– Витя? Я в «Балтийской», запиши телефончик…
– Уже? – вяло отвечал Изотов. – Недурно устроился. Номер на двоих? С кем ты сегодня, с брюнеткой или с блондинкой?
Значит, Изотов один. Чупреев явственно видел его: сидит нога на ногу, трубка зажата между плечом и щекой, а руки теребят спичечный коробок, карандаш или скрепку, что попадется. Если у Чупреева в комнате никого не было, он не прочь был потрепаться с Изотовым; если же кто-нибудь находился рядом, то говорил сухо:
– Так запиши, диктую…
– А с «Невой» покончил?
– Да, конечно.
– Ну и что?
– Пока все то же.
– Сочувствую. Надеюсь на успех. Обнимаю и так далее. – И Изотов клал трубку.
После «Балтийской» – «Северная», потом «Ленинградская», потом «Московская»… Все это были так себе гостиницы, не гиганты, и Чупреев, убивший на них уйму времени, боялся думать о том, сколько придется возиться в крупных.
В «Октябрьской» толстая добродушная работница внесла в пустующий номер первую порцию – шесть переплетенных в ледерин томов; она держала их на вытянутых руках, и верхний упирался в подбородок. «Страниц по тысяче», – грустно прикинул Чупреев, укладывая их на полу возле стола.
День стоял пасмурный, жаркий и душный. Майка прилипла к влажному телу, руки тоже были липкие, потные. Чупреев растворил окно и, не ощущая движения воздуха, снял пиджак. Потом умылся не слишком холодной водой под краном и заставил себя раскрыть первую книгу. Он уже приспособился читать эти гостиничные книги, но все равно дело продвигалось медленно, а после двух-трех часов сидения приходила усталость. Внимание растекалось, глаза скользили по строчкам, не видя их. Тогда Чупреев вставал, потягивался, делал гимнастические упражнения и продолжал читать.
На третий день, вечером, собираясь уходить домой – голова гудела от напряжения, – Чупреев увидел запись в самом низу листа: «Камнева Ольга Николаевна, Новгородский драматический театр». Следующая страница начиналась так: «Камнев Валерий Семенович, Новгородский драматический театр». Чупреев резко перекинул страницу назад, потом перелистал – и снова назад. Неужели?.. Два имени из записной книжки Красильникова. (Случайность?.. Совпадение? Предположим, что так.) Валерий Семенович – муж Ольги Николаевны, это несомненно. (Хотя всякое бывает. Проверить. Документально.) Гостиница. (Подходит к показаниям Гайдулина.) Июнь прошлого года. (Красильников в это время в Ленинграде был.)
Чупреев столько раз обнадеживал себя, что не хотел верить в удачу. И все же, сопоставляя факты, он приходил к выводу, что это те люди, которых он ищет. И сдерживал себя: проверить, все проверить… Заложив бумажкой страницу, он бросился к администратору. Но администратора уже не было, пришлось срочно вызывать его из дому. Наконец принесли перевязанные бечевкой листки, которые заполняют приезжие. Из них Чупреев узнал, что Ольга Николаевна родилась в 1934 году, что она драматическая актриса, и узнал номер паспорта; Валерий Семенович тоже актер. Год рождения его 1930-й.
Итак, Ольга Николаевна – артистка. Не цирковая, но артистка. С показаниями Гайдулина это расходится, но, возможно, Красильников сознательно говорил полуправду?
В ту же ночь в Новгородское управление милиции ушло письмо. В нем содержалась просьба познакомиться кому-либо из оперативных сотрудников с Ольгой Николаевной Камневой и выяснить, была ли она знакома с Красильниковым Георгием Петровичем; если была, то в какой период, а также – жена ли она Камнева Валерия Семеновича. Кроме того, предлагалось установить, где они находились двенадцатого и тринадцатого мая.
Ожидая вестей из Новгорода, Чупреев все же продолжал ездить в «Октябрьскую». Но теперь работалось плохо, вяло: в нем все больше крепла уверенность, что как раз Камневых имел в виду Красильников, записывая их имена. И от сознания того, что все уже сделано и он попусту просиживает в гостинице, Чупреев механически перелистывал ставшие ему ненавистными книги, возвращался назад и заставлял себя вникать в фамилии приезжих.
Ответ пришел через несколько дней:
«Камневы Ольга Николаевна и Валерий Семенович женаты с 1952 года. Ольга Николаевна познакомилась с Красильниковым Гошей прошлым летом в Ленинграде. С 14 марта по 28 мая с. г. супруги Камневы находились в Крыму, где гастролировал Новгородский драматический театр».
Чупреев победно вошел, сжимая в кулаке конверт, и Изотов, мельком взглянув на шалое от радости лицо, сказал:
– Сейчас что-то произойдет…
– Нашлась-таки Ольга Николаевна! Представляешь, нашлась! – возбужденно восклицал Чупреев, потрясая письмом. – Два с половиной месяца убито на то, чтобы получить такое письмо! Чертовщина! Но знаешь как удачно: сразу два имени – Ольга Николаевна и Валерий Семенович….
– Ну и…
– Придется их из следствия исключить, обоих.
– Так чего ж ты сияешь? – с холодной усмешкой спросил Изотов.
– Да так, – вдруг помрачнев, ответил Чупреев. – Люблю ясность.
– Ну-ну… Вот сейчас и доложишь Шумскому на оперативке.
Когда они пришли к Шумскому, тот завязывал порвавшийся шнурок, поставив ногу на стул. Посмотрел на Изотова и Чупреева снизу, из-под руки.
– Давайте живее…
Чупреев поднес к глазам Шумского ответ на запрос. Тот, не снимая ноги, прочел его.
– Молодец, хорошо сработал. Приобщи к делу.
– И Назарчук отпадает, – загадочно улыбаясь, сказал Изотов. – У нее тоже алиби. С одиннадцатого по четырнадцатое она лежала в больнице. Обычные дамские дела… Допрыгалась… А как скрывала, можно подумать, что…
Шумский, видя желание Изотова посвятить мужскую компанию в пикантные подробности, недовольно поморщился и перебил:
– Витя, оставь ее, пожалуйста, в покое. Это не наше дело. Важно алиби. Есть оно? Есть. Ну и все. С Гуляевым выяснил, как обстоят дела?
Уязвленный тем, что его прервали, Изотов сказал раздраженно:
– К вашему сведению, не Гуляев, а Гуняев, Игнат. Из-за этой одной буквы они там чуть ли не месяц провозились, деятели. Короче говоря, этот троюродный брат Красильникова служит в танковом подразделении Дальневосточного округа. Отношения у братцев были прохладные из-за того, что Гуняев дал Красильникову тысячу рублей в долг, на месяц, а тот никак не мог их вернуть. С февраля Гуняев из своей воинской части не отлучался.
– Ясно, – сказал Шумский, закуривая. – Вычеркиваем Гуняева. Между прочим, деньги Красильников вернул или так и остался должником?
– Отдал. Переслал почтой в апреле.
– Так и запишем, – улыбнулся Шумский. – Значит, у нас остается Нина Михайлова, Нина Гавриловна Михайлова. Кто она такая? Слушайте внимательно. Как вы знаете, это подруга Назарчук. Ей двадцать четыре года. Вот, можете на нее полюбоваться.
– Что, тоже из архива Красильникова? – спросил иронически Изотов, разглядывая фотографии.
– Нет, наши… Окончила два курса электротехнического института, но после рождения детей – у нее два мальчика-близнеца – бросила институт. Муж Михайловой, Федор Павлович, инженер на заводе «Красная звезда», человек незаурядных способностей, но вспыльчивый, крутой. Старше жены на одиннадцать лет, охотник и рыбак, любит выпить. Отношения в семье были, как принято говорить, нормальные. Но в конце апреля у Михайловых что-то происходит. Что? Мы не знаем. Мы знаем только, что окружающие на заводе отмечают его крайнюю растерянность, раздражительность; дважды он приходит на работу нетрезвым – раньше с ним этого не бывало. Дальше. Двадцать седьмого апреля – прошу обратить внимание на даты – Михайлов неожиданно уезжает в командировку в Челябинск, там у них пусковой объект, причем о командировке хлопочет он сам. Вместо полутора месяцев он пробыл в Челябинске всего одиннадцать дней и восьмого мая так же неожиданно вернулся в Ленинград с больничным листом. Пришедший навестить его с работы товарищ застал Михайлова на ногах. В разговоре Михайлов жаловался на сердце и, между прочим, бросил шутливо такую фразу: «Ну и жена молодая осталась, мало ли что может случиться».
Шумский вмял в пепельницу окурок и, помолчав, продолжал:
– Четырнадцатого мая, отметили, да? Четырнадцатого мая Михайлов снова уезжает в Челябинск и остается там до конца командировки. А что Нина Гавриловна? Начиная с майских праздников она чуть ли не ежедневно ходит к своим теткам – они живут вместе, – у которых раньше бывала раз-два в году. Восемнадцатого мая она с детьми и домработницей отправляется в Геленджик. Вот такие дела. В прошлую пятницу Михайлов подал заявление об отпуске, собирается ехать к жене, но отпуск получается внеочередной, и пока ему в этом отказано. И думаю, правильно, – усмехнулся Шумский. – Все это нужно хорошенько обмозговать. Придется поработать. Витя как старый приятель Назарчук, поговорит с ней подробнее о Михайловой. Надеюсь, это доставит ему удовольствие. Мне ничего не остается делать, как познакомиться со старушками – тетками Нины Гавриловны. А тебя, Сережа, ждет особое задание. Сейчас мы с тобой пройдем к Быкову и обговорим все. Ясно? Вопросы есть?
– Да уж какие тут вопросы? Все разжевано, только знай глотай, – сказал Изотов, потягиваясь. – Эх-ма…
10
Ни тучки, ни белого мазка над морем – бескрайняя синь, нежная, прозрачная, невесомая; вяло набегают волны, шурша и позвякивая камешками… Простор, тишина и эта поразительно ровная, нескончаемая музыка моря умиротворяют, вселяя чувство покоя и безмятежности.
К полудню небольшой пляж Фальшивого Геленджика опустел. Лишь два мальчугана в белых костюмчиках и панамках копошились у самой воды. Возле них сидела девушка и вязала. В стороне под пестрым зонтом лежала женщина в купальном костюме и темных очках. Она читала, поглядывая время от времени на детей, и переворачивалась с живота на бок, потом на спину…
Завидев человека, идущего к ней, сказала девушке:
– Вера, вы идите, пора детей укладывать спать. Согрейте им молока перед сном…
– Добрый день, вы опять всем семейством?
Женщина сняла очки и, приложив руку ко лбу, посмотрела на молодого человека. Лицо его раскраснелось от жары. Светлые волосы свисли на лоб, и он тряхнул головой, отбрасывая их назад.
– А-а, это вы? – удивленно, но и радостно проговорила Нина Гавриловна, словно не узнав его сразу, и опустила руку. – Кто же в такое время приходит на пляж?
– Я! – засмеялся Чупреев, бросив взгляд на ее крепкое загорелое тело, и скинул шелковую рубашку. – Вы купались?
– И не раз… В такой день преступление – сидеть дома.
– А вы уверены, что я сидел дома? Не говорите «да» – ошибетесь: я ходил в Джанхот… Надо же изучать здешние места!
– В эдакую-то жару? – Женщина улыбнулась, приоткрыв маленький рот, на пухлых щеках появились ямочки. – Эх вы, исследователь!..
– Я вам подарок принес, добытый тяжким трудом. Видите, поцарапался, лазал по круче, – весело сказал Чупреев и вынул из кармана гриб. – У нас вы такого не найдете, хоть он и похож на боровик.
– А как он называется?
Чупреев с нарочитой серьезностью осмотрел гриб, подумал, сказал небрежно:
– Это – аманита поганус, что в переводе означает: «Не ешь меня, будет плохо», – и поддел его ногой.
– Вы все шутите. – Нина Гавриловна подобрала обломок шляпки, положила на ладонь. – Какой он жесткий! И сосочки… А я не знала, что здесь растут грибы.
Купался Чупреев долго, наслаждаясь прохладой воды, заплывал далеко – Нина Гавриловна теряла его из виду. Выйдя на берег, он лег возле женщины на горячие камни.
– В реке все-таки плавать лучше, – сказал Чупреев, сооружая из камешков грот. – Как ни стараюсь, а вода в рот забирается, соленая какая-то, горькая, бр-р-р!
– Вы никогда раньше не были на Юге? – спросила Нина Гавриловна, подавая черный с белыми прожилками камень. – Положите его наверх…
– На Юге бывал, но моря никогда не видел. А вы знаете, меня жестоко обманули, – сказал он вдруг грустно.
– Кто? Когда?
– Люди… Мне всегда говорили, что море синее-пресинее, даже у Пушкина оно такое, а, оказывается, оно зеленое и очень светлое. Ничего синего…
Нина Гавриловна засмеялась. Она не могла привыкнуть к его шуткам, произносимым неожиданно среди, казалось бы, серьезного разговора.
Этот студент-юрист нравился ей своей общительностью, неунывающим и покладистым характером. Был он молод, но многое знал, всем интересовался и умел ухаживать, не надоедая, впрочем, своими ухаживаниями. Прошло всего три дня, как он появился тут на пляже, а у Нины Гавриловны было такое ощущение, словно они были знакомы давным-давно.
Снимал Чупреев комнату на соседней улице, вечерами сидел за учебниками, а с утра уходил в горы, в лес…
– Вы дольмены видели? – спросил он, резким движением разрушая груду камешков.
– Дольмены? – удивилась Нина Гавриловна. – А что это?
– О, это великолепные памятники старины. Я давно собираюсь их посмотреть. И вам тоже обязательно надо. Хотите составить мне компанию завтра? Только предупреждаю, идти далеко, километров пятнадцать-восемнадцать, и не по ровной дороге.
– С вами, наверное, можно пройти и тридцать, – засмеялась Нина Гавриловна. Потом, подумав, сказала: – Хорошо, только надо идти пораньше, часов в шесть.
– Отлично, в шесть так в шесть. Но смотрите не проспите.
Он был точен. На его тихий стук в окно белой хаты-мазанки сразу раздвинулась занавеска. Зажимая губами заколки и поправляя волосы, Нина Гавриловна молча кивнула Чупрееву и вскоре вышла в сад. На ней было легонькое шелковое платье с пелериной и красные босоножки.
В этот утренний час солнце еще не вышло из-за гор, с моря тянуло свежестью, было тихо и прохладно.
Нина Гавриловна и Чупреев вышли на дорогу и свернули к виноградникам. Кисти матовых ягод клонились к земле, серой и комковатой. Чупреев срезал перочинным ножом гроздь и высоко поднял ее двумя пальцами.
– Вас не удивляет это творение природы? По-моему, им нельзя не восхищаться. Вы только поглядите, как все рассчитано: ничего лишнего, все необходимо. А какая крепость ветки! И справедливо, иначе бы все развалилось от такой тяжести.
– Вы как будто вышли из заточения! – сказала Нина Гавриловна. – По совести говоря, я никогда так не рассматривала виноград. Я только знаю, что он вкусный. Остальное меня не интересует.
– А ну-ка попробуйте.
Женщина оторвала ягоду и, положив в рот, сморщилась:
– Боже, какая кислятина, еще не созрел.
– Жаль. Но ничего, все же мы возьмем его с собой – будет жарко, вы захотите пить, а это лучше всякой воды.
Потом начались горы, густо заросшие лесами. Поддерживая Нину Гавриловну, Чупреев вел ее по белой тропинке до перевала; там они отдыхали и, держась за руки, спускались вниз, – из-под ног с шумом катились острые, словно кем-то нарочно наколотые, куски известняка…
– А вы знаете, почему наш поселок называется Фальшивым Геленджиком? – спросил Чупреев.
– Представьте, нет. Я как раз думала, что у него какое-то странное название, но все забывала кого-нибудь спросить. И правда, почему?
– Вообще-то, дословно «Геленджик» переводится как «Белая невеста»…
– Вот как? – удивилась Нина Гавриловна. – И это имеет под собой какую-нибудь почву?
– Да. Когда-то турки увозили отсюда в свои гаремы белых женщин. Ну а Фальшивый… Во времена Русско-турецкой войны адмирал Нахимов решил заманить в ловушку турецкую эскадру. Русские корабли стояли в Геленджике, морской крепости. Нахимов приказал все огни притушить, а здесь на берегу – тогда еще этого селения не было – ночью разжечь костры. Турки и попались. Они решили, что это и есть Геленджик, подошли и начали обстреливать пустынный берег, а Нахимов вывел свой флот, запер турок в бухте и всех их потопил…
– Интересно…
– Еще как! – язвительно проговорил Чупреев. – До умопомрачения… Только все это враки!
Нина Гавриловна недоуменно подняла брови.
– Да, да, вранье. Эту занятную историю я слышал от одного разбитного малого – экскурсовода, каких здесь тьма-тьмущая. Экскурсоводам ведь-что нужно – чтобы их слушали разинув рты. Представляете… – Чупреев остановился, вскинул руку и заговорил быстро, изменив голос: – Вот отсюда, с этой башни, высотой шестьдесят семь метров, бросилась в пучину моря княжна… А здесь прекрасный юноша, узнав об измене возлюбленной, превратился в камень, и с тех пор… – Чупреев откашлялся и продолжал: – Легенды, легенды… И с Нахимовым тоже легенда, сочиненная для отдыхающих простачков. На самом деле война с турками закончилась гораздо раньше, чем построили крепость Геленджик. Так что никакой войны уже не было, и Нахимов не мог завлекать турок. Все гораздо прозаичнее. Солдатам в новую крепость русские суда подвозили, как принято теперь говорить, довольствие. А Геленджикская бухта по очертаниям и правда очень похожа на эту. Не помню, как она называлась раньше, – Мезыбь, кажется. Здесь ведь были горцы, черкесы, и селение у них здесь было. Ну а маяков тогда еще не поставили, побережье малознакомое, и капитаны путали Геленджик с этой бухтой… Может быть, и сажали судна на мель, кто знает…
– Чего это вы ополчились на легенды? – запальчиво спросила Нина Гавриловна. – В них столько романтики, красоты. А это все любят, и я тоже. Разве вы не любите красоту?
– Люблю, но не в истории. История не может состоять из одних легенд. История – это прежде всего правда, и неприукрашенная правда.
– А белые невесты – тоже легенда?
– О нет. Но не думайте, что белых невест похищали на вороных конях черноокие юноши. Этих невест бичами сгоняли на корабли, набивали трюмы до отказа, а потом полуживых раздавали в гаремы… Разве это красиво?
Некоторое время они шли молча, пока Нина Гавриловна не сказала:
– Посмотрите, какая прелесть: кизил. Все красно!
Чупреев набрал горсть ягод, пересыпал их в мягкие ладони Нины Гавриловны.
– Что за природа! Все здесь съедобное, все растет само по себе. Грецкие орехи – пожалуйста, алыча – пожалуйста, кизил… И никто не караулит это добро. Сюда бы заготовителей! Надо будет, пожалуй, взять патент на это предложение, как вы считаете? Половина премии вам.
– Я даже согласна на тридцать процентов.
– Скромно. Но вам нельзя даже тридцать.
– Почему?
– Ваш муж увидит у вас капитал и спросит откуда, – шутливо сказал Чупреев. Он остановился, упер руки в бока и, нахмурив брови, грозно и вопросительно посмотрел на Нину Гавриловну: – Да, откуда?
– А я скажу, что шли мы однажды с одним молодым человеком…
– Разве он у вас не ревнивый?
– О, еще какой ревнивый! Не Отелло, а прямо десяток Отелло…
Так, болтая, они прошли почти весь путь. Чупреев шутил, рассказывал, как сдавал зачеты, в лицах изображал разговор профессора со студентом, который проваливается на экзамене. Потом вспомнил, как однажды он решил посвятить себя артистической деятельности и был изгнан «за отсутствием ярко выраженных способностей…». Нина Гавриловна смеялась и не могла понять, что в его рассказах правда, а что вымысел.
Стало жарко, и она сняла пелерину. Круглые загорелые плечи поблескивали от пота.
Неожиданно Чупреев свернул с тропинки, увлекая за собой Нину Гавриловну в чащу. Густая листва скрыла солнце, стало свежо. Сумрак, лесная тишина создавали ощущение неуверенности, таинственности, и женщина почувствовала себя неспокойно. Но Чупреев шагал вперед, пока перед ними неожиданно не раскрылась поляна, посреди которой стояло странное сооружение, напоминавшее дом, сложенный из серых каменных, плит, массивных, тяжелых, без окон, с одной лишь круглой дырой в центре.
– Вот вам и дольмен, что значит «каменный стол», – удовлетворенно проговорил Чупреев. – Хорош столик? Знаете, сколько ему лет? Этак тысяч десять! В нем хоронили старейшин племени во времена бронзового века.
– А дыра зачем?
– Чтобы душа могла ходить гулять и возвращаться. – Чупреев пролез в отверстие и выглянул оттуда. – Я сейчас буду вместо души…
– Что же там внутри?
– Пусто. Хотите сюда?
– Нет уж, я лучше останусь здесь.
Чупреев выбрался обратно. Они присели на траву, развернули завтраки, и Чупреев принялся увлеченно рассказывать о загадках этих древних сооружений, до сих пор не разрешенных учеными. Нина Гавриловна слушала с любопытством и поражалась, откуда он так много знает о дольменах, о которых она никогда не слышала, хотя и отдыхала в Геленджике несколько лет.
Вдруг Чупреев заметил парящего над ними коршуна и замолчал.
– Красивая, сильная птица, но… хищник, – сказал он наконец. – Хорошо бы ее сейчас из ружья… Вы умеете стрелять?
– Нет… Муж у меня охотник. Разве этого недостаточно?
– Неужели вы никогда не пробовали выстрелить?
– Пробовала, только не из ружья…
– Из пушки? – улыбнулся Чупреев.
– Из пистолета… Муж как-то раз дал стрельнуть.
– Разве он у вас военный?
Женщина смутилась и, глядя куда-то вдаль, сказала:
– Да нет, инженер, пистолет у него с войны остался… Так, валяется без дела в письменном столе, иногда Федор берет его на охоту… Но я думаю, это останется между нами…
Как бы не заметив последней реплики, Чупреев спросил:
– Ну и что же, попали? Во что вы метили?
– В кепку – муж ее на дерево повесил, шагах в десяти. Не попала, конечно, да я, по совести, и не люблю стрелять.
– Как же это вы… С десяти шагов – и не попасть… А пистолет что, наш или заграничный?
– Бог его знает, я ведь ничего в этом не понимаю… Ну что, надо, пожалуй, собираться, – сказала Нина Гавриловна, поднимаясь. Она отряхнула платье, причесалась, покрасила губы темной помадой, глядясь в круглое зеркальце. – Вот я и готова…
Сумерки застали их в пути. Горы, леса погрузились в прозрачную синеву. Все предметы приняли синеватый оттенок. Потом сразу стемнело, и Чупреев ощупью повел за собой Нину Гавриловну, боясь потерять тропу и оступиться.
– Не рассчитали мы времени, – с сожалением сказал он. – Но ничего, скоро взойдет луна и станет посветлее.
– И надо было взять с собой что-нибудь теплое, – укоризненно проговорила Нина Гавриловна. – Вот и положись на вас! Так совсем закоченеть можно.
– Легкомысленные люди, – беспечно отозвался Чупреев, на себе ощущая справедливость ее слов.
Вскоре из-за гор показалась луна. Огромная, красно-рыжая, она напоминала раскаленный круг, только что вынутый из горна. Но чем выше диск поднимался, тем скорее остывал, уменьшался и принимал свой обычный мертвенно-серебристый цвет.
Поселок они увидели сверху. Словно выброшенный на берег, лежал он, тихий и безлюдный, у самого моря под черным, усыпанным звездами небом. Желтели в окнах редкие огни, где-то лаяли собаки.
Распахнув ветхую калитку, Чупреев провел Нину Гавриловну в сад. Она остановилась под деревом; ветви касались ее пушистых волос, лунный свет очертил мягкий, нежный профиль. Чупреев взял ее холодные руки, сжал, притянул к себе. Женщина не пыталась высвободиться, и он ощутил прикосновение ее тела, ее частое дыхание… Еще мгновенье – он не выдержит, обнимет и поцелует ее… Но нет, он не может этого сделать, не может… Закрыв глаза, Чупреев отступил на шаг и сказал тихо, боясь нарушить тишину:
– Спокойной ночи, спасибо за прогулку.
– До свидания, – услышал он ее приглушенный голос откуда-то издали. Ее уже нет, она исчезла, а он, постояв еще для чего-то, повернулся и вышел на улицу…
11
На партийном собрании Быков делал доклад. Разбирая работу оперативных групп, он высказал неудовольствие затянувшимся расследованием дела Красильникова. Самолюбивый Шумский ерзал на стуле и, едва дождавшись конца собрания, пошел объясняться.
– Вы же прекрасно знаете, Павел Евгеньевич, что мы не бездельничаем, – обиженно гудел Шумский, подсовывая прихваченные с собой телеграммы Чупреева. – Зачем же сразу с трибуны? Как будто мы нарочно тянем резину. Нам это дело Красильникова уже самим… Вот оно где… – Шумский постучал ребром ладони по шее.
– Сядь, сядь, не кипятись, – миролюбиво проговорил Быков, доставая очки. – «Отдыхаю хорошо, беспокоюсь экзамены. Валентин». «Здоров, погода неважная, вышлите дополнительно сто. Валентин»… Расточительно живет парень, ничего не скажешь, – и отложил телеграммы.
Шумский насупился, не желая отвечать на шутку, сказал:
– Я серьезно, Павел Евгеньевич.
– Я тоже серьезно. – Быков облокотился на стол, изучающе посмотрел на Шумского. – А ты можешь мне ответить, что за брюки были в портфеле Красильникова? Откуда у него рубашки, куда он все это нес? Чьи это вещи?
– Так ведь…
– Обожди, не перебивай. – От миролюбивого тона ничего не осталось. Быков заводился сразу, и Шумский пожалел, что полез с объяснениями. – Сыщик ты или нет? Откуда у Красильникова такие деньги перед получкой? Что за странная записка в кармане? Хорошо, Чупреев сидит там, а что делает Изотов? Ты говоришь – не тянете резину. А вот мне звонят из парткома завода, где работал этот Красильников, спрашивают, найден ли преступник. Что я могу ответить? Ничего. Два месяца прошло, какое там два, больше, а что у нас есть?
– Но вам же хорошо известно, сколько мы потратили времени на розыск Камневых! А Гуняева? – не сдавался Шумский.
– Я сейчас не об этом, Алексей Иванович. Что сделано, то сделано. Но важен результат, а его нет…
Шумский вышел в коридор, натолкнулся на Галочку.
– А я вас ищу, вам телеграмма.
Не успокоившись еще от разговора с Быковым, Шумский рывком распечатал бланк, прочитал:
«Поздравляю днем рождения Николая, деньги возьмите ящике письменного стола. Валентин».
И тут же вернулся к Быкову.
Обыск в квартире Михайловых делали тщательно. Изотов осторожно переставлял баночки, флакончики, коробочки на трельяже, желая сохранить порядок, существовавший до их прихода. Шумский копался в платяном шкафу, с особым пристрастием рассматривая рубашки Михайлова. Но схожих с теми, которые были в портфеле Красильникова, не нашел. Эксперт, приехавший вместе с Изотовым, снял на пленку отпечатки пальцев, оставленные на электрической лампочке, хрустальном фужере, на бутылках из-под «Столичной».
Михайлов, чернявый, рослый человек, молча и с отвращением наблюдал за обыском. Он стоял возле большого письменного стола, скрестив руки на груди, и хотел казаться непринужденным, но не мог: Шумский видел напряженность в его черных глазах, видел неестественную скованность. От шкафа Шумский перешел к письменному столу. Михайлов не пошевелился. Шумский открыл ящики, бегло осмотрел их, задвинул.
– Извините, я хочу посмотреть и те тоже. – Шумский кивнул на тумбу, которую прикрывал собой Михайлов.
– Там ничего существенного нет, – твердо сказал Михайлов, бледнея. – Чертежи, которые посторонним смотреть не рекомендуется.
– Во-первых, я не совсем посторонний; во-вторых, я думаю, что если бы это были особо секретные чертежи, их бы вам домой не дали.
Михайлов не ответил, но и не двинулся с места.
– Отойдите в сторону, – грубо сказал Шумский, Михайлов презрительно хмыкнул, качнул головой и отошел к окну.
Во всех трех ящиках лежали чертежи, переплетенные в картон. Шумский вынул их. У задней стенки нижнего ящика он нашел завернутый в тряпку пистолет.
Это была чешская «збройовка».
– А вы говорите – ничего существенного. – Шумский повертел на ладони пистолет. – Разрешение на оружие есть?
– Нет, – таким же твердым голосом ответил Михайлов.
– Жаль, – вздохнул Шумский. – Вы же наверняка знаете, что незаконное хранение оружия карается.
Михайлов промолчал.
– Откуда у вас пистолет?
– С войны, трофейный… Валяется в ящике…
– Оно видно, что валяется. – Шумский щелкнул затвором. – То-то он такой чистый, в масле.
Михайлов, не разнимая рук, молча повернулся спиной к Шумскому.
Спускаясь с лестницы, Шумский сказал Изотову:
– Теперь самый раз ехать в Геленджик. Закажи мне сегодня же билет, а сам займись Михайловым.
* * *
Нину Гавриловну Чупреев встретил на улице. Она поздоровалась с ним торопливо, без обычной своей приветливости, и Чупреев, видя ее озабоченность, спросил:
– У вас что-нибудь случилось?
– Меня зачем-то срочно вызывают в милицию.
– Ну и что же? С пропиской что-нибудь?..
Нина Гавриловна пожала плечами:
– Но я ведь здесь не прописана.
– Может быть, им понадобились какие-нибудь сведения об отдыхающих, – безразличным тоном проговорил Чупреев. – Хотите, я провожу вас в Геленджик?
Женщина помялась, думая о чем-то своем, ответила нерешительно:
– Мне бы не хотелось затруднять вас…
– Ну, пустяки какие… Мне все равно делать нечего.
– Если так, я буду рада.
В милиции Михайлову приняли сразу. Увалень-дежурный – ни военной выправки, ни четких движений – молча проводил ее в маленькую комнату с двумя распахнутыми настежь оконцами и оставил. Нина Гавриловна села возле обшарпанного стола, на котором одиноко лежала пластмассовая пепельница с придавленным окурком, осмотрелась: чисто, но неуютно, казенно. Голые стены, покрытые до половины синей масляной краской, на подоконниках горшки с сухой землей и чахлой зеленью, в углу железный ящик – сейф.
Вошел порывисто Шумский, мельком, но с любопытством взглянул на Михайлову из-под мохнатых бровей, стукнул тяжелой крышкой сейфа, достал бумаги, потом уселся и сказал своим низким голосом:
– Нина Гавриловна Михайлова. Так? – Она кивнула, стараясь сохранить спокойствие. – Нам хочется познакомиться с вами…
Чупреев не пошел в здание милиции. С Ниной Гавриловной они условились, что он будет ждать ее в соседнем сквере. Откинувшись на глубокую спинку скамейки, в тени под акациями, он закрыл глаза и стал думать. Он знал о приезде Шумского еще накануне, виделся с ним, разговаривал. Знал о предстоящем допросе Нины Гавриловны и сейчас беспокоился за нее не меньше, чем она сама.
Прогулка к дольменам сблизила их. Чупреев не мог подавить в себе чувства, вспыхнувшего в нем при расставании в тот вечер. И сейчас ему явственно виделся ее профиль, рисованный лунным светом, вспоминался ее голос, смех… Кто же такая Нина Гавриловна? Неужели эта женщина?.. Нет, он ничего не мог сказать ни «за», ни «против». Каждый раз, расставаясь с ней, он восстанавливал мысленно их разговор, пытался и в случайно брошенной фразе отыскать подтверждение своим догадкам или, наоборот, отвергнуть их. И все же интуитивно, сердцем чувствовал: не виновата она, что-то не то здесь. Но разве можно в его работе полагаться на сердце? Тем более что оно…
Тени переместились, стали длиннее и гуще. Чупреев сходил в столовую, наскоро пообедал, купил газету и вернулся в сквер. Но читать не мог – глаза скользили по строчкам, не видя их. Почему так затянулся допрос? Если все ясно, то он не должен быть таким долгим. Значит… Или они разминулись, пока Чупреев ходил обедать? Он встал, прошелся по улице мимо милиции, заметил в окне спину Нины Гавриловны и понял, что не может подавить в себе все возрастающее беспокойство.
В сквер он больше не пошел, бродил до угла и обратно, насвистывая для собственного успокоения, пока наконец вдалеке не показалась знакомая фигура.
Подойдя к Нине Гавриловне, Чупреев заметил, что лицо ее заплакано.
– Не знаю… что-то произошло, мне не говорят что, но случилось неладное… В Ленинграде.
– О чем же вас спрашивали?
– О муже, наших отношениях, перебирали всех моих родственников, знакомых… И почему-то очень интересовались Красильниковым.
– А кто это – Красильников? – небрежно спросил Чупреев.
– Есть у меня дальний родственник. – Чупреев отметил слово «есть» и вздохнул облегченно. – Так, седьмая вода на киселе. Откуда я знаю, где он и что делает? Я уже полгода его не видела…
– Ну так что же вы волнуетесь? – повеселев, сказал Чупреев. – Успокойтесь. – И взял ее под руку.
– Нет, знаете, я чувствую, что все это неспроста, меня в чем-то подозревают, но не понимаю в чем. Ах, как неприятно… Я буду сейчас же звонить мужу.
Ленинград дали через полтора часа. Чупреев, стоя у полуоткрытой двери кабинки, слышал, как Нина Гавриловна говорила мужу:
– Федя, ради бога, не надо сейчас ворошить прошлое, я не намерена к этому возвращаться. Ты должен понять, что для меня это были кошмарные дни… Хорошо, прощаю. Отпуск пока не бери, если тебе дают. Знаешь, тут на меня свалились неприятности… Только что вызывали в милицию… Что?.. Обыск?.. Что ты говоришь! Значит, мой вызов не случаен. Господи, ты тоже, наверное, нервничаешь, как и я здесь. Завтра я выеду, заберу всех… Узнай, пожалуйста, где Георгий, племянник Анастасии. Мне кажется, он натворил что-то, из-за него все это… Что? Хорошо… Я тоже… Скоро будем вместе…
Чупреев вдруг ощутил острую неприязнь к совсем незнакомому человеку, разговаривающему с Ниной Гавриловной, и почувствовал себя лишним. Ему стало грустно от мысли, что она куда-то стремится, что ее ждут и скоро они будут вместе. И еще оттого, что завтра он, Чупреев, с ней расстанется, и навсегда…
В полдень из Фальшивого Геленджика отходил автобус. Чупреев помог Нине Гавриловне донести вещи до остановки. Усталая от пережитых волнений, от бессонной ночи, она была печальна и молчалива. Чупреев тоже молчал. Спросить ленинградский адрес? Зачем? Он знал его не хуже самой Нины Гавриловны. И нужен ли он ему?
Шофер включил скорость. Нина Гавриловна помахала Чупрееву. Он кивнул, дождался, пока автобус не исчез за поворотом, и пошел на пляж. Ему хотелось побыть одному в этот последний день, – приказ, лежащий в кармане, предлагал немедленно вернуться в Ленинград.
12
Шумскому нелегко было переломить себя и отказаться от мысли, что Михайловы замешаны в убийстве Красильникова. Вспыльчивый, неуравновешенный характер Михайлова, его необузданная ревность, странные, ничем не оправданные, казалось, метания в апреле и мае, наконец, неожиданный, спешный отъезд Нины Гавриловны в Геленджик – все давало повод Шумскому сильно подозревать Михайлова и его жену. Поэтому «збройовка» ничуть не удивила Шумского, наоборот, она лишь подтвердила правильность нащупанного пути.
Но дальше все пошло кувырком. Оказалось, «збройовка» Михайлова тут не к месту: экспертиза заключила, что в саду стреляли из другого пистолета. А Михайлов, напуганный ожидающими его неприятностями, в первый же день допроса выложил Изотову все.
Глупая, банальная история. Тогда, в конце апреля, Михайлов пришел домой нетрезвый около двух часов ночи. К его удивлению, жены дома не оказалось. Домработница ничего определенного сказать не смогла, записки не было. Уже потом, опомнившись, Михайлов узнал, что жена ночевала у теток – в последние дни он заявлялся домой поздно, почти всегда хмельной, и Нина Гавриловна грозилась от него уйти. Но тогда он не верил ее угрозам и спьяну начал звонить в милицию, «Скорую помощь», морги… Утром ушел на работу, так и не зная, где жена. Встретились только вечером. Разразился скандал, взвинченный Михайлов, терзаясь ревностью, обругал, оскорбил жену и ударил. Нина Гавриловна выставила его вон, и он уехал в Челябинск. Через две недели вернулся, надеясь восстановить отношения, но Нина Гавриловна была непреклонна. Тогда он снова укатил в командировку, а жена с детьми и домработницей отправились в Геленджик.
Все было так. Двадцать пятого апреля в милиции зарегистрировали звонок Михайлова, разыскивавшего жену. Его собутыльники назвали места, где они проводили время, – их показания совпадали и подтверждались. Нина Гавриловна рассказала Шумскому то же самое, и теперь, как ни верти, приходилось сознаваться, что и эта, с такой тщательностью подготовленная, версия разлетелась вдребезги.
Надо было все начинать сызнова. Шумский ходил насупленный, раздражался по пустякам, отвечал колкостями. В такие дни лучше его было не трогать.
Изрядно разбухшая, потертая, кое-где порванная на сгибах папка с делом Красильникова лежала у него на столе. Шумский отложил более поздние показания свидетелей и взялся за протоколы первых дней после убийства. Но ничего не вытанцовывалось, никаких зацепок, за что можно было бы ухватиться. И мысль не шла…
Шумский вскакивал, мерил шагами комнату, раздумывал, так же резко садился за стол, что-то торопливо записывал на обрывке бумаги и снова принимался расхаживать, засунув руки в карманы. Потом, очистив стол, раскидывал фотографии, снятые им в ту ночь, и разглядывал каждую подолгу, придирчиво.
– Какие же мы, однако, олухи царя небесного, кретины! – шумно вскочив, воскликнул он вдруг повеселевшим голосом. – Поразительные кретины!
– Это что-то новое, – пробурчал Изотов. – А конкретнее?
– Ломимся в открытую дверь. Ищем женщину, которой, может быть, вовсе и не было.
– То есть? – не понял Изотов.
– Скажи, тебе не приходило в голову, что кому-нибудь нужно было заставить нас искать женщину? Разве не мог этот человек обдуманно мазнуть помадой щеку Красильникова, чтобы пустить нас по ложному следу? Хитер! А мы попались на его удочку, как несмышленыши. Разве не олухи?
Изотов покачался на стуле, не торопясь высказаться. Шумский воспламенялся мгновенно, каждую версию обосновывая логически точно, верил в нее и считал ее единственно правильной. Спорить с ним было трудно. Но Изотов все же сказал, сомневаясь:
– Подожди себя и нас бичевать. Ты говоришь так, будто у тебя под рукой уже готовые доказательства.
– Нет, конечно, но версия вполне допустимая. Как я прошляпил!.. Посмотри-ка на этот снимок. – Шумский положил фотографию, весь кадр которой занимала голова убитого Красильникова – на щеке проступала темная полоса. – Это же явный мазок. Если от губ, то, я полагаю, он должен быть либо смазан, либо уж полукруглым или даже в два полукруга. А здесь ровная черта. Как ты считаешь?
– Не знаю, – ухмыльнулся Изотов, – я не специалист по поцелуям. Можешь, конечно, дать задание, тогда попробую…
– Сыщик должен быть специалистом во всем, – строго сказал Шумский и засмеялся. – Но я тоже не очень… Может быть, Сергей? Он у нас парень холостой… Где он, кстати?
– Сегодня уехал. Ты же сам хлопотал ему недельный отпуск за свой счет.
– А, черт, забыл совсем… Ну хорошо, давай разрабатывать эту версию, – сказал Шумский, в нетерпенье потирая руки. – Придется вызывать Назарчук. Поговорим с ней вместе.
Шумский заражал своей энергией. Рядом с ним нельзя было быть вялым. Изотов, подчеркивая расторопность, поплевал на ладони, одернул рукава и принялся выписывать повестку. Затем тут же вызвал курьера…
Утром Назарчук явилась в управление, благоухая дешевыми духами, и, здороваясь с Изотовым, как со старым знакомым, сказала удивленно:
– Я думала, что я вам уже больше не нужна.
– Как видите, нужны, и очень, – ответил он с располагающей улыбкой и широким жестом пригласил Назарчук сесть. – С вами всегда приятно поговорить.
– Это надо понимать как комплимент? – Назарчук заложила нога на ногу, открыв круглые колени, Изотов с удовольствием посмотрел на них и отвел глаза.
– Безусловно. Только как комплимент.
Шумский молча сидел в стороне за бумагами, а Изотов, избрав легкий, непринужденный тон, шутил, не торопясь переходить к делу. Разговор шел о любви, изменах, коварстве мужчин, умении одеваться… Со стороны могло показаться, что знакомые собрались за чаем, у них пропасть свободного времени и им приятно толковать о людских делах, их слабостях. Назарчук чувствовала себя вольно, смеялась, и Шумский с завистью подумал, что женщинам, должно быть, нравятся такие вот обходительные, не слишком серьезные мужчины, как Изотов, и, будь у Изотова побольше свободного времени, он наверняка причинял бы жене немало хлопот.
– Как вы уже сами догадались, мы люди чрезвычайно любопытные, – говорил Изотов весело, – стараемся в этом плане не отстать от женщин. Так вот, любопытство заставляет меня просить вас подумать, с кем еще был знаком Красильников? С мужчинами, женщинами, быть может, это были непродолжительные знакомства, – все равно. Подумайте хорошенько.
Назарчук поднесла согнутый палец ко рту, потупилась, вспоминая.
– Жорж был замкнутым человеком, и знакомых у него было немного. Во всяком случае, так мне казалось. Мы о них не говорили, так только, иногда, между прочим.
– Ну а конкретнее?
– Раза два или три были мы с ним в гостях у моей подруги, Нели Самыгиной. Нельку я с детства знаю, в одном дворе жили. Жизнь у нее сложилась лучше, чем у меня, муж у нее шофер, человек веселый, компанейский, зарабатывает прилично, ну они иногда приглашают гостей. Соберут человек пятнадцать и гуляют до утра. Выпьют, потанцуют, попоют… Мы с Жоржем у них чувствовали себя как дома.
– Хорошо, это ваши знакомые, – упорствовал Изотов. – А к его знакомым вы ходили?
– Нет. Да у него знакомых-то… Раз, два… Был у него один, Павел, кажется, так тот тоже в общежитии живет, холостой. Зачем же из одного общежития в другое ходить?.. Радости мало.
– Он что – рабочий, служащий? Где он работает?
– Вроде бы рабочий, на станкостроительном, или подсобник. Они с Жоржем вместе в армии служили и демобилизовались в один день.
– А фамилию его вы знаете?
– Не помню, – покачивая головой, сказала Назарчук. – Жорж мне ее не называл. А если и называл, то я забыла. Ни к чему мне…
– Эх, память девичья, – вздохнул горестно Изотов. – Значит, Павел. А еще?
– Еще? – Назарчук нахмурила лоб в задумчивости, потом подняла глаза на Изотова. – Был еще какой-то музыкант, на аккордеоне играет. Как же его звали?.. Аркадий? Да, по-моему, Аркадий. Жорж еще говорил, что у Аркашки очаровательная жена… Как мне кажется, он довольно часто бывал у них: хотел учиться играть на аккордеоне, может, даже уроки брал.
– Вам это, разумеется, не нравилось…
Назарчук слегка покраснела, ответила сердито:
– Из того, что я вам раньше рассказывала, можете вывод сделать сами.
– Понятно. Вы Аркадия видели когда-нибудь?
– Никогда.
– Что же, вас Красильников не приглашал к ним?
– Не знаю.
– А где этот Аркадий работает?
Назарчук засмеялась коротким, отрывистым смехом.
– Вы, наверное, меня сейчас выгоните, потому что я ничего путного не могу вам сказать. Честное слово, не знаю. Кажется, он работал в эстраде, но потом его уволили. Куда он устроился, понятия не имею. И фамилии его не знаю. Видите, какая я бестолковая! Разве вам это что-нибудь даст?
Изотов махнул рукой:
– О нас, пожалуйста, не беспокойтесь.
– Кстати, – подал наконец голос Шумский, – как нам кажется, Красильников неплохо одевался. Одежду он покупал или шил у кого-нибудь, вы не знаете?
– Зимой он купил костюм в Гостином дворе, а больше, по-моему, ничего не покупал. За тот год, что мы были знакомы. Ведь одежду не каждый день покупают.
Шумский кивнул, опечаленный, погладил свой острый подбородок, спросил без особой надежды услышать то, что хотел бы:
– А старую одежду он где чинил? В ателье?
– Старую?.. Вы думаете, у него было много старья? Ошибаетесь. Он только начинал жить. Хотя… Постойте… Он отдавал перешивать какому-то мастеру пиджак. Коричневый у него был пиджак в темную полоску. Но кому, хоть убейте, не знаю.
– Пиджак? – заинтересовался Шумский. – А перешивать брюки он не собирался?
– Господи, спросили бы что-нибудь попроще, – устало проговорила Назарчук. – Вы заставляете вспоминать вещи, о которых я могу ничего не знать. Я же не жена ему была! И не ходила за ним по пятам.
– Что поделаешь, такая у нас работа, – шутливо сказал Изотов. – Все-таки подумайте.
– Думать-то нечего… Я вспомнила один разговор… Жорж еще смеялся, что получил от тетки из Ташкента брюки. Старуха, наверно, забыла, как он выглядит, и прислала штаны на толстого мужчину…
– Не эти ли? – спросил Изотов, раскрывая сверток.
Женщина с любопытством взглянула на брюки и отвернулась.
– Он мне их не показывал, может быть, эти.
– Значит, по-вашему, он мог отдать их частнику?
– А почему бы и нет? Наверное, мог…
– Ну что ж, и на том спасибо. У тебя еще вопросы есть, Алексей Иванович?
Шумский выразительным взглядом показал, что ему Назарчук больше не нужна, и Изотов отпустил ее.
– Ну, какое впечатление у тебя осталось?
– Приятная женщина, ничего не скажешь, – уклончиво ответил Шумский. – Однако надо работать. Отправляйся-ка на станкостроительный, а я поеду в эстраду.
13
В списках уволенных из Ленгосэстрады за два с половиной года значилось 83 человека. Шумский просмотрел личное дело каждого. 78 папок сдал обратно в архив, оставив личные дела аккордеонистов. Теперь надо было посмотреть, кто из аккордеонистов женат и какого возраста. И еще Шумского интересовали фамилии, начинавшиеся с «П» или «И».
Три дела пришлось отправить за остальными. Остались два – Иноземцева и Потапенко. Иноземцеву Семену Викторовичу было тридцать два года. Его жена, Зинаида Алексеевна, не работала. Аркадий Игоревич Потапенко был пятидесятичетырехлетним холостяком, и это смутило Шумского. Но имя! Не такое уж оно распространенное. И потом – А.И. Если это тот Аркадий, о котором упоминала Назарчук, то что могло связывать двадцатидвухлетнего парня с пожилым человеком? Любовь к музыке? Но никто, кроме Назарчук, не говорил о ней. И в вещах Красильникова не было ничего, что бы подтверждало эту любовь.
Личное дело Потапенко было тощим. Анкета и несколько приказов:
«За появление на концерте в Выборгском Доме культуры в нетрезвом виде объявить Потапенко А.И. выговор»; «За неявку на праздничный концерт в Доме культуры энергетиков и срыв программы объявить Потапенко А.И. строгий выговор».
Последним приказом Потапенко был уволен
«за систематическое нарушение трудовой дисциплины и аморальное поведение».
Прихватив личное дело, Шумский поехал на Васильевский остров. На 19-й линии, неподалеку от Малого проспекта, он вошел под арку большого серого здания и спустился по щербатым, перекошенным ступеням в полуподвал, где помещалась домконтора.
Рыхлый, с бабьим лицом управхоз, узнав, что Шумский интересуется Потапенко, сказал коротко:
– Скандальный мужик.
– Вот как? Чем же он вам досадил?
– Чем? – Управхоз поскреб большим пальцем редеющую макушку. – Да вот жильцы из нижней квартиры завалили жалобами. Пьянки у него по ночам, спать мешают: шум, музыка – потолок пляшет. А мы – разбирайся…
– И что же вы делаете?
– А что мы можем? У нас руки связаны. Будь моя воля, я бы с такими… – Управхоз сжал кулачище, помахал. – А тут – вызовешь, постыдишь, а он еще и куражится: «Не имеете права, я буду жаловаться…» В общем, пришел – одолжение тебе сделал, и ты же сам вроде бы виноватым перед ним остался. Ну раз человек по-хорошему не понимает, мы все заявления соседей собрали – и участковому.
– Кто у вас участковый?
– Лейтенант Малахов, Петр Владимирович. Тут еще Потапенко сам нам заявление подал, печь у него дымит, а у меня, как на грех, печник запил. Что ты будешь делать? Уж неделю не выходит на работу. Можно, конечно, уволить. А кого брать? Сами понимаете, профессия сейчас редкая. Вот и маюсь без печника… А Потапенко какое дело до наших трудностей? Явился вчера под мухой, скандал закатил, как на базаре.
– Одним словом, вы друг друга из виду не упускаете, – сказал, улыбаясь, Шумский. – Ну а где он работает?
Управхоз постучал в стенку.
– Это мы сейчас установим, один момент…
Тотчас явилась паспортистка с домовой книгой, и управхоз начал листать страницы, приговаривая: «Это мы сейчас…»
– Вот, служил в эстраде, уволился. Устроился в кинотеатр «Художественный», тоже уволился… Полтора месяца проработал, – сказал он, взглянув укоризненно на Шумского. – Дальше… Клуб вагоноремонтного завода. Уволен. Два месяца… Видите, подлец, что делает. Устраивается на работу, волынит два-три месяца и увольняется. Бездельничает, пока участковый не вспомнит о нем, тогда снова устраивается куда-нибудь.
– На что же он живет?
– Кто его знает… Музыканту не так уж трудно заработать. Тут сыграл на свадьбе, там уроки дал и, глядишь, сыт. А еще поговаривают, – управхоз понизил голос, придвинулся к Шумскому, – будто шьет он.
– Что?! – Шумскому показалось, что он ослышался. – Повторите, что вы сказали.
Управхоз не ожидал и не понял, отчего проявился вдруг у следователя такой интерес к его словам, стушевался и стал сбивчиво объяснять, что это покамест слухи, ничем не подтвержденные, и исходят они все от тех же соседей, которые по злобе могут и придумать и оболгать человека.
– Ну-ка покажите заявление, – попросил Шумский, не слушая больше управхоза.
Тот порылся в ящике, приподнимая напиханные бумаги и заглядывая под них, потом наконец вытянул помятый листок.
– Будет у него завтра печник, двадцать шестое домохозяйство дает мне на два дня…
Шумский поднес к глазам заявление, и первый мгновенный взгляд на почерк возбудил в нем смутное, неосознанное ощущение где-то уже виденного, знакомого, но потом ощущение это притупилось и исчезло вовсе.
– Вот что. Я беру его с собой, – сказал Шумский, складывая бумагу, – отметьте где-нибудь. И о нашем разговоре никому пока ни слова. Понятно?
Управхоз кивнул, а Шумский, повернувшись, попрощался и вышел на улицу.
Утро следующего дня Шумский провел в районном отделе милиции и вернулся в управление к обеду.
– Как дела? – спросил он Изотова, хмуро барабанившего пальцами по столу.
– Да все так же… Знаешь, говорят, будто врач иногда сожалеет, что нет больных. Вот и я что-то вроде такого врача. Проболтался вчера полдня на заводе. Ну узнал, что за Павел. Балабанов. Могу тебе все рассказать о нем, но незачем. Все это типичное не то. – Изотов скривил губы и медленно покачал головой: – Совсем не то…
– Ну и хорошо, радуйся, чудак ты…
– Радуйся… Времени жалко.
– На то, чтобы оправдать человека, времени не жалко. Так что не горюй. А у меня кое-что есть…
Последние слова против воли Шумского прозвучали хвастливо, как у мальчишки, у которого есть тайна и которого распирает от желания поскорее ею поделиться. И Шумский действительно хотел поразить своей удачей Изотова.
– Так вот, – торжествующе произнес он, – нашелся-таки Аркадий! Он же аккордеонист и портной. Аркадий Игоревич Потапенко. Улавливаешь? – И, заметив заинтересованный и завистливый взгляд Изотова, продолжал: – Самое любопытное, что на Потапенко в Васильевском райотделе заведено досье. Так что собирать по крупицам ничего не нужно. Все собрано. Для нас тут есть много интересных вещей. Практически он нигде не работает, но время проводит весело. Предположим, что живет на случайные доходы – аккордеон, шитье. Но это еще надо проверить, тем более что несколько лет назад он привлекался по сто седьмой, за спекуляцию. Правда, дело было прекращено за недостаточностью улик, но тем не менее. Теперь вот что. Однажды соседи Потапенко сказали, что вот уже месяца два у него живут без прописки какие-то люди. Участковый установил, что это были рижане – Далматов и Калныня. Известно также, что и Потапенко довольно часто бывает в Риге.
– Ну и что? – спросил Изотов.
– А ничего, – вдруг раздражаясь, с вызовом ответил Шумский. – Я излагаю факты. Может быть, они нам пригодятся, а может, и нет.
– Да ты не сердись, – миролюбиво проговорил Изотов. – По-моему, самое ценное – то, что ты сказал в самом начале.
– Самое ценное еще впереди, – самодовольно сказал Шумский, – хотя разве мы можем сейчас сказать, что именно самое ценное? Ну-ка посмотри сюда.
Резким движением Шумский расчистил стол от бумаг, вынул из дела записку, найденную у Красильникова, рядом положил анкету из эстрады, которую заполнял Потапенко, и его заявление управхозу.
– Есть что-нибудь общее?
– Хм… Вроде бы есть, – сказал Изотов, всматриваясь и сличая почерки. – Пожалуй, записка написана тем же человеком, но левой рукой.
– Мне тоже так кажется. Но не будем гадать. Пускай экспертиза даст точный ответ. Если ее писал Потапенко, надо брать ордер на арест.
14
Ватными хлопьями падал снег. Освещенные лучами фар, хлопья стремительно неслись навстречу «Победе», словно боясь попасть под колеса, и таяли, разбиваясь о лобовое стекло. Шумский подумал, что так же летят мотыльки-однодневки на пылающий костер, летят тысячами и гибнут… Он любил ночные рыбалки: плывешь неслышно на челне, тиха черная вода, черные кусты таинственно клонятся к реке… Потом недолгий, рваный какой-то, чуткий сон возле костра, и снова журчит под челноком вода. Уж светает, туман над рекой… И вот в руке мокрый, туго натянутый шпагат размотанной жерлицы…
– Налево, Алексей Иванович? – спросил шофер, заставив Шумского очнуться.
– Налево. Ты что, Витенька, молчишь, спишь, что ли? – Шумский живо обернулся к сидящему сзади Изотову. – Сейчас приедем.
– Нет, не сплю, пригрелся малость…
«Победа» свернула на Средний проспект, потом на 19-ю линию и остановилась недалеко от дома, где несколько дней назад побывал Шумский.
Они поднялись по крутой, плохо освещенной лестнице на третий этаж. Перед обитой клеенкой дверью Шумский остановился, вынул пистолет, снял предохранитель и снова положил в карман. Изотов последовал его примеру.
На звонок долго не открывали. Пришлось нажать кнопку сызнова. Наконец послышались шаги, и мягкий, вкрадчивый голос спросил:
– Кто там?
– Нам нужно видеть Потапенко, – ответил Изотов.
Стукнула щеколда. В дверях стоял невысокий полный человек с круглым животом, без пиджака. Худосочная прядка из нескольких волос на темени была зачесана, прикрывая огромную лысину.
– Это я Потапенко.
– Мы должны произвести у вас обыск, – сказал Шумский.
– Обыск? Ничего не понимаю. Почему у меня? Это какое-то недоразумение! – торопливо заговорил Потапенко, не впуская пришедших в переднюю.
Шумский энергично прошел вперед, заставив хозяина отступить. Изотов закрыл за собой дверь.
– Проводите нас к себе.
Комната Потапенко была большая и странной, необычной формы – трапеции. В углу, возле печки, стояла ножная швейная машинка, которую освещала медицинская лампа с блестящим членистым корпусом. Лампа была согнута, и свет падал на не вынутую из-под иглы материю. Шумский включил люстру. Рядом с машинкой стоял шкаф, на наружной стенке которого висел расправленный на вешалке коричневый пиджак в темную полоску.
Подоконник ничем не задрапированного окна был заставлен винными бутылками; на кровати, покрытой грубым шерстяным одеялом, валялись газеты, выкройки, ноты, куски сатина. Обеденный стол не прибран…
– Ничего не понимаю. – Потапенко ходил мелкими шажками по комнате, задевая стулья. – Ничего не понимаю…
– Присядьте, – сказал Шумский. – Я думаю, вы сами все прекрасно знаете. Между прочим, чей это пиджак?
Он снял пиджак с вешалки, осмотрел карманы, подкладку, пуговицы и повесил обратно на шкаф.
– Мой… Старый он, все хочу переделать, да времени не хватает.
– На что у вас время уходит? Где вы работаете? – Шумский открыл дверцы. В шкафу висели серые, черные, коричневые костюмы. Некоторые были отутюжены, другие еще недошиты: рукава и полы не подрублены, на месте лацканов – мешковина, приметанная крупными стежками.
– Сейчас временно не работаю.
– Шьете? – кивнул Шумский на шкаф.
Потапенко вдруг ожесточился, сжал кулаки; толстые губы перекосились, но в глазах, вдавленных в мясистое, дряблое уже лицо, застыла мучительная неизвестность: что эти люди знают о нем?
– Из-за патента все это, да? Стукнули, подонки… Ненавидят меня соседи, житья не дают…
– За что же?
– Кто их знает, может, рожей не вышел…
– А, – улыбнулся Шумский. – Скажите, а на какие средства вы живете? От шитья? – И подумал: «А он не дурак, хорошо разыгрывает жертву доноса. За беспатентное шитье – штраф, предупреждение… Ему выгодно сейчас быть такой жертвой».
– В основном на эти.
– В основном? – саркастически заметил Шумский. – Кому вы шили?
– Разным знакомым, товарищам.
Шумский обследовал комнату, прощупал кровать, потом подошел к машине, открыл ящик. Среди иголок, старых наперстков, шпулек он заметил желтый тюбик, вынул и открыл его. Цвет помады был темный, вишневый.
– Вы холосты?
– Холост.
– А как попала к вам губная помада?
Потапенко сделал попытку улыбнуться, развел руками:
– Ей-богу, не припомню. Должно быть, кто-нибудь из женщин оставил… заказчиц…
– Вы ведь шьете мужское платье.
– Да, но может быть… это были и не заказчицы, – взывая к пониманию, сказал Потапенко.
– Все может быть, – ответил Шумский, откладывая в сторону тюбик.
Сидя на корточках возле старинной тумбы с запыленным бюстом Оффенбаха, Изотов молча перебирал книги, тетради, журналы, которые он извлек из тумбы. Потом встал, подошел к столу и, разложив перед Потапенко два журнала мод, общую тетрадь и телефонный справочник, спросил:
– Это все – ваша собственность?
Потапенко недоуменно посмотрел на Изотова:
– А чья же? В моем доме все мое.
– Кто знает. – Изотов поднял свои белесые брови. – Вдруг эти вещи тоже оставили ваши заказчики или заказчицы.
– Нет, мои.
– Тогда я прошу, подпишите, пожалуйста, протокол в подтверждение ваших слов.
– А теперь скажите мне, – вмешался Шумский, – кто приезжал к вам из Риги? Учиться играть на аккордеоне. Ведь вы еще и аккордеонист, не правда ли?
– Да, но сейчас я играю только дома, изредка, больше для души.
– Вы не ответили мне, – настаивал Шумский.
– Не знаю, кого вы имеете в виду.
– Далматов, например, брал у вас уроки?
– Далматов?.. Далматов?..
– Ну что же вы так долго, Потапенко, вспоминаете? Он же у вас жил довольно продолжительное время. И не один. Разве не так?
– Да, да, жил, – закивал Потапенко. – Ну и что такого? Вы же сами хорошо знаете, зачем тогда спрашиваете?
– Проверить хотим. Вдруг ошибаемся? А где Далматов работает?
– Не знаю, не интересовался.
– Вот это уж нехорошо, – с нарочитым сожалением сказал Шумский. – Жить неделями бок о бок с человеком и не поинтересоваться, где он работает… Позвольте не поверить. Зря вы так говорите. Вы прекрасно понимаете, что нам выяснить, где работает человек, ничего не стоит… А вам от запирательства будет только хуже. Ну а Вента Калныня? Она что, жена Далматова?
– Не знаю.
– И где работает, тоже не знаете. Так?
– Не знаю. Ничего не знаю! – закричал вдруг Потапенко, вскакивая; кровь прилила к его лицу. – Ни-че-го…
– Сидите, сидите, – махнул рукой Шумский. – Что вы нервничаете? Спокойней… Кстати, вы знакомы с Красильниковым? Георгием Петровичем? Гошей?! Он шьет у вас что-нибудь? Или вы учите его играть на аккордеоне?
– Первый раз о таком слышу.
– Прекрасно, другого ответа я и не ожидал от вас… Жаль, но мы вынуждены вас арестовать. Собирайтесь.
Потапенко порылся в шкафу, надел старенький пиджак, повязал на толстой шее галстук. Потом, кряхтя, натянул пальто и сунул ноги в полуботинки. Огляделся, как бы прощаясь со своим жилищем, и, покачиваясь, вышел из комнаты, которую Изотов, уходя последним, опечатал.
15
Шумский плохо спал эту ночь: часто просыпался, сон был чуткий. Снился Потапенко, Шумский разговаривал с ним, но разговор носил какой-то странный характер: Шумский чувствовал, что задает совсем не те вопросы, которые следовало бы задать, и Потапенко выскальзывает у него из рук, хотя, казалось бы, все улики против него. Потом Шумский проснулся и долго лежал с открытыми глазами, разглядывая на стене неподвижную желтую полоску от уличного фонаря.
Боясь разбудить Ирину, он встал, осторожно, тихо прошел в кухню, там собрался, перекусил и, написав жене записку, отправился в управление.
В сейфе лежали изъятые у Потапенко вещи. Шумский вынул свернутый пиджак, встряхнул его и повесил на распялку, подумав, что необходимо сегодня же вызвать Назарчук для опознания этого пиджака.
Пришел Изотов, хмурый по обыкновению, невыспавшийся, но, увидев Шумского, улыбнулся и сказал вместо приветствия:
– Что-то не спится сыщику Шумскому.
– Слушай, я не понял, зачем тебе понадобился этот дурацкий телефонный справочник и журналы мод? Может, объяснишь?
Изотов загадочно ухмыльнулся и, держа в неведении Шумского, полез в сейф, достал папку с делом Красильникова. Потом, отбросив справочник и журналы, полистал общую тетрадь. Где-то в самом конце от страницы был наскоро оторван кусок, и Изотов, торжествуя, приложил на это место записку, найденную у Красильникова. Все изгибы, зубцы неровно оторванной бумаги точно совпали.
Шумский восхищенно взглянул на Изотова:
– Гений! Простой, обыкновенный гений! Нет, конечно, в ленинградском управлении работают только гении, я давно убедился в этом. Как приятно: ходишь по коридору, сидишь за одним столом в буфете с гением, – не находишь, а?!
– Теперь понял, зачем я взял справочник и журналы? Если бы я спрашивал только о тетради, он наверняка понял бы, что меня в ней заинтересовало, и отказался бы от нее…
В комнату заглянул Чупреев и, увидев Изотова с Шумским, склонившихся над столом, проговорил громким шепотом:
– Корпите, братцы? Бог в помощь!
– А-а, еще один гений! Ну-ка заходи, заходи… Вот кстати!
– Конечно, куда-нибудь сгонять надо, не иначе.
– Отгадал, дружище. Ты у нас – как пророк. В Ригу нужно прокатиться, – пожимая руку, сказал Шумский.
– Конечно, если бы не надо было ехать, разве так бы меня встретили? – смеялся Чупреев.
– Ну что ты, что ты…
– Шучу я. – Чупреев подсел к столу. – Что нового?
– Что нового? Да есть кое-что…
Шумский сел на диван, вынул папиросу и стал разминать табак, рассказывая о допросе Назарчук, поисках аккордеониста и его аресте.
– Да, но, по твоим же словам, Назарчук говорила, что у аккордеониста интересная жена, а этот холост, – усомнился Чупреев.
– Об этом мы думали. Чепуха. Мы просто доказываем, что Красильников не очень-то любил говорить правду своей возлюбленной. Ему нравилось, что она его ревновала. Ну он и расписывал красавиц, которых вовсе не существовало на свете. А с Потапенко у него были, по-видимому, деловые связи. Смотрите. – Шумский поднялся, резко чиркнул спичкой, закурил. – У Красильникова в портфеле брюки и рубашки. Потапенко шьет. Конечно же, он шил и Красильникову. Коричневый-то пиджак я не зря взял с собой! Я не сомневаюсь, что это его, Красильникова, пиджак, Назарчук о нем говорила. Дальше. Записка и заявление написаны рукой Потапенко. Экспертиза это доказала. И мы тоже. У него найдена губная помада, и цвет ее схож с той… – Увидев, что Чупреев хочет что-то сказать, Шумский поднял руку. – Так что причастность Потапенко к убийству Красильникова не вызывает сомнений.
– В чем же тогда причина убийства? – спросил Чупреев.
– Ишь какой шустрый, – усмехнулся Шумский, – все ему вынь да положь… Думать надо. Ты, наверное, когда маленький был, в кубики играл? У нас приблизительно то же: голова есть, и ноги нашлись, а туловище еще гуляет…
Изотов и Чупреев засмеялись.
– Ладно, хвост я вам достану, так и быть, – в тон проговорил Чупреев.
– Должно быть, здесь умышленное убийство, – сказал Изотов. – Но вряд ли Потапенко убил его из-за портновских дел.
– Я, Витя, не утверждаю, что Красильникова убил Потапенко, – откликнулся Шумский, – хотя, может быть, это и так. По-видимому, ты прав: портняжничанье – только ширма, а общее дело у них какое-то было. Не исключено, что спекуляция. Но чем, кто в ней замешан?..
Это предположение могли подтвердить или отклонить только свидетели, люди, знающие Потапенко. Он сам назвал нескольких заказчиков, а те в свою очередь – других.
В последние дни с утра до позднего вечера Шумский и Изотов принимали бывших клиентов Потапенко. От них узнали, что брал Потапенко умеренно, исполнял быстро, аккуратно и в назначенный срок, с деньгами не торопил. А главное, брался переделывать ношеные вещи, что не каждое ателье принимало.
Шумский по обыкновению не торопился закончить допрос. Он давал вволю наговориться болтливому собеседнику и забрасывал вопросами неразговорчивого. Дубенский, бухгалтер артели «Металл», был как раз не речист. Говорил он медленно, словно боялся сказать что-нибудь лишнее, и унылым, тусклым голосом.
– Кроме того, что вы у него шили, были еще какие-нибудь цели вашего прихода к Потапенко? – спросил Шумский.
– Нет… Хотя… один раз он предложил мне купить у него рубашку. Денег у меня при себе не было, и я ходил за ними домой.
– Рубашку? Она была новая или ношеная?
– Новая, – помолчав, ответил свидетель.
– Какая рубашка – шелковая, полотняная, верхняя, нижняя? Не стесняйтесь, рассказывайте, – подталкивал бухгалтера Шумский, теряя терпение.
– Трикотажная, шелковая, – хлопая ресницами, произнес после паузы Дубенский и замолчал. Он не чувствовал раздражения Шумского и спокойно сидел перед ним, заложив ногу на ногу.
– За сколько вы ее купили? Когда?
– С полгода назад… За сорок рублей.
– Потапенко объяснил вам, почему продает ее? Может быть, у него было несколько рубашек?
– Нет, у него была одна. Он сказал, что купил ее, но она оказалась ему мала…
Шумский не придал значения этому несущественному и малоинтересному эпизоду, но по всем правилам внес его в протокол и попросил Дубенского принести показать рубашку. Шумскому не так уж важно было ее видеть, но практика по своим жестким законам учила, что о любой мелочи, попавшей в его поле зрения, следователь должен знать все. На всякий случай.
Когда же Изотов рассказал, тоже между прочим, что свидетель, которого он допрашивал, купил у Потапенко рубашку, Шумский насторожился.
– Небось шелковую, трикотажную, – сказал он, глядя испытующе в глаза Изотову.
– Угу, – кивнул Изотов не без удивления. – Откуда ты знаешь?
– За сорок рублей, – продолжал Шумский, не отвечая.
– За сорок пять.
– Ничего, подходит. Потапенко купил себе, но она, черт возьми, оказалась ему мала. Так?
– Не совсем. Велика.
– Это несущественно. Ну-ка, Витя, срочно верни свидетеля, пусть принесет рубашку.
– А она у меня уже есть.
– Что за оперативный парень! – воскликнул довольный Шумский. – Цены нет…
Обе рубашки он положил на стол. Они ничем не отличались друг от друга – у той и у другой были одинаковые полоски: желтая, цвета беж, коричневая, затем белый просвет и опять полоски. Покрой, обшлага, полированные пуговицы – все говорило о том, что рубашки были сшиты в одном месте.
Шумский вызвал эксперта из «Красного знамени». Крупный седой мужчина с очками, сползавшими на кончик сизого носа, долго, тщательно разглядывал материю сквозь лупу – лицевую сторону, изнанку, швы, бормоча что-то невнятное, потом взглянул на томящегося Шумского и молча продолжал свое дело.
– Ничего не понимаю, – проговорил он наконец. – Странно… Очень странно…
– Что вас смущает? – спросил Шумский.
– Собственно говоря, что значит «странно»? – пустился вдруг в рассуждения старик. – Если бы не было ничего странного, вы, наверное, не пригласили бы меня к себе. Не так ли? Так вот, обращаю ваше внимание на то, что у рубашек нет никаких фабричных знаков. Замечали сами, что в швейные изделия всегда вшиты какие-нибудь ярлыки – артикул, наименование ткани, цена, ну и все такое прочее?
– Может быть, ярлыки спороты?
– Не думаю, их обычно вшивают. Можно, конечно, отрезать, но кончик все равно должен остаться.
– Выходит, их не было вообще, так вы считаете?
– Именно так.
– Что же из этого следует? – прикинулся простачком Шумский.
Старик хитро взглянул на него из-под очков:
– Что из этого следует… Тут может быть два варианта: либо рубашки сшиты кустарным способом, дома, и проданы; либо их сшили на фабрике, но сумели вынести и продать до того, как они попали в ОТК и всю последующую контрольную службу.
– Спасибо, – сказал Шумский, – а не можете ли вы определить, что это за ткань?
– Почему же, охотно… Это мое ремесло… Наш, отечественный трикотаж. Шелковая нить, сорт первый, – сказал эксперт, взвешивая каждое слово. – Но должен вам сказать, что трикотаж не ленинградский. Машин, дающих такую вязку, у нас нет. По всей вероятности, это рижская продукция, фабрики «Блонда».
– Вот как? – проговорил Шумский и вынул из сейфа рубашки, найденные в портфеле у Красильникова. – Ну а что вы скажете об этих?
Старик снова долго водил лупой, разглядывая материю, но теперь Шумский сам помогал ему.
– Та же картина, – сказал эксперт. – Все то же самое. Цвет только разный – те полосатенькие, эти белые… Но материал одной фабрики. А где сшиты – неясно, потому что опять же ярлыков нет.
– Ну что же, – удовлетворенно сказал Шумский, – мне остается задать вам последний вопрос: какова продажная цена такой рубашки?
– От шестидесяти до семидесяти пяти рублей, – ответил старик. Кусочком замши он протер лупу и аккуратно положил ее в кожаный футляр. – Но я знаю, вы люди точные и любите точность. Поэтому разрешите мне уточнить цену и позвонить вам. Однако имейте в виду: эти рубашки ни в коем случае не дороже и не дешевле той цены, которую я назвал.
Вечером Чупрееву в Ригу была послана шифрованная телеграмма. Ему предлагалось произвести негласный обыск у рижских приятелей Потапенко.
16
В ожидании вестей от Чупреева Шумский и Изотов продолжали допрашивать свидетелей. Обнаружилось уже восемь человек, которые приобрели рубашки у Потапенко. Цена колебалась от сорока до пятидесяти; причину продажи Потапенко всем называл одну и ту же. Шумский и Изотов уже сами, без эксперта, легко узнавали особую вязку трикотажа, которую производила лишь одна фабрика в Союзе – рижская «Блонда».
– В чем же дело? – спросил Изотов, небрежно чиркнув спичкой, чтобы дать прикурить Шумскому. – Спекуляция?
– Угу, – затягиваясь, прогудел Шумский. – Хороша спекуляция! Хотел бы я найти дельца, который покупал бы за шестьдесят-семьдесят рублей, а продавал за сорок. Это все равно что у Ильфа. Помнишь? Фальшивомонетчики с трудом из двух золотых сделали один и угодили на вечную каторгу. С трудом… – Он поднял палец и рассмеялся. – Нет, брат, здесь, должно быть, хищение, и крупное, возможно, даже неоднократное.
– Думаешь, он шил из ворованного материала?
– Не похоже. При обыске мы так или иначе натолкнулись бы на материю, не на куски, так на раскрой, обрезки… Нет, здесь орудует шайка, а Потапенко – звено… Впрочем, ну их к черту, рубашки, пусть Кока Звягинцев ими занимается. Это прямое дело ОБХСС. – Шумский скрестил руки на груди, вздохнул. – Нас должно интересовать одно: какую роль в убийстве сыграл Потапенко, на чем строились их взаимоотношения?
На допросах Потапенко отрицал все: Красильникова он не знал, никогда не видел, поэтому, естественно, записок ему не писал и не мог писать. И вообще никаких записок он никому не писал; рубашек не продавал; с Ригой никаких дел не имел.
Подобные обвиняемые, отрицавшие все на свете, Шумскому попадались. Любую мелочь они признавали только тогда, когда уже невозможно было не признать, когда отступать было некуда. Следствие в таких случаях затягивалось, иногда запутывалось, приходилось возвращаться, начинать новые допросы… И было это обычно тогда, когда за преступником скрывались тяжкие грехи.
– Значит, кто такой Красильников, вы не знаете, – утвердительно сказал Шумский.
Потапенко кивнул, закрыв свои серые водянистые глаза:
– Совершенно верно.
– И записка эта написана не вашей рукой.
– Не моей.
– А что вы скажете на это? – Шумский театральным жестом протянул анкету, заполненную Потапенко в эстраде, заявление в домохозяйство и бланк с графической экспертизой почерка записки. – Видите, почерк-то один и тот же…
Потапенко подержал перед глазами листы и вернул их с безучастным видом.
– Так ведь экспертиза может и ошибиться, – сказал он спокойно. – Анкету писал я, это точно, заявление – тоже я, а вот записка не моя.
– Не-ет, – возразил Шумский, чувствуя, что Потапенко уже некуда деться. – Это вы бросьте. Экспертиза строится на научной основе. А науку не обманешь. Но если уж вы такой Фома неверующий, то взгляните сюда. – Он достал тетрадь, найденную Изотовым у Потапенко, открыл на том месте, где был вырван клок от страницы, и приставил записку. – Так что же? Права или не права экспертиза?
На Потапенко это произвело потрясающее впечатление. Он вскочил было, потом сел, сильно сомкнул губы, сдерживая себя, и отвернулся.
– Ну я жду, – торжествуя, сказал Шумский. – Кто же написал записку?
– Я…
– Ну вот и хорошо. – В голосе Шумского появилась мягкость, даже ласковость. – Теперь остается вспомнить, при каких обстоятельствах вы ее написали и кому.
Потапенко, подумав, стал рассказывать, а Шумский не спеша заносил его слова в протокол:
«По поводу предъявленной записки заявляю. Да, это писал я, собственноручно. Она адресована моему приятелю Георгию Каширскому, который должен был прийти ко мне за переделанной курткой. В тот вечер, 26 мая, я не мог быть дома: меня неожиданно пригласил мой приятель Сухарев Геннадий Алексеевич, проживающий по улице Декабристов, 62, на день рождения. Я написал эту записку и приколол ее к входной двери снаружи, как это делаю обычно в таких случаях. Где работает Каширский, я не знаю, отчества его также не знаю».
– Видите, как все, оказывается, просто, – с едва заметной иронией сказал Шумский, закончив писать, – а вы зачем-то с такой тщательностью скрывали, что записка ваша. Почему? А причина-то была. И по этой же причине вы старательно изменили свой почерк. Так почему же?
Потапенко сделал вид, что не слышал Шумского, а Шумский не стал настаивать на ответе и приказал конвоиру увести заключенного.
Потом пришел Изотов. Шумский с видимой охотой опустился на диван, потер ладонью лицо.
– Уф, устал… С этим гражданином мы еще намаемся. Видишь, на горизонте появился некто Каширский. Липа, конечно, Потапенко время тянет, но я тебя прошу: проверь обязательно завтра. И еще: выясни, что за Сухарев Геннадий Алексеевич, когда у него день рождения, был ли у него в этот день Потапенко. Словом, ты все знаешь сам…
– Я вижу, Потапенко боится нас без работы оставить, – усмехнулся Изотов.
– Очень боится, – зевнул широко Шумский и потянулся. – Эх, прилечь бы сейчас да вздремнуть… Отрицает он знакомство с Красильниковым, все отметает, что хоть как-то наводит на это знакомство. Страшит оно его… А у нас нет прямых доказательств.
– Свидетели подскажут, где найти доказательства, – уверенно сказал Изотов.
– Надеюсь…
Но, странное дело, Красильникова никто не знал: ни собутыльники Потапенко, ни заказчики, ни бывшие сослуживцы. Принимавшие в разных комнатах Шумский и Изотов показывали свидетелям фотографию Красильникова и задавали одни и те же вопросы:
– Знали ли вы этого человека? Видели ли вы его у Потапенко?
И все: нет, не видели, не знали, не встречали…
Шумский начал терять терпение, нервничал, не понимая, в чем дело, и стал подумывать, не допустили ли они где-нибудь промах. Но ошибки не должно было быть. «Что кроется за этим? – размышлял Шумский, вчитываясь в показания свидетелей. – Прежде всего то, что Красильников не был близким знакомым Потапенко. А если и был, то Потапенко тщательно скрывал это от других своих приятелей. Почему? Потому что, по-видимому, было какое-то общее дело, о котором Потапенко не распространялся».
Но кто-то все же должен был знать об их знакомстве!
Наконец такой человек отыскался. Это был тщедушный старик с нездоровым румянцем на лице – Федор Николаевич Кравцов, давнишний знакомый Потапенко еще по эстраде, тоже аккордеонист, уже год как вышедший на пенсию. Держа сухими костлявыми пальцами фотографию, Кравцов долго смотрел, прищурив один глаз, приближая ее и отодвигая.
– Гоша, что ли? – сказал он, вопросительно взглянув на Шумского.
– Что за Гоша? – нетерпеливо спросил Шумский. Его бросило в жар от услышанного имени. – Как его фамилия?
– Фамилию я его не знаю. Знаю, что Гоша, и все…
– А не ошибаетесь?
– Нет, молодой человек, не смотрите, что я стар. Глаза у меня хорошие, до сих пор очки не признаю, – говорил Кравцов стариковским, надтреснутым голосом. – И зрительная память на лица редкая: мне один раз взглянуть на человека – всю жизнь буду помнить.
Кравцов встречал Гошу у Потапенко дважды. И оба раза у него создавалось впечатление, будто Потапенко недоволен приходом Красильникова. Потапенко разговаривал с ним скороговоркой и быстро выпроваживал в коридор.
– После первой встречи вы поинтересовались, кто это?
– Да, я спросил Аркадия. Он мне ответил, что есть тут у него один такой парень Гоша, который отдал ему чинить пиджак…
– Вы видели этот пиджак? – с живостью спросил Шумский, прерывая Кравцова.
– Видел. Очень ветхий, если память не изменяет, коричневый.
– Не этот ли?
Кравцов, усмехнувшись, посмотрел на пиджак, сказал:
– Я говорил, что у меня хорошая зрительная память на лица, но не на вещи. Прошло уже много времени, я могу спутать.
– Ну хорошо, – продолжал Шумский, – Гоша отдал чинить пиджак, и что дальше?
– Пиджак был, как я уже сказал, старый, работы требовал много, Аркадию она была невыгодна, и он, по-видимому, вместо того чтобы отказаться, тянул – не возвращал и не чинил. Так я понял, потому что второй раз Гошу я встретил у Аркадия через месяц, если не больше, а пиджак все висел. Но тогда у нас с Аркадием разговора об этом парне не было. А вот потом, еще через некоторое время, опять попался мне на глаза этот пиджак, и я спросил Аркадия, когда же он все-таки думает им заняться. Аркадий раздраженно сказал: «А ну его, хлам; может быть, я вообще не буду чинить».
– Когда у вас был этот разговор?
Кравцов потер переносицу, поморщился:
– Трудно сказать, в июне или в начале июля…
– А может быть, раньше, в мае?
– Нет, только не в мае. В июне я приехал из дома отдыха, а разговор был после того, как я вернулся.
– И в этот день вы видели Гошу? – спросил Шумский, проверяя Кравцова.
– Нет же, не видел. Я вам сказал, что меня удивил так долго висящий на одном месте пиджак, а потому я заинтересовался его судьбой.
Шумский удовлетворенно кивнул.
– В самом начале вы говорили о сложившемся у вас впечатлении, будто Потапенко был недоволен приходом Гоши. Почему?
– Меня это тоже удивило, – охотно ответил Кравцов, – потому что Аркадий – человек мягкий, гостеприимный, компанейский. И я задал ему тот же вопрос: «Почему?» А он мне знаете что ответил? «Не лежит у меня к нему душа, ненадежный он какой-то. У меня ведь патента нет, так шью, а он стукнуть может».
– Почему у Потапенко сложилось такое мнение о Красильникове?
Кравцов промычал что-то неопределенное, развел руками:
– У каждого человека могут быть свои причины подозревать в чем-то другого, но я не спросил Аркадия, это его дело.
За разговором Шумский не заметил, как надвинулись и сгустились сумерки. Он перестал различать черты лица сидящего напротив Кравцова, видел только контуры его головы, сутулого тела. Шумский зажег настольную лампу и, не переставая слушать, заполнил Кравцову повестку с вызовом на следующий день.
– Все, что вы сообщили мне сегодня, повторите, пожалуйста, завтра, – сказал он, поднимаясь, и увидел изумленные, напуганные глаза Кравцова. – Ничего, ничего, придется повторить, так нужно следствию…
Утром пришла Назарчук. Изотов расстелил перед ней на столе коричневый в полоску пиджак, взятый у Потапенко, и она подтвердила, что видела этот пиджак на Красильникове. Потом явился Кравцов, сел на этот же стул, на котором сидел накануне, и, все еще не представляя отчетливо, зачем он понадобился, настороженно ожидал чего-то.
Озабоченный Шумский, не обращая на него внимания, говорил по телефону, внезапно выбегал куда-то из кабинета, возвращался, снова звонил… Наконец он сел и, подперев кулаком подбородок, словно восстанавливая что-то в памяти, сказал Кравцову после недолгого молчания:
– Сейчас вам предстоит встретиться с человеком, хорошо вам знакомым. От вас требуется одно: говорить все, что вы знаете, откровенно и чистосердечно. – Шумский улыбнулся, больше из надобности, чем по желанию. – Задача предельно простая и легко выполнимая.
Кравцов хотел что-то ответить, но ввели Потапенко, и он осекся. Потапенко грузно сел, едва взглянув в сторону свидетеля.
– Аркадий, – позвал Кравцов, думая, что Потапенко не заметил его.
– Вы, я вижу, знакомы, – сказал Шумский, наблюдая за выражением лица Потапенко. Оно было непроницаемо, глаза устремлены вниз.
– Давненько, еще с войны, – охотно ответил Кравцов.
Потапенко нехотя кивнул.
– Мне необходимо выяснить у вас одну деталь, – сказал Шумский и вынул фотографию Красильникова. – Скажите, кто это?
Потапенко скривился, отвел глаза.
– Вы мне показываете уже в сотый раз, – проворчал он. – Я уже сказал, что не знаю этого человека…
– А вы? – повернулся Шумский к Кравцову.
Кравцов в замешательстве молчал; Шумский, боясь, что Кравцов сдастся и начнет говорить совсем не то, что накануне, сказал, разделяя слова:
– Вам знаком этот человек?
– Знаком… То есть, кажется, я его видел… – запинаясь, начал говорить Кравцов, с опаской поглядывая на Потапенко, который сидел, положив локти на колени и сцепив пальцы.
– Знаком? Или кажется?.. – строго спросил Шумский. – В этих фразах большая разница.
– Знаком. Это Гоша… Кра… Красильников вы сказали?
– Говорите только то, что твердо знаете, – заметил Шумский. – Значит, Гоша, фамилия вам неизвестна. Где вы его видели?
– У Аркадия…
– Ну что ты мелешь? С перепоя, наверно, не проспался?! – вскричал Потапенко. Он резко выпрямился и ненавидяще смотрел на Кравцова. – Когда ты мог у меня его видеть? Мало ли шляется по улице всякой шантрапы, так что, все, по-твоему, приходят ко мне? – качнулся в сторону Шумского. – Не слушайте вы этого пропойцу. Подонок он, бродяга, сволочь, дерьмо… Шкура продажная…
– Аркадий, – укоризненно проговорил Кравцов, уязвленный грубостью Потапенко, – это же Гоша! Помнишь, в тот вечер ты спалил чьи-то брюки? Я вошел, а ты с ним о чем-то разговаривал и забыл про утюг; спохватился, когда уже запахло паленым. Неужели не помнишь? Ты сразу выпроводил гостя, а я спросил, кто этот молодой человек. А ты сказал, что он принес тебе лицевать пиджак, ты его принял, а теперь не знаешь, как от него избавиться, больно уж он старый…
– Какой Гоша?! Какой пиджак?! – в бешенстве кричал Потапенко; он весь трясся, ему не хватало воздуха.
– Вот этот… И вообще не надо истерик, Потапенко, спокойно, – сказал Шумский.
– Я его в первый раз вижу…
– Вот так так, – усмехнулся Шумский. – Это уж вы перебираете. Как говорят, двадцать два… Нельзя же так бесстыдно врать. При обыске вы заявили, что это ваш пиджак, теперь вы утверждаете, что вообще его не видели. Как же так? А между прочим, еще один человек подтвердил, что это был пиджак Красильникова. Вот, почитайте показания.
Потапенко с жадностью прочел протокол допроса Назарчук и снова принял прежнюю позу: голова безвольно опустилась, кисти рук повисли над полом. Стало тихо.
– Так что же? Я жду вашего ответа, – сказал Шумский, подождав некоторое время, и опять поднял фотографию: – Знали вы этого человека?
– Может быть, и знал, – глухо проговорил наконец Потапенко, не двигаясь.
«Ну вот, голубчик, всему приходит конец», – с удовлетворением подумал Шумский. Он был возбужден, и возбуждение это скрадывало страшную усталость, которую он ощущал на протяжении последней недели.
– Что значит «может быть»? Да или нет? Знали или не знали?
– Знал…
– Его имя? Фамилия?
– Гоша… Георгий Красильников. Отчества не знаю.
– Вот это мне и важно было выяснить, – сказал Шумский и кивнул Кравцову: – Вы свободны.
Бочком Кравцов прошел мимо Потапенко, не спуская с него глаз, и аккуратно прикрыл за собой дверь.
– Эта записка адресована Красильникову? – продолжал Шумский.
Потапенко снова вскочил, прижал кулаки к груди.
– Не писал я ему записки, поверьте, не писал, не писал, не писал! – И заплакал. – Я вам все говорю как есть, вы же сами видите…
– Вижу, – криво улыбнулся Шумский. Он был невозмутим. – Кому же вы писали ее?
– Я сказал… У меня есть еще один Гоша, приятель мой, – плачущим, просительным тоном говорил Потапенко, – Гоша Кашеров, ему я и писал, ему…
Шумский не выдержал, гневно хлопнул ладонью по столу:
– Прекратите валять дурака, Потапенко! Уж если врете, то запоминайте, что врете. Совсем недавно ваш приятель носил фамилию Каширский, а теперь он стал Кашеровым. Как это понимать? Или вы сознательно издеваетесь над нами? Каширского в природе не существует. Понятно? А Кашерова, я уверен, тоже, но мы сейчас это установим. – Шумский схватился за телефонную трубку, вызвал Изотова и попросил немедля навести справки о Кашерове. – Вам надо было взять фамилию попроще, что-нибудь вроде Иванова, Петрова или Сидорова. Смекалки не хватило… Тогда нам пришлось бы поработать основательнее. Еще на неделю-другую оттянули бы окончание следствия. Но ведь это не меняет сути дела.
Неторопливо прошествовал к столу Изотов и сказал громко, что Кашеров в Ленинграде не проживает.
– Ну что я говорил, Потапенко? А вы льете слезы, уверяете, что даете чистосердечные показания… – Шумский успокоился, к нему вернулось благодушие; он знал, что загоняет Потапенко в угол. – Ну давайте порассуждаем, ведь мы взрослые люди, не правда ли? Итак, мы выяснили, что вы знали Гошу Красильникова и он у вас бывал. Вы написали записку Гоше, изменив свой почерк. Ни Гоши Каширского, ни тем более Гоши Кашерова не было и нет, это ваша выдумка. А вот Гоша Красильников был, и записка оказалась именно у него в кармане. Логичнее всего предположить, что она попала в руки адресату. Следовательно, вы писали ему. Правильно?
Потапенко молчал.
– Я вас спрашиваю: правильно?
– Правильно, – едва слышно проговорил Потапенко.
– Ну вот так-то, – сказал, вздохнув облегченно, Шумский и вытер платком влажное, разгоряченное лицо. – На сегодня хватит. А завтра продолжим. Тем для разговора у нас предостаточно, и у вас есть время подготовиться. Подумайте как следует и завтра расскажите мне, по какому поводу и зачем вы написали эту записку Красильникову. Только заранее предупреждаю: не выдумывайте, говорите правду, мы ведь все равно ее установим, а вам запирательство пойдет только во вред…
17
Приехав в Ригу, Сергей Чупреев оставил чемоданчик в уютной гостинице «Саулитэ» и отправился в управление милиции. Моложавый подполковник с большим родимым пятном на щеке принял его сразу.
– Мы тут кое-что уже предприняли по вашему делу. – Он снял телефонную трубку и мизинцем стал крутить диск. – Эльмар, поднимись, пожалуйста, ко мне.
В комнату вошел высокий светловолосый мужчина, как показалось Чупрееву, вялый, слишком уж какой-то штатский и к тому же довольно невзрачный – широко расставленные глаза, толстые губы, нос приплюснут… Подполковник представил:
– Познакомьтесь – Эльмар Пуриньш. Он вам будет полезен, тем более что о Далматове у него собран некоторый материал.
Бывают люди, с которыми сходишься сразу, с первых минут знакомства. Трудно объяснить, почему так случается, но через полчаса Чупреев и Эльмар были уже на «ты» и знали друг о друге больше, чем простые знакомые. Они были одногодками. Эльмар тоже рано осиротел, и Чупреев, зная, что такое жизнь без родителей, проникся к нему еще большей симпатией.
– Посмотри эти документы, – сказал Эльмар, вручая Чупрееву коричневую папку с аккуратной надписью «Далматов и др.». – А я тут займусь пока одним делом. Можешь сесть за тем столом, Ян в командировке, будет нескоро.
Чупреев уселся поудобнее, раскрыл папку и с интересом стал читать все бумаги подряд. Он так увлекся, что не заметил долгого отсутствия Эльмара.
– Ну как? – спросил, вернувшись, Эльмар и зажег свет.
– Тебе изрядно пришлось поработать. – Чупреев согнутым пальцем постучал по картону. – Теперь для меня кое-какие моменты совершенно прояснились. Но кто же все-таки он такой, Далматов?
– Делец. Крупный делец, для которого нет ничего святого, кроме монеты. Он не так уж молод, ему за сорок. Вот он, посмотри. – Эльмар достал из ящика фотографию; на ней был снят мужчина с квадратным подбородком, умными, наглыми и жестокими глазами. Во взгляде чувствовалась воля. – В старой Латвии отец его держал универсальный магазин, во время войны отец умер, и сын, по-видимому, унаследовал кое-какой капитал, который он всячески стремится умножить. За эти годы Далматов дважды был судим: один раз за подделку денежных документов, другой – за растрату, но освобождался быстро. Сейчас, как ты понял из бумаг, он работает помощником мастера на швейной фабрике. Должность скромная, но это для видимости. На самом деле он держит в руках многих людей: тут замешаны и охрана, и отдел сбыта, и транспортники. Словом, довольно обширная группа, которой удалось похитить сразу партию товара, не размениваясь на мелочи. На днях они собираются повторить операцию, и мы их схватим с поличным.
– А как по-твоему, Далматов мог бы убить человека? – спросил после недолгого молчания Чупреев.
– О, он способен на все, особенно если этот человек грозил разоблачением, – ответил уверенно Эльмар. – Так вот, Сережа, завтра тебе предстоит увидеть Далматова в жизни, тебе необходимо его увидеть. А ты в Риге когда-нибудь бывал? – неожиданно спросил он.
– Никогда, в первый раз, – признался Чупреев.
– Тогда, если хочешь, пойдем прогуляемся, я тебе покажу город.
Они вышли на улицу и, болтая, направились к центру.
Стояли последние дни декабря, но мороза не чувствовалось, иногда падал снежок, который таял, едва прикоснувшись к земле. Рижане готовились встречать Новый год, а ходили еще в легких пальто и без шляп.
– Ты где остановился, в гостинице? – спросил Эльмар и, увидев кивок Чупреева, продолжал: – А чего тебе делать в гостинице? Переезжай ко мне. У меня, правда, маленькая комнатенка, но уместимся, раскладушка есть. Переезжай…
– Ты что, один живешь? – поинтересовался Чупреев.
– Один. Пока, – улыбнулся Эльмар, и Чупреев отметил, что у него приятная, располагающая улыбка. – Скоро вот женюсь…
– Спасибо тебе, Эльмар, но не буду тебя стеснять, – сказал Чупреев.
– Ну как знаешь. Тогда до завтра, – протянул руку Эльмар.
Вечер только начинался, идти в гостиницу не хотелось. Блуждая по незнакомым переулкам, натыкаясь на парочки, Чупреев почувствовал себя затерянным, одиноким. Вспомнил затаенную радость в голосе Эльмара, когда Эльмар сказал: «Скоро вот женюсь», и жалел, что в ответ не мог похвастаться тем же. И от этого стало еще грустнее. Потом в голову пришла дерзкая мысль: разыскать телефон Нины Гавриловны, позвонить в Ленинград и вызвать ее сюда. Сейчас же. Сколько уже прошло – три, четыре месяца, а облик ее все еще помнился отчетливо и волновал Чупреева. Вот было бы счастье, мечтал он, походить с ней по этим улочкам, посмотреть на удивительные дома, поболтать, не думая ни о чем… Как тогда, в Геленджике. Но нет, несбыточно все это, фантазия…
* * *
Ресторан назывался «Луна». Небольшой, уютный, Он считался одним из лучших в городе. Когда-то здесь собиралась знать столицы Латвии.
Швейцар распахнул стеклянную дверь. Сняв пальто, Эльмар и Чупреев прошли по пушистым коврам и сели за круглый столик в мягкие кресла под белоснежными чехлами. Из-под роскошных люстр лился свет; искрился на столах хрусталь. Посетителей было немного, но они все время прибывали. Джаз играл без пауз; официанты лавировали между столиками, держа над головой подносы с дымящимися кушаньями. Эльмар аппетитно вдохнул запахи и облизнулся.
У микрофона, в центре эстрады, сидел мужчина в черном фраке, растягивая мехи аккордеона, украшенного перламутром, позолотой и пластмассой под слоновую кость. Мужчина безразлично смотрел в зал и думал о чем-то своем, а Чупреев вдруг почему-то вспомнил Потапенко: вот так и он когда-то выступал на эстраде, а потом погнался за деньгой, опустился и угодил за решетку.
Подошел официант, протер, больше для видимости, и без того чистые фужеры и рюмки, откупорил бутылки с пивом и, повесив полотенце на руку, попросил заказать ужин. Эльмар полистал карточку и сказал несколько слов по-латышски.
– Обрати внимание на столы справа, – тихо проговорил он, когда официант ушел. – Ждут хозяина.
– Его?
– Да, и обрати внимание на блондинку в кружевном платье… Вот так мы и потеряли друг друга, – сказал он вдруг громко и засмеялся. Чупреев впервые увидел его смеющимся и тоже рассмеялся. – Ты понял меня?
– Конечно, понял, – ответил Чупреев.
– А вот и он сам…
Эльмар выбрал хорошее место: не поворачиваясь и даже не подымая головы, можно было видеть все вокруг. Впереди шла молодая женщина, довольно миловидная, стройная, в черном, сильно декольтированном бархатном платье; в ушах – золотые серьги, на груди – кулон… Это была Вента Калныня. На полшага от нее отставал Далматов. Чупреев сразу узнал его. Усталым и надменным взглядом Далматов оглядел зал и, заметив, что ему подают знаки, повел Венту к своим. Они заняли столик, официант сразу подошел к ним и, согнувшись, замер в ожиданье.
– Ты где встречаешь Новый год? – спросил Эльмар.
Чупреев пожал плечами:
– Не думал еще. Право, не знаю…
– Прекрасно, ты придешь ко мне. У нас соберется несколько человек, я тебя познакомлю с одной очаровательной девушкой, будет тебе пара.
Эльмар потягивал вино, курил и ничем не выказывал своего интереса к происходящему в зале. Но Чупреев знал, что ни одно движение, ни один шаг всей этой компании не скрываются от него. И, поддерживая разговор, Чупреев так же внимательно наблюдал за соседними столами. Он видел, как к Далматову подошел высокий худой щеголь, наклонился и что-то шепнул ему на ухо.