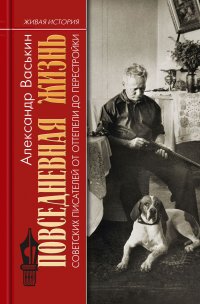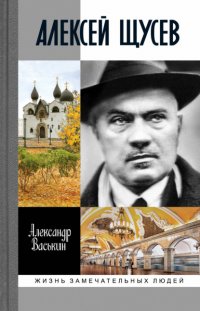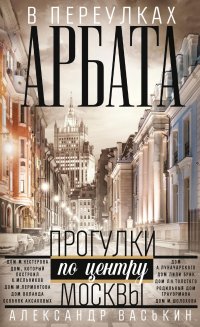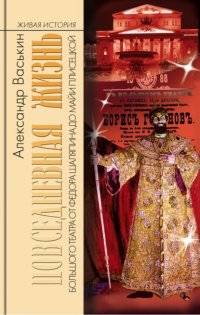
Читать онлайн Повседневная жизнь Большого театра от Федора Шаляпина до Майи Плисецкой бесплатно
- Все книги автора: Александр Васькин
© Васькин А. А., 2021
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2021
* * *
Предисловие. Как космические ракеты «бороздили» Большой театр
В июле 1974 года в аэропорту канадской столицы царило необычное оживление. Сотни людей с тюками и чемоданами выстроились в длинную очередь на таможенный досмотр, на несколько часов нарушив привычную работу воздушной гавани. Почти у каждого из стоявших багаж весил ровно 20 килограммов – в противном случае пришлось бы доплачивать. И все же у нескольких пассажиров обнаружилось превышение допустимой нормы, один из них – видный мужчина с приятным голосом – все пытался что-то объяснить угрюмому таможеннику на ломаном английском языке, тыча ему под нос круглый золотистый значок. Таможенник отрицательно крутил головой, показывая, в свою очередь, металлический жетон на своей форме. Продолжалось это довольно долго, из очереди уже слышались недовольные возгласы. Со стороны могло показаться, что один пытается всучить другому значок в подарок, а тот отказывается (или просто не хочет меняться, потому что собирает не значки, а марки). Но все было наоборот. На этом значке, болтающемся на красно-синей колодочке, читались слова: «Народный артист РСФСР». Его обладатель – известный певец, солист Государственного академического Большого театра – уговаривал таможенника: «Ну неужели я, народный артист, не имею права на лишние два килограмма? Это все для родственников, для мамы с папой. Я на правительственных концертах в Кремле пою, я лауреат международных конкурсов!» Таможенник, мало что понимавший из этой речи, изобилующей всякого рода советизмами (разве что слово «Кремль» его не смутило, – но на Брежнева певец похож не был), стоял на своем: нельзя и всё – инструкция!
Сценка эта – не выдумка, а вполне реальная история из повседневной жизни труппы Большого театра, в то время главного театра страны, артисты которого разъезжали по всему миру не только с целью демонстрации достижений советского искусства, но и для пополнения государственного бюджета, добывая валюту для казны. А зарабатывал театр много, под стать своему названию и государственному статусу – это был крупнейший репертуарный театр в мире, общее число сотрудников которого достигало порядка трех тысяч человек. Конечно, всех их вывезти на гастроли не представлялось возможным, но все равно выезжало много. Достаточно сказать, что только лишь в одной очереди в канадском аэропорту стояли 400 человек, в том числе хор (всуе именуемый «хорьё»), солисты которого хвастались тем, что освоили на гастролях «бараний язык» – имелись в виду консервы, привезенные с собой из Москвы.
Место съеденных консервов в чемоданах не пустовало: отдавая большую часть заработка государству, артисты умудрялись «кое-что» привозить и для себя – одежду, продукты и все, что было дефицитом в ту эпоху. Будучи людьми бывалыми, гастролеры ясно усвоили правила перевозки через границу личных вещей. Например, в Шереметьеве существовало четкое правило: выезжающие советские граждане имеют право ввезти обратно ровно столько же багажа, сколько вывезли. И потому вывозили как можно больше. Но что можно было вывезти тогда? Икру? Водку? Нет, соль. Да, обыкновенную поваренную соль – стратегический продукт, обычно пропадавший с полок магазинов перед очередной денежной реформой. Солью, спичками, сахаром советские люди запасались всегда вне зависимости от профессии, будь ты актер или заводской слесарь. Пользуясь тем, что багаж тогда еще не просвечивали, пачками с солью забивали чемоданы, чтобы потом, пройдя паспортный контроль, высыпать ее родимую в унитаз в туалете аэропорта. А кто-то брал с собой гантели или блин от штанги – чтобы меньше места занимали. Уборщицы Шереметьева жаловались: мало того, что после Большого театра приходилось драить от этой соли туалеты (некоторые артисты очень неаккуратно открывали пачки, просыпая мимо унитаза), так еще и гантели за ними убирай. Отсюда, кстати, и пошло широко известное среди уборщиц выражение – «съесть пуд соли». Шутка.
Зато как приятно было везти обратно (через то же Шереметьево) набитые импортными шмотками чемоданы – на перепродаже одних только джинсов или женских колготок можно было неплохо заработать, вот так съездишь пару раз, глядишь, и первый взнос на кооперативную квартиру соберешь. «Шерше ля фам», – как говорят французы. А их, женщин, и искать не надо, сами набегут, так как колготок этих всегда не хватало (в ЦК КПСС существовала специальная комиссия по снабжению населения женскими колготками во главе с товарищем Капитоновым И. В.). Вот почему так важно было для артистов иметь возможность выезда за границу, бороздя просторы планеты, они возвращались в родную страну радостными, поджарыми и оптимистично настроенными на следующие гастроли.
Выступления Большого за границей всегда активно освещались иностранной прессой, положительные отклики перепечатывались в советских газетах (еще Дягилев придумал скупать парижских журналистов во время своих «Русских сезонов»). Народу с утра до вечера трезвонили, что «зрители Метрополитен-оперы двадцать минут не отпускали со сцены артистов Большого» или: «С восторгом встретила французская публика балетную труппу ГАБТ СССР, в очередной раз доказавшую, что советское искусство находится на недосягаемой высоте». Все это и отразилось в сознании народа соответствующими фразами: «Космические ракеты бороздят Большой театр» и «В области балета мы впереди планеты всей».
Вынесенная в название предисловия фраза из популярной кинокомедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» очень точно характеризует место Большого театра в системе культурных ценностей советского человека. Вложенная в уста простого гражданина – «алкоголика, тунеядца и хулигана», осужденного на 15 суток, – она ярко выражает оскомину, образовавшуюся от постоянного присутствия Большого театра в повседневной жизни эпохи. Отношение к нему не только как музыкально-драматическому учреждению, но и «национальной гордости страны» – отличному средству пропаганды – поставило его в ряд других столь же весомых достижений наряду с полетом Гагарина, великими стройками коммунизма, рекордной выплавкой чугуна и стали на душу населения и т. д. Не зря же прораб-болтун в исполнении Михаила Пуговкина, проводя своеобразную политинформацию для тунеядца Феди, валит все в кучу – и космические корабли, и «тружеников Большого балета, которым рукоплещут все континенты». Желая усилить впечатление, он лично демонстрирует Феде свое танцевальное мастерство, отбивая чечетку и вызывая тем самым неподдельный интерес последнего.
Превращение Большого театра в эталон высокого искусства, которое несут в массы самые лучшие в мире певцы, артисты балета, дирижеры и режиссеры, началось задолго до эпохи оттепели, на исходе которой снималась упомянутая кинокомедия. Еще с начала 1930-х годов по радио каждую неделю в определенный день (по вторникам) велась прямая трансляция из Большого театра. Так можно было прослушать весь репертуар, оперу или балет. Слушали не только в коммунальных квартирах, но и на улицах – черные репродукторы были установлены повсеместно. Просвещение не заставило себя ждать – имена солистов театра знали назубок даже те, кто не слушал специально, а шел мимо, с родного завода, со смены в пивную. Слова из арий распевали под сурдинку («Кто может сравниться с Матильдой моей?»), не всегда угадывая, из какой это, собственно, оперы.
Антонина Нежданова, Надежда Обухова, Валерия Барсова, Максим Михайлов, Александр Пирогов, Марк Рейзен, Сергей Лемешев, Иван Козловский, Надежда Шпиллер, Вера Давыдова, Мария Максакова, Павел Лисициан, Иван Петров – вот далеко не полный список артистов, с которыми принято связывать так называемый «золотой век» Большого театра. Со всей страны в труппу собирали лучших артистов, бывало, что и против их воли. Не имели значения ни возраст, ни даже образование – главное, чтобы голос звучал хорошо. Вот почему в биографиях некоторых известных певцов (особенно первой половины XX века) место храма занимает консерватория, где началась их вокальная карьера, продолжившаяся затем в Большом театре. Система отбора артистов позволяла достичь высокого уровня исполнительского мастерства, приучив к этому ожиданию и публику. Солист Большого театра обретал не только все положенные привилегии (как тот сыр, который в масле катается), но и статус государственного певца.
Свою роль в укреплении уверенности, что лучше театра в мире нет, сыграл и железный занавес. Десятки лет кряду «москвичи и гости столицы» (штамп советской эпохи) ходили в Большой на одни и те же спектакли, превратившиеся в канонические. Смотрели любимые оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Иван Сусанин» и «Борис Годунов», «Садко» и «Хованщина», «Кармен» и «Аида», «Травиата» и «Риголетто» и другие. Однажды поставленная опера демонстрировалась зрителям в одной и той же версии и тридцать, и пятьдесят лет, и подавалась в качестве примера для подражания в остальных театрах Советского Союза. Несмотря на это, очереди в кассы Большого театра стояли немалые, так же как в ГУМ и ЦУМ, стояли за тем, что давали. Особого выбора у прорвавшегося к кассе потенциального зрителя не было. К билетам на известные спектакли полагался довесок – билеты на неходовые советские оперы. На каждом спектакле с участием народных любимцев, в основном лирических теноров, в зале присутствовали их поклонницы – «сырихи» (лемешистки и козловитянки). Доходя до крайностей, они соперничали между собой в желании как можно выразительнее обозначить любовь к своим кумирам, ездили за ними по всей стране, а фотографиями увешивали квартиру.
Немало талантливых артистов было и в балетной труппе. Чудом сохранившаяся русская балетная школа, созданная еще Александром Горским и Мариусом Петипа, давала свои плоды. Не зря же иностранные туристы так стремились в Большой театр, именно на балет, чаще всего это было «Лебединое озеро», превратившееся с годами в спектакль государственного значения, в котором танцевали лучшие балерины – Галина Уланова, Марина Семенова, Майя Плисецкая. У «Озера» решались важнейшие государственные дела и мировые проблемы, когда лидеры Советского государства и их зарубежные высокопоставленные гости смотрели этот спектакль из бывшей царской ложи. А показ «Лебединого озера» по телевизору означал смену политических эпох в жизни страны. У театралов-москвичей сложилась традиция ходить 31 декабря на балет «Щелкунчик», вопреки очередям и спекулянтам. Билет в Большой на Новый год был замечательным подарком для московского интеллигента той поры. Помимо «Лебединого озера» и «Щелкунчика» с трудом удавалось достать билет на «Спартак» Арама Хачатуряна, где во всей красе блистал звездный состав: Владимир Васильев и Марис Лиепа, Екатерина Максимова и Нина Тимофеева. Любили зрители «Жизель» и «Дон Кихот».
Страна не скупилась на содержание своего главного театра, ни в чем ему не отказывая и в самые трудные периоды жизни, когда народ еле сводил концы с концами. Такого внимания к нуждам театра не было даже при царе, когда Большой входил в немногочисленный ряд императорских театров. Дорогостоящие декорации (почти в натуральную величину), огромные зарплаты солистов, один из самых больших театральных бюджетов в мире – все это ставило советский Большой театр в положение государства в государстве. Внедрение Большого театра в повседневную жизнь происходило сверху, наиболее мощно при Сталине и ослабло при Хрущёве, когда и началась активная гастрольная деятельность, породившая такое явление, как «невозвращенцы» – артисты, отказавшиеся возвращаться на родину. В основном из балетной труппы. Неудивительно, что москвичи стали шутить: «Теперь Большой театр переименуют в Малый». В Большой театр все чаще стали наведываться иностранные артисты, встречая радушный прием у москвичей. Все это постепенно разубедило отечественных мастеров сцены в их непревзойденности, а публике вдруг открылось, что хорошо поют и танцуют не только в Большом театре, не избежавшем звездной болезни.
Трудности свободного выезда за границу, отсутствие права у артиста выбирать, где ему выступать, привели к определенной скученности звезд в Большом театре. Уж слишком много было здесь народных и заслуженных, вынужденных выходить на сцену чуть ли не в очередь. Неудовлетворенность творческих и материальных амбиций приводила не к творческим победам, а к многочисленным конфликтам, пришедшимся на 1960–1980-е годы. Ярким примером послужил скандал с записью «Тоски» на грампластинку, в котором Галина Вишневская – председатель цехкома и прима оперы – схлестнулась с более молодыми, но не менее голосистыми и энергичными солистами (спорили не о том, кто споет лучше, а у кого больше прав на запись). Победила молодость. После отъезда Вишневской и Ростроповича за рубеж (вызвавшего бурю положительных эмоций в труппе: место примы освободилось!) недовольство артистов обратилось в другую сторону. Как правило, объектом своей критики они выбирали главного режиссера или главного дирижера, обвинения были стандартными – «безыдейность», «вредность», «глумление над классикой». Так, например, выжили из театра Бориса Покровского, настаивавшего на том, что зарубежные оперы должны исполняться на русском языке, что по понятным причинам не устраивало орденоносных «первачей», то есть первых солистов. Кончилось все ликвидацией должности главного режиссера.
Сплоченности артистической труппы в ее борьбе с очередным постановщиком способствовала и как нигде распространенная в Большом театре семейственность: Ирина Архипова была замужем за Владиславом Пьявко, Тамара Милашкина – за Владимиром Атлантовым и т. д. Нормальным было, когда главный дирижер (Евгений Светланов) все ведущие партии отдавал своей жене (Ларисе Авдеевой), лишь ее недомогание однажды позволило выйти на сцену Елене Образцовой, которая, в свою очередь, была замужем за дирижером Альгисом Жюрайтисом. Аналогичная картина царила и в балете. Не способствовал укреплению авторитета Большого, проблемы которого оказывались все более очевидными, и другой творческий конфликт – между многолетним главным балетмейстером Юрием Григоровичем (30 лет проработавшим в этой должности) и Марисом Лиепой. Скоропостижная кончина доведенного до инфаркта выдающегося танцовщика прервала затянувшееся противостояние. Тем временем на Запад устремились все те артисты, кто не смог сделать этого ранее. Гул оглушительных премьер стих, потонув в эхе публичных скандалов, череда которых совпала с концом социалистической эпохи и советского дважды ордена Ленина Большого театра. В соответствии с законами жанра последним балетом Большого театра, передававшимся по телевидению в августовские дни 1991 года, стало «Лебединое озеро»…
Окончилась советская эпоха, но Большой театр никуда не делся. Является ли он сегодня национальной гордостью – вопрос дискуссионный. Скажем так: при наступившей свободе выбора и мнений (и для артистов, и для зрителей) каждый волен сам определять смысл этого выражения – «национальная гордость», будь то накопленный за столетия бесценный опыт или творческие достижения текущего момента. Трудно оспорить другое утверждение – национальная гордость создается конкретными людьми, вот почему в названии этой книги присутствуют фамилии, пожалуй, самых известных русских артистов – певца Федора Ивановича Шаляпина и балерины Майи Михайловны Плисецкой, ставших олицетворением успеха отечественного искусства не только в России, но и на Западе (что почему-то особенно важно для нас). Именно с приходом Шаляпина началось возрождение театра в начале XX века, на долгие годы артист стал образцом для подражания для всех следующих поколений певцов. Не меньшее влияние оказала на развитие театра эпоха Плисецкой, властвовавшей на его сцене вплоть до конца прошлого столетия. О том, что происходило в повседневной жизни театра между этими важными вехами, – рассказ далее…
Глава первая. Захват Большого театра. Питерцы против москвичей. Шаляпин, Рейзен и Атлантов
Я знаю, что, когда я умру, обо мне скажут: «Сволочь был, но – талантливый». А ведь мне только это последнее и нужно!
Федор Шаляпин
Шаляпин: бас под номером 11 – «Прячьтесь, директор идет!» – Боевые действия начинаются… – Сколько стоит Федор Иванович – Леонид Собинов, первый юрист среди певцов – Царь как главный антрепренер императорских театров – Две жены и куча детей – Шаляпинские котлеты и бордо из Парижа – Ох эти розыгрыши… – Окаянная рулетка – Отдайте мне 200 тысяч! – Когда не хочется петь в Большом театре, а надо – Скитания Марка Рейзена – Квартира от Сталина – Театральный поезд «Красная стрела» – Уланова танцует для Риббентропа – 700 долларов от политбюро на поездку в Европу – Варяжские гости из Ленинграда – Обида Игоря Моисеева – Побег из Большого – Владимира Атлантова берут «под руки» – Чужак во стане русских воинов – Зураб и Зурабчик – Артисты и их покровители – Счастье Магомаева – Фурцева: с пьянкой по жизни – Дойная корова – Отважный курсант Владислав Пьявко – Войнаровский хорошо, а цыгане лучше! – «Царская невеста» на сцене и в зрительном зале – Нехороший пример Бомелия
Крутыми и извилистыми бывают порой пути великих (и не только) артистов на сцену Большого театра. Федор Иванович Шаляпин, к примеру, поступил в его труппу лишь со второго раза. Когда в мае 1894 года он приехал из Тифлиса (с лавровым венком от местной оперы) в Москву, то сразу направился в Дирекцию императорских театров, что располагалась на Большой Дмитровке. Большой театр оказал на молодого певца грандиозное впечатление, особенно колонны и квадрига лошадей на фронтоне, он почувствовал себя мелким и ничтожным пред «этим храмом». А ведь еще пять лет тому назад Шаляпин был рад, что его взяли на работу простым статистом. В 1889 году в Казани шестнадцати лет от роду он впервые пришел наниматься в свою первую труппу. На вопрос директора, может ли он петь, молодой человек ответил утвердительно, смело продемонстрировав свои способности. Затем его спросили:
– Ну хорошо. А плясать можете?
– Могу.
– Так спляшите!
И он стал лихо отплясывать барыню-сударыню – а как же иначе, ведь «нужно было добиться места», как позднее объяснял Федор Иванович. И вот теперь, приехав в Москву, он хочет поступить в труппу императорских театров, коих в Российской империи насчитывалось тогда пять: Большой и Малый в Москве, а в Санкт-Петербурге – Александринский, Мариинский и Михайловский.
У Шаляпина в кармане – рекомендательное письмо от Дмитрия Андреевича Усатова, бывшего солиста Большого театра в 1880-х годах и первого Ленского на его сцене (он пел эту партию на премьере оперы «Евгений Онегин» в 1881 году). Усатова можно назвать и первым настоящим учителем Шаляпина, по-отечески любившим своего «Федю», которому он не только давал в Тифлисе бесплатные уроки вокала, но и кормил, обувал и одевал. Дмитрий Андреевич напророчил Феде всемирную славу, снабдив письмами к управляющему Московской конторой Дирекции императорских театров Павлу Пчельникову, главному дирижеру Ипполиту Альтани, главному хормейстеру Ульриху Авранеку и главному режиссеру Антону Барцалу (нынче все они остались в истории как театральные деятели эпохи Шаляпина).
Но в Большом театре Усатова уже успели позабыть. Сторож-бездельник при входе в Дирекцию императорских театров, заважничав, едва пустил Шаляпина на порог: «Это от какого Усатого? Кто он таков? Подождите!» Битый час проторчал в предбаннике кандидат в солисты, удивляясь тому, как все непохоже внутри на торжественный фасад Большого театра: вероятно, он ожидал увидеть в дирекции красную дорожку и самого Аполлона с музами, а здесь – снующие клерки с бумагами в руках и перьями за ушами и «типичная мебель строго казенного учреждения, в ней обычно хранятся свечи, сапожные щетки, тряпицы для стирания пыли». Шло время, а Шаляпина почему-то не приглашали в кабинет директора. В самом деле – ведь только молодого баса из Тифлиса и не хватало в Большом театре! Наконец Шаляпин решился напомнить о себе сторожу. Прошло еще полчаса. Сторож смилостивился, объявив, что «господин директор Пчельников принять не могут и велят сказать, что теперь, летом, все казенные театры закрыты».
Не принесли удачи и визиты к Альтани и Авранеку, в отличие от Пчельникова снизошедшими до личного общения с молодым и амбициозным певцом. Даже чаю предложили с баранками, но помочь ничем не могли, объяснив, что «сезон закончен и что голоса пробуют у них, в казне, великим постом», а такого добра, как лавровые венки, у них и самих хватает, тем более от провинциальных театров. Но у Шаляпина пост уже наступил, ибо в его карманах кроме рекомендательных писем не было ни гроша. Все свои деньги (250 рублей!) он проиграл поездным картежникам по дороге в Москву. Даже обедать было не на что, а впору протягивать ноги. До начала следующего сезона в Большом театре он мог бы и не дожить. Но тут, к счастью, подвернулась антреприза, и Шаляпин уезжает в Петербург…
Тогда в Москве Шаляпину не повезло, зато судьба окольными путями привела его в Мариинку, куда он поступил уже в следующем, 1895 году. Ему было едва за двадцать, на многое рассчитывать не приходилось, ибо в труппе императорского театра к тому времени уже состояло десять басов, Федор Иванович стал одиннадцатым (обычная история для государственных театров!). Так что не театр нуждался в Шаляпине, а Шаляпин в театре. Тем не менее певец довольно быстро пообтерся в труппе, усвоив, что к чему. В частности, к своему глубокому разочарованию, Шаляпин узнал, что «в этом мнимом раю больше змей, чем яблок. Я столкнулся с явлением, которое заглушало всякое оригинальное стремление, мертвило все живое, – с бюрократической рутиной. Господству этого чиновничьего шаблона, а не чьей-нибудь злой воле, я приписываю решительный неуспех моей первой попытки работать на императорской сцене».
По поводу змей весьма точно подмечено, недаром бытует определение, что театр – это террариум единомышленников. Но помимо самих пресмыкающихся артистов, в театре Шаляпин встретил и тех, перед кем они непосредственно пресмыкались, то есть чиновников: «Что мне прежде всего бросилось в глаза на первых же порах моего вступления в театр, это то, что управителями труппы являются вовсе не наиболее талантливые артисты, как я себе наивно это представлял, а какие-то странные люди с бородами и без бород, в вицмундирах с золотыми пуговицами и с синими бархатными воротниками». Чиновники управляли театром, а артисты брали под козырек, серьезно поколебав уверенность молодого певца в правильности избранного пути: «Я долго не мог сообразить, в чем тут дело. Я не знал, как мне быть. Почувствовать ли обиду или согласиться с положением вещей, войти в круг и быть как все. Может быть, думал я, этот порядок как раз и необходим для того, чтобы открывшийся мне рай мог существовать. Актеры – люди, служащие по контракту: надо же, чтобы они слушались своих хозяев». Хозяева эти распоряжались в театре по принципу «разделяй и властвуй», подчиняя себе в том числе и все творческие вопросы.
И в Мариинке, и в Большом театре последнее слово всегда оставалось за чиновником. Угнетала Шаляпина и моральная атмосфера подобострастия. Например, стоило директору императорских театров (в 1881–1899 годах) Ивану Всеволожскому зайти в фойе, как из уст специально приставленного для этой цели человека раздавался громкий клич: «Директор идет!» Весь театр мгновенно вытягивался по струнке: «Почтенный человек в множестве орденов. Сконфуженно, как добродушный помещик своим крестьянам, говорил: “здасте… здасте…” – и совал в руку два пальца. Эти два пальца получал, между прочим, и я. А в антрактах приходили другие люди в вицмундирах, становились посреди сцены, зачастую мешая работать, и что-то глубокомысленно между собою обсуждали, тыкая пальцами в воздух»[1].
Иван Всеволожский сам по себе был человеком неплохим, образованным. За два десятка лет своего директорства он не только успел провести театральную реформу, увеличив финансирование театров, но и заказал Чайковскому музыку к балетам «Спящая красавица» и «Щелкунчик», создав костюмы и сценарии к спектаклям. Но за спиной Всеволожского стояла толпа серых управленцев, мало что понимающих в театральном деле, но смевших указывать режиссерам и артистам. Шаляпину не нравилось, «что актеры молчали и всегда соглашались со всем, что и как им скажет чиновник по тому или другому, в сущности, актерскому, а не чиновничьему делу. Конечно, чиновники, слава богу, не показывали, как надо петь и играть, но выражали свое мнение веско, иногда по лицеприятию, то есть о хорошем говорили плохо, а о дурном хорошо».
Консервативный чиновничий диктат не давал выхода на сцену новым операм. И на вопрос Шаляпина о том, почему, например, в театре не идет «Псковитянка» Римского-Корсакова, следовал ответ: «Идут же “Русалка”, “Жизнь за царя”, “Руслан и Людмила”, “Рогнеда”. И этого довольно». Воцарившуюся атмосферу певец уподоблял удушливому газу, отягчавшему его грудь. «Запротестовала моя бурная натура», – писал Шаляпин.
За свой первый и недолгий сезон в Мариинке он спел Руслана, Мефистофеля, Мельника, Галицкого, но удовлетворения не получил. Не разглядели его талант в театре, расценив дебюты и актерские потуги как «кривляние» на сцене, а еще голос у него был «слишком громкий». И лишь встреча с миллионером Саввой Ивановичем Мамонтовым коренным образом изменила судьбу певца. Шаляпин до сей поры и слова такого не знал – меценат, а тут ему объяснили, что это хороший и богатый человек, который денег на всякие искусства не жалеет. Кроме того, Мамонтов – он ведь и швец, и жнец, и на дуде игрец. То есть и скульптор, и художник, и певец – в самой Италии петь учился! Значит, знает, что к чему, откуда какая нота вылетает. И Шаляпин разрывает трехлетний контракт с Мариинкой, уплатив неустойку, и переезжает в Москву.
В Московской частной русской опере[2] Мамонтова Шаляпин встретил то, чего не нашел в Мариинке, – творческую свободу, уже на первых же репетициях сразу почувствовав разницу «между роскошным кладбищем моего императорского театра с его пышными саркофагами и этим ласковым зеленым полем с простыми душистыми цветами». Обратите внимание, что доселе у молодого певца о деньгах речи не идет, по крайней мере в его впечатлениях не слышно звона монет. Это придет потом, со временем. Пока он нуждается в иной атмосфере: «Работа за кулисами шла дружно, незатейливо и весело. Не приходили никакие чиновники на сцену, не тыкали пальцами, не морщили бровей. Приятно поразили меня сердечные товарищеские отношения между актерами. Всякий дружески советовал другому все, что мог со знанием дела посоветовать, сообща обсуждали, как лучше вести ту или другую сцену, – работа горела».
Три года в опере Мамонтова и сделали из Шаляпина того певца, которого мы знаем и которым гордимся по сей день: здесь он с огромным успехом спел свои главные партии – Борис Годунов, Иван Сусанин, Досифей, Мефистофель. В опере «Фауст» он у Мамонтова и дебютировал. Меценат сказал: «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу!» Это своеобразный карт-бланш облачил душу Шаляпина «в одежды праздничные, и впервые в жизни я почувствовал себя свободным, сильным, способным побеждать все препятствия». Что и говорить, свобода творчества делает чудеса, необычайно стимулируя художника в широком смысле этого слова.
О костюмах разговор особый, тратиться на их обновление не хотели ни в императорских театрах, ни в антрепризах. Дело доходило до того, что в Большом театре костюмы героев русских опер были потрепаны временем и изъедены молью настолько, что актеры выходили на сцену чуть ли не в лохмотьях. В Мариинке было лучше, но там Шаляпину приходилось петь Сусанина в красных сафьяновых сапогах – дирекция полагала, что лапти создают на сцене невыносимый дух щей, водки и гречневой каши. А когда Шаляпин попросил заведующего гардеробом и режиссера сшить ему новый костюм Мефистофеля, те, будто по команде, посмотрев на него «тускло-оловянными глазами» и нисколько не рассердившись, ответили: «Малый, будь скромен и не веди себя раздражающе. Эту роль у нас Стравинский (отец композитора Игоря Стравинского. – А. В.) играет и доволен тем, что дают ему надеть, а ты кто такой? Перестань чудить и служи скромно. Чем скромнее будешь служить, тем до большего дослужишься…» Короче говоря, сиди и не высовывайся.
А в опере Мамонтова все по-иному – новые костюмы шьют для каждой роли с учетом мнения Шаляпина, выбирают материю так, чтобы костюмы соответствовали декорациям. А декорации-то какие: это не столетние облезлые занавесы императорских театров – их создают художники из круга Мамонтова, в котором вращались Валентин Серов, Исаак Левитан, братья Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Константин Коровин, Василий Поленов, Илья Остроухов, Михаил Врубель… Пройдет несколько лет, и некоторые из этих художников почтут за честь рисовать портрет Шаляпина.
Если в Мариинке годовое жалованье Шаляпина составляло 2400 рублей, то Мамонтов платил ему шесть тысяч рублей в год – очень даже неплохое содержание, позволявшее нанимать в Москве приличную квартиру, не отказывать себе во многих удовольствиях, ужинать в хороших ресторанах, шить костюмы у модных портных, ездить в поезде первым классом. Уровень жизни певца неуклонно повышался одновременно с его творческим ростом – условие весьма важное для развития карьеры, ибо нередко бывает так: запросы растут, а роста нет (да и сам артист этого не понимает). В эти годы, как вспоминает Коровин, Шаляпин «своей подвижностью, избытком энергии, множеством переживаний – веселье, кутежи, ссоры – так себя утомлял, что потом засыпал на двадцать часов и разбудить его не было возможности. Особенностью его было также, что он мог постоянно есть. Он был богатырского сложения. Я не видел Шаляпина, чтобы он когда-либо читал или учил роль. И все же – он все знал, и никто так серьезно не относился к исполнению и музыке, как он. В этом была для меня какая-то неразгаданная тайна. Какой-либо романс он проглядывал один раз и уже его знал и пел».
На этом-то важном этапе и свела судьба Шаляпина с его следующим меценатом – на сей раз не представителем частного капитала, а государственным чиновником, полковником-конногвардейцем Владимиром Аркадьевичем Теляковским, назначенным управляющим императорскими театрами Москвы (Большим и Малым) в мае 1898 года. Назначение сугубо военного человека руководить театрами вполне соответствует тому отношению, что испытывал к себе Большой театр со стороны чиновничьей столицы – Санкт-Петербурга. По меткому выражению искусствоведа В. Зарубина, долгие годы Большой театр оставался пасынком Санкт-Петербургской конторы Дирекции императорских театров. Оркестром руководили нередко люди посредственные, по своему дурному вкусу перекраивавшие партитуру; теноров заставляли петь басовые партии, а баритонов – партии теноров и т. д. Декорации и костюмы не обновлялись десятилетиями. А в 1882 году балетную труппу Большого и вовсе сократили в два раза как провинциальную. Трудно в такое поверить, но Большой театр был для петербургских артистов чем-то вроде ссылки. Иногда солисты Мариинского театра приезжали в Москву, чтобы хоть как-то повысить сборы Большого. Именоваться оперным артистом Мариинского было куда почетнее, чем служить солистом Большого театра. Сборы с оперных спектаклей упали до 600 рублей, а с балетных – 500 рублей, то есть вчетверо. Таково было незавидное состояние, в котором пребывал Большой театр при прежнем директоре Павле Пчельникове, не нашедшем времени, чтобы принять Шаляпина.
А ведь на последние десятилетия XIX века пришлись премьеры интереснейших опер Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Порфирия Бородина и, конечно, Петра Чайковского. И хотя на премьере «Евгения Онегина» в марте 1881 года самый большой успех у зрителей снискали куплеты Трике, а декорации набрали из старых спектаклей, на Петра Ильича все-таки надели лавровый венок. А в рецензиях предлагалось переименовать оперу в «Месье Трике» – такой восторг вызвала партия этого странного персонажа в ярком парике и туфлях на высоком каблуке. Это яркая характеристика вкусов тогдашней московской публики.
Новый управляющий Московской конторой Дирекции императорских театров, в чьем ведении находился и Большой театр, Владимир Аркадьевич Теляковский, потомственный военный, был человеком широко образованным, попробовав себя и в живописи, и даже в музыке – современники утверждают, что он считался неплохим пианистом, то есть умел отличить ноту до от ноты ре. Теляковский был низкого мнения и о «царившей тогда в оперном деле рутине», и о «декорациях немецкого фабричного производства», и о «аляповатой стряпне наших казенных машинистов, этих поставщиков эпохи упадка декоративной живописи в России». Редкий случай – под военным мундиром скрывалась натура не ретрограда, а новатора. Кто бы мог подумать…
Тем не менее театральные ворчуны нашли повод позлословить на его счет: вчера руководил лошадьми в конюшне, а сегодня артистами! В общем, старожилы кулис и не такое видели, но никак не могли предположить, что выпускник Академии Генерального штаба Теляковский окажется для Большого театра сущей находкой, не только реанимировав его, но и вдохнув в старые мехи молодое вино. Полковник начал действовать, как его учили, применив блестящие познания в стратегии и тактике. Первая наступательная операция, им осуществленная, была нацелена на захват Шаляпина у конкурентов – и это не преувеличение. Теляковский именно в таком плане и выразился: «Мамонтов без боя Шаляпина не уступит!»
В этот раз, для того чтобы вновь поступить в труппу Большого театра, Шаляпину ни петь, ни плясать не пришлось: за плечами его уже был необходимый опыт, помноженный на громкую славу и солидные гонорары. Подготовка к операции по переманиванию Шаляпина проходила в сверхсекретных условиях. О ней не знало даже театральное командование Теляковского – то есть Дирекция императорских театров. Теляковский, взявший на себя всю ответственность, поручил своему помощнику В. А. Нелидову встретиться с Шаляпиным тайно, избрав местом дислокации ресторан «Славянский базар» на Никольской – место для нашего театрального искусства намоленное: здесь же Станиславский и Немирович-Данченко договорились о создании Художественного театра. Так где же еще вести сепаратные переговоры, как не в этом ресторане? Нелидов должен был накормить Шаляпина завтраком, заполировать все это дело вином и шампанским, а затем скрытно отвезти певца прямо на квартиру Теляковского, который жил при конторе дирекции на Большой Дмитровке. Но видеть этого не должен ни один чиновник конторы: не дай бог догадается!
Тщательная подготовка военной операции обеспечила ей успех. Все случилось 12 декабря 1898 года. Переговоры у Теляковского, надо полагать, также прошли не без возлияний – Шаляпин согласился покинуть Мамонтова (а сегодня говорят просто «кинуть»), который был ему как отец родной, и заключить трехлетний контракт, главным условием которого было высокое ежегодное жалованье, возраставшее год от года: сначала девять, потом десять и, наконец, 11 тысяч рублей. Эх, знал бы Федор Иванович, как он продешевил! Теляковский в эти дни признаётся в дневнике: «Я уж его без контракта не выпущу – будь это 10–12–15 тысяч – все равно. Он должен быть у нас, пока не спросил 30 тысяч – а будет время – спросит, и как!!! Вероятно, в Петербурге за это выругают, но что делать, – чувствую, что, взяв его, сделаю большое дело не только в смысле сборов, но и поднятия общего уровня оперного театра. А как весело будет его потом показать в Мариинском театре. Нелидов благословил и просил никому не говорить о моем поручении, а то наши басы начнут брехать. Власов и то говорит, что у Шаляпина голос небольшой: “У нас в Большом театре будет плохо звучать”. Болван Власов – он думает, что голос один важен».
Степан Григорьевич Власов – совсем не болван, он просто родился лет за тридцать до Шаляпина и привык совершенно к иному поведению на сцене. Он просто не был Шаляпиным. После стажировки в Италии на сцене Большого театра Власов пропел 20 лет, с 1887 года исполнив весь басовый репертуар, завоевав сердца армии поклонников. В 1907 году стал заслуженным артистом императорских театров. Обладая голосом широчайшего диапазона, впоследствии он не раз заменял Шаляпина. По Москве даже ходил анекдот.
Едет Шаляпин домой на пролетке, крепко выпивши. Интересуется у извозчика:
– Братец, ты когда сильно напьешься, поешь?
– А как же без этого, конечно, пою, барин.
– А ты сам поешь?
– Как это? Конечно, сам, кто ж за меня еще споет.
– А за меня вот, когда выпью, Власов поет. Дай Бог ему здоровья!
Зная себе цену, Шаляпин не стеснялся торговаться с Теляковским, внося в контракт самые неожиданные пункты, например, обязательство театра держать специальную ложу в зале для Горького и еще три ложи для других его приятелей, имена, которых, правда, он никак не мог вспомнить. Или требовал поставить возле своей гримерки постоянный вооруженный караул с саблями наголо для отпугивания журналистов. Помимо этого, Шаляпин захотел получать отдельно за каждый выход на сцену не менее полутора тысяч, а то и вообще две тысячи рублей (такие же требования он некогда предъявлял и Мамонтову). При этом Шаляпин умудрялся терять подписанные им контракты. Теляковскому надоело, и он дал Шаляпину чистый бланк, поставил свою подпись и сказал, чтобы тот сам вставил новые пункты: то, что ему нравится. Но и этот контракт Федор Иванович тоже где-то посеял, свалив все на жену Иолу, дескать, она положила его в шкаф, который был унесен из квартиры мебельщиком. Теляковский соглашался на все, обосновывая свою уступчивость одним: «Что поделаешь, великий артист!» А чтобы угодить великому артисту, из положения выходили банальным способом – повышали цены на спектакли с его участием[3].
Действуя по известному принципу «победителей не судят», Теляковский получил и одобрение своего начальства – директора императорских театров Всеволожского, через силу утвердившего контракт 24 декабря 1898 года. При этом он посетовал, что «нельзя басу платить такое большое содержание», услышав в ответ от Теляковского: «Мы пригласили не баса, а выдающегося артиста!» 27 декабря 1898 года Теляковский отметил: «Я думаю, что Всеволожскому обидно, что он Шаляпина убрал из Петербурга, а я, его же подчиненный, его взял обратно и с утроенным контрактом. Нюха нет у этих людей… Он покажет кузькину мать». Скажи подобное Теляковский за границей – и любой импресарио спросил бы его: «Кес ке се “кузькина мать”? Разве господин Шаляпин поет женские роли?..» В том-то и дело, что выражение это на редкость удобно и содержательно именно для употребления в России, подчеркивая глубину смысла в него вложенного. Иностранцам перевести его невозможно. Потому и говорят они про загадочную русскую душу, ярким воплощением которой на Западе был Шаляпин.
Неустойку платить не пришлось: контракт с Мамонтовым заканчивался 23 сентября 1899 года, после чего – на следующий день – состоялся дебют Шаляпина в роли Фауста на сцене Большого. Спектакль прошел с большим успехом, превзошедшим всякие ожидания. И казне прибыль. Не прогадал Теляковский. Все были рады, лишь чуть не плакал в кулисах бас Власов, чьи поклонницы вместо его фамилии теперь кричали другую: «Шаляпина!» (в Италии, кстати, фамилию Федора Ивановича публика будет кричать как «Шаляпино!» с ударением на третьем слоге). Пророчества Власова не сбылись ни в чем – отсутствие у Шаляпина опыта выступлений в Большом театре, незнание акустики зала (где лучше стоять, чтобы было слышно на галерке) нисколько не повлияли на успех. Первый блин вышел не комом.
Но еще до дебюта Шаляпин успел передумать и захотел разорвать контракт, чему способствовали уговоры купца Сергея Корзинкина, одного из спонсоров оперы Мамонтова (самого Савву Ивановича к тому времени арестовали по подозрению в махинациях, проведя под конвоем по Москве, – это было стратегически очень кстати). Но к отступлению все пути были отрезаны – если бы Шаляпин нарушил договоренности с Теляковским, ему пришлось бы заплатить огромную неустойку в сумме 35 тысяч рублей. А денег таких у него не было. Был бы Мамонтов на свободе – одолжил бы, да только сам он теперь нуждался в займе на адвоката. Вот почему некоторые сочли поступок Шаляпина предательством. А Мамонтов завещал – на похороны Шаляпина не звать и к гробу его не подпускать, если сам придет (аналогичную просьбу он высказал и в отношении Коровина, также перешедшего в Большой театр).
Для певца переход в Большой театр имел под собой не только серьезные финансовые основания. В это время благодаря Теляковскому, взявшему императорский театр под уздцы, возрождается его престиж. Рутина уступает место новизне. Не только современные художники – приятели Шаляпина – приглашены для работы в Большом, в оркестр приходит Сергей Рахманинов, в балет – Александр Горский. Теляковский, как еще недавно Мамонтов, говорит Шаляпину: «Вот мы все и будем постепенно делать так, как вы найдете нужным!» И ведь так и произошло на самом деле – атмосфера в театре изменилась до неузнаваемости, его словно подменили, а репертуар обогатился новыми интересными постановками. А старые куда делись? От них избавились так же, как и от старых кадров, круто, по-военному. Попросили на выход многолетнего декоратора Анатолия Гельцера, на смену которому пришли молодые Александр Головин и Константин Коровин. Жена Гельцера, не смирившаяся с его увольнением, напала на Теляковского, желая побить директора. Только ловкость и сноровка боевого офицера помогли ему отбиться от этой женщины, так сильно влюбленной в искусство своего мужа. Узнав о том, что на фронте Большого театра неспокойно, Коровин купил себе револьвер с большой кобурой, прицепил ее на пояс и в таком виде приходил в театр писать декорации.
Шаляпину пистолет был не нужен, его богатырская фигура отбивала всякое желание нанести ему оскорбление даже словом. Гардеробщики уже не смели спорить с ним, когда он требовал новых костюмов. Когда ему вновь принесли «парадную» одежду Ивана Сусанина с красными сафьяновыми сапогами, какой ее видели не один десяток лет в старых постановках оперы, Федор Иванович взбеленился, истоптав всю эту красоту и потребовав немедля мужицкий армяк и лапти: «Гардеробщик не ожидал, конечно, такой решительности и испугался. Я думаю, что это был первый случай в истории императорских театров, когда чиновник испугался актера… До сих пор актеры пугались чиновников. Гардеробщик, вероятно, доложил; вероятно, собирался совет – тяжелый случай нарушения субординации и порча казенного имущества. Костюма я дожидался долго, но дождался: мне принесли темно-желтый армяк, лапти и онучи. Революция свершилась. На самой высокой баррикаде стоял костромской мужик Сусанин в настоящих лаптях». Так бывший мужик Шаляпин утверждал образ сценического мужика Сусанина.
Райская обстановка в Большом театре позволила позднее Шаляпину написать: «Императорские театры, о которых мне придется сказать немало отрицательного, несомненно, имели своеобразное величие. Россия могла не без основания ими гордиться. Оно и немудрено, потому что антрепренером этих театров был не кто иной, как российский император. И это, конечно, не то что американский миллионер-меценат, английский сюбскрайбер или французский командитер. Величие российского императора – хотя он, может быть, и не думал никогда о театрах – даже через бюрократию отражалось на всем ведении дела. Прежде всего, актеры и вообще все работники и слуги императорских театров были хорошо обеспечены. Актер получал широкую возможность спокойно жить, думать и работать. Постановки опер и балета были грандиозны. Там не считали грошей, тратили широко. Костюмы и декорации были сделаны так великолепно, что частному предпринимателю это и присниться не могло. Может быть, императорская опера и не могла похвастаться плеядой исключительных певцов и певиц в одну и ту же пору, но все же наши российские певцы и певицы насчитывали в своих рядах первоклассных представителей вокального искусства».
Что и говорить, прав Федор Иванович – императорский театр в принципе не может разориться. Но о ком он конкретно пишет в последнем предложении? Ведь Шаляпин пришел не на выжженную землю. Да о том же теноре Собинове (хотя в книге «Маска и душа» о Леониде Витальевиче ни слова – как хочешь, так и понимай!). Он поступил в Большой за два года до Шаляпина, в 1897 году. Многообещающего тенора заметил дирижер Ипполит Альтани, пригласив его на прослушивание. В то время Собинов солировал в другом месте – в судах, выступая адвокатом. Он ведь юрист по образованию, окончил Московский университет, стажировался у самого Плевако, подавал большие надежды как «лучший певец среди юристов и лучший юрист среди певцов». Предание гласит, что однажды во время процесса один остроумный и умудренный опытом прокурор, желая уколоть защитника Собинова побольнее, обратился к нему: «Ну-с, молодой человек, что вы нам теперь споете?» Устав от дурацких подколок, в конце концов Леонид Витальевич выбрал вокальную стезю. Его первой партией в Большом стал Демон в опере Антона Рубинштейна.
А с Шаляпиным они впервые спели 27 сентября 1899 года в «Фаусте» и не раз выступали на одной сцене в дальнейшем. Отношения между двумя выдающимися артистами были сложными. «Собинов, – сообщает Теляковский, – с первого же года своего поступления, благодаря чарующему голосу своему и благородной манере держаться на сцене, при хороших внешних данных, завоевал симпатии публики, которые неизменно росли с каждым появлением его в новой опере. Успех его шел параллельно успеху Ф. Шаляпина, и время окончания его контракта всегда вызывало беспокойство дирекции. Будучи от природы человеком добрым и совсем не алчным, он тем не менее в условиях требуемого гонорара был не очень податлив, и разговоры о возобновлении нового контракта были не из легких. Им руководило не столько желание сорвать побольше денег, сколько вопрос самолюбия. Высшего оклада против всех других артистов оперных Петербурга и Москвы он достиг довольно скоро: только Ф. Шаляпин получал больше, и этот вопрос его волновал. И если Л. Собинов следил за возрастающим окладом Шаляпина, то и этот последний, в свою очередь, очень интересовался окладом Собинова, и сколько бы ни прибавлять Собинову, – Шаляпин неизменно просил больше. Потерять же того или другого артиста было невозможно. Оставалось изыскивать способы обоих удовлетворять, но, однако, ни тот ни другой вполне довольны своими окладами не были никогда и немалые суммы зарабатывали на стороне».
Ну что здесь сказать – аппетит приходит во время еды. Заработкам на стороне всячески препятствовала Дирекция императорских театров, вынуждая своих артистов выступать под псевдонимами. Был, например, в Большом театре такой баритон Павел Акинфиевич Хохлов – Онегина пел, Демона. Так вот, в концертных афишах он обозначал свое присутствие следующим причудливым образом: «Х. О. Хлов». Согласитесь, остроумно. И придраться не к чему, и контракт с театром соблюдает… А Шаляпин в дальнейшем будет постоянно требовать у театра прибавки жалованья – 20, 30, 40 и даже 50 тысяч рублей в год, став самым высокооплачиваемым артистом Российской империи за всю ее историю. А Собинов… Когда Шаляпин захотел поставить спектакль сам, то Леонид Витальевич заявил, что тоже желает попробовать себя в режиссуре – лишь бы не уступать партнеру. Откуда такая принципиальность – конечно, из прошлой профессии адвоката! Ничего даром не проходит[4].
Владимир Теляковский еще не раз вспомнит об окладе Шаляпина. В своем дневнике директор расскажет такой интересный случай: жена певца, мадам Иола Шаляпина как-то пришла послушать супруга в роли Мельника в «Русалке» Даргомыжского. Было это 12 сентября 1900 года, а билет в театр она предъявила от 8 сентября, то есть просроченный. Более того, билет был уже использован, о чем свидетельствовал специальный штемпель, которым обозначали сей факт. Хотела Иола Шаляпина сесть на место по просроченному билету – а там уже некий господин сидит, и у него-то билет есть, как раз на 12-е число. А она и говорит, что, мол, это в кассе что-то напутали. Стала требовать места. А ее-то в театре узнали! Чуть до полиции дело не дошло. Хорошо еще, что тот господин джентльменом оказался: встал и уступил жене Шаляпина место, а сам весь спектакль простоял в проходе. «Вот до чего может дойти жена артиста, получающего 13 тысяч жалованья и зарабатывающего до 20 тысяч в год. Подложный билет в театр!!!» – поражался Теляковский. Хотя ему, надо полагать, уже ничему не приходилось бы удивляться: то хористы на сцене подерутся (один другому дал в ухо), то капельдинер рехнулся – страх перед студентами перешел у него в манию преследования, пришлось искать подходящую психбольницу.
А что столица? Раскаялась ли, что потеряла такого артиста, как Шаляпин? В новом качестве – солиста Императорских театров – он выступил в Мариинке уже на гастролях 20 декабря 1899 года. Зрители оценили, как изменился Шаляпин, назвав его голос отшлифованным (как рис и даже лучше!). Долгую овацию устроили и Теляковскому – в благодарность за возвращение Шаляпина обратно на императорскую сцену, а директор пошутил, что очень благодарен Петербургу за то, что отпустил Шаляпина в Москву за ненадобностью. Но министр императорского двора не шутил, захотев перевести певца обратно в Мариинку. Находчивый Теляковский тут же придумал отговорку, что столичный климат слишком суров для Шаляпина: «Он уже раз из Петербурга бежал, но, к счастью, недалеко, в Москву, и мне удалось его перехватить. Боюсь, чтобы второй раз он не убежал много дальше, ибо певец он будет, очень скоро, европейский. Пока он у меня на службе – думаю, что не сбежит, ибо я такое особое московское слово знаю». Интересно, что это за слово такое – наверное, деньги! Отныне Москва будет иногда отпускать своего лучшего певца в Петербург, держа столицу на голодном пайке…
Шаляпин пел в Большом театре 23 года, с 1899 по 1922-й. Не все было гладко – периодически возникало у него желание уйти (но как уйдешь, когда размер неустойки в его контракте обозначен в 200 тысяч рублей). Имя певца прочно связано с историей нашего искусства двух эпох – царской и советской. Его любили все – и члены императорской семьи, и большевистские вожди, и зрители разного уровня образования и достатка. В непререкаемый авторитет Федор Иванович превратился и для коллег по театру, набивавшихся в артистическую ложу как сельди в бочку, чтобы его послушать. Некоторые, как молодой танцовщик Асаф Мессерер, приходили со своим стулом, чтобы, забравшись на него, через головы гримеров, костюмеров, капельдинеров увидеть обожаемого певца, пускай даже стоя на одной ноге: «Мысль, что я работаю с Шаляпиным в одном театре, приводила меня в трепет. Я не мог воспринимать его в бытовом плане, но всегда – как явление. Его выделяла чисто физическая особость, редкостность. Во внешнем облике проступала внутренняя значимость, которая приковывала внимание. Меня всегда изумляло его лицо – сильное, мужицкое, мясистое, “разинское”. На сцене из этого лица можно было вылепить все – дона Базилио, царя Бориса, Демона… “Как же это так? – наивно думал я. – Тенор Лабинский, к примеру, красив, как карточный валет. А на сцене – карикатурен, смешон. Что бы он ни пел, лирическое или трагическое, поза его всегда одинакова – это почти что египетски-профильная поза. Потому что одним глазом Лабинский, как привязанный, смотрит на дирижера, боится хоть на секунду от него оторваться, а другим – на партнера. Или сидит в любовных сценах, согнув колено одной ноги и отставив другую. И указательный палец, как точка опоры, уперт в ладонь…” До Шаляпина я считал оперу фальшивейшим из искусств. А про многих певцов думал, что их лучше слушать с закрытыми глазами. И вот однажды я попал на “Русалку” с Шаляпиным-Мельником. На первом же спектакле я испытал потрясение, которое не стирается с годами. Я увидел чудо гармонии. Неисчерпаемый голос, гений драматического актера, почти балетная лепка, пластика поз. На Шаляпине я понял, что культ звука – не вся правда о пении. Хотя Шаляпин и был великим мастером делать образ “в голосе”. Анна Ахматова писала как-то о Лермонтове, что слово было послушно ему, как змея заклинателю. Так можно сказать и о Шаляпине. Он чувствовал плоть слова, играл им, окрашивал оттенками – для усиления выразительности. Шаляпин же научил меня в каждом образе искать характер, судьбу, душу человеческую. Выше этого в театре не придумано ничего! А Князя в этой “Русалке” пел Лабинский. По своему обыкновению он стоял боком и косил глазом на дирижера. И вдруг из своей артистической ложи я слышу громкий шаляпинский бас: “Кому поете? На меня смотреть нужно!” Лабинский хотел петь и осекся. На секунду впал в замешательство и дирижер. А мне даже жарко стало от этого шаляпинского бунта против рутины, против пустого механического пропевания… Дирижер первый справился с собой, отмахал какой-то музыкальный период, пока Лабинский смог прийти в себя и продолжить пение»[5].
Воспоминания Мессерера относятся к 1921 году, Асаф Михайлович только пришел тогда в балетную труппу, за год до эмиграции Шаляпина. Но написано это могло быть и в 1901-м, и в 1910 году почти каждым артистом труппы. Шаляпин есть Шаляпин. У него учились не только певцы, но и артисты балета. Такова была сила и мощь таланта, получившая высочайшую оценку и на Западе. Поражались артисты, удивлялись зрители. Однажды во время представления оперы «Борис Годунов» в парижской Гранд-опера в сцене, когда царю мерещатся галлюцинации, публика повскакивала с мест, устремившись в ту сторону, куда показывал шаляпинский Годунов, якобы увидевший убиенного царевича.
Крестьянский сын, «певец из мужиков», достигший в жизни грандиозного успеха, человек, сделавший себя сам, Шаляпин вызывал интерес еще и по той причине, что смог добиться всего вопреки существовавшим в российском обществе сословным предрассудкам. Конечно, его трудно сравнивать с Ломоносовым, пришедшим пешком из своих Холмогор, но сходство напрашивается, согласитесь. И еще одно веское обстоятельство способствовало восхищению и зависти современников – его молодость, когда есть вагон здоровья, и многое уже обретено, но сколько открытий ждет впереди.
Шаляпин по праву получил официальное признание и как первый певец России царской и России советской, о чем свидетельствуют его звания и ордена. С ним многие хотели выпить на брудершафт, еще больше людей ожидало от него пения, вне зависимости от того, хотел ли он петь, зайдя в ресторан пообедать или просто отдохнуть. Находившиеся тут же рядом доморощенные меломаны, посылавшие на его стол бутылку дорогого шампанского, считали себя вправе запанибрата обратиться к нему. Он любил париться в Сандунах по вторникам, народ прознал об этом и ходил специально поглазеть на голого Шаляпина. Объясняя свое нежелание пить шампанское с незнакомыми людьми и с ними же мыться в бане, артист, когда хватало сил, пытался оправдаться: «Прошу прощения, вы поймите меня, я же не виноват. Я пою, я артист – и только. А мне не дают жить. Вы не думайте, что я не хочу видеть людей. Это неверно. Я люблю людей. Но я боюсь, боюсь оскорбления». Усталость от непрестанно направленных на него чужих глаз приводила и к агрессии.
Однажды домой к Шаляпину заявился незнакомец, слезно попросивший денег якобы на похороны умершего ребенка. Получив 25 рублей от добросердечного хозяина дома, обнаглевший проситель без приглашения уселся за обеденный стол. Шаляпин объяснил: мол, у нас семейный праздник – и проводил незнакомца на крыльцо, у которого его ждал пьяный приятель: «Ну что, Ванька, достал?.. Едем к Яру!..» Шаляпин понял, что его облапошили, что никакого «убиенного ребенка» нет, что это типичные жулики. Федор Иванович догнал просителя и надавал ему тумаков, чтобы неповадно было. Этот случай был далеко не единственным. В другой раз притащилась деревенская старуха за алиментами: «Феденька, сынок, дай я тебя обниму!» Шаляпин ей: «Мамаша, моя мать давно умерла, а отец спился». И не дал ни гроша. «Скупердяй!» – обиделась «мамаша». К нему шли как к Льву Толстому, но в основном за деньгами.
Купаясь во всенародном обожании, певец, конечно, позволял себе больше, чем все остальные. И за это получал по полной от завистников и вредных писак-журналистов, расценивавших поведение Шаляпина («Кому поете?») как грубость и заносчивость, приклеив певцу обидный ярлык «генерал-бас». Желтая пресса была таковой всегда. В дореволюционных газетах часто писали о его жадности (любителей подсчитывать чужие барыши у нас всегда хватало), о том, что приходит он на спектакль впритык, чуть ли не за 20 минут, что закатывает скандалы и ссоры с коллегами, дирижерами и музыкантами. Что много пьет в компании с купцами и даже дерется, потому театр и не может обойтись без Власова, готового прийти на замену.
А замена в иные годы требовалась часто. «Вне артистического мира у меня было много знакомств среди купечества, в кругу богатых людей, которые вечно едят семгу, балык, икру, пьют шампанское и видят радость жизни главным образом в этом занятии. Вот, например, встреча Нового года в ресторане “Яр”, среди африканского великолепия. Горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные – во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя двенадцати часов еще нет. Но после двенадцати пьяны все поголовно… Четыре часа утра. К стенке прислонился и дремлет измученный лакей с салфеткой в руках, точно с флагом примирения. Под диваном лежит солидный человек в разорванном фраке – торчат его ноги в ботинках, великолепно сшитых и облитых вином. За столом сидят еще двое солидных людей, обнимаются, плачут, жалуясь на невыносимо трудную жизнь, поют», – рассказывал на правах участника попоек и веселья Шаляпин. Естественно, что все это попадало в газеты, выставлявшие артиста едва ли не главным персонажем кутежей и оргий. Но он мало обращал внимания на подобные выпады, ибо более популярного певца в России до него (да и после) не рождалось. В честь Федора Ивановича называли детей, шоколадные конфеты и одеколон.
Если и находились поводы для серьезного разочарования, то связаны они были с политикой. Наступившие с началом XX века времена разброда и шатания в российском обществе самым негативным образом сказались и на искусстве в его широком понимании. Различные политические силы пытались использовать певца в своих конъюнктурных интересах. В 1905 году он спел в Большом театре революционную «Дубинушку», за что получил выговор от дирекции и восторженные отклики от либеральной публики. С тех пор «Дубинушка» стала ассоциироваться исключительно с Шаляпиным. В 1911 году он вместе со всем хором встал на колени перед царем после спектакля «Борис Годунов» и был обвинен в холопстве и ползании на «карачках» перед «мерзавцем и убийцей» (так совпало, что в тот же день утром Шаляпин лично благодарил царя за присвоенное ему звание «Солиста Его Императорского Величества»). Мало того что на него ополчились друзья – Серов и Горький, – так еще и развернулась невиданная травля, заставившая певца оправдываться за «холуйство». Разразился скандал, вынудивший Шаляпина объявить об отъезде из России во Францию на постоянное жительство. Но отъезд не состоялся. Уговорили остаться. А в 1918 году уже эмигрантские газеты обвинили Шаляпина в беспринципности, узнав о том, что он во время исполнения партии генерала Гремина в Мариинке сорвал с себя погоны, бросив их в оркестр в знак протеста против наступления белогвардейцев на Петроград. Аркадий Аверченко из Парижа даже назвал Шаляпина хамелеоном – «хамом, желающим получить миллион». А когда певец, выехав в 1922 году в Европу, решил помочь детям русских эмигрантов, уже в Советской России его обозвали предателем трудового народа. И так всю жизнь. Но где взять силы, чтобы каждый раз объяснять, что его неверно поняли? Да и нужно ли объяснять? Вот какими тяжелыми обстоятельствами была отягощена повседневная жизнь Шаляпина…
Помимо столь огромного внимания публики, прессы, царской семьи, свидетельствовавшего о приобретении Шаляпиным определенного статуса, выше которого, уже казалось, не было, Федор Иванович получил возможность серьезно улучшить и уровень жизни. Еще в 1910 году он прикупил обширную усадьбу на Новинском бульваре с голландским отоплением (это условие он обозначил как непременное при выборе дома). До этого певец сменил несколько адресов в Москве, но такого большого и личного домовладения у него еще не было. Учитывая, что усадьба пережила пожар 1812 года, состояние ее было далеко от идеального. Зато после ремонта особняк стал как новенький – провели водопровод с горячей и холодной водой и газ, установили телефон, устроили ванные комнаты. За поддержанием порядка в доме следила куча прислуги. Украсился и фасад – изящной лепниной и декоративными вазами (сегодня ценой неимоверных усилий бывший дом Шаляпина превращен в музей – здесь долгое время были коммуналки – все, что было уничтожено, в том числе и лепнина, восстановлено). На обстановку особняка Шаляпин не поскупился, благо что дружил с художниками.
В своем доме на Новинском бульваре артист любил собираться с друзьями после спектаклей и концертов. «В столовой на огромном столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли закуски, графин с водкой и бутылка красного вина бордо. Это было любимое вино отца и посылалось ему специально из Франции, на этикетке стояла надпись: Envoi special pour m-eur Chaliapine (“Специально для г-на Шаляпина”). За столом уже сидели домашние и друзья отца: Коровин, Сахновский и другие. Отца встретили импровизированным тушем. Смеясь и шутя, отец занял свое председательское место. В столовой было тепло и уютно, крестная мать отца Людмила Родионовна разливала чай. За столом шутили и веселились. Отец был в отличном настроении, рассказывал смешные анекдоты, соперничая в этом с К. А. Коровиным…» – вспоминала дочь певца Ирина.
Среди художников и актеров законное место за столом всегда занимал один интересный человек – Исай Григорьевич Дворищин, или Исайка, как звал его Шаляпин. Это еще одно свойственное большим артистам обстоятельство – наличие свиты, коей они почти сразу обрастают. Свита состоит, как правило, из поклонников, обожателей, добровольных помощников, готовых на побегушках исполнять любое желание своего хозяина. Исайка был человеком свиты – и секретарь, и собутыльник, и адъютант, и шут гороховый, и коллега по работе, готовый подыграть и в картах, и на сцене. Сохранились старые фотографии – Исайка и Шаляпин в гриме Досифея играют в карты во время «Хованщины», а вот они в роли Варлама и Мисаила (соответственно) в «Борисе Годунове». Исайка, отдавая должное своему кумиру, терпел и его шутки – то Шаляпин пришьет его, спящего, к дивану, а потом как крикнет над его ухом: «Караул!» И всем весело. В другой раз Федор Иванович разыграл Исайку, не выпустив его из отправляющегося поезда в Финляндию. Исайка пришел проводить певца на гастроли, а пришлось ехать с ним самому – не прыгать же из вагона. Зато Исайка был незаменим при переговорах о гонорарах Шаляпина за его выступления. Незаменимость эта понадобилась в голодные революционные времена, когда за концерты платили селедкой, мукой или мясом (к оплате натурой Шаляпин привык еще в юности, когда за разгрузку барж получал оплату арбузами). Дружили они с Исайкой лет двадцать, вплоть до отъезда Шаляпина из Совдепии.
Дом Шаляпина на Новинском бульваре. Москва. Современный вид
Шаляпин был готов постоять за себя не только на сцене, но и в жизни. 1935 г.
Что касается розыгрышей Шаляпина, то они не всегда были безобидными. Как-то в любимом ресторане «Эрмитаж», желая отплатить назойливо рассматривающей его публике, он принялся готовить яичницу в котелке. Если бы Шаляпин еще носил котелок, – но этот головной убор он позаимствовал у ничего не подозревавшего приятеля. Официант принес Шаляпину спиртовку и пять яиц. Окружающий народ напрягся. А Федор Иванович как ни в чем не бывало разбил яйца в котелок и по готовности яичницы выложил ее в тарелку, делая вид, что ест. Невольные зрители, к удовольствию артиста, не скрывали возмущения: «Это вызов! Какой хам! Босяк! Невежа!» Впрочем, эти слова доносились со стороны – вряд ли кто-нибудь набрался смелости сказать их в лицо Шаляпину. Он мог ответить одним ударом (как однажды и поступил с приставучим поклонником у Большого театра).
Содержанием и ремонтом московского дома Шаляпина занималась его итальянская жена балерина Иола Игнатьевна Торнаги. Красивая женщина с тонкой талией («Она баба хорошая, серьезная!» – хвалил ее певец Коровину) родила любимому Феденьке шестерых детей. Правда, с 1910 года отношения между супругами были уже исключительно дружескими, ибо у Шаляпина была еще одна жена – в Петербурге, мать троих его дочерей. Не правы те, кто именует ее второй женой. Правильнее сказать – параллельная жена. Да, наш великий певец был двоеженцем (и это тоже повседневность жизни любимцев публики, от которой никуда не деться, как мы знаем из современных телепередач). Шаляпин настолько много себе позволял, что после рождения у петербургской жены дочери Марфы обратился к Николаю II с просьбой разрешить девочке носить его фамилию. Вообще-то она считалась незаконнорожденной. Император поставил условие: он позволит дочери взять фамилию отца, ежели разрешит его законная жена. Иола Игнатьевна не сопротивлялась: дочку жалко, пусть и чужую!
Сегодня определение ДНК нередко используют для установления истинного отцовства. Если бы в то время генетика существовала, то Шаляпину отбоя бы не было от потенциальных сыновей и дочерей. Любимца женщин Федора Ивановича не назовешь примерным семьянином, он легко сходился с представительницами прекрасного пола. Коровин рассказывал, как его друг Федя флиртовал с молодой балериной в кулисах за несколько секунд до выхода на сцену в роли Годунова. Вот уже увертюра кончается, на сцену пора, а он: «Господи, если бы я не был женат… Вы так прекрасны!.. Но это все равно, моя дорогая…» А через несколько мгновений он уже поет перед зрителями: «Чур, чур… Не я… Не я твой лиходей… Чур, чур, дитя!..» И самое примечательное, что «дети лейтенанта Шмидта» к нему приходили. Пришлось даже обратиться к адвокату, чтобы отбиться от липового «сынка», требовавшего сто тысяч рублей на собственное воспитание.
Содержание двух семей, дома́ в Москве и квартиры в Петербурге, куча детишек, обожавших своего папашу, требовали и немалых расходов (прислуга, гувернеры, доктора, повара и т. д.). Но для Шаляпина это не должно было быть тяжелым финансовым бременем, ибо он сам назначал стоимость билетов на свои спектакли, что отразилось и в терминологии – существовало даже понятие «шаляпинские цены», то есть заоблачные. Судя по тому, как год от года росли гонорары певца, он мог бы быть миллионером. Мог бы… Если бы не страсть к картам и рулетке, которую он пронес через всю жизнь. Биографы певца почему-то старательно обходят стороной это его пагубное увлечение, а ведь оно в немалой степени повлияло на судьбу артиста, его личную жизнь.
Мы не зря обмолвились, что в 1894 году Шаляпин приехал в Москву почти голым: его обыграли в карты. Менялись театры, а желание Шаляпина испытать судьбу за карточным столом лишь усиливалось. Он любил играть, но чаще всего проигрывал. Азарт помогал ему создавать непревзойденные образы на сцене, а после сцены – заставлял полностью спускать заработанное. И так было с молодости. Коровин вспоминал, что в кармане у Шаляпина часто было лишь три рубля. И всё. Он растерянно выгребал мелочь, занимая у друзей десятку на обед. Торговался с извозчиками и официантами. В то же время были хорошо известны его поговорки: «Бесплатно только птицы поют» или «Пусть платят, если любят». Воистину, загадочная русская душа. А ведь в самом деле, можно ли представить великого русского артиста, складывающего денежки в кубышку или покупающего акции на бирже? С трудом. Этот все проигрывает, а тот все пропивает.
Иола укоряла мужа: «Скажу тебе только, что это не достойно умного человека, как ты, оставлять в Монте-Карло все деньги, заработанные своим трудом». Он пытался побороть свою зависимость, но не мог, ведь игра – это болезнь, о чем хорошо осведомлены и сами игроки, и их родственники. Монте-Карло стало для Шаляпина землей обетованной, куда он так стремился попасть, чаще всего летом, после завершения театрального сезона в России. Здесь он отдавался сразу двум своим страстям, признавая: «Монте-Карло – один из красивейших уголков земли – имеет благодаря окаянной рулетке весьма скверную репутацию, но театр там – хороший, и отношение к делу в нем такое же прекрасное, как везде за границей. Все артисты, хористы, музыканты работают на совесть, с любовью к делу, все аккуратны, серьезны, и работа идет споро, весело, легко». Театр в этом городе назывался «Казино». Шаляпин мог бы отдыхать и в Крыму, но там ему все время чего-то не хватало, ведь рулетка и баккара были запрещены в России.
«Публика Монте-Карло смотрит на тебя как на певца в кафе, – писала мужу Иола. – Уверяю тебя, что в этом Монте-Карло все кончится тем, что ты окончательно потеряешь голову и станешь заурядным артистом и человеком малопривлекательным и неуважаемым. Ты не имеешь права делать то, что ты делаешь, поскольку такой артист, как ты, всегда должен быть достоин своей славы, которая есть слава всего народа». А народу только этого и надо было. Смакуя подробности личной жизни певца, его неутолимые и необузданные страсти, российские газеты не дремали, публикуя эпиграммы:
- Он не страдает и не плачет,
- И вот – быстрей своей «Блохи»
- По всей Европе резво скачет,
- Забывши старые грехи.
Эти стихи украсили карикатуру Шаляпина, изображенного идущим из Парижа в Монте-Карло в сюртуке, из кармана которого вылезает стотысячная купюра. Проигрывать Шаляпину было что: за один сезон он мог заработать 50 тысяч рублей. И это только в императорских театрах. А были еще и выступления в концертах, когда за выход ему платили многие тысячи. Случилось, что в один вечер он оставил в игорном доме тысяч триста французских франков, все, что заработал в Европе. Проигрыш был большим даже по меркам Монако. И тогда по сложившемуся обычаю директор казино отблагодарил Шаляпина – выписал ему чек на десять тысяч франков. Так сказать, подарок фирмы. И еще сказал, что если господин Шаляпин надеется выиграть, «то пусть он знает, что в рулетку вообще нельзя выиграть крупную сумму».
О своих несметных богатствах Шаляпин не любил распространяться – это понятно: столько проигрывать на зеленом сукне! За эти деньги можно было выстроить филиал Большого театра. Но о его доходах можно узнать хотя бы из писем и обращений к большевистским вождям с просьбами вернуть награбленное у него. Например, он хлопотал перед Зиновьевым, чтобы ему возвратили 200 тысяч рублей, реквизированных по решению Совета солдатских и матросских депутатов Ялты. Писал Луначарскому об ограблении квартиры революционными солдатами, которые увезли с собой целый сундук с подарками – серебряными изделиями. Хотя искали они больничное белье (в доме Шаляпина во время войны был госпиталь). А еще пропали 200 бутылок хорошего вина, полученного певцом-гурманом прямо из Парижа. В дальнейшем это вино ему подавали в московском ресторане за немалые деньги. Не стало у Федора Ивановича и автомобиля.
И все же польза от революции 1917 года была – Федору Ивановичу стало нечего проигрывать в рулетку. Эту блажь, чуждую трудовому народу, ему пришлось позабыть. Благосостояние Шаляпина серьезно пошатнулось, сблизив его в этом плане с многочисленными обнищавшими почитателями. В худшую сторону изменился его рацион, о фирменных шаляпинских котлетах уже и речи быть не могло (секрет их приготовления заключается в добавлении в мясной фарш сметаны). В худшие дни 1918 года гостей в своей холодной нетопленой петербургской квартире он поил морковным чаем вприкуску с черным хлебом. Всё национализировали, но певец не унывал: «Мне сказали, что мои деньги нужны для народа. Ну, что ж! Если для народа, ничего не имею против!.. Правда, эти деньги я не “нажил”, а заработал горбом, ведь у меня не было ни каменноугольных копей, ни золотых россыпей! Главное, не хотелось бы расстаться с государственным театром. Буду работать!»
Особняк на Новинском превратился в коммунальный муравейник. Швондеры решили оставить первому народному артисту республики мезонин, где его и застал поэт Скиталец: «Площадка старого московского дома была застеклена и представляла что-то вроде сеней или антресолей. Вместо потолка – чердак. Топилась “буржуйка”, а на кровати лежал Шаляпин в ночной рубашке. По железной крыше стучал дождь. Завидев меня, взбиравшегося к нему по крутой и узкой деревянной лестнице черного хода, он весело засмеялся и, протягивая мне руку, великолепно продекламировал стихи Беранже: “Его не огорчит, что дождь сквозь крышу льется! Да как еще смеется!”». А затем вдруг сказал Скитальцу: «Да ну их!» Видимо, Федор Иванович уже твердо решил осуществить свое давнее желание – покинуть «их», то есть родину…
К Шаляпину мы еще вернемся в этой книге, его жизнь в театре и дома – отличная отправная точка для проведения параллелей и аналогий, ибо каков бы певец ни был в глазах современников, он навсегда останется маяком, ориентиром для всех остальных русских артистов и зрителей. Прежде всего это касается его исполнительской манеры: она надолго превратилась в образец, даже в икону. Вот лишь один из примеров. В 1950 году в Швецию впервые на индивидуальные гастроли отправятся певцы Большого театра Мария Максакова и Иван Петров, получившие приглашение выступить в Королевской опере Стокгольма в опере Шарля Гуно «Фауст». Партию Мефистофеля Петров уже пел не раз, а тут вдруг режиссер замучил его на репетициях придирками. Чуть ли не каждую минуту он подходил к Петрову: «А вы знаете, Шаляпин здесь делал не так. Вот вы сели, а Шаляпин стоял… вы здесь не вынули шпагу до конца, а Шаляпин вынимал шпагу и делал круги, отгораживаясь от наступающих горожан, когда они увидели, что это черт в образе человека». На что Петров был вынужден отвечать: «Я никогда Шаляпина не видел, а только слышал его в записи, на пластинках. Шаляпин, конечно, гениальный певец, и я многое почерпнул от него. Но даже если бы я его видел и слышал при жизни, я бы никогда его не копировал, потому что каждый артист исходит из своих данных, своего представления об образе. Поэтому я играю роль, исходя из собственных возможностей». Но режиссер не унимался, вынудив Петрова на довольно резкий и окончательный ответ: «Или вы уж принимайте меня таким, какой я есть, или приглашайте Шаляпина!»
В не меньшей степени Шаляпин был объектом для подражания в частной жизни последующих поколений артистов Большого театра. Его привычки, увлечения, розыгрыши, проведение досуга – все будет взято на вооружение. А сама фамилия «Шаляпин» превратилась в бренд. Вот почему логично в продолжение нашего рассказа перейти к певцу, которого называли вторым Шаляпиным, тем более что петь в Большом театре он не хотел.
Напрасно считать, что для любого артиста приглашение в Большой театр – мечта всей жизни. В советское время бывало всякое, иные и не хотели – те, у кого хватало мудрости понять, что чем ближе к огню, тем опаснее. Например, бас Марк Осипович Рейзен стал солистом Большого театра против своей воли в 1930 году. С Шаляпиным его роднило происхождение – Рейзен из такой же бедноты, только родился он не в русской семье, а в еврейской, в Донбассе (его отец грузил уголь). Рейзен воевал в Первую мировую, затем учился в Харьковской консерватории у итальянца Бугамелли, там же, в местной опере, впервые вышел на сцену. С 1925 года он пел в Ленинграде, с успехом гастролируя в Германии, Франции, Англии, испытав на себе пристальный интерес русской эмиграции. В 1929 году в Париже Рейзен познакомился с Рахманиновым. Композитор поинтересовался: не все ли театры еще закрыли большевики, хоть один остался? К удивлению композитора, Рейзен рассказал ему, что Советы театры не только не закрывают, но и открывают. Рахманинов все расспрашивал певца о положении дел в Мариинке.
Рейзен так долго был в Париже, что соскучился по русской кухне. Ужиная в ресторане «Максим», он впервые услышал выступавших там Надежду Плевицкую и Александра Вертинского. А в Лондоне, где Рейзен записывал пластинку с оркестром Альберта Коутса, с ним захотела повидаться Анна Павлова – со слезами на глазах внимала она его рассказу о балеринах Мариинки, об Улановой и Семеновой. В Монте-Карло Рейзен не только пел Мефистофеля (на итальянском языке!), но и играл в казино. Правда, без шаляпинских последствий для своего кармана. Тут же он узнал, что сам Соломон Юрок предложил ему устроить длительное турне по Америке. Находчивый импресарио успел сделать отличную рекламу «молодому русскому басу». Возвращаясь весной 1930 года на родину, Рейзен предвкушал скоро грядущие гастроли за океаном. Однако советская действительность опустила его с небес на землю…
Нет, Рейзена не арестовали и не обвинили в связях с белоэмигрантами, как Шаляпина (всех не посадишь – а кто же тогда петь будет?). Его ожидала иная участь. Наездившегося по заграницам молодого советского баса ждала смена места работы. О том, как это случилось, Марк Осипович поначалу не очень распространялся. Подробности случившегося он сообщил лишь через много лет врачу кремлевской больницы – простой русской женщине, уроженке Тамбовщины Прасковье Николаевне Мошенцевой. Больница находилась тогда на улице Грановского[6], туда и привезли с острым приступом аппендицита народного артиста СССР и обладателя так называемого «бархатного» тембра. К этой правительственной клинике были прикреплены солисты Большого театра. Операция по удалению аппендикса прошла успешно, Рейзена перевели в отдельную палату. И вдруг ночью к дежурному врачу Мошенцевой прибегает медсестра: «Скорее, с товарищем Рейзеном, лауреатом трех Сталинских премий первой степени, совсем плохо! Прасковья Николаевна, бегите к нему!»
У Рейзена поднялась температура и появились боли в животе, расцененные врачом как послеоперационное осложнение. Мошенцева спасла для родины любимого певца, сразу же организовав ему проведение повторной операции. Неизвестно, как закончилась бы для Рейзена та ночь, не сориентируйся вовремя Мошенцева. Такого не забывают – благодарный Марк Осипович и спасший его дежурный врач подружились. Она подарила ему жизнь, а он ей – пластинки с оперой «Борис Годунов» в его собственном исполнении, да еще и с дарственной надписью. А еще пригласил домой, с женой познакомил – Рашелью Анатольевной, накормившей докторицу с мужем вкуснейшим творожным пирогом. Марк Осипович даже исполнил для званых гостей свои любимые арии, но не в полный голос, конечно, а так, слегка, не напрягаясь.
И вот, в один из таких вечеров с пирогами, между ариями царя Бориса и князя Игоря, Марк Осипович вспомнил осень 1930 года. В ту давнюю пору, когда певец подумывал вновь о мировых гастролях, он пел в опере «Фауст» в двух театрах: в своем, ленинградском, и в Большом. Бывало обычно так: вечером он выступает в Ленинграде, затем сразу из театра на вокзал, ночью в поезде, а утром уже в Москве, репетирует вечерний спектакль. А затем все повторяется в обратном направлении. После одного из выступлений в Большом театре Рейзена долго не отпускали с усыпанной цветами сцены – аплодисменты не смолкали, зал стоя благодарил певца. В этот момент к нему подошел военный и сказал, что его ждут в правительственной ложе. В костюме Мефистофеля, как был, певец явился перед светлыми очами товарища Сталина (ложа и по сей день находится слева от сцены, если стоять к ней лицом). Вождь радушно улыбался, похвалив за прекрасное исполнение партии черта с рогами, и вдруг спросил: «Товарищ Рейзен, а почему вы поете в Ленинграде, а не в Москве, в Большом театре?» Рейзен оторопел, причем не от самого вопроса, а от внезапной встречи с вождем, потеряв дар речи. «Я не мог ничего объяснить толком…» – рассказывал певец.
Воспользовавшись заминкой Рейзена и не дождавшись от него вразумительного ответа, Сталин произнес: «Ну вот, Марк Иосифович, с завтрашнего дня вы артист не Мариинского, а Большого театра. – И добавил: – Вы меня поняли?» Далее Рейзен рассказывал так: «От такого неожиданного и категорического предложения я совсем растерялся, только успел вымолвить: “Товарищ Сталин, ведь у меня в Ленинграде жена, дочь, квартира”. Сталин встал с кресла и почти на ходу, не ожидая возражения, сказал полковнику, который стоял навытяжку рядом с ним: “Чтобы завтра была квартира для артиста Рейзена. Вы меня поняли?”».
Рейзен жил в «Национале», утром к нему в номер постучался тот самый полковник и предложил, не откладывая, поехать посмотреть будущую квартиру. Машина через пять-семь минут остановилась у подъезда нового дома. Рейзен еще хорошо не знал города, но совершенно верно предположил, что это центр. Квартира имела три большие комнаты, две лоджии, кухню со всем необходимым. Мало того, комнаты не пустовали. Они были обставлены старинной, очень дорогой мебелью, на стенах ценные картины, в сервантах прекрасная посуда. «В общем, не квартира, а сказка, – хитро улыбаясь, рассказывал Рейзен. – Я был удивлен, растерян. Опять не верил своим глазам. Сопровождавший меня полковник мило улыбнулся и подчеркнуто строго произнес: “Это все ваше”. А когда я стал возражать, говоря, что не могу принять такого подарка, он встал по стойке “смирно” и громко и внушительно произнес: “Так приказал Иосиф Виссарионович Сталин!”». А дальше было вот что. Вернувшись в Ленинград, Рейзен сразу же рассказал своей Рашель о сказочной квартире, которая ждет их в Москве. Супруги быстро распродали свою не ахти какую мебель, квартиру сдали Ленсовету и приехали в Москву, уже по известному адресу. Открыли дверь, вошли в квартиру и глазам своим не поверили – она была пуста. Ни мебели, ни картин, ни посуды. «Надул меня Иосиф Виссарионович, – закончил свою историю Марк Рейзен. – Хорошо еще, не посадил!»
И действительно, – спасибо и на этом, как говорится! А товарищ Сталин мог и новую жену подобрать, если нужно. Пройдет немного лет, и оперных певцов будут отправлять совсем в другом направлении, например в Магадан (но об этом позже). Внезапный переезд Рейзена в Москву вызвал немало толков среди москвичей, раньше специально ездивших в Ленинград послушать любимого певца. 31 января 1932 года Михаил Пришвин отметил в дневнике: «Бас-баритон Рейзен редко поет в Москве. Вождь позвал его в ложу: “Почему редко поешь в Москве? – Квартиры нет. – Тебе что, в 12 комнат? – Ну, довольно трех”. Ночью звонят к Рейзену, будят, приглашают квартиру смотреть. Оказалось, квартира в шесть прекрасных комнат с мебелью, и все сделано с такой поспешностью, что в одном из шкафов выселенный буржуй брюки забыл». Смешно! Особенно про буржуя – видно, не всех еще поставили к стенке в 1930 году.
Как мы уже поняли, среди москвичей-театралов находились самые разные люди – и вполне себе простые советские граждане, и члены политбюро со Сталиным во главе. Вождь не мог себе позволить бросить, срываясь с места, важную работу, чтобы ехать в Ленинград на «Псковитянку», где Рейзен пел Ивана Грозного (тогу строгого русского царя Сталин, надо полагать, примеривал на себя уже в те ранние годы культа его выдающейся личности). Так что «просьба» дорогого Иосифа Виссарионовича выглядит вполне логичной: ну что он, права, что ли, не имеет перевести любимого певца в Москву? Он ведь вождь. Пусть поет Рейзен в столице на радость всему советскому народу и москвичам в частности.
Пройдет много лет, и уже в 1986 году, при Горбачёве, выйдет второе издание автобиографических записок 91-летнего Марка Рейзена. В них уже можно будет сообщить подробности той исторической встречи в ложе Большого театра. В антракте «Фауста» Рейзен в костюме Мефистофиля впервые так близко увидит Сталина: подойдя к аванложе, открыв дверь, он увидит в глубине маленького человека в сером френче. «На фотографиях, Иосиф Виссарионович, у вас нет седины», – отважно заметит Рейзен Сталину. «Мне уж пятьдесят лет, пора быть и седине». От смущения Марк Осипович перепутает соратников вождя: Серго Орджоникидзе он примет за Авеля Енукидзе. «Енукидзе – рыжий», – поправит его Сталин. А зрители в зале недоумевали – почему затянулся антракт? Пятнадцать минут, двадцать, двадцать пять… Ведь не скажешь же им, что в это время Сталин уговаривает Рейзена перейти в Большой театр. «Ленинградский театр меня не отпустит, товарищ Сталин, я там пою пять лет, я уже привык к труппе, к репертуару». – «Я думаю, товарищ Рейзен, вы здесь тоже скоро привыкнете». Дальше, посетовав, что Рейзену уже пора на сцену – неудобно перед народом! – Сталин отпустил его. Рейзен так и не понял – в эту минуту решилась его судьба. На следующий день его уже поздравляли, в том числе и директор Елена Малиновская: «Ну что же, переезжаете к нам?» – «Позвольте, но я еще не решил». Малиновская посмотрела на него с удивлением… В этот же день, разъезжая по улочкам старой Москвы с порученцем Сталина, скромный Марк Осипович действительно выбрал трехкомнатную квартиру в «нормальном» доме, отказавшись поселиться в продемонстрированных ему роскошных особняках.
В Большом театре Рейзен вскоре обретет статус государственного певца со всеми полагающимися ему атрибутами: в 1933 году он станет народным артистом РСФСР, а в 1937-м получит звание народного артиста СССР – отметина для той поры высочайшая, а в 1941-м станет одним из первых лауреатов Сталинской премии. Это нынче народных-заслуженных хоть пруд пруди, а тогда их редкие имена знали наизусть. Вот и Рейзен со своими коллегами получил доступ ко всем полагающимся благам. Его семью прикрепили к Лечебно-санитарному управлению (Лечсанупру) Кремля, созданному еще в 1919 году постановлением Совнаркома за подписью самого Ленина. В этом особом и закрытом для остального народа медицинском учреждении трудились лучшие врачи – хирурги, терапевты, в общем, академики (вот ведь – шла Гражданская война, а большевистские вожди нашли время позаботиться о своем здоровье!). Здесь было наилучшее и внимательное медицинское обслуживание, имелись новейшие для того времени лекарства, а если не было – их могли прикупить за границей и специально привезти в Москву для восстановления здоровья ценных пациентов[7].
А если заболевание не могли вылечить в СССР – отправляли лечиться в Европу за государственный счет. В качестве примера можно привести сохранившееся письмо от сентября 1930 года за подписью Николая Голованова и Антонины Неждановой:
«Просим Вашего разрешения на выезд наш за границу (Италия) на три месяца летнего отпуска. Цель поездки – с одной стороны, отдых после необычайно трудной нервной и большой работы сезона, с другой – необходимость для А. И. Неждановой йодисто-бромистого лечения острого гайморита, не подлежащего лечению в течение шести месяцев и мешающего возможности работать по специальности».
Письмо это, правда, было отправлено не наркому здравоохранения, а зампреду ОГПУ Генриху Ягоде, но это так, частности.
А вот Владимира Ивановича Немировича-Данченко (пытавшегося когда-то ставить в Большом театре «Снегурочку») в 1937 году в Европу поначалу не пустили. Пожилой режиссер впал в смятение: как же так, ведь раньше-то пускали, да еще и денег давали! Так, 26 мая 1933 года политбюро решило: «Выдать Немировичу-Данченко 1500 долларов при условии обязательного и немедленного возвращения в Москву». Неужели теперь он стал невыездным, то есть выбыл из касты самых-самых привилегированных представителей творческой интеллигенции? И Немирович-Данченко обращается к Вячеславу Молотову:
«Глубокоуважаемый и дорогой Вячеслав Михайлович!
Мне передали, что Вы распорядились заменить мой обычный заграничный отдых и лечение пребыванием на одном из наших курортов. Разрешите Вам сказать, что для меня это равносильно просто отказу и в лечении, и в настоящем отдыхе», – говорится в архивном документе от 30 мая 1937 года.
«Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович» вступился за режиссера, собрали политбюро и 3 июня 1937 года решили: «Разрешить Немировичу-Данченко поездку за границу для лечения». Проголосовали «за» Сталин, Молотов, Чубарь, Каганович и Ворошилов и т. д. А еще выдали две тысячи долларов. Вот вам и повседневность…
Как и положено солисту главного театра страны, за Марком Осиповичем будет приезжать большая черная машина с водителем, чтобы отвезти его на репетицию или спектакль. В 1930-е годы в течение сезона в Большом театре он пел до тридцати спектаклей, а поскольку ему (по просьбе еще не убитого в 1934 году Кирова) разрешили еще некоторое время петь и в Ленинграде, там он также выступал – по 20 спектаклей за сезон. В 1940-е годы нагрузка для Рейзена стала еще более щадящей. «Получилось парадоксальное положение, – отмечал дирижер Кирилл Кондрашин. – Чем выше по положению актер, чем большее имеет звание, тем меньше он выступает. Официальная норма для народных артистов СССР – семь спектаклей в месяц. Потом они сами установили себе норму в три спектакля и не выполняли ее. Я помню один год, когда Рейзен вообще спел только три спектакля, Козловский – только пять спектаклей. Причем Козловский пел Синодала или Индийского гостя, и это считалось спектаклем. А Рейзен, скажем, пел Гремина».
И все же – Ленинград. До войны немалую часть повседневной жизни певец проводил в поезде «Красная стрела», о нем стоит рассказать отдельно[8]. Фирменный поезд «Красная стрела» по сей день курсирует между двумя городами. Из Москвы он идет под номером один, а из Санкт-Петербурга под номером два. Впервые «Красная стрела» отправилась из Ленинграда с Московского вокзала 10 июня 1931 года в половине второго ночи. А на Ленинградский вокзал поезд прибыл в тот же день в 11 часов 20 минут. Это был рекорд эпохи – скорость поезда достигала почти 70 километров в час. Поговаривали даже, что такой график движения был утвержден самим Сталиным – чтобы его любимый артист Рейзен мог с удобством для себя ездить из одного театра в другой. Первоначальная окраска «Красной стрелы», состоявшей из дюжины деревянных вагонов, была синей, с 1949 года она стала темно-вишневой. Война на время прервала железнодорожное сообщение с Ленинградом, однако уже в январе 1944 года движение возобновили, только для отражения налетов вражеской авиации к поезду прицепили бронированную платформу с зенитным орудием. Поезд насчитывал один спальный вагон, три мягких, семь жестких, один почтовый. «Красная стрела» преодолевала расстояние за восемь с половиной часов. С 1976 года ввели второй, аналогичный поезд, отправляющийся на четыре минуты позже. С 1965 года своеобразным сигналом к отправлению «Красной стрелы» стала мелодия Рейнгольда Глиэра «Гимн великому городу».
Все было у солиста Большого театра Марка Рейзена – отличная квартира, дача в поселке Снегири, слава, деньги, почет, уважение и любовь власти и зрителей. Кстати, именно находясь на своей даче в Снегирях 23 августа 1939 года, он однажды увидел в небе самолет необычной раскраски – с фашистскими крестами на крыльях. Это летел в Москву дорогой гость – Ульрих Фридрих Вилли Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел гитлеровской Германии. Марк Осипович счел нужным отметить сей факт в мемуарах, и не зря. Риббентроп летел подписывать знаменитый пакт с Молотовым. А во второй приезд, 27 сентября 1939 года, Риббентроп встретился со Сталиным, выпив с ним шампанского в знак прочности германо-советской дружбы, а также посетил Большой театр. «В отличие от моего первого приезда в Москву на сей раз состоялось несколько торжественных мероприятий. В Большом театре в честь германской делегации дали “Лебединое озеро” Чайковского. Мы сидели в большой центральной ложе и восхищались отличным музыкальным исполнением и неповторимой прелестью русского балета. Я часто слышал о том, что нынешнее оперное и балетное искусство в России не уступает существовавшему в царские времена. Прима-балерина, приехавшая ради нас из Ленинграда, танцевала великолепно. Я хотел было лично поблагодарить танцовщицу, но граф Шуленбург отсоветовал: это могут воспринять с неудовольствием. Я послал ей цветы, надеясь, что в Кремле это не вызовет неприятных последствий», – вспоминал бывший гитлеровский министр уже позже, лет через шесть, в тюрьме во время Нюрнбергского процесса[9].
Этой примой-балериной была Галина Уланова – она не знала, что делать с букетом, принесенным ей в гостиницу. Она, как и Риббентроп, также надеялась, что цветы ни к чему плохому не приведут. А кого еще могли вызвать из Ленинграда танцевать перед лучшим другом советского народа господином Риббентропом? Именно другом – подписанный в Москве договор был дружественным. На Большом театре дружба с фашистами также отразилась – Сергей Эйзенштейн поставил на его сцене в 1940 году «Валькирию» Вагнера, дирижировал Василий Небольсин. Эйзенштейн, надо полагать, удивился поступившему ему предложению о срочной постановке любимой оперы Гитлера. Но ему объяснили, что это личная просьба товарища Сталина, выполнение которой окажет благотворное влияние на укрепление дружбы народов. Новости о постановке «Валькирии» напечатали в газетах вкупе с сообщениями о поставках Гитлеру эшелонов с продовольствием, особо подчеркивалось, что целью этих поставок является нарушение блокады Германии со стороны Великобритании.
Постановка Эйзенштейну не удалась, уже после начала войны Генрих Нейгауз пошутил, что именно этот спектакль и послужил истинной причиной начала войны с Германией – немцы смертельно обиделись. Святослав Рихтер, вспоминая давнюю премьеру, уже в 1993 году отмечал постигшее его разочарование, назвав все показанное на сцене Большого театра катастрофой. В это же время в качестве культурного обмена в Берлине в Штаатсопер выходил на сцену Иван Сусанин, а Сабинин (в исполнении певца Хельге Розвенге) из этой же оперы призывал к борьбе с иноземными захватчиками, то есть поляками (как символично: Польшу-то Сталин и Гитлер уже поделили!). Странно, что в Берлин петь партию простого русского крестьянина не отправили Рейзена (он с успехом пел в концертах вагнеровскую партию Вотана – прощание и заклинание огня). Не успели, и слава богу! Вряд ли у Марка Осиповича, выросшего в трудовой еврейской семье, появилось бы вдохновение от увиденного в Европе, где уже стало изрядно попахивать гарью – от бесперебойно работавших газовых камер[10].
Выезд за границу Рейзену был надолго закрыт по иной причине: обратная сторона расположения вождя! В 1937 году его случайно выпустят в Европу на отдых с семьей, что ознаменует собою знак большого доверия. Степень этого самого «доверия», а точнее, его внушения характеризует еще одна цитата из письма Голованова и Неждановой Ягоде:
«…После Октябрьской революции мы три раза были отпускаемы за границу в 1922, 25 и 26 годах, и всегда аккуратно возвращались в срок… Со своей стороны обязуемся нигде в Европе не гастролировать и вернуться в срок: в Москве остаются наши семьи, и, если потребуется поручительство за нас, таковые представим дополнительно. В случае положительного ответа на нашу просьбу начнем немедленно хлопоты в официально установленном порядке. Просим рассмотреть нашу просьбу и по возможности не задержать с ответом в связи близкого конца сезона».
Стиль подобных прошений не поменялся к 1937 году. Но если уж мы назвали сумму в долларах, выданную Немировичу-Данченко, так расскажем и о пособии для Рейзена. 10 июня 1937 года политбюро отпустило на полтора месяца с выдачей 700 долларов на руки. Почему меньше, чем Немировичу? Дело в том, что он-то ехал на два месяца. Этим же постановлением выпустили отдохнуть мхатовцев Ивана Москвина и Аллу Тарасову в Чехословакию (тоже на 700 долларов) и артистку Александринского театра, в советское время известного как Ленинградский театр драмы им. А. С. Пушкина, Екатерину Корчагину-Александровскую в Финляндию на один месяц с 500 долларами. Остальных же оставили дома: нечего ездить, и потому дирижера Ария Пазовского и певицу Ксению Держинскую решили «направить в лучшие санатории Союза, независимо от их ведомственной принадлежности, согласно медицинским показаниям». Так же обошлись и с Александром Гауком, главным дирижером Государственного симфонического оркестра, и Провом Садовским из Малого театра. Вот такое унижение талантов и указание на их более низкое – «санаторное» – место в иерархии.
В 1937 году семья Рейзен на 700 долларов отдохнула в Мариенбаде, Вене, Париже, но больше всего понравилось в Швейцарии. А петь перед публикой Марк Осипович не имел права – только в советском посольстве, да и то если попросят. Возможность зарубежных гастролей для Рейзена откроется лишь в 1950 году, то есть через два десятка лет после триумфального выступления в Европе. Ему разрешат петь в социалистической Румынии – плохо, что ли? Марку Осиповичу будет уже 55 лет, как говорится, «не шешнадцать».
Певцу останется лишь вспоминать восторженные отзывы иностранной прессы, в частности, газеты «Дейли мейл», назвавшей его в 1930 году «вторым Шаляпиным». Такому бы Шаляпину – да мировую сцену! Но нет, пусть поет в Большом театре, решили за певца в Кремле. А когда в 1938 году печальная новость о кончине самого Шаляпина достигнет Москвы, в квартире Марка Осиповича в Брюсовом переулке (с которым и будет связана бо́льшая часть его жизни) раздастся звонок. Корреспондент газеты «Известия» поинтересуется мнением Рейзена о роли Шаляпина в искусстве. Затем выйдет заметка следующего содержания:
«Шаляпин, пройдя в свое время большой творческий путь, создал ряд образов, вошедших в историю русского оперного театра. Однако в расцвете сил и таланта Шаляпин изменил своему народу, променял родину на длинный рубль. Оторвавшись от родной почвы, от страны, взрастившей его, Шаляпин за время пребывания за границей не создал ни одной новой роли. Все его выступления за рубежом носили случайный характер. Громадный талант Шаляпина иссяк уже давно. Ушел он из жизни, не оставив после себя ничего, не передав никому методов своей работы, большого опыта. Литературное наследство Шаляпина не представляет ничего интересного для искусства, это хронологическое изложение отдельных эпизодов, поражающее своим духовным убожеством.
Народный артист СССР, орденоносец МАРК РЕЙЗЕН».
У Рейзена, когда он на следующий день развернул газету, глаза на лоб полезли: редакция грубо исказила его слова! Само собой, реакция московской интеллигенции также окажется резко негативной. Елена Булгакова напишет в дневнике от 14 апреля 1938 года о заметке Рейзена как о «дряни». Все-таки порядочных людей в то время было немало, и они умели отличать черное от белого. Вращавшаяся в московских театральных кругах переводчица Варвара Малахиева-Мирович запишет: «В “Известиях” заметка Рейзена, снисходительная и пустая, как будто о самом Рейзене, бездарно подражающем Шаляпину. Москвин, Алла Тарасова, Массалитинова помянули его тем, что в слезах прослушали все его пластинки на патефоне. После этого Массалитинова бросилась к Алле и, схватив ее за плечи со всей кабанихинской силищей, темпераментом, завопила: “Клянись, клянись, Алла, не подавать рук этому завистнику, этому ничтожеству – Рейзену!”».
Вот до чего дошло – народному артисту Рейзену не только не хотели подавать руки, но и выражали ему свое презрение письменно – в Большой театр пришла куча ругательных писем. Рейзен, как человек прямой (гренадерского роста!) и ветеран Первой мировой войны (был ранен и контужен), «Известиям» этого не спустил. Через неделю вышло опровержение:
«Тов. Рейзен обратился в редакцию с заявлением, что он такой заметки не писал, что с ним была лишь беседа по телефону, причем в заметке грубо искажены высказанные им мысли… Заметка была составлена сотрудником редакции на основании беседы с Рейзеном М. О. по телефону и впоследствии Рейзену М. О. не была прочитана и им не подписывалась. Заметка резко расходится с тем, что было сказано в беседе сотруднику редакции о Шаляпине как художнике. Редакция считает необходимым извиниться перед т. Рейзеном М. О. Сотрудник редакции Эфроимзон, применивший метод, недопустимый в советской печати, исключен из состава работников “Известий”»[11].
После этого случая Марк Осипович никогда ничего по телефону «не подписывал», требуя принести ему лично текст того или иного интервью. А когда ему звонили, предлагая подписать очередное гневное письмо советской общественности, он требовал предъявить его ему лично. Гонец с письмом обычно не заставал певца дома, избегавшего неприятного участия в сей процедуре. Поразительно, но именно такая же история случилась с Шаляпиным в 1911 году. В газетах опубликовали его «Письмо в редакцию», которым он оправдывал свое коленопреклонение перед Николаем II приливом верноподданнических чувств, дескать, «заговорило его “ретивое”, истинно русское сердце». Письмо это вызвало еще больший гнев «прогрессивной общественности». Однако оно оказалось фальшивкой, в которую охотно поверили. И Шаляпин, и Рейзен, надо думать, не удивлялись легковерию публики – ведь оба они назубок знали арию Дона Базилио о клевете из «Свадьбы Фигаро».
Рейзен в Большом театре исполнил почти весь шаляпинский репертуар – Бориса Годунова, Досифея, Сусанина, Гремина. Мешало ли ему его происхождение? Рассказывают, что когда в 1948 году Марк Осипович на волне борьбы с космополитами был уволен из Большого театра и его позвали петь на дачу к Сталину, то он поначалу отказался, сославшись на это обстоятельство. Тем не менее на дачу к вождю он приехал, где в его присутствии «отец народов» обозвал директора Большого театра нехорошими словами. В итоге Рейзена на работе восстановили. Это вполне похоже на правду – ведь уволили же Шостаковича в это время из Московской консерватории, он пришел на работу – там приказ висит, а вахтер и говорит: «Митрич, пропуск сдавай!» И пришлось Дмитрию Дмитриевичу устраиваться на работу в Большой театр музыкальным консультантом за 300 рублей в месяц.
Как государственному певцу, Рейзену приходилось исполнять и песни советских композиторов. По радио, в частности, после боя курантов ранним утром в его исполнении передавали «Песню о Родине» Исаака Дунаевского («Широка страна моя родная»). Он пел ее на правительственных концертах в Большом театре, когда хор насчитывал до восьмисот человек. Однажды на репетиции произошел такой случай. Рассказывает Кирилл Кондрашин: «Дирижировал Константин Иванов. Пели тогда: Шпиллер, Антонова, Нэлепп, Рейзен, Накануне просмотра, на который ждут уже высокое начальство (обязательно на последний просмотр приходили представители политбюро и сидели в ложе), вечером Иванов устраивает спевку. И там разгорелась знаменитая сцена между Ивановым и Рейзеном. Когда Рейзен неверно пунктировал на словах “Широка страна моя родная”, Иванов сделал ему замечание. Тот сказал “ага” и опять спел по-старому. Иванов ему: “Марк Осипович, тут нет точек”. А тот: “Вы меня не учите петь”. Иванов: “Композитор не написал точек, и я вас прошу петь, как написано”. (Пока он был вполне на высоте.) Рейзен обиделся и говорит: “Не вам меня учить. Кто вы такой? Я народный артист СССР, а вы молодой дирижер”. Тогда Иванов не сдержался: “Какой вы народный артист, вы – говно!” Рейзен схватил стул и бросился на Иванова, Нэлепп вырвал стул у Рейзена. Их разняли, и Рейзен сказал, что с Ивановым петь не будет». К мнению Рейзена прислушались – Иванова отстранили, а дирижировать поручили Кондрашину. Но ничего хорошего из этого не вышло.
В эти же годы солистов Большого театра обязали посещать университет марксизма-ленинизма при Центральном доме работников искусств на Пушечной улице. Народных артистов усадили за парты, читая им китайскую грамоту – поди разбери, что такое диалектический материализм… Они должны были сдавать зачеты. И вот, Рейзен сдает зачет. Его спрашивают: «Марк Осипович, в чем разница между буржуазной и социалистической революцией?» – «Буржуазная… социалистическая… Знаю. Спрашивайте дальше!»[12]
Переезд в Москву Марка Рейзена, повлекший существенные изменения в его повседневной жизни, – это вполне типичная история для артистов его уровня. Другой подобный пример – перевод в Большой театр Галины Сергеевны Улановой в 1944 году. Известны ее слова на этот счет: «В Москву я никогда бы не переехала, да так власти распорядились, чуть ли не решение ЦК по этому поводу приняли». Улановой дали хорошую квартиру, в 1951 году присвоили звание народной артистки СССР, к этому году она была лауреатом уже четырех Сталинских премий. Она танцевала первые партии в балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Золушка», обретя массу поклонников среди зрителей самых разных возрастов. 72-летний Михаил Пришвин писал 17 февраля 1945 года: «Вечером были на “Жизели” с Улановой – это второй балет, который я вижу в своей жизни. Вот куда направлено слово волшебства, и Уланова – это, конечно, волшебница. Хотя Ляля (жена писателя. – А. В.) и называет возбуждаемое чувство “целомудрием” (а сама вся горела), но на самом деле это очень тонкая эротика».
Но в отличие от некоторых звезд, достигших вершины в советской табели о рангах, в поведении Улановой мало что изменилось. Она осталась такой же скромной в быту, сохранив удивительную требовательность к себе: «Я не помню случая, чтобы она позволила себе опоздать на репетицию или хотя бы перед ее началом, в последнюю минуту, подшивать ленты у туфель. Если репетиция назначена в один час, Уланова стоит в час совершенно готовая, “разогретая”, собранная, предельно внимательная», – вспоминал балетмейстер Леонид Михайлович Лавровский. Статус первой балерины Большого театра Галина Сергеевна сохраняла за собой до 1960 года, когда и ушла со сцены, но не из балета, воспитав плеяду учениц. Она стала единственной балериной – дважды Героем Социалистического Труда, ее бронзовый бюст установлен на родине, в Ленинграде-Петербурге.
Далеко не все в Большом театре были рады нашествию ленинградцев (что особенно касалось балета, ибо отличия московской и петербургской балетной школы очевидны). Например, для Игоря Моисеева это стало концом балетной карьеры. К тому времени он добился определенных успехов, позволяющих ему претендовать на место главного балетмейстера театра, однако ленинградские хореографы Федор Лопухов, Ростислав Захаров, Петр Гусев принялись интриговать против него. «Главным дирижером стал ленинградец Самуил Самосуд. Он и вся его свита чувствовали себя стопроцентно безнаказанно, потому что они были ставленниками Сталина. И вот они мне сказали: “Забудьте, что вы когда-нибудь ставили” – и предсказали мне жизнь в кордебалете». Моисеев был вынужден оставить театр в 1936 году и сосредоточиться на создании Ансамбля народного танца СССР, что в итоге и прославило его на весь мир. Неисповедимы пути Господни[13].
Ленинград стал основным поставщиком артистов для Большого театра, которых как только не переманивали – в основном посулами в скором получении звания, большой квартиры, госпремии, гастролей в капстранах (это важно было особенно для оперных певцов – ибо попасть на европейские сцены из Кировского было гораздо труднее). Партийное руководство города в лице Кирова, а затем Жданова не раз ставило вопрос перед Сталиным о необходимости «регулирования» данного процесса во избежание полного оскудения местных театров. Но и после войны лучшие солисты Ленинграда переезжали в Москву. Например, бас Кировского театра Александр Ведерников, которого в 1957 году как-то попросили спеть Ивана Сусанина в Большом. Ведерников спел и получил приглашение в Большой театр. Или Евгений Нестеренко, перешедший из Кировского театра в Большой в 1971 году[14].
Немало звезд выросло в Свердловском театре оперы и балета – Иван Козловский, Сергей Лемешев, Ирина Архипова, для которых этот театр послужил своеобразным трамплином, позволившим им попасть в Большой. Павел Лисициан пришел в Большой театр из Ереванского театра оперы и балета в 1940 году. Из Киевской оперы приехал Юрий Гуляев. А лирический баритон из Одесского театра оперы и балета Александр Ворошило стал петь в Большом театре в 1976 году.
И всё же – проходили десятилетия, сменялись портреты вождей в кабинете директора Большого театра, а отношение к артистам, как к крепостным, оставалось прежним[15]. Владимир Атлантов, ставший солистом Большого в 1967 году, никак не хотел переходить в Большой театр, надеясь остаться в Ленинграде. Юлию Цезарю приписывают поговорку, превратившуюся в афоризм: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе». Конечно, Ленинград – это не деревня, а «великий город с областной судьбой», как нарекли его в среде фрондирующей интеллигенции в 1960-е годы. Изрядно потрепанный всевозможными «кировскими потоками» (так называлось выселение коренных петербуржцев в 1930-е годы), истекший кровью в блокаду, замученный всякими идеологическими кампаниями, направленными против лучших ленинградцев – Михаила Зощенко, Анны Ахматовой, Дмитрия Шостаковича, наконец, ставший объектом последней репрессивной волны культа личности, приведшей к истреблению всей верхушки города, – Ленинград все равно устоял, не потеряв своей культурной идентичности и претензий на собственное мнение. И это серьезно раздражало советских вождей, засевших в Кремле.
Игорь Моисеев на сцене Большого театра. 1932 г.
Моисеева выжили из Большого театра, и тогда он создал свой ансамбль народного танца, прославился на весь мир и прожил 101 год
Вроде бы и Сталин уже умер, а все равно – взращенные им кадры в лице Екатерины Фурцевой продолжали гнуть свою жесткую линию. Любой ценой, не мытьем, так катаньем нужно было указать и Ленинграду, и Кировскому театру на его второе место в политической и культурной иерархии. Любимец недобитой и уцелевшей ленинградской интеллигенции Владимир Атлантов словно ногами уперся – не поеду и все! «Я хотел и работать, и жить в Ленинграде, – рассказывает певец, – и не хотел переходить в Большой театр, и я дважды уходил из Большого театра по собственному желанию. Я уехал из Кировского театра в Италию и приехал в театр. Но приехал уже солистом Большого. По возвращении мы, стажеры, должны были давать отчетные концерты в Большом театре. Я выступил. Все! На следующее утро меня вызвал директор театра Михаил Чулаки, и из его кабинета я ушел с удостоверением солиста оперы. Это было в 65-м году. С этого момента начались мои мучения. Меня перетягивали из театра в театр. Ленинград тянул в свою сторону, Москва – в свою. Я метался между Питером и Москвой, выступая в спектаклях то там, то здесь. В Кировский театр приходили правительственные телеграммы о моем переводе в Москву».
Партийные власти города и лично первый секретарь Ленинградского обкома Василий Сергеевич Толстиков Атлантова ценили и уважали. Толстиков покровительственно успокоил певца: «Да брось ты, не обращай внимания!» Атлантов решился и написал заявление об уходе из Большого театра. Это был вызов. Так он официально покинул Большой в первый раз, но не в последний. Но вскоре Атлантова вновь вызвали в Москву на правительственный концерт: «Я приехал на поезде, но стоило мне выйти из вагона, как какие-то мужчины взяли, что называется, меня под руки и отвезли к министру культуры Фурцевой. От нее я вновь вышел солистом Большого театра. Вот так у меня началась жизнь в Большом театре весной 67-го года».
Картина, согласитесь, яркая: тенору на перроне Ленинградского вокзала чуть ли не заламывают руки, словно расхитителю социалистической собственности, и на аркане тащат к Фурцевой. Нежелание переезжать в Большой театр певец объяснял так: «Я любил артистов, работавших в Большом театре. Но я не был москвичом, был и остался питерцем. Я в Большом театре сразу почувствовал себя виноватым, что родился не в Москве… Что для меня значили первые выступления в Большом? Я безумно волновался, нервничал. Помню очень большую ответственность, страх перед Большим театром, перед сценой. Мне говорили: “Ты попал в святая святых. Колонны одни чего стоят! Театр сделал тебе честь, приняв тебя в свои ряды! Напрягись из всех своих молодых сил!” Ну я и напрягался, хотя как-то всегда думал, что достоинство театра заключается в людях, которые там работают, в качестве спектаклей. В Большом работали артисты и до Шаляпина, и во времена Шаляпина, и после Шаляпина. Есть реноме театра, которое поддерживают своими выступлениями выдающиеся певцы. Они-то и прославили это место. Меня не обязывало место, меня обязывала моя требовательность, мое отношение к делу… Любил я Кировский театр. Сначала была эйфория, я ни о карьере, ни о будущем не думал. Театр – сказка. Но постепенно я стал открывать двери в этой квартире, которая называется театр, и понял, что там делается, чем там занимаются. Наступали какие-то моменты обобщения, критического и осознанного отношения к театру, в частности к Большому. Это был чужой коллектив. И вот приказом министра СССР, без пробы, без прослушивания в него внедрили какую-то знаменитость из Ленинграда. В Большом я был чужаком и в общем-то так и остался чужаком».
Атлантову было что терять в Ленинграде. Положение любимца публики и городских властей давало ему немыслимые привилегии, одну из которых нельзя было купить ни за какие деньги: разрешение на рыбалку в строго охраняемой заповедной зоне, где ловили леща и щуку только партийные вожди города. Никому нельзя было попасть в эту зону, а Атлантову со Штоколовым – пожалуйста! Поневоле не захочешь уезжать. И дело не в рыбе, а в исключительном праве ее ловить. И в этом специфичность той эпохи: более всего ценилось то, что являлось запретным и недостижимым для основной массы советского населения. И если рыбалка такая, то что говорить про охоту… Атлантов был счастлив[16].
Ну а что же покровитель певца – товарищ Толстиков? Почему не помог, не организовал похищение своего любимца из Большого театра под покровом ночи? Не завернул в ковер и не вывез на «Красной стреле» в Город на Неве? Ему в тот момент самому понадобилась помощь, но только вряд ли Атлантов мог отплатить тем же. Толстикову тоже нашли другое место работы. Если бы это был хотя бы партком Большого театра… Его отправили послом в такое место, хуже которого на планете Земля не было в тот момент (если верить газете «Правда») – то есть туда, куда Большой театр не выезжал на гастроли вообще. Нет, не в пекло к израильской военщине, а в… Пекин. Отношения с китайцами обострились настолько, что грозили войной. Даже с американцами было лучше. Но чем же он был обязан столь унизительному назначению?
Толстиков, убежденный консерватор-сталинист, погорел не на любви к пению. Как рассказывал Рой Медведев, «главным поводом для понижения Толстикова был скандальный эпизод в Финском заливе, когда пограничный катер задержал яхту Толстикова за пределами советских территориальных вод, причем хозяин яхты был в сомнительной компании двух мужчин и трех женщин. Все были не очень трезвы, имели на себе минимум одежды и вовсе не имели никаких документов. Роскошная яхта была взята на буксир и препровождена на морскую погранзаставу, начальник которой немедленно дал знать о происшедшем в КГБ Андропову, а последний, естественно, позвонил Брежневу. Всем было известно, что Брежнев никогда не был особенно строг по части нравственности к высшим партийным и государственным работникам. Но то, что случилось с Толстиковым, выходило за рамки неписаных правил. Ему стали подыскивать новую работу».
Согласитесь, история забавная. Партийный руководитель второго города в стране – «города трех революций» – так сказать, «морально разлагался» в узком кругу. А ведь еще недавно сам Толстиков в немалой степени поспособствовал осуждению поэта Иосифа Бродского за тунеядство. Кстати, эта история с будущим нобелевским лауреатом (слона-то я и не приметил!) создала Толстикову образ убежденного антисемита. Зловредные вражеские голоса излагали более жесткую версию проступка партийного начальника: в июле 1970 года, приняв на грудь изрядное количество спиртного в компании адмирала Ивана Байкова, командира Ленинградской военно-морской базы, Толстиков решил нанести визит «надменному соседу» – то есть финнам, причем прямо на военном корабле и без предупреждения. В принципе, плохого в этом ничего не было: Толстиков, как член ЦК КПСС и член Президиума Верховного Совета СССР, вполне мог совершать дипломатические визиты для укрепления дружбы между народами. Только вот финны их не ждали, да к тому же с их сухим законом… Вышел международный скандал. Толстикова перевели на другую работу, адмирала отправили в отставку, а в Ленинграде возродилась, наконец, династия Романовых (фамилия нового «первого» была Романов).
А оставшемуся без покровителя Владимиру Атлантову Фурцева распорядилась дать квартиру в высотке на Котельнической набережной, правда, не сразу (скоро только кошки родятся): «Я понимал, что нахожусь на каком-то ином положении, чем другие артисты Большого театра. По десяти- тридцати- стократным просьбам, наконец, Екатерина Алексеевна дала мне квартиру. Понимаете, квартиру. Ну что я мог сделать? Приходилось обращаться за разрешением достать стенку какую-то, инструмент. Я ведь сам не мог это купить. Надо было мне идти, просить, умолять, унижаться. Для меня это почти непереносимо». Ну и конечно, ловить рыбу и стрелять кабанов в Завидове Атлантову уже никто не предлагал.
Затем певец переехал в Брюсов переулок (ленинградская квартира отошла в ведение Министерства культуры). Поженившись с Тамарой Милашкиной в 1971 году, сдав квартиры тому же министерству, они получили квартиру на Кутузовском проспекте. Но даже такой уровень внимания власти не мог компенсировать ему моральный ущерб: «Я пришел с чересчур сложившимся авторитетом, быть может, в то время не соответствующим моему артистическому и вокальному состоянию. А там была своя, установившаяся товарищеская компания: Зураб Анджапаридзе, Галина Вишневская, Ирина Архипова, Александр Огнивцев. Они и по возрасту были равны. И вдруг этакий юнец приезжает! Мой приход стал инородным вторжением в их коллектив. Кто-то должен был потесниться, чтобы нашлось место и для меня. А этого места никому искать не хотелось. И вот здесь мне пришлось трудно». В итоге утвердиться в театре помогли зарубежные гастроли, на которых певец получил высокую оценку. К мнению Запада в театре прислушивались более пристально, нежели к своим партийным музыкальным критикам, судившим с идеологических позиций даже балет «Чиполлино», постановка которого была расценена как намек на продовольственные трудности с луком и картошкой.
О раздражении варягами (варяжскими гостями) помнит и ленинградец Евгений Нестеренко: «Самозваная “примадонна” впервые называет меня по имени и фамилии именно в своей книге. До этого для нее я был просто “тем, кто приехал из Ленинграда”». Речь идет о Галине Вишневской и ее книге мемуаров. А ведь и сама певица переехала в Большой с берегов Невы. Кстати, не называть фамилию коллеги-конкурента было в порядке вещей. Директор Большого театра Михаил Чулаки рассказывал о подчиненных ему артистах, «обычно избегавших личных встреч, а за глаза вежливо величавших друг друга не иначе как “другой тенор” или же “другой бас”». Словно это была плохая примета – называть фамилию своего соперника по сцене. Учитывая число звезд в Большом театре, соперничество было вечным: Мария Максакова и Вера Давыдова, Сергей Лемешев и Иван Козловский, Марк Рейзен и Александр Пирогов, Иван Петров и Александр Огнивцев и т. д. Но даже в таких условиях острого соперничества одного солиста с другим не было отмечено ни одного срыва спектакля по причине неприязненных отношений. Творческая дисциплина была превыше всего, пусть даже очень личного.
Владимиру Атлантову пришлось соперничать с тенором Зурабом Анджапаридзе, принявшем эстафету премьера Большого театра после скоропостижной смерти Георгия Нэлеппа в 1957 году. Таковы были правила, что новичка сразу поставили в неудобное положение, вынуждая его оправдывать свое новое место работы. Негативный фон усиливался психологически – уже давно работавшие в театре солисты, зная о том, что Атлантова пришлось упрашивать, возмущались в глубине души: это что же за Карузо такой, что его сама Фурцева уговаривает? В итоге Атлантов не смог превзойти Анджапаридзе в роли Германа в своей первой «Пиковой даме» в Большом, что надолго испортило ему репутацию. Все это привело к психологической травме певца, которую ему удалось преодолеть лишь с годами: «Я знал, что спектакль я спел хуже, чем обычно поет Анджапаридзе. Этой первой неудачей я нанес себе пробоину ниже ватерлинии. Значит, теперь надо закусить удила, сжать зубы и упереться, поработать. Я собрался. Я, что называется, стал заниматься собственным причесыванием. Стал строже, взыскательнее к себе относиться – к физической форме, к вокальной, к духовным ипостасям». А с Зурабом Анджапаридзе Атлантов подружился, вспоминая его как «горячего актера, красавца-мужика, потрясающего Германа, открытого парня». Позднее Анджапаридзе выжали из театра, он уехал в Тбилиси. В театре его называли Зурабом, а его молодого тезку Соткилаву – Зурабчиком, чтобы не путать.
Владимир Андреевич и по сей день суров к Большому театру, сетуя на то, как мало его выпускали петь в Европу, не давая его таланту развернуться во всю мощь. Но иногда все же куда-то удавалось выехать, в частности, в так называемые страны народной демократии. Святослав Теофилович Рихтер записал 3 июня 1975 года свои впечатления о концерте артистов Большого театра в Праге в клубе посольства СССР: «Тут мы услышали, до какой степени пение может доставлять страдание. Не из-за отсутствия голосов, а из-за ужасной манеры исполнения. Мазурок. Голос есть, и поет чисто, но настолько отталкивающее явление (чрезмерное самодовольство; я сказал бы “бюрократизм”) – это что, концерт или собрание? Отсутствие чувства… Милашкина. Тут просто все фальшиво, так что трудно понять, какие ноты она поет. Атлантов. Лучше. Хороший голос и обыкновенное традиционное исполнение (как у всех теноров)». Афиша концерта была соответствующей: начиналось все песней Долуханяна «Я гражданин Советского Союза» и заканчивалось романсом Чайковского «Средь шумного бала».
Святослав Теофилович был уж слишком строг к советским певцам – будто сам жил и выступал в другой стране (откуда что берется!). Через десять лет, 22 сентября 1985 года, он сидел у себя дома на Бронной и вместе с женой Ниной Дорлиак смотрел родной советский телевизор, передачу о звездах Большого театра: «Образцова в роли Кармен (“дамы – возможно, директрисы солидного советского учреждения”). Простите за такую Кармен. Нет, не прощу! Атлантов (разве только что голос)… Вальс с корзиночками из “Спящей”. Какой плохой театр Большой». Возможно, для некоторых читателей эти откровения всемирно известного пианиста покажутся слишком резкими, могут найтись и те, кто обвинит Рихтера в зависти: мол, сам петь не может, вот и ворчит! Да, был у Рихтера такой недостаток: он мог только играть на фортепьяно, даже не попытавшись освоить ремесло дирижера (мода такая была и есть – все рвутся размахивать руками перед оркестром: скрипачи, певцы, виолончелисты, видно, проще работы нет). Возможно, что превратное мнение Рихтера о Большом театре есть не что иное, как раздражение на всю советскую власть, которая долго не пускала его за границу, отбирая бо́льшую часть гонораров. Это и объединяет его с Атлантовым и другими артистами Большого. И все же – голос Атлантова был, по мнению Рихтера, хорош. И на том спасибо.
Почти два десятка лет промучился Владимир Андреевич Атлантов в Большом театре, пока в 1987 году не получил звание «народного артиста Австрии» – стал каммерзенгером (не так давно этой чести удостоилась и Анна Нетребко), а в 1988 году и вовсе выехал на Запад (вместе с Тамарой Милашкиной), где уже более трех десятков лет поет и преподает, живет в своем уютном домике под Веной. И неплохо себя чувствует…[17]
А вот другу Атлантова – Муслиму Магомаеву удалось (к радости его поклонников) избежать карьеры в Большом. В марте 1963 года в Москве проходила Декада культуры и искусства Азербайджана – в те времена подобные смотры с участием национальных творческих кадров были частью повседневной жизни Большого театра. Делегации артистов наезжали в столицу продемонстрировать свои культурные достижения, именно в составе такой группы и прибыл Магомаев. Концерты проводились в Большом театре, а после открытия Кремлевского дворца съездов были перенесены и на его огромную сцену. Двадцатилетнему Магомаеву было непривычно выступать на ней: «Огромный зал дворца давит, делает тебя меньше и одновременно как бы увеличивает твой голос. Ты сам по себе, а голос сам по себе», – отмечал певец.
Магомаев порадовал зрителей своеобразным «культурным набором», полагавшимся для исполнения советским оперным вокалистам: классика мировая, затем классика национальная и, наконец, песня советских композиторов. Сначала он спел куплеты Мефистофеля из «Фауста» Гуно, затем арию Гасан-хана из азербайджанской оперы «Кёр-оглы» Узеира Гаджибекова, а на десерт – пафосную песню «Хотят ли русские войны» Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко. Гром оваций не заставил себя ждать: Москва открыла для себя Магомаева. Еще больший успех сопутствовал его выступлению на последнем концерте во Дворце съездов, транслировавшемся советским телевидением. В этот раз он спел «Бухенвальдский набат» Вано Мурадели и каватину Фигаро на итальянском языке из «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини – «фирменное блюдо» от Магомаева. Что тут началось: зрители потребовали продолжения банкета, громко скандируя: «Браво!» Магомаев исполнил на бис ту же арию. Но на русском языке. И вновь «бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию» (основная форма выражения экстаза у заполнивших Дворец съездов людей в хрущёвско-брежневскую пору).
Лишь один зритель не радовался успеху Муслима Магомаева – Иван Семенович Козловский. Он, как человек, привыкший смолоду заворачиваться в шерстяной шарф, пророчески изрек: «Этот парень совсем себя не бережет, если такую трудную арию повторяет на бис. Что же он будет делать дальше?» А вот что «парень» должен делать дальше, за Магомаева уже решила сидевшая в правительственной ложе рядом с Козловским Екатерина Фурцева: «Наконец-то у нас появился настоящий баритон. Баритон!» У нас – это широкое понятие, которое можно трактовать и как «у нас в Москве, в Большом театре». Только баритонов ей и не хватало – видимо, с тенорами и басами было все в порядке.
Давно Дворец съездов не видел подобного успеха, которому мог позавидовать даже дорогой Никита Сергеевич, культ которого к исходу его правления успел заметно укрепиться (Хрущёв работал в оригинальном жанре – театре одного актера, был автором прелестных скетчей и афоризмов про мать Кузьмы и других его близких родственников. Скандирования и крики после его пространных речей тоже были – но по заранее подготовленному сценарию и другого содержания). Поощрительными рецензиями на Магомаева откликнулась и центральная пресса: орган ЦК КПСС газета «Правда» высказалась в том духе, что на русском языке Магомаев спел Фигаро все же лучше, чем на итальянском (а что она должна была еще написать? С итальянской компартией отношения были хорошие, но своя – русскоязычная – партия ближе к телу!). Но не менее важным оказалось для молодого певца мнение билетеров Дворца съездов, много чего повидавших в его зрительном зале. «Мы, билетеры, – невольные свидетели восторгов и разочарований зрителей. Радуемся Вашему успеху в таком замечательном зале. Надеемся еще услышать Вас и Вашего Фигаро на нашей сцене. Большому кораблю – большое плавание», – написали они на память на программке исторического для Магомаева концерта.
А дальше вышло почти как в истории с Атлантовым. Нет, удостоверение, конечно, Магомаеву пока не вручили, а строго предупредили: «На завтра назначено ваше прослушивание в Большом театре!» Слова эти, произнесенные неким солидным товарищем, не предусматривали никаких возражений. А Магомаев, непонятливый, возьми и спроси: «Простите, а зачем?» – «Как зачем? Здесь находится директор Большого театра, сама министр культуры, другие ответственные товарищи. И мы решили…» – «Не хочу я в Большой! Поймите меня правильно. Я не дорос до такой сцены». – «А мы вас не солистом, а стажером…» Другой бы на его месте радовался, а он еще и артачится: «Я не хочу ни солистом, ни стажером. Я бакинец, я там живу, учусь и работаю».
Верные слова подобрал Магомаев, несмотря на свою молодость. Воспитание национальных кадров – так это тогда называлось. Существовала установка (тоже словечко эпохи) – не брать в Москву певцов и танцоров из национальных республик. По этой причине, кстати говоря, долго не мог пробиться в Большой театр Марис Лиепа: пусть развивают культуру у себя, там ведь тоже советские люди живут. Они ведь тоже в нашей советской системе, как говорил незадачливый капитан «Севрюги» из «Волги-Волги». Так что его отказ Фурцева могла расценить не как наглость, а как проявление хорошего воспитания: любит парень свою малую социалистическую родину!
Отказываясь от Большого, Магомаев на самом деле думал так: «Не мог же я сказать, что Большой театр – пучина, что я не буду там первым. Я понимал, что если приду туда, то ко мне будут относиться как к мальчику из Баку, который подает надежды. Коллеги начнут есть поедом, то есть будут интриги, а старики примутся советовать, что петь и как петь. А потом – в главном театре страны сразу придется входить в советский репертуар, который я, воспитанный на оперной классике, терпеть не могу». Короче говоря, история повторилась. Лучше быть первым в Баку, чем вторым, третьим где бы то ни было…
Уговаривали Магомаева и родственники, обосновывая это тем, что его отпускает в Москву сам первый секретарь компартии Азербайджана товарищ Ахундов. Слово «отпускает» очень характерно отражает повседневность эпохи – ведь человек не птица в клетке, которую выпускают. А на самом деле выпускали из одной клетки, чтобы посадить в другую…
А та декада 1963 года закончилась грандиозным концертом в Большом театре. Это был предпоследний год хрущёвского правления – сам Никита Сергеевич и его окружение присутствовали в зале, в правительственной ложе, где когда-то Сталин разговаривал с Рейзеном. Как и тогда, певца позвали в ложу, оказав огромную честь, только принимал его Хрущёв: «Просторная правительственная комната-гостиная наипервейшего нашего театра. Толкучка с фужерами и тарелками в руках – фуршет». Позвали покушать не только Магомаева, но и всю делегацию, он как молодой и скромный вперед не полез, вошел последним. Каким-то образом затесавшись в переполненное помещение, высокий Магомаев оказался рядом с бывшим ему по плечо Анастасом Микояном, не заметив его: «Молодой человек, Москву покорили и уже здороваться не хотите?» – «Извините, ради бога…» Получилось, как в фильме «Мимино»: «Здороваться надо, молодой человек!»
Наблюдения Магомаева позволяют сделать вывод, что ничего не изменилось за 30 лет в правительственной ложе: «Все вращалось вокруг Хрущёва: что бы ни делалось и ни говорилось, все старались угодить хозяину. Казалось, что собрались здесь не в знак дружбы двух великих народов, а исключительно ради Хрущёва. Ему то и дело подливали. Он раззадорился и перешел на воспоминания из военных лет. Никита Сергеевич любил козырнуть познаниями в разных сферах жизни. Хоть и дилетант, он умел подметить своим практическим умом ту или иную особенность, присущую предмету размышления. Азербайджанское музыкальное творчество держится на мугаме. А мугам – это такая экзотическая музыка, которая неискушенному слушателю может показаться рыданием. Все эти наши “зэнгюла” – трели с фальцетом, горловые и грудные рулады, перекаты – и вправду производят впечатление плача. И вот Никита Сергеевич стал рассказывать о том, как во время войны он встретил солдата-азербайджанца, который по вечерам, когда на передовой было спокойно, заводил свою песню-плач. “Слушай, что ты все время плачешь? – спрашивал я его. – Да нет, товарищ командующий, – отвечал боец, – я не плачу, а песню пою”. Тут Никита Сергеевич зашелся смехом и, сотрясая воздух коронным жестом – рукой со сжатым кулаком, – заключил свой рассказ: “Сегодня на концерте я понял, товарищи, что азербайджанцы действительно поют, а не просто плачут… Вот таков и будет мой тост во славу национального искусства”. – И хлоп очередную стопку».
«Нахлопавшийся» и объевшийся Хрущёв решил, наконец, послушать музыку, но не в зале, а прямо здесь. Первый (по популярности) певец Азербайджана Рашид Бейбутов решил спеть почему-то не ту, несшуюся из всех радиол песню про девушку, которая «с ума свела», а совсем другую. Совсем «случайно» ею оказался украинский «Рушник» – любимая песня Нины Петровны Хрущёвой, урожденной Кухарчук. Нам, конечно, интересно было бы тоже послушать, как это азербайджанский певец исполняет песню на украинском языке. Но получилось у него это хорошо – Хрущёв активно бил в ладоши, хотя ему в его состоянии могло понравиться все, что угодно, даже «Болеро» Равеля.
«Рушника» оказалось мало, пропустивший еще рюмашку Никита Сергеевич потребовал: «А теперь пусть споет наш комсомол!» Подразумевалось, что комсомол – это и есть Магомаев, который отродясь в этой организации – «верном помощнике партии» – не состоял. Но что петь? «Бухенвальдский набат»? «Хотят ли русские войны»? Микоян нашелся и говорит ему: «Спой итальянскую песню. Ты лучше всех такие песни поешь». И как только Микоян без знания итальянского языка смог это оценить! Магомаев тактично отшутился: «Итальянские песни надо петь под аккомпанемент, а поблизости нет рояля». И быстро сориентировался: «А давайте, товарищи, все вместе споем “Подмосковные вечера”!» Хрущёв не знал ни имени Магомаева, ни его фамилии, но выбор оценил: «А ну, Катя, иди подпой комсомольцу!» Катя – это министр культуры Фурцева. И Катя пошла – а что делать? И вместе с «комсомольцем» кое-как и с трудом дотянула до конца любимую песню Вана Клиберна, перевирая ее.
Магомаев подумал, что Фурцева до этого никогда в жизни на публике не пела, потому и всех слов этой песни не знала. Но он не прав. Она пела, да еще как, но дурно и совсем иной репертуар. И вела себя по-свински, как и ее любимый Никита Сергеевич. Об одном из эпизодов, когда в 1961 году в ресторане «Прага» обмывали на банкете свежеполученную Ленинскую премию, уже рассказывалось в нашей книге о советской богеме. Тогда сильно опьяневшая Екатерина Алексеевна в окружении Александра Твардовского, Григория Чухрая, Святослава Рихтера захотела спеть свои любимые «Купите бублики, горячи бублики». А Рихтера она заставила подыгрывать на расстроенном пианино, однако новый репертуар оказался ему не по зубам: «За что только тебе, Рихтер, мы дали Ленинскую премию?! Ты даже аккомпанировать толком не можешь!» Вот и получается, что и у Рихтера тоже бывало свое Ватерлоо!
Фурцева позволяла себе появляться в нетрезвом виде и на заседаниях художественного совета[18] Большого театра, причем уже с утра. «Совет начался обсуждением перспективного плана. Екатерина Алексеевна перебивала всех, сбивалась на “бабские” темы. [Главному дирижеру] Симонову вообще запретила открывать рот: “А вы сидите и молчите”. Вообще-то Екатерине Алексеевне нельзя было отказать в женском обаянии, и человеком она была совсем не глупым, по-своему любила артистов, помогала театру. Но что может быть отвратительнее пьяной женщины, да еще в сане министра?! Когда начал выступать главный балетмейстер Юрий Николаевич Григорович, Фурцева, не дав ему закончить первой фразы, прервала его и проговорила почти 30 минут обо всем на свете: об общих задачах, об ответственности перед партией и народом, о чулках и моде… А когда взгляд ее случайно упал на Григоровича и она попросила его продолжать, Юрий Николаевич остроумно отреагировал короткой фразой: “Ну вот, товарищи, собственно, и все, что я хотел сказать”», – свидетельствовал Тимофей Докшицер.
Эти эпизоды поведения министра весьма показательны. Все в нем аморально – и скотское отношение к деятелям руководимой ею культуры, и неумение вести себя на людях, и неуемное пьянство, ставшее основной формой досуга многих чиновников того времени (а ведь член ЦК КПСС! И какой пример она подавала остальным членам партии…). И все равно для Магомаева Фурцева так и осталась «лучшим министром культуры», быть может, по той причине, что он оказался ей не по зубам, как Атлантов. Тем не менее Магомаев не помнил Фурцевой зла – ведь она лично через несколько лет запретила ему выступать на сценах всего Советского Союза в течение полугода за слишком большой, по ее мнению, гонорар в 600 рублей, полученный певцом за концерт на стадионе в Ростове-на-Дону. Выступления на стадионах очень характерны для той эпохи. Туда собирали всех – и оперных певцов, и эстрадников, и хор Пятницкого.
Свободолюбивый нрав Магомаева позволил ему и впредь твердо стоять на своем. Когда после стажировки в Италии в 1964–1965 годах ему вновь предложили спеть в Большом театре (на сцене Кремлевского дворца съездов) в «Севильском цирюльнике», он отказался, мотивируя это тем, что без репетиции петь не может. Когда-то, лет за пять до того триумфального концерта в Москве, Магомаев пел для некоей советской примадонны. Имени ее он не называет. Тогда в Баку на гастроли приехал Большой театр. Его покровители устроили прослушивание, и та самая маститая певица, услышавшая из уст юного Муслима и куплеты Мефистофеля, и каватину Фигаро, подытожила: «Ничего особенного. Мальчик с хорошим голосом, и только». Этот случай – словно предзнаменование для Магомаева, что в Большом театре он служить не будет. Зато он пел в других театрах, в том числе в Баку – Азербайджанском академическом театре оперы и балета им. М. Ф. Ахундова, гастролировал по Советскому Союзу, принимая участие в постановках «Тоски», «Фауста», «Отелло», «Евгения Онегина» и др.
А покровитель у него был – почти всесильный Гейдар Алиев, возглавивший советский Азербайджан в 1970 году (до этого он руководил местным КГБ). Алиев по-отечески относился к певцу (родной отец Магомаева погиб в 1945 году под Берлином), помог ему с жильем, со званием: Магомаев стал народным артистом СССР, причем самым молодым в истории – в 31 год! И зачем ему Большой театр? Алиев горячо одобрил и женитьбу Магомаева на солистке опять же Большого театра Тамаре Синявской в ноябре 1974 года, предложив отметить это знаменательное событие в поезде Москва – Баку. В персональном вагоне первого секретаря азербайджанской компартии накрыли стол и поднимали тосты, пока поезд не достиг Тулы. В Туле Магомаев и Синявская сошли, за ними приехала машина, доставившая молодоженов в Москву. «Так потом и родилась эта традиция провожать Гейдара Алиевича (когда он куда-нибудь уезжал из Москвы) до Тулы. Это часа четыре поездом. За это время в его вагоне накрывали стол. Гейдар Алиевич был человек очень занятой, времени для обычных встреч и разговоров у него не было, а тут получалась невольная дорожная пауза. И мы откровенничали под стук колес…» – вспоминал Магомаев.
Можно было бы назвать Алиева и всесильным («Широко шагает Азербайджан!») без «почти», но был еще один человек в СССР, которого можно назвать главным поклонником Магомаева. Бывало, перед очередным правительственным концертом во Дворце съездов он интересовался: «А Магомаев будет?» – «Обязательно, Леонид Ильич!» – «Значит, хороший концерт, надо посмотреть». Леонид Ильич Брежнев обожал Магомаева, как и миллионы руководимых им сограждан. Популярность певца затмила славу всего Большого театра, вместе взятого. Магомаев жил на всю катушку, был очень гостеприимен, истинно радушен по-кавказски, многим помогал, мог накрыть столы для друзей сразу в нескольких ресторанах Москвы (а сам в это время выступал на концерте). В то же время – скромен, не кичился своей популярностью. Любил шампанское, много курил, отвечая на уговоры близких шуткой, что «от этого голос только крепчает». Долгое время (до женитьбы) у него не было своей квартиры в Москве. Приезжая с гастролей, он жил в одном и том же номере люкс в гостинице «Москва», а затем в гостинице «Россия».
Деньги у Муслима Магометовича (как и у Шаляпина) не задерживались, он и первую свою «Волгу» – мечту советского автомобилиста – купил в 1978 году. Правда, сразу пришлось менять ветровое стекло, но не в результате аварии. Приехав как-то на дачу к своему другу Владимиру Атлантову, Магомаев застал там Александра Ворошило, солиста Большого театра с 1975 года, снискавшего большой успех после исполнения роли Чичикова в опере «Мертвые души» Родиона Щедрина. У Ворошило своя «Волга» была впереди, а пока он попросил у Магомаева разрешения посидеть за рулем. Сидя в салоне, он включил «дворники», еще без резины, они-то и расцарапали стекло так, что его пришлось выбрасывать.
Магомаев ушел со сцены в самом расцвете сил, показав коллегам пример требовательного отношения к искусству – еще Утесов говорил, что лучше уйти на три дня раньше, чем на год позже (но далеко не все у нас это понимают и осознают, заставляя зрителей жалеть себя, состарившегося и безголосого). Он не забыт и после смерти – в 2011 году в центре Москвы в Леонтьевском переулке рядом с домом 14, где он жил в 1982–2008 годах, открыли памятник. А в 2017 году на этом же доме открыли памятную доску певцу, в этот день Тамара Синявская сказала: «У меня вообще возникла дерзкая мысль: не назвать ли Елисеевский переулок, на который выходит угол нашего дома, Магомаевским?» Мысль интересная, но если бы это случилось, то наверняка с переименованием могла бы не согласиться вдова другого известного музыканта – дирижера Евгения Светланова, жившего когда-то в Елисеевском переулке. Впрочем, о нем мы расскажем в другой главе…
Труден путь на сцену Большого театра. И иногда, преодолевая тернии, артисты готовы идти на любые жертвы… Конец 1950-х годов. Подмосковье. Коломенское артиллерийское училище. Молодой курсант, отличник боевой и политической подготовки, стоит на посту. Ночь. Улица. Фонарь и… корова, оказавшаяся каким-то образом в ближайших кустах под видом диверсанта. Курсантик ей: «Стой, кто идет?» А корова знай себе прет через заросли. И тогда курсантик, досконально изучивший порядок несения караула, командует: «Стой, стреляю!» И стрельнул, и убил не знающую устава дойную корову.
«Что за стрельба, браток, ну прям как на фронте!» Давно не случалось ничего подобного в училище: немцев-то уже, почитай, как лет пятнадцать от Москвы отогнали, а тут – корова-диверсант! А если бы не корова? А если и вправду лазутчик вражеский? Что ему, промычать сложно, что ли? Короче говоря, за образцовое выполнение задания командования курсанта премировали десятью сутками отпуска. И поехал он в Москву, ту самую, что в 1957 году не захотела ему, сибирскому пареньку, «дать место в лоне своем» (выражение молодого Шостаковича, когда-то покорявшего столицу). Он ведь поначалу не артиллеристом быть хотел (тем, кому «Сталин дал приказ»), а артистом. Но ни в «Щепку»[19], ни в «Щуку»[20], ни в ГИТИС не прошел. С горя и ушел служить и петь в армейской самодеятельности.
Солдат спит, а отпуск идет. И вот ходит-бродит курсант-артиллерист по городу-герою, любуясь результатами ратного и мирного труда советских людей – высотными зданиями, самым красивым в мире метро, – ест вкуснейшее московское мороженое, которое прямо с лотков продают. Народу кругом – тьма, все спешат, мимо идут. Смотрит: что такое? Где это он оказался? Полно конной милиции и дворец какой-то огромный, с колоннами. Ну как Дом культуры в его родном Норильске, только поменьше. А наверху, на крыше, – дядька на колеснице «коней своих нагайкою стегает». Подошел он к колонне, спрашивает у какой-то девчушки: «Девушка, это где я?» – «Да ты что, парень, обалдел? Это же ордена Ленина Большой театр Союза ССР!» – «Да что ты! А чего тут играют?» – «Здесь, милок, не играют, а поют и пляшут. А столпотворение такое потому, что сейчас “Кармен” давать будут. Сам Дель Монако приехал!»
А дальше – как в сказке. Девушка каким-то чудом провела курсанта на галерку, с которой он впервые и увидел знаменитого итальянского тенора Марио Дель Монако, обладателя редкого голоса, которому приписывали уникальную способность разбивать стеклянный бокал с десяти метров и вызвать оргазм у юных дев. Шла опера «Кармен» Жоржа Бизе. Итальянец пел партию Хозе, а главную героиню – Ирина Архипова. И кто бы мог подумать, что пройдет лет десять, и в роли Хозе на сцене предстанет тот самый курсантик, а на афише будет его имя – Владислав Пьявко. А Ирина Архипова станет его супругой. Неисповедимы пути Господни…
Тяга артиллериста к главной сцене окажется настолько сильной, что случайно убитая им корова покажется цветочками. Давно обросшая легендами история Владислава Пьявко в переложении журнала «Огонек» выглядит словно детективный роман, а точнее полоса препятствий (если говорить по-военному). В ней есть все – и самоволка, и благословение министра обороны СССР Малиновского: «Тебе, сынок, петь надо, а не служить!», а еще визит к самому маршалу в его московский кабинет со словами: «Хочу петь!» Только хотел маршал лейтенанта под трибунал отправить, а тот ему и напомнил его же пророческие слова и даже запел. Малиновский, который на войне и не такое видел, пожалел талант: «Пиши рапорт, уволим подчистую. Но пока не демобилизовался, посидишь на губе. За самоволку». Такая, понимаешь, музыкальная история.
В 1960 году Владислав Пьявко поступил в ГИТИС, по окончании которого был принят в стажерскую группу Большого театра, успешно пройдя прослушивание в его Бетховенском зале. Через год, как и положено, он стал солистом театра. Как и положено, первый блин – дебют Пьявко на оперной сцене – вышел комом. Молодому тенору доверили маленькую партию Распорядителя в «Пиковой даме». От волнения артист перепутал слова, прибежав в гримерку, он отказался выходить на сцену. Но затем по-армейски взял себя в руки и закончил роль. Дирижер Борис Хайкин тогда сказал, чтобы больше Пьявко в его оперы не ставили. Прошли годы… Сидят Пьявко и Хайкин на кухне в квартире в Брюсовом переулке, выпивают, а Хайкин и говорит: «Владик, запомни, навалить на сцене может каждый, а убрать за собой дано не всем. Ты – сможешь!» На всю жизнь запомнил столь высокую оценку своего таланта Владислав Пьявко. С успехом выступал он на сцене Большого театра до 1989 года. В 1970 году завоевал вторую премию на IV Международном конкурсе им. П. И. Чайковского (разделив ее с Зурабом Соткилавой), много пел за рубежом, получил высшее звание народного артиста Союза ССР. Родион Щедрин специально для него написал партию Ноздрева в опере «Мертвые души», на которую артист настраивался весьма оригинально. Незадолго перед выходом на сцену в образе Ноздрева, Пьявко бегал за кулисами, хватая за мягкие места подвернувшихся ему женщин. Одна из них не оценила задумку певца, написав на него заявление в дирекцию. В итоге после премьеры Пьявко получил не только аплодисменты, но и строгача.
А вот кого точно не прослушивали в Бетховенском зале, так это артиста цыганского театра «Ромен» Бориса Буряце, которого сразу взяли на работу – по большому блату. Его (кстати, казначея цыганской общины), против обыкновения, зачислили в Большой театр не по решению конкурсной комиссии или художественного совета театра, а в качестве «солиста оперы второго положения» на основании письма Министерства культуры РСФСР. Главной почитательницей Бориса была Галина Леонидовна Брежнева – дочь генерального секретаря ЦК КПСС, она же его и «прослушала». В театре это неожиданное решение было воспринято сдержанно, а с другой стороны, как-то разбавило устоявшуюся на некоторое время спокойную атмосферу в этом своего рода живом музее народных артистов СССР: ну надо же, такого еще не было!
Записные остряки радовались тому, что кремлевская принцесса пристроила в театр только лишь любимого певца, а могла бы еще «порекомендовать» и какого-нибудь танцора из Ансамбля песни и пляски Московского военного округа (но танцор у нее уже был – Марис Лиепа). Партком театра разрешил трактовать появление певца с новой и необычной фамилией как торжество ленинской национальной политики. В самом деле, страна у нас многонациональная, так почему же на ее главной сцене не могут быть представлены лучшие сыны и дочери населяющих ее народов? Пусть поют и пляшут артисты с разными фамилиями – русские Атлантов и Вишневская, евреи Рейзен и Хромченко, украинец Ворошило, грузины Соткилава и Анджапаридзе, армянин Лисициан, тот же латыш Лиепа. А теперь вот цыган. Что здесь плохого? «Нет у нас ни черных, ни цветных», – поется в известной песне, не раз исполнявшейся по партийным праздникам в Большом театре его солистами.
Певец Вячеслав Войнаровский – приглашенный солист Большого театра – очень переживал, что не был принят в его труппу в 1977 году именно из-за Буряце. Войнаровский находился на гастролях в Японии и не смог быть на репетициях в театре: «Мои партии отдали Буряце. Боря, и все это понимали, мог выбирать любые партии, но он никогда не брал первые, а только маленькие. И был прав: в цыганском театре “Ромэн” Борис был бы бог и царь, но не в Большом». Маленькие «выходные» роли на театральном жаргоне называют «моржами» – исполняющий их артист появляется или «высовывается» на сцене ненадолго. В спектаклях Большого театра «высовывался» Буряце в «Мертвых душах» Щедрина, «Чио-Чио-сан» Пуччини, «Каменном госте» Даргомыжского. Но и к моржам приходит звездный час, если у них есть преданные моржихи. В мае 1981 года усилиями Галины Леонидовны Борису доверили петь совсем не рядовую партию: отравителя Бомелия в опере «Царская невеста» Римского-Корсакова. Премьера Буряце прошла на сцене Кремлевского дворца съездов, выполнявшего роль второй сцены Большого театра и вмещавшего шесть тысяч командированных, а также москвичей. Главной зрительницей предполагавшегося успеха Ромео, естественно, стала его Джульетта – «Я в восьмом ряду, меня услышьте вы, маэстро!». Но Галина Леонидовна уселась не в восьмом, а в первом ряду, захватив с собой и разномастных друзей из гастрономическо-артистического окружения: «Наш Боречка сегодня поет главную роль!»…
В поучительной опере «Царская невеста» авантюрист и алхимик Бомелий требует от несчастной Любаши любви взамен на отраву, которой та задумала погубить соперницу Марфу. Похотливый Бомелий обещает ей: «Для девушки пригожей на все, на все готов». И Любаша соглашается, лишь бы Григорий Грязной был с ней, а не с другой. На что только не идут женщины ради любви, и не важно, кто они – царские невесты или простые смертные, – так и Галина Леонидовна была готова на все ради Бориса. Любительница застольных песен и танцев под мотив «Очи черные», она впервые увидела его в театре «Ромэн» – «блестящего денди, одетого в каракулевое пальто, пошитое в талию, и в каракулевой шапке». Увидела и влюбилась. Помогла ему окончить ГИТИС чуть ли не с красным дипломом (хотя на занятиях по истории партии его не видели), затем пристроила в Театр оперетты. Это ничего, что Буряце даже не учился в консерватории (ну и что? Вишневская тоже «академиев не кончала»), любовника Брежневой, благодаря ее могущественным связям, приняли в Большой театр по звонку – в те годы это называлось «позвоночной системой». В ходу у номенклатуры было и другое выражение – «спинотехника», имелось в виду хождение в баню с большими начальниками, где и принимались нужные решения. А можно было просто пригласить нужного человека в престижный московский ресторан.
Коллеги по театру оценили исполнение Буряце в «Царской невесте» как вполне сносное, как и положено, он накрыл поляну для участников спектакля, но сам на банкете не присутствовал, уехав в ресторан Дома актера с Галиной Брежневой отмечать премьеру. Там певец обнаружил пропажу своего огромного перстня. Вернувшись во Дворец съездов, он нашел его в гримерке. У певцов Большого театра о Буряце остались в основном также приемлемые впечатления: «Он никогда, если не считать шикарных нарядов, перстней и шуб до полу, не пытался противопоставить себя остальным солистам, был достаточно скромен в коллективе и много времени мог потратить, готовя ту или иную роль. Мне он запомнился как очень приветливый и доброжелательный парень, не жадный. Мог запросто одолжить кому угодно любую сумму. Правда, не особенно заботясь о том, чтобы ее своевременно, а то и вообще вернули. Без конца одаривал костюмеров и гримеров театра. А еще – об этом помнят все – никогда не снимал свои бриллианты и крест», – говорит певец Александр Архипов.
Роль Бомелия, судьба которого весьма незавидна (Иван Грозный велел поджарить его на сковородке), оказалась для Буряце последней – и потому символичной. В январе 1982 года его арестовали за спекуляцию дубленками и билетами в Большой театр, которые он якобы загонял иностранным поклонникам «Лебединого озера» за доллары. Так что из Большого театра он ушел по-плохому, попросту говоря, даже не вылетел, а присел. А о том, как вылетали из театра, пойдет речь в следующей главе.
Глава вторая. Иван Семенович меняет профессию: Как вылетают из Большого театра
Уйти из Большого театра тяжелее, чем поступить в него.
Борис Покровский
Галина Вишневская: через тернии к звездам – «Примадонна?» – Прослушивания в Бетховенском зале – Наезд на Максакову – Мстислав Леопольдович «Буратино» – Огнивцев, внебрачный сын Шаляпина – Квартира в сталинской высотке – Из коммуналки в кооператив – Евгений Нестеренко: «Скатертью дорога!» – Три увольнения Николая Голованова – «Севильский цирюльник дыбом» – Отречение Бориса Покровского – Когда пели только на русском языке… – Скрипач-эмигрант Артур Штильман – Всего четыре антисемита на всю оркестровую яму! – Реентович и «Большая скрипка Большого театра» – Буфет с икрой и рыбкой – Невозвращенец-комсорг Александр Годунов и его жена Людмила Власова – Старая дубленка Алексея Ермолаева – Злосчастный рейс Нью-Йорк – Москва – Американская трагедия – 1941 год: побег Ивана Жадана – Солисты Большого поют для немецких офицеров – Фельетон про Козловского – Заоблачные гонорары – Заслуженная пенсия народных любимцев – Ария с петлей на шее – Конец золотой эпохи
Первых партий немного – но даже на них в Большом театре стояла очередь из народных артистов. Гораздо больше возможностей проявить себя у тех, кто исполняет партии второго и третьего ряда. Им не надо давать квартиры и умалять переехать из другого города. И заняты они в театре чаще. После окончания войны по крупным городам Советского Союза разъезжали его солисты в поисках талантливой молодежи. В разных концах страны, будь то Новосибирск, Минск или Одесса, организовывались прослушивания – конкурсы в стажерскую группу Большого театра. Творческие соревнования проводились в три этапа – первый на месте, а второй и третий непосредственно в Большом театре. Повесили такое объявление и в Ленинграде, на Доме актера. И вот идет мимо молодая певица, солистка областной филармонии, что выступала по колхозам да по замызганным домам культуры с песнями советских композиторов. Увидела объявление, а вокруг него народ толпится из таких же, как и она. Остановилась и спрашивает: «Что такое стажеры, вы не знаете?» – «Это молодежная группа. Сегодня уже третий день конкурса», – отвечают ей добрые люди. И решила она спеть, несмотря на то что предварительно не записывалась.
Жюри возглавлял знаменитый тенор Большого театра Соломон Маркович Хромченко (еще один певец-долгожитель: пел в Большом в 1934–1956 годах, в 1991 году выехал в Израиль, где продолжил вокальную карьеру, умер в Москве в 2002 году на девяносто пятом году жизни). Перед ним и щеголяли своими вокальными данными выпускники Ленинградской консерватории им. H. A. Римского-Корсакова. Прослушивание было организовано традиционно: если голос после первого исполнения нравится – просят еще что-нибудь спеть, если нет – идите с миром! А певица наша даже в консерватории не училась, только музыкальную школу окончила. Но голос у нее был особенный. Взяв приступом жюри, она заставила Хромченко себя прослушать, причем без записи. Спела романс Рахманинова, а затем «Берег Нила» – арию Аиды из одноименной оперы. Тут Хромченко рот и открыл: «Кто такая? Откуда?» – «Вишневская, Галя. Консерваторий не оканчивала. Брала частные уроки. Пою в концертах, раньше четыре года пела в оперетте».
Немало удивив Хромченко «опереттой», Вишневская прошла на второй тур. Через неделю телеграммой пришел вызов из Москвы – из филармонии по-иному не отпустили бы. Таково было незыблемое советское трудовое законодательство. Педагог Вишневской Вера Николаевна Гарина напутствовала ее: «В день конкурса встань пораньше, хорошо поешь, в театр иди часа за два до начала. Походи по сцене, чтобы почувствовать атмосферу зала, кулис. Распевайся в течение часа, ни с кем не разговаривай. Сосредоточься только на том, что будешь петь. Пой только “Аиду”… Ты не студентка, ты артистка. Выйдешь с арией Аиды – покажешь в ней сразу все: и диапазон, и владение голосом, и профессиональную выносливость. С Богом!»
Сев в поезд, наутро Вишневская прибыла в Москву. Человек честолюбивый, как и большинство артистов, она вполне себе представляла главную цель поездки: «Большой театр, мечта каждого артиста в Советском Союзе! Я стою перед ним и не могу разобраться в своих мыслях, настолько фантастично все, что произошло со мной. Но чувствую, что этот монументальный колосс не пугает меня. Наоборот, я полна решимости и сил, я готова бороться за свое место в нем. Да, да – из провинциальных клубов, из нищеты, без специального музыкального образования. Оружие мое – мой голос, талант, молодость, и я вступаю в борьбу за самое высокое и почетное положение, какое только есть в этой стране. Меня закалила жизнь, и я должна выйти победительницей».
«Закалила» – не то слово: чуть не умерла в блокаду, перенесла туберкулез, отец в ГУЛАГе, и вот с такой биографией она появилась в Бетховенском зале Большого театра. Бетховенским он стал в 1921 году по случаю 150-летия любимого композитора Ленина, автора «нечеловеческой музыки». Нарком Анатолий Луначарский в те дни так и сказал: «Бетховен поможет нам построить коммунизм». А до 1917 года здесь было Императорское фойе. Как и зрительный зал, фойе украшали красивейшие бронзовые люстры, усеянные пятью тысячами хрустальных подвесок (для чего использовали два десятка видов хрусталя). Фойе было роскошным, обретя свой неповторимый облик в 1896 году. Тогда в Москве готовились к коронации нового самодержца российского Николая II и встрече царской семьи, которая непременно должна была посетить Большой театр. По этому случаю фойе существенно обновили, потолочную роспись заменили декоративными розетками из папье-маше, а из Франции заказали дорогую шелковую ткань оттенка «раскаленного чугуна». Этой тканью драпировали стены фойе, а также изготовили дюжину панно, на которых шерстяной нитью в шесть цветов были вытканы причудливые узоры (в стиле Людовика XV), состоявшие из гербов Российской империи, растений и архитектурного декора. При большевиках, чтобы избавиться от ненавистных двуглавых гербов и витиеватых монограмм императора, их просто-напросто вырезали ножницами из дорогущей атласной ткани. На их место налепили заплатки с цветочками. А в 1970-х годах окончательно испортили ткань химчисткой, итогом чего стало разрушение тканевого слоя, к концу века утраченного почти наполовину.
Вот в таких совсем не бетховенских условиях собрались на прослушивание все солисты труппы. В жюри – Максакова, Давыдова, Шпиллер, Ханаев, Лемешев, Козловский, Рейзен, Пирогов; дирижеры Голованов (главный!), Небольсин, Кондрашин. И, конечно, Покровский – главный режиссер Большого… Аплодировать конкурсантам было не принято. Но Вишневская нарушила традицию: «Поднялась на эстраду… и захотелось мне запеть – на весь мир! Чтобы повсюду меня слышали! В одну эту арию я вложила столько эмоций, вдохновения, что хватило бы на целую оперу. Было во мне какое-то внутреннее торжество – мне казалось, что я иду, а передо мной раздвигаются, падают стены… Хочется петь еще… еще… Но вот отзвучала последняя нота… Тишина… и вдруг – аплодисменты! А я не могу опомниться, вернуться на землю из своих облачных далей, во мне все трепещет».
Если во втором туре конкурсанты пели в Бетховенском зале под фортепьянный аккомпанемент, то третий – с оркестром и уже в здании филиала театра на Большой Дмитровке. После второго тура к Вишневской подошел Никандр Сергеевич Ханаев: «Да не волнуйся, ты уже прошла на третий тур! Через три дня будешь петь с оркестром. Но запомни на всю жизнь: у тебя во время пения перед глазами всегда должен быть стоп-сигнал. Знаешь, как у машин сзади? Красненький такой огонек… Иначе с твоим темпераментом на сцене костей не соберешь». Участливые советы артистов старшего поколения своим молодым коллегам были тогда нормой, как и то, что их внимательно, с большой охотой и уважением слушали.
В третьем туре оркестром дирижировал молодой Кирилл Кондрашин: «Не волнуйтесь, я вам покажу все вступления, вы только на меня смотрите. Желаю удачи». Перед выступлением подошел Ханаев: «Я тебе скажу по секрету: уже есть решение принять тебя. Пой – не робей!» Так и вышло. После партии Аиды оркестр устроил Вишневской оглушительную овацию. В итоге она победила. Ее взяли в театр в стажерскую группу на один год, после истечения этого срока должны были включить в основной состав. Спасибо в том числе и Ханаеву – непревзойденному Шуйскому в «Борисе Годунове». Впоследствии таким же образом – после прослушивания перед жюри из Большого театра в Тбилиси – в стажерскую группу попадет Маквала Касрашвили.
Советы о том, как лучше петь и вести себя на сцене, очень полезны. Но вот кто научит жизни? Впервые оказавшись в таком важном и режимном учреждении, Вишневская и подумать не могла, что пройти в третий тур, обойдя почти 250 соперников, это еще полдела. Главное – заполнить анкету в двадцать с лишним страниц, доскональные вопросы которой могли поставить в тупик и более умудренного человека, например такой: «Были ли Вы или Ваши ближайшие родственники в плену или оккупации в период Великой Отечественной войны?» Или: «Чем занимались члены семьи до 1917 года? Владели ли недвижимостью? Где появились на свет все родственники до седьмого колена? Кем работают? Где похоронены, если умерли? Живет ли кто из родных за границей, а если живет – степень родства и чем занимается» и т. д. Само собой, имелся и актуальнейший вопрос о сидящих в тюрьме родственниках. У Вишневской по 58-й статье репрессировали отца, при заполнении анкеты она благоразумно сей факт скрыла, написав, что он пропал без вести на фронте. Попробуй проверь, ведь девичья фамилия ее Иванова – а Ивановых воевало и пропало (как и сидело!) столько, что хоть пруд пруди.
Не стоит забывать и о том, что само сокрытие Вишневской столь важного для того времени обстоятельства грозило ей (в случае чего) самыми серьезными последствиями. Ее бы потом в районный Дом культуры не взяли. Не зря же освободившийся после смерти Сталина отец певицы, зная о грозящей ей каре, специально явился в отдел кадров театра, чтобы сообщить о самом факте обмана. Он был настолько правоверным коммунистом, что, оттрубив по доносу большой срок, все равно был уверен – партия не ошибается, а все, кто врет в анкете, включая его родную дочь, должны быть привлечены к самой строгой ответственности.
Отдел кадров Большого театра (руководимый сотрудником компетентных органов) размещался на той же площади Свердлова, но в левом крайнем здании, где и по сей день выход из станции метро «Театральная». Туда и понесла Вишневская анкету на проверку. Там, вероятно, не слишком тщательно всё прочитали и свою согласительную визу через три месяца поставили. А второго победителя конкурса, тоже ленинградца, Виктора Нечипайло, проверяли два года, так как он в анкете правду написал – что во время войны четырнадцатилетним мальчишкой жил на оккупированной Украине.
Но и проверка в отделе кадров – еще не всё. Молодой певице надо где-то жить. Вот тут-то она и вспомнила вопрос, заданный ей еще на конкурсе: «Вы из Ленинграда? В Москве родственников, квартиры, где жить, нет?» Большой театр квартиру не предоставлял, если, конечно, принятая на работу артистка не была знаменитой балериной. Было общежитие, где молодые артисты и жили. С трудом тогдашнему мужу Вишневской – Марку – удалось обменять Ленинград на Москву, одну комнату на другую. Поселились они в бывшем доходном доме на углу Столешникова переулка и Петровки: «Всю свою жизнь я прожила в коммунальных квартирах, но такого ужаса, как наше новое жилище, не видела. Когда-то, до революции, это была удобная семикомнатная квартира, рассчитанная на одну семью. Теперь ее превратили в набитый людьми клоповник. В каждой комнате жило по семье, а то и две семьи – родители с детьми и старший сын с женой и детьми. Всего в квартире человек 35 – естественно, все пользовались одной уборной и одной ванной, где никто никогда не мылся, а только белье стирали и потом сушили его на кухне. Все стены ванной завешаны корытами и тазами – мыться ходили в баню. По утрам нужно выстоять очередь в уборную, потом очередь умыться и почистить зубы… В кухне – четыре газовые плиты, семь кухонных столов, в углу – полати (там жила какая-то старуха), а под полатями – каморка, и в ней тоже живут двое.
Когда-то квартира имела два выхода – парадный и черный, через кухню. Так вот, черный ход закрыли, сломали лестницу, сделали потолок и пол, и получилась узкая, как пенал, десятиметровая комната с огромным, во всю стену, окном во двор и цементным полом. Вот в этой “комнате” на лестничной площадке мы и поселились с Марком. Входить к нам нужно было через кухню, где с шести часов утра и до двенадцати ночи гремели кастрюлями у газовых плит десяток хозяек, и весь чад шел в нашу комнату. Но я не воспринимала свое положение трагически. Намотавшись всю зиму по чужим углам, я даже чувствовала себя счастливой: разрешили московскую прописку, есть крыша над головой, до театра – три минуты ходьбы. Мы втиснули в нашу комнату диван, шкаф, стол, четыре стула и взятое напрокат пианино». В этом клоповнике Вишневская и работала над своей коронной партией Татьяны в «Евгении Онегине», прожив там четыре года, уже будучи ведущей солисткой Большого театра.
Поступив в Большой театр в 25 лет, Вишневская прослужила в нем более трех десятилетий, добившись самого высокого положения, получив и высшее звание народной артистки СССР, орден Ленина, а главное – возможность выезжать за границу и петь там на лучших сценах мира, чего были лишены представители предыдущего поколения артистов Большого. Пришло к ней и международное признание. Счастливым оказался и брак с виолончелистом Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем – дело не только в любви и взаимности, но и в другом – муж Галины Павловны не работал постоянно в Большом театре, а лишь приглашался на отдельные постановки как дирижер. Сие обстоятельство избавило их от побочных и часто негативных последствий таких вот творческих союзов, когда супруги работают вместе: она – певица, а он – дирижер, всюду ее протежирующий. Или другой вариант: он – балетмейстер, а она – балерина, танцующая все главные партии. На первый взгляд такие браки удачны, но ведь театр – это не семья, там работают и другие не менее достойные артисты, претендующие на первые партии в операх и балетах. И у них тоже есть поющие и танцующие жены-мужья, готовые бороться с «семейственностью», «групповщиной», «делячеством» – это всё словечки той эпохи, наполнявшие многочисленные письма (и анонимки) в партком Большого театра, в ЦК КПСС и Министерство культуры. Развит был и еще один жанр – открытые письма в газету, когда внутренние конфликты (не обязательно творческие) выносились на всеобщее обсуждение и обозрение. В общем, как сейчас по телевизору…
Галину Павловну не заподозришь в недооценке своей роли в истории мирового вокального искусства: «И все же, будь я неопытной, начинающей артисткой, этот театр мог бы постепенно сломать меня, и в этом случае я бы пополнила собой ряд хороших певиц, но не стала бы индивидуальностью, создательницей нового стиля исполнения женских ролей на сцене Большого театра. С моим появлением быстро изменились требования дирижеров, режиссеров – все хотели, чтобы исполнительница молодых ролей соответствовала им всем комплексом своих творческих данных. Излишняя полнота стала явным препятствием к карьере. К моему приходу в труппе числилось пятнадцать сопрано моего амплуа. Многие из них видели во мне нарушительницу их благополучного спокойствия, их раздражала моя смелость и настойчивость в искусстве и в жизни. Уже начались разговоры о том, что у меня тяжелый характер, что я резкая, несговорчивая…»
Первой, кого «Галька-артистка» поставила на место, оказалась та самая Мария Максакова, что вместе с другими корифеями хлопала ей на прослушивании в Бетховенском зале. Многолетняя Кармен Большого театра только потом поняла, как ошиблась. Максакова сказала молодой строптивой певице, что не хотела бы с ней не то что петь на одной сцене, а даже жить в одном общежитии. Вишневская пригвоздила ее: «Но вам это совершенно не угрожает, Мария Петровна, вы на пенсию уходите!» И ведь ушла, даже еще быстрее после этих слов.
Вишневская быстро раскрутилась, говоря сегодняшним языком. На дворе – оттепель, в Москву, в Кремль наезжают разные иностранные делегации, встречаются с новым-старым советским руководством. Культурная программа переговоров такая: «Жизель» или «Лебединое озеро» в Большом театре, прием с банкетом, например в «Метрополе». Почему балет – понятно, иностранцы ведь, а язык танца ясен всем, даже глухонемым. С оперой сложнее – в Большом театре они исполнялись только на русском языке, все, от Бизе до Гуно. Такова была установка – пели-то для советских зрителей, на гастроли не ездили.
Слава взошедшей звезды Большого театра довела Вишневскую до дипломатических приемов. Это считалось огромной честью, которой нельзя было пренебрегать, да и глупо: после Сталина привилегий стало меньше, а на приемах хорошо кормили и поили. Весной 1955 года на один из банкетов в «Метрополе» позвали Галину Павловну. И вот сидит заслуженная артистка РСФСР (только-только получила звание), бутерброд с икрой ест. И подходит к ней какой-то незнакомый молодой мужчина, здоровается. Не сказать, чтоб красавец писаный – лысина намечается, нос как у Буратино, очкарик, смешной довольно-таки. В общем, у них в Большом мужчины и повиднее есть. Но обаятельный. Подсаживается за столик, шутит, анекдоты травит, на Вишневскую поглядывает. А она на него ноль внимания. Тогда он взял яблоко из вазы и через стол ей покатил – как в древнегреческом мифе про суд Париса… А потом еще и навязался провожать Вишневскую до дома, где ее муж ждал. И конфеты на прощание подарил шоколадные, а она их не любила, но муж их съел. Так в «Метрополе» впервые и встретились Галина Вишневская и Мстислав Ростропович.
Ростропович был заметно похож на Сергея Прокофьева – этим сходством он гордился. Он вообще легко сходился с людьми, сразу переходя на «ты», особенно с композиторами: «Старик, посвяти мне чего-нибудь!» И «старики» посвящали – Шостакович, Бриттен, Мессиан, Прокофьев. 8 июня 1955 года Мира Мендельсон (вдова Сергея Прокофьева) отметила в дневнике: «Заходил Слава Ростропович. Рассказывал о громадном успехе Виолончельного концерта в Праге. Музыкант он, конечно, большой. Слава влюблен в певицу Г. Вишневскую, с которой он познакомился в поездке. По его словам, она влюбилась в него без памяти». Вскоре они поженились и жили вместе долго-долго, а дома она его звала «Буратино» (имя Мстислав показалось Галине Павловне слишком сложным для произношения).
А Вишневская все жила в своей коммуналке. В 1952 году – когда она только поступила в театр – Большому выделили несколько квартир в сталинской высотке на Котельнической набережной. Само собой, ей туда прописка была заказана. Впоследствии в высотке получили квартиры более достойные: от балета – Уланова, от оперы – бас Александр Огнивцев, с которым Галина Павловна не раз выступала в одних постановках. Записи Огнивцева часто передавали по радио и телевидению, он находился в самом расцвете сил. За спиной певца говорили о том, что этот высокий красавец внебрачный сын Шаляпина – уж так был похож и статью, и голосом! Баритон Алексей Иванов открыл как-то страшную тайну своему приятелю и писателю-антисемиту Ивану Шевцову: «Он ведь детдомовец. Родителей своих не знает. А между прочим, у Шаляпина был импресарио Пашка Агнивцев. И фамилия у Александра до прихода в Большой театр была тоже Агнивцев. Это Голованов переделал ему “А” на “О”. Николай Семенович говорил: не театральная у тебя фамилия: Агнивцев-Говнивцев. Огнивцев – это звучит!» В одном прав Иванов – с Павлом Агнивцевым Шаляпин приятельствовал, с ним-то он и приехал в Москву в 1894 году. Агнивцев спас его от голодной смерти, платил за него в трактирах[21].
Квартира Огнивцева напоминала музей, да и только. На стенах Айвазовский, Маковский, Мясоедов и даже «Иисус Христос у Мертвого моря» Ивана Крамского, авторское повторение. По углам – старинная мебель, наполненная серебром, хрусталем и фарфором, принадлежавшими до 1917 года чуть ли не императорской семье. Интерьер свидетельствовал о высоком положении хозяина квартиры – одного из первых солистов Большого театра, народного артиста СССР, лауреата Сталинской премии I степени 1951 года за исполнение партии Досифея в «Хованщине». Эта роль и стала первой для него в Большом театре, куда он, выпускник Кишиневской консерватории, попал в 1949 году. Голос Огнивцева очень понравился Антонине Неждановой, некоторое время до этого заметившей молодого певца на Всесоюзном смотре вокальных факультетов консерваторий в Москве. Огнивцев пел в Большом три десятка лет, его соперником был другой бас – Иван Иванович Петров, «благодаря» которому Александр Павлович редко попадал в премьерные составы. Лишь уход Петрова из театра в 1970 году позволил перейти Огнивцеву на первые позиции. Огнивцев ушел из жизни в 1981 году после тяжелой болезни. Ему был всего 61 год[22].
Московская квартира Галины Улановой в сталинской высотке на Котельнической набережной больше походила на музей
А Галине Вишневской квартиру на Котельнической набережной не дали, к счастью, у ее любимого «Буратино» – Мстислава Ростроповича – была кооперативная квартира в Брюсовом переулке. На фото – счастливая советская семья певицы и музыканта
На такую квартиру, как у Огнивцева, Вишневской заработать было нельзя – только заслужить, вот станет народной СССР – тогда быть может (если партком одобрит!). К счастью, ей не пришлось решать жилищную проблему. Свою молодую жену Ростропович привел в новую квартиру в знаменитый дом для музыкальной богемы в Брюсовом переулке, 8–10, в ЖСК «Педагог Московской консерватории». Этот дом стал строиться еще при Сталине – вождь сделал исключение для своих любимых артистов. Тогда кооперативы были редкостью. Ростропович внес в кооператив всю свою Сталинскую премию. Здесь жили в разное время Георгий Свиридов, Арам Хачатурян, Дмитрий Кабалевский, скрипач Леонид Коган и др.
«Головановский» дом Большого театра в Брюсовом переулке увешан мемориальными досками по всему фасаду
Николай Голованов тратил все деньги на картины. В Музее-квартире Н. С. Голованова. Москва. Брюсов переулок
«Впервые в жизни, – рассказывала певица, – уже будучи известными артистами, мы со Славой очутились в собственной квартире, без соседей, и получили возможность закрыть за собой дверь. Четыре большие комнаты, ванная, кухня – и все это только для нас! Привыкнув всю жизнь ютиться в тесноте, в одной комнате, мы ходили здесь, как в лесу, и искали друг друга. У нас не было буквально ничего – ни мебели, ни посуды. В тот же день я пошла в магазин, купила несколько вилок, ножей, полотенца, простыни, тарелки. Новоселье справляли, сидя на полу, потому что ни стола, ни стульев не было. Так начинали мы свою самостоятельную семейную жизнь. В те годы трудно было купить мебель – в магазинах хоть шаром покати, приходилось записываться в очереди, ждать несколько месяцев. Слава дал кому-то взятку, чтобы купить столовый гарнитур, и мы были счастливы, что наконец-то можем обедать, сидя за собственным столом».
В начале 1956 года молодожены позвали друзей на новоселье: «Блины у Ростроповичей. Новая квартира», – отметила 9 января Мира Мендельсон (Галина Павловна любила угощать гостей блинами с зернистой икрой – на долгие «дефицитные» годы это станет очень удобным блюдом, особенно для приема иностранцев, накормить которых до отвала подобным образом окажется проще простого). Но радость артистов была преждевременной, то, что они въехали в собственную квартиру, за которую заплачены деньги, еще ничего не значило. Для проживания в ней нужен был ордер, выдававшийся из расчета 9 квадратных метров на человека. А их только двое, не считая домработницы. Значит, они имеют право не более чем на 27 квадратных метров. А квартира-то – 100 квадратных метров! Никакие ухищрения не помогли артистам получить ордер. «Как это можно в четырех комнатах жить только двоим? Это противоречит нашим советским законам!» – удивлялись в Моссовете. – «Но мы заплатили деньги!» – «Это ваши проблемы! Освобождайте квартиру и въезжайте в двухкомнатную в том же доме!»
Молодым помог глава советского правительства Николай Булганин, открыто ухаживавший за Вишневской при живом муже (такой же сластолюбец, как дедушка Калинин, «почетный гражданин кулис»). Благообразный, с клиновидной бородкой, Булганин никак не мог понять, зачем Ростропович заплатил деньги, ведь он мог «устроить» им квартиру в любом доме, только попроси. Ростропович ответил: «Эта квартира – моя собственность». – «Ишь, собственник! Сегодня – собственность, а завтра – по шапке». – «Да времена вроде другие, Николай Александрович». – «Да уж попался б ты мне раньше… Ну ладно, я шучу…» Так они шутили…
Прошел день, и из Моссовета на блюдечке с голубой каемочкой принесли ордер на квартиру, поздравили с новосельем и просили «ни о чем больше не беспокоиться, а если что понадобится, немедленно звонить в Моссовет – все будет к вашим услугам». Артисты вовремя обратились за помощью к Булганину – через год Хрущёв выгонит его на пенсию, отняв еще и звание маршала. Но он успеет помочь Вишневской и в другом вопросе – дело в том, что в «Метрополь» ее еще не раз вызывали, но не в ресторан покушать, а на второй этаж, в специальный номер, где ее ласково пытались завербовать в осведомители КГБ. Стоило ей только раз сказать об этом Булганину, ее сразу освободили от этой почетной обязанности. В начале 1970-х годов вернувшийся из тюрьмы бывший генерал госбезопасности Павел Судоплатов встретит бывшего премьера в очереди за арбузами на одной из московских улочек.
Более тридцати лет пела в Большом Вишневская. Получила все, что можно, как и хотела в начале карьеры. Дальше – некуда. Ну если только место в президиуме Верховного Совета СССР рядом с обаятельным Расулом Гамзатовым, представителем славного советского Дагестана. Вишневская стояла первой в табели о рангах и на получение Ленинской премии. Однако замаячили иные перспективы… Вместе с мужем они исколесили весь мир, много ездили на гастроли, куда стремились попасть не только по творческим, но и по материальным соображениям. В СССР максимальная ставка за сольный концерт для Ростроповича ограничивалась 180 рублями, а для Вишневской (а также Образцовой и Архиповой) – составляла 200 рублей. А в Америке за один концерт они могли в 1970-х заработать 200 долларов, при том что импресарио Сол Юрок платил Госконцерту 5 тысяч долларов за концерт, то есть в 25 раз больше, чем гонорар артисту. Ростропович за два месяца в Америке мог дать 25 сольных концертов, несложно подсчитать, таким образом, его месячную зарплату за рубежом (годика два поездишь – и на кооператив заработаешь!) и ту большую часть заработка, что оттяпало себе родное отечество. В 1960-х годах Вишневская и Ростропович как минимум трижды, в 1965, 1967 и 1969 годах, гастролировали по США вместе. Приезжая «оттуда», они только и делали, что подсчитывали понесенные благодаря Госконцерту «убытки».
Заработанную валюту они тратили на то, чтобы хоть как-то улучшить условия своего существования на родине. Вишневская и Ростропович, пока имели возможность выезжать за границу и работать там, привозили оттуда все, что можно: мебель, посуду, белье, холодильники, машины, рояли, одежду, нитки, растворимый кофе, колбасу, кастрюли, стиральный порошок, краску, доски и крышу для дачного домика (иностранные таможенники, наверное, сильно удивлялись содержимому их чемоданов и контейнеров). Так не проще ли вообще не возвращаться, а петь, играть и жить ТАМ? Мог ли возникнуть такой вопрос у честолюбивых артистов? Вполне. К тому же в родном театре, да и во всей творческой профессиональной среде вокруг них сгущалась атмосфера неприятия их провокационных поступков. Они, например, не захотели иметь дачу, как все, – в тех же Снегирях, где соседями могли бы быть так «любящие» их коллеги по работе. Дачу в Жуковке им подавай – суперэлитном поселке, построенном когда-то по указанию самого Иосифа Виссарионовича для академиков-атомщиков. Здесь они и прикупили для себя нехилый участочек с соснами-великанами, а другой приобрел Шостакович. Ходили друг к другу в гости, по пути встречаясь с Андреем Сахаровым (тем самым академиком), в ту пору крепко озабоченным необходимостью гуманизации советской политической системы. Другими соседями были высокопоставленные советские чиновники, например, зампред Совмина СССР Владимир Кириллин (с которым Ростропович любил «раздавить бутылку»), министр внутренних дел Николай Щелоков – с ним и его женой Светланой артисты дружили семьями, часто совместно обедали не только на даче, но и дома в Брюсовом переулке. Министр очень хорошо относился к Ростроповичу и Вишневской, помог ей получить орден Ленина в 1971 году. Он вообще был меценатом – дружил с Ильей Глазуновым, помогал ему и в жизни, и в труде. В общем, неплохо.
На своей даче в Жуковке Ростропович и Вишневская любезно предложили осенью 1969 года пожить Александру Солженицыну, на что писатель согласился. Возникает, конечно, вопрос: как он мог жить там без прописки (это ведь не нынешнее время)? Участковый милиционер обязан был проверить сей факт в течение двадцати четырех часов. Но поселок-то закрытый, охраняемый! Спасибо еще и Щелокову, видимо позвонившему тому самому участковому с просьбой не трогать будущего нобелевского лауреата: пусть пишет! А еще Николай Анисимович снабжал Солженицына секретными архивными картами во время работы писателя над «Красным колесом». Такие вот широкие знакомства…
Дать приют гонимому писателю оказалось мало, и тогда виолончелист и певица стали писать письма в его поддержку, рассылая по редакциям центральных газет. После этого началась агрессивная травля Ростроповича, приведшая их к мысли об эмиграции. Громкий, боевой характер Галины Павловны (участницы обороны Ленинграда!) во многом поспособствовал положительному решению вопроса в марте 1974 года о их выезде за границу в длительную командировку Министерства культуры СССР. Нетрудно догадаться, что в этот день во многих гримуборных Большого театра взлетали под потолок пробки от шампанского – многим народным-разнародным «Вишня» давно была поперек горла с ее запросами и скандалами. Отъезд примы автоматически освобождал место на пьедестале почета, куда теперь можно было подняться и другим в ожидании еще бо́льших привилегий, орденов и премий (так и произошло!).
С трудом продав нажитое имущество (опять спасибо Николаю Щелокову – помог продать машину «Лендровер» и кооперативную квартиру), творческая семья покинула пределы родины. В 1978 году их лишили советского гражданства и государственных наград «за действия, порочащие звание гражданина СССР». Так со скандалом покинула Вишневская Большой театр – ушла не на персональную пенсию (что было типично для остальных), а продолжила карьеру за границей. В буквальном смысле Галина Павловна вылетела из Большого – на самолете из Шереметьева. Ее пример не стал другим наукой, ибо таких певиц-эмигранток, начавших с нуля в Большом и достигнувших максимальной высоты, за историю театра было совсем немного.
Евгений Нестеренко вспоминает те дни: «Вскоре Вишневская и Ростропович обратились в правительство с просьбой дать им два года “погастролировать” за границей. Конечно, в этом был свой замысел. Очевидно, они рассчитывали, что им не разрешат выехать, и тогда они развернутся “в мировом масштабе”. Но неожиданно для них им сказали: “Пожалуйста!” Я помню, что их отъезд комментировала вся музыкальная и театральная Москва. Ростропович и Вишневская уехали вызывающе, непорядочно и нехорошо. Советская пресса перепечатала несколько интервью, которые они сразу же дали западным журналистам. Уже тогда все было ясно. Через два года они не выразили желания вернуться. Через три года им напомнили, что пора бы вернуться. Через четыре года напомнили еще раз. Они не возвращались. И тогда правительство поставило вопрос о лишении их гражданства. Такова была эта история. Сейчас всюду можно прочитать, что их изгнали из СССР. Их не изгоняли. Нет. Они попросили гастроли – им дали гастроли. Они попросили два года – их ждали четыре. А то, что они не вернулись… Конечно, на Западе им было более выгодно жить. Галина Павловна поначалу записала оперу Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда”, но стать востребованной на мировой оперной сцене так и не смогла. В жестком мире западной конкуренции все ее попытки выдвинуться в число по-настоящему значительных оперных артистов были заведомо обречены на провал – не тот класс. А вот Мстислав Леопольдович Ростропович, будучи действительно большим музыкантом, реализовался на Западе очень полно». Лучше, чем коллега по сцене, не скажешь…[23]
Вишневская пришла в Большой за год до смерти Николая Семеновича Голованова, рекордсмена по увольнениям. Его трижды (!) отстраняли от дирижерской работы в театре, куда он, недавний выпускник Московской консерватории, впервые поступил еще в 1915 году помощником хормейстера Ульриха Авранека. За дирижерский пульт он встал в 1919 году. В Большом театре Голованов пережил царя, Временное правительство и Ленина, однако начиная со второй половины 1920-х годов стал подвергаться нападкам и травле. Тогда в партийной прессе стало обыденным делом употреблять политический ярлык «головановщина». «Нужно открыть окна и двери Большого театра, иначе мы задохнемся в атмосфере головановщины. Театр должен стать нашим, рабочим, не на словах, а на деле. Мы знаем, что, если нужно что-нибудь уничтожить, следует бить по самому чувствительному месту. Руби голову, и только тогда отвратительное явление будет сметено с лица земли. Вождем, идейным руководителем интриганства, подхалимства является Голованов», – захлебывалась в праведном гневе «Комсомольская правда» в июне 1928 года. Обращает на себя внимание кровожадный язык процитированной публикации – словно речь идет о Змее Горыныче. Но не все так безобидно и сказочно: пройдет лет десять, и многих музыкальных и литературных революционных критиков, сделавших себе имя на бичевании признанных авторитетов в искусстве, постигнет печальная участь. Посеевший ветер пожнет бурю.
Голованова травили так, что в его защиту высказывался сам Сталин. В письме Владимиру Билль-Белоцерковскому от 2 февраля 1929 года он писал, что дирижера не следует «преследовать и травить даже тогда, когда он готов распроститься со своими ошибками», что Голованова не надо вынуждать «уйти за границу». Как видим, тактика выдавливания из страны строптивых мастеров культуры, широко применявшаяся в период так называемого застоя, была опробована еще в 1920-е годы. В чем же состояло преступление Голованова? Оказывается, консерватор и поклонник классики, он не хотел приспосабливать ее к изысканным вкусам рабоче-крестьянской аудитории, протаскивал «в советский театр старые, буржуазные нравы и методы работы», не хотел ставить новые советские оперы и балеты…
Не правы были гонители Николая Семеновича. Он-то как раз пытался приспособить классику к реалиям жизни. Во Всероссийском музее им. М. И. Глинки хранится старая пожелтевшая афиша необычной оперы «Севильский цирюльник дыбом», премьера которой состоялась 4 июня 1923 года. Из программки этого пародийного представления следует, что «музыка все-таки Россини», дирижировал комедией Голованов, декорации писал Федор Федоровский. Доселе ничего подобного мир не видел. Спектакль был лотерейный, с целью сбора средств в пользу ветеранов сцены, цены на билеты назначили непривычно высокими. Литературную основу шаржированного «Севильского цирюльника» составила сборная солянка из обновленной русской классики – Грибоедова, Островского, Гоголя.
Это была откровенная антимейерхольдовщина и гимн театральной чепухе: мужчины исполняли все женские партии, а женщины – наоборот. Графа Альмавиву пела Антонина Нежданова, Розину – Сергей Юдин, эпизодические роли офицеров, обряженных в офицерские шинели и треуголки Николаевской эпохи, достались Ксении Держинской, Валерии Барсовой и Елене Катульской. Роли, обозначенные в афише как «поклонницы Фигаро, психопатки», играли Марк Рейзен и Пантелеймон Норцов. Артисты выступали в костюмах из разных эпох, а теноры, изображавшие женское окружение Фигаро, появлялись перед обмиравшими от смеха зрителями в балетных пачках, да еще и с голыми волосатыми ногами.
Потешным было и само действо – сидящий на берегу устроенного озера доктор Бартоло ловил рыбу на удочку, вылавливая из воды дефицитные продукты, учитель музыки Базилио почему-то в образе жреца из «Аиды» поднимался из люка. А Леонид Собинов, наоборот, спускался сверху в большой люльке и загримированный в румяную бабу пел частушки. Взвод красноармейцев, помещавшийся в большой люстре зрительного зала, стрелял холостыми патронами по команде режиссера Владимира Лосского, который вспоминал, как «Альмавива-Нежданова пела свою серенаду, аккомпанируя себе на шарманке, с добавлением популярного тогда квартета Страдивариуса в испанских костюмах; квартетом дирижировал В. Сук, стоявший на сцене в черном сюртуке; У. Авранек, стоя во фраке на высокой скале, дирижировал “бурей”, которая в оркестре не игралась, а воспроизводилась на сцене с помощью всех имевшихся в театре шумовых и световых аппаратов: раскатов и ударов грома, свиста и воя ветра, молнии, дождя, мчащихся туч, радуги, трещотки, звона во все колокола».
Короче говоря, это было нечто. Даже нынешним ниспровергателям старых классических опер, переносящим их действие в наше прискорбное время (и превращающим привычные для поклонников Верди и Гуно интерьеры в публичный дом и ночлежку бомжей), не могло бы прийти в голову все это искрометное «безобразие», показанное на сцене Большого театра в тот июньский вечер 1923 года. Тут талант иметь надо! «Севильский цирюльник дыбом» был поставлен красиво, и потому публика (и артисты!) потребовала «повторения банкета» уже через пять дней. Спектакль обеспечил большие сборы и оставил прекрасные воспоминания, прежде всего в памяти исполнителей, повеселившихся и посмеявшихся от души. Громче всех смеялся дирижировавший этим капустником Голованов. Но если бы все спектакли вызывали столь положительную реакцию… В 1928 году Николая Семеновича первый раз выгнали из Большого театра. Кирилл Кондрашин отмечал, что Голованова убрали за антисемитизм. В качестве примера приводили его слова в адрес Пазовского: «Русскими операми должен дирижировать русский дирижер»[24].
Большой театр продержался без Голованова два года – в 1930 году Николай Семенович вновь понадобился, но в 1936 году его опять попросили на выход. Тучи над Головановым стали сгущаться в процессе постановки новой советской оперы «Тихий Дон» композитора Ивана Дзержинского. Несмотря на его показательное желание порадовать зрителей этой псевдомузыкой, доверие Кремля он стал терять не по дням, а по часам. Николай Семенович даже готов быть сбрить бакенбарды (как тот полковник у Достоевского), лишь бы проявить советский свой патриотизм. А дирекция театра всячески подзуживала Сталина, сочиняя доносы и письма против Голованова, «который завоевал свое положение не столько своими художественными достоинствами, сколько волевым характером и напористостью». Его обвиняли в том, что в театре «восторжествовал курс на “помпезную” оперу, обставляемую с максимальной пышностью и громкостью» в ущерб мировой классике – Моцарту, Россини и т. д., а в труппе воцарилась атмосфера подхалимства, кумовства и «равнения на “сильных”», – обращался к Сталину и Молотову 3 апреля 1936 года председатель Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР Платон Креженцев. Он предложил ввести должность художественного руководителя театра, являющегося одновременно первым заместителем директора, передав ему все творческие полномочия, как то: планирование репертуара, назначение исполнителей, работу с композиторами и т. д. На новую должность он предложил Самуила Самосуда, а Голованова предполагалось «сослать» в Оперный театр им. К. С. Станиславского или в крайнем случае на педагогическую работу.
Так Голованову нашли замену как «первачу», но против его воли. А Самосуд получил специально созданную для него новую должность, по своему влиянию не сравнимую ни с какой другой за предыдущую историю театра. Сказать, что Николай Семенович Голованов расстроился – значит ничего не сказать – он задумался о самоубийстве, ни много ни мало. В «Тихом Доне» Голованов утонул, как Чапай в Урале (но, в отличие от Василия Ивановича, он сумел выплыть и затем в третий раз причалил к Большому). А пока что он думает, как поудобнее залезть в петлю, о чем донес Сталину и Молотову Яков Боярский (заместитель председателя Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР – в 1939 году он был арестован, признавшись в противоестественных связях с наркомом Ежовым). Боярский сообщает 9 апреля 1936 года: «8-го апреля днем Голованов дирижировал оперой “Тихий Дон”. Поэтому я встречался с ним в 8 ч. вечера. Я сообщил ему о состоявшемся постановлении Комитета о назначении Самосуда и об освобождении его, Голованова, от работы в Большом театре…»
Голованов был поражен, ведь еще недавно члены политбюро называли его лучшим дирижером в СССР, а теперь выставили вон, словно лакея: «Когда я выгоняю свою прислугу, я ей объясняю, за что я ее выгоняю». Посему он потребовал назвать конкретный повод увольнения: «Если не будет указана причина, мне остается только одно: бросить окончательно художественную работу и сделаться шофером или покончить с собой… Вы же знаете меня, я человек тертый и с крепкими нервами: если я что-нибудь решаю, я довожу до конца». Голованов принялся еще и угрожать: «Я напишу в Правительство протест с просьбой отпустить меня за границу, раз меня не могут использовать в СССР… Я покончу с собой и оставлю такое письмо, которое заставит вас призадуматься… Пусть в Европе знают, как у нас обращаются с художниками»; «Против меня давно ведется травля, и вот я вновь делаюсь ее жертвой… Когда меня выгоняли из Большого театра за “головановщину”, со мной обошлись мягче: мне дали довести сезон до конца, а потом опубликовали о моем переходе на работу в Филармонию, а теперь вы говорите, что я ни в чем не провинился, а поступаете со мной круче, чем в тот раз».
Трудный разговор длился полтора часа. Видимо, все еще сомневаясь в окончательности собственного решения, Николай Семенович вдруг вспомнил о долге перед ним Большого театра: дескать, «Дирекция ему не доплатила 5 тыс. рублей за инструментовку “Тихого Дона”, и что в случае его немедленного освобождения он рассчитывает получить жалованье до начала нового сезона». На что Боярский успокоил дирижера, что этот вопрос вполне решаем. Так что полученные пять тысяч, а затем через год и орден Трудового Красного Знамени удержал Голованова от безрассудного поступка – стоит ли кончать жизнь, когда в кармане пачка денег, на груди орден, а театров в столице хоть отбавляй? Узнав об ордене, он искренно удивлялся.
Однако после увольнения Голованова его влияние в театре осталось сильным. Новый главный дирижер Самуил Самосуд жаловался в правительство: «Голованов – это глубочайший черносотенец, необычайный антисемит, который преследовал воздух, не только людей, и старался в театр не подпускать никакой общественности. Голованов и вся компания, его окружающая, это необычайные стяжатели. Нет ни одного клуба и учреждения, положительного и отрицательного, где бы они не халтурили и не получали денег… Он был снят как антисемит и потом был привлечен в театр за отсутствием специалистов. А теперь он был снят именно как плохой специалист. Но все эти слухи мешают в том смысле, что верят, что он вернется… В театре много евреев, но все – трусливы. Боятся Голованова такой боязнью, которую трудно себе представить. Верят в его возвращение в театр. На все мои уверения, что Голованов вернуться не может, заявляют: “Что вы говорите, был случай, когда вся страна говорила, а потом его все-таки вернули”».
Халтурил Голованов, используя терминологию Самосуда, в различных оркестрах, в том числе в оркестре народных инструментов, Государственном оркестре духовых инструментов (был и такой в СССР), в Большом симфоническом оркестре Всесоюзного радио, художественным руководителем которого он стал в 1937 году. Но широкой русской натуре Николая Семеновича этого было мало – так что не зря страшились музыканты Большого театра его возвращения. А бояться было кому. Иван Иванович Петров рассказывал об одном пикантном эпизоде во время репетиции оперы Рихарда Штрауса «Саломея». Дирижировал Вячеслав Иванович Сук, работавший в театре с 1906 по 1933 год, фактически исполняя обязанности главного дирижера. Трудно давалась сцена, где поет хор евреев. Наконец репетиция закончилась. Сук громко объявил: «Все евреи свободны!» И тогда оркестр Большого театра чуть ли не в полном составе поднялся со своих мест, направляясь к выходу: «Куда вы? Я имел в виду совсем других евреев, тех, которые на сцене!»
Третье пришествие Голованова состоялось по инициативе Сталина, назначившего его главным дирижером Большого театра в 1948 году, когда вышло знаменитое постановление о формализме в музыке. И было это назначение в духе времени и очень символичным, в разгар борьбы с космополитами, когда солистов Большого театра еврейской национальности вместе с другими деятелями советской культуры того же происхождения стали принуждать к подписанию верноподданнического обращения с просьбой отправить их всех на Дальний Восток или еще подальше, в общем, туда, откуда возврата нет. Еще в 1944 году Сталин, находясь в правительственной ложе Большого театра, высказался: «А все-таки Голованов – убежденный антисемит!» Сказано это было с такой странной интонацией, что окружающие впали в депрессию от недопонимания глубокой мысли вождя: то ли Иосиф Виссарионович нашел в Николае Семеновиче единомышленника, и теперь все должны стать антисемитами. То ли наоборот: Голованов, конечно, евреев не любит, но других дирижеров «для вас у меня нет», а потому пусть работает дальше.
Перечитывая архивные документы прошедшей эпохи, приходишь к забавному выводу – советская власть вполне трезво оценивала убогое состояние советской же музыки, признавая ее серьезное отставание (в художественном плане) от талантливых свершений русских композиторов XIX века. Но корни этого отставания она видела не там, где следует. Выдвигалось две причины плохой работы советских композиторов: низкий уровень материальной заинтересованности (об этом мы еще поговорим) и засилье евреев. И это не шутка. Еще в августе 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны, в недрах Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) родилась любопытная докладная записка «О подборе и выдвижении кадров в искусстве». Из документа следовало, что основной преградой на пути развития советского искусства является извращение национальной политики партии: «Во многих учреждениях русского искусства русские люди оказались в нацменьшинстве. В Большом театре Союза ССР, являющемся центром и вышкой русской музыкальной культуры и оперного искусства СССР, руководящий состав целиком нерусский: Исполняющий обязанности директора Большого театра Леонтьев – еврей, беспартийный; главный режиссер и дирижер Самосуд – еврей, беспартийный; дирижер Файер – еврей, член ВКП(б); дирижер Мелик-Пашаев – армянин, беспартийный; дирижер Штейнберг – еврей, беспартийный; дирижер Небольсин – русский, беспартийный; зам. директора филиала Большого театра Габович – еврей, член ВКП(б); художественный руководитель балета Мессерер – еврей, беспартийный; зав. хором Купер – еврей, беспартийный; зав. оркестром Кауфман – еврей, беспартийный; главный концертмейстер Жук – еврей, член ВКП(б)».
Двойственное впечатление от процитированного документа, в котором также подробно разбирался национальный состав Московской консерватории, усиливается еще и тем фактом, что в это самое время в Третьем рейхе бесперебойно дымили трубы от газовых камер в многочисленных концлагерях смерти, где в общей сложности было уничтожено более шести миллионов евреев. Это называлось «окончательное решение еврейского вопроса». И вот, параллельно с этим самым решением в Москве также задумались над тем, что «положение с кадрами в искусстве, сложившееся на протяжении ряда лет, требует немедленного вмешательства и принятия решительных мер уже в ближайшее время». Главное слово здесь – «решительность», должная «провести уже сейчас частичное обновление руководящих кадров в ряде учреждений искусства». Подготовил эту записку начальник Управления пропаганды ЦК ВКП(б) товарищ Александров (будущий министр культуры при Хрущёве).
Однако меры по национальному оздоровлению Большого театра так и не были приняты: немец к Сталинграду рвется, не до этого! Через год, 15 июля 1943 года, когда обстановка на фронте более или менее успокоилась, Георгий Александров сигнализирует Сталину о полной поддержке кадровых изменений в руководстве Большого театра, инициированных председателем Комитета по делам искусств Михаилом Храпченко:
«Государственный академический Большой театр СССР, являвшийся на протяжении многих десятилетий гордостью русского народа, как высшее достижение его национальной и мировой культуры, за последние годы стал работать плохо. Некоторые постановки в театре идут на низком художественном уровне, а, например, величайшее произведение русского искусства опера “Евгений Онегин” идет на уровне провинциальных театров. Вопреки традициям ГАБТа из его репертуара в последние годы исчезли лучшие произведения русской оперы: “Борис Годунов”, “Садко”, “Псковитянка”, “Сказание о граде Китеже”, “Князь Игорь”, “Руслан и Людмила”, “Хованщина”, “Снегурочка”, “Сказка о царе Салтане”; балеты “Щелкунчик”, “Спящая красавица”.
Характерно, что в период Отечественной войны после эвакуации Большого театра в Куйбышев руководство театра в первую очередь восстановило не русские оперы, а иностранные (“Травиата”, “Аида”, “Севильский цирюльник”). Только после вмешательства Управления пропаганды в Куйбышеве была поставлена в концертном исполнении опера “Иван Сусанин”. В филиале Большого театра (Москва) эта опера пошла только в 1943 г. За время войны Большой театр поставил единственную новую оперу “Вильгельм Телль”, музыка Россини. Во всей работе коллектива театра наблюдается упадок дисциплины, разболтанность, отсутствие плановости. Между солистами происходит нездоровая конкуренция. Хуже стал работать хор Большого театра. Это объясняется тем, что вместо работавшего ранее в театре известного мастера хора Степанова во главе хора был поставлен малоквалифицированный человек (Купер). В исключительно тяжелом положении оказался знаменитый на весь мир балет Большого театра. В настоящее время в Большом театре налицо единственный дирижер балета Файер, пожилой, больной, полуслепой человек, которому достойной смены нет и не готовится. Отсутствие в театре авторитетного руководителя – директора привело к тому, что Самосуд, став полновластным хозяином театра, интересуется только теми постановками, которые сам ставит. Остальная работа театра заброшена. Боясь конкуренции, Самосуд не привлекает на работу в театре видных работников искусства. В настоящее время у руководства театра находятся за небольшим исключением люди, не способные обеспечить высокий уровень работы Большого театра. Вряд ли можно считать правильным, что в старейшем русском театре руководящий состав подобран односторонне по национальному признаку».
И далее опять перечисляются фамилии дирижеров с указанием их национальности. Смешно уже то, что напротив фамилии Мелик-Пашаева напечатано «грузин» – видимо, потому, что родился он в Тбилиси. Уморительной выглядит и характеристика Файера – якобы пожилого и больного человека, которого через 12 лет обвинят в «фривольном» отношении к молодым балеринам и оформлении пятого развода. Седина в бороду, бес в ребро. А по поводу «гордости русского искусства» есть замечательный анекдот от Давида Ойстраха. Один молодой скрипач пожаловался, что в Большом театре его зажимают по причине опять же «пятого пункта». Ойстрах успокоил его: «Дорогой мой, все евреи в нашей стране делятся на три категории. Первая – это те, кто получает сто рублей, их называют “жид порхатый”. Вторые – кто зарабатывает 200 рублей в месяц, это просто евреи. Наконец, третья категория – это те, кто получает 500 рублей и называются гордостью русского искусства. К ним отношусь я. Не волнуйтесь, Вас ждет не менее блестящее будущее».
Так что назначение Голованова главным дирижером в 1948 году не является простым совпадением – укладываясь в схему по кадровому укреплению Большого театра, оно на самом деле отражает политическую конъюнктуру. Тем более что Николай Семенович пришел на смену Арию Пазовскому, надорвавшему здоровье в процессе неуклонного подъема советского музыкального искусства. За свою последнюю пятилетку в Большом театре Голованов в качестве главного дирижера по сталинскому заказу поставил монументальные оперы «Борис Годунов», «Садко», «Хованщина».
Смерть супруги Антонины Неждановой в 1950 году подкосила здоровье не старого еще дирижера, все реже встававшего за пульт, а в марте 1953 года умер его главный покровитель Сталин. Уже в апреле министр культуры Пантелеймон Пономаренко направляет Георгию Маленкову письмо: «Ссылаясь на болезненное состояние, последние три года Н. Голованов не дирижирует спектаклями, не ведет никакой репетиционной и педагогической работы и по существу перестал руководить творческой деятельностью театра». В мае Голованова увольняют из театра в последний раз, вручив ему на проходной приказ. «Выходя из 16-го подъезда Большого театра, я словно воочию вижу идущего с палочкой Николая Семеновича. Он протягивает мне чуть одутловатую руку, она покрыта коричневыми пятнышками. Я видел эту руку, крепко державшую дирижерскую палочку, а теперь она сжимает приказ об освобождении его от работы в Большом театре», – вспоминал Борис Покровский. Уволили Голованова как-то нехорошо, без лишних объяснений, так же как за десять лет до этого выгнали Самосуда. Такова была безжалостная система. В августе 1953 года на фоне тяжелой депрессии сраженный инсультом Голованов скончался. К его мощной фигуре, во многом определившей стиль Большого театра прошлого века, мы еще не раз вернемся в книге.
А Борису Александровичу Покровскому суждено было самому испытать горечь и разочарование от увольнения из Большого театра после многолетнего служения (40 лет!). Впервые он пришел в театр году в 1920-м, но не как постановщик, а в качестве зрителя. Маленьким мальчиком он очень полюбил ходить в храм, где его дед был настоятелем. Боря особенно любил звонить в колокола: «Вставал в четыре часа утра и убегал в церковь. Мне и десяти лет нет, а я влезаю на колокольню и бью в колокол. Как сейчас помню это наслаждение. Темная ночь, среди белых сугробов: возникают черные фигуры, все идут в эту церковь, потому что звонит мой колокол! Я спускаюсь вниз, облачаюсь в стихарь, зажигаю лампады и свечи. Собирается народ, старики, старухи. Я тогда уже недурно читал по церковнославянски, меня никто не учил, сам научился. И я читаю “часы”, специальные молитвы перед службой». Отец Покровского, партийный директор школы, дабы отвадить сына от религии, поступил мудро: он просто купил ему билет в театр, на галерку, самый дешевый (попробуй-ка сейчас купи такие!). Так Боря бросил церковь и стал ходить в театр, как на работу. Дедушка-церковнослужитель смену занятий одобрил, сказав, что «Большой театр – тоже храм духа нашего». Капельдинеры знали Борьку Покровского в лицо, пропуская и без билета, делая ему «козу» и умиляясь: «Ух ты какой любитель оперы!»[25]
«В театре, – вспоминал Покровский, – на галерке было свое общество, вернее каста, и я был в нее принят. Люди разные по возрасту, днем чем-то занимавшиеся (это никого не интересовало), вечером сходились, пожимая руку капельдинеру, на верхотуру зала посмотреть, послушать, а главное, пообсуждать. Многое я там услышал об артистах, меньше о дирижерах и совсем ничего о режиссерах. Ничего!» Особенно понравилась юному меломану опера «Демон».
А работать в Большом театре Покровский стал в 1943 году, приехав из Горького, где он трудился художественным руководителем в местном театре оперы и балета. К тому времени тридцатилетний Покровский зарекомендовал себя как представитель «талантливой советской молодежи», поставив оперу Александра Серова «Юдифь», выдвинутую на Сталинскую премию. В Горький приехала специальная просмотровая комиссия – так было положено в ту эпоху: видные деятели культуры колесили по всему Советскому Союзу и смотрели спектакли, претендовавшие на премию имени вождя всех народов. Член комиссии завлит МХАТа Павел Марков заметил Покровского и, вернувшись в столицу, рассказал о нем Самуилу Самосуду, который резюмировал: «Надо его брать в Большой!» И в Горький пришла правительственная телеграмма из Москвы с вызовом в Большой театр. Мало сказать, что это известие огорчило театр и зрителей. Провожали молодого худрука торжественно, с речами и митингом, подарив на память от всего коллектива серебряную сахарницу, «чтобы сладко жилось». Некоторые солистки балета плакали, а старые билетерши всхлипывали.
Впоследствии Покровский расценил этот поворот в своей жизни как «чудо, не знавшее прецедентов». Учитывая военное время, добирался Борис Александрович до Москвы долго, съев все припасенные им 25 пончиков с вареньем. Приезжает он в столицу и прямиком идет в Комитет по делам искусств, гордо помахивая правительственной телеграммой на красивом бланке с советским гербом, но там никто не обратил на это ни малейшего внимания: «Время военное, не до вас!» Тогда Покровский, набравшись наглости, пошел прямо к Самосуду в директорский кабинет Большого театра. Просидев два часа в приемной, он предстал пред светлыми очами главного дирижера, не встретив «никаких восторгов, никакого интереса и уважительности». Самосуд разговаривал равнодушно и отчасти лениво: «Молодой человек, сами понимаете, это Большой театр, так что ни на что особо не рассчитывайте. Разве что помощником режиссера…» А Покровский уже думает, что зря приехал, пора обратно в Горький. И вдруг Самосуд словно проснулся: «Идете ли вы в своей работе от музыки?» – «Нет!» – «Правильно, дорогой мой, а то все объявляют, что идут от музыки и действительно ушли от нее очень далеко! Ха-ха-ха!..» Так и стал Борис Александрович служить в Большом театре, началось его «воспитание Самосудом».
Первая репетиция с корифеями осталась в его памяти навсегда, мало того что все – Козловский, Барсова, Пирогов, Лемешев, Михайлов – пришли заранее, так они еще и встали при появлении молоденького режиссера, коего они видели первый раз в жизни. Борис Александрович расценил это как пример «великой внутренней культуры, которая строится на почитании человека человеком», хотя речь могла идти об элементарной вежливости. А после репетиции Александр Степанович Пирогов посетовал: «Я пришел, думал попотеть, снял пиджак, а тут раз, два и готово, такие теперь режиссеры!» И это также запомнилось Покровскому, серьезно повлияв на его отношение к артистам, вскоре привыкшим к его длинным и подробным репетициям – чтобы потели, как в сауне. Труппа довольно быстро поменяла к нему свое отношение и после ареста одного известного солиста, попытавшегося публично урезонить «этого выскочку из провинции» Покровского (выражение Голованова). Фамилию солиста назовем в следующей главе.
Он поставил в Большом театре полсотни спектаклей, трижды был его главным режиссером (1952, 1955–1963, 1970–1982), пережил полтора десятка директоров, стал народным артистом СССР, получил четыре Сталинские премии и одну Ленинскую. Но не это главное – второго такого оперного режиссера нет и не было ни в СССР, ни в России. В 1982 году Покровского со всеми его регалиями отправили на пенсию: попросили уволиться по собственному желанию. Заявление он написал не в своем кабинете, а на приеме у министра культуры СССР Петра Демичева. Уходя, Борис Александрович честно обозначил причину увольнения: потому что не желает работать в театре, «который игнорирует русский язык». Все объяснялось довольно просто – ведущие солисты театра, активно гастролировавшие по миру с 1970-х годов (это вам не при Сталине!), стали тяготиться режиссерством Покровского, уверенного, что традиция исполнения всего репертуара на русском языке в Большом незыблема. Борис Покровский назвал их «непослушниками», которые, став знаменитыми, начали обвинять его в кровожадности и криках на репетициях. Первые солисты театра – Атлантов, Нестеренко, Образцова, Милашкина и другие – были желанными гостями за рубежом, где пели в операх итальянских композиторов на языке оригинала. А в своем театре они были вынуждены петь то, что ставил Покровский. Разное понимание смысла и значения работы оперного певца привело к очередному громкому скандалу в Большом, который окончился поражением Покровского. Понятно, что силы были неравны. С одной стороны – пожилой главный режиссер, с другой – сплоченная на основе в том числе и семейных отношений группа моложавых народных артистов, опирающаяся на поддержку месткома, парткома, райкома, дирекции и дирижера.
Вот как об этом рассказал Владимир Атлантов: «Конфликт возник из-за того, что мы ощущали себя невостребованными в спектаклях, которые могли бы быть на нас поставлены. Ведь Покровский в принципе ставил то, что он хотел как главный режиссер. Может быть, кроме “Тоски” и “Отелло”. Появление этих двух спектаклей в театре не было его инициативой. И потом мы выступали не против него как режиссера, а против его стиля руководства. Просто отталкивающее впечатление производило то, как главный позволял себе в недопустимом тоне разговаривать с ведущими режиссерами, артистами хора, вообще с артистами… Его лишили приставки “главный”. А если он не главный, то он не будет работать. Он согласен работать только на положении главного режиссера. Его лишили возможности диктата, к чему он привык. У него эту игрушку отняли, и ему стал не очень интересен Большой театр… Когда Покровский что-то ставил, то ставил это только для себя. Я тоже пел для себя, но я ничего ни у кого не отнимал. Пел я Хозе, и остальные вместе со мной пели Хозе. Да и все партии. А Покровский, пользуясь административными возможностями, имел власть решать, что он хочет ставить. И на этом заканчивались все разговоры. Власть – вещь страшная, она портит души. Страшно, когда человек, как Покровский, например, десятилетиями находится у власти. Каждый, сидящий там на месте главного дирижера или режиссера, занимался не судьбой театра, а совсем другим. Главные занимались осуществлением своих персональных желаний, говоря о том, что это нужно театру и должно стать ядром развития театра. Это несправедливость и безобразие!.. Не использовать поколение прекрасных голосов в новых постановках мировой оперной классики это, мягко говоря, невосполнимая потеря»[26].
Поводом для обострения давно копившихся противоречий послужила премьера театра – «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева, вызвавшая шквал критики ведущих солистов, обвинивших режиссера в превращении оперы выдающегося советского композитора в банальную оперетту. Кощунство, по их мнению, состояло и в том, что Покровский будто не замечает вокруг себя орденоносцев и народных артистов СССР, не задействуя большую их часть в своих новых постановках. Дирижером выступал Геннадий Рождественский. Заведующий оперной труппой театра в 1980–1984 годах Анатолий Орфенов приводит такую версию той самой искры, из которой и разгорелось пламя: певшая в этой опере главную роль Катерины Тамара Милашкина «вошла в конфликт с Рождественским, сделавшим в резких тонах ей замечание во время репетиций. Милашкина отказалась участвовать в премьере». А Милашкина – жена Атлантова…
А ведь еще два года назад все те, кто теперь обрушивался на Покровского с критикой, провозглашали в честь него здравицы на банкете по случаю присуждения режиссеру Ленинской премии. Летом 1980 года в хоровом зале Большого театра Борис Александрович устроил грандиозное празднование, пригласив на него своих многочисленных коллег: столы ломились от яств и вин не хуже, чем на пиру в иной поставленной им опере. К слову сказать, пример не оказался заразительным: никто больше так широко не отмечал получение Ленинской премии. В январе 1982 года все повторилось: во время творческого вечера, приуроченного к семидесятилетию Покровского, он услышал много лестных слов от артистов, «которых он вывел в люди» (как та самая заводская проходная), признававшихся в любви к нему и клянущихся в верности. Более того, на творческом вечере после исполнения оркестром театра под управлением Евгения Светланова симфонической картины «Сеча при Керженце» дирижер и режиссер, прилюдно расцеловавшись, договорились о будущей постановке «Сказания о невидимом граде Китеже» на сцене Большого. Примечательно, что планы театра предусматривали участие в постановке совсем иных людей – дирижера Юрия Симонова и режиссера Георгия Ансимова, теперь оказавшихся в неудобном положении и закусивших удила.
После отречения Покровского власть в Большом перешла к главному дирижеру Юрию Симонову и своеобразному политбюро – президиуму (слово-то какое для театра!) художественного совета в составе Владимира Атлантова и его жены Тамары Милашкиной, Юрия Мазурока, Александра Ведерникова, Евгения Нестеренко, Елены Образцовой и ее мужа дирижера Альгиса Жюрайтиса[27]. Можно сказать, что театр стал управляться по-семейному. Изменилась и репертуарная политика – Образцова поставила «Вертера» Жюля Массне, где дирижировал Жюрайтис. Был поставлен «Бал-маскарад» Верди. Большой вес певцов, их влияние и связи «на верху» продемонстрировал золотой дождь, пролившийся на них с началом перестройки. Архипова, Образцова и Нестеренко удостоились высшей награды родины – медали «Золотая Звезда» Героя Соцтруда. Им не было и шестидесяти лет в момент награждения. До них лишь один Козловский получил героя, да и то к восьмидесятилетию.
Занятно, что другой творческий и семейный союз – Ирины Архиповой и Владислава Пьявко – не вошел в состав президиума, что прямо указывало на расстановку сил в этом театральном перевороте. Президиум к тому же подверг остракизму включение в репертуар оперы Глюка «Ифигения в Авлиде» с участием в роли Клитемнестры Ирины Архиповой. Здесь была своя подоплека – Архипова как главный вокальный консультант Большого театра «почти в шестидесятилетнем возрасте сохраняла отличную вокальную форму. Ей доверяли проведение в качестве председателя жюри многих международных и всесоюзных конкурсов. А большинство наших ведущих солистов уже преподавали в консерватории, ГИТИСе, институте Гнесиных и сердились, что их ученикам не дается предпочтения на этих конкурсах»[28], – свидетельствует Орфенов.
Что же касается русского языка, то здесь также начались нововведения: в опере «Кармен» некоторые певцы пели по-французски (Образцова, Атлантов, Мазурок), а все остальные, в том числе хор, по-русски. Все это можно назвать хорошей русской пословицей «Кто в лес, кто по дрова», имеющей свой французский аналог: «Кто туда, а кто сюда». Так сказалось отсутствие в театре главного режиссера, пусть и старорежимного, но способного прекратить разлад между орденоносцами. Пройдет немного времени – и без Покровского вновь не смогут обойтись в Большом, в 1988 году его позовут ставить очередную оперу. И он, так и не простив обиды, откроет дверь служебного входа театра, с трудом переступив его порог. Его встретит лифтерша: «Что-то давно тебя не было, Александрыч, приболел, что ли?» По Большому театру вновь раздастся громкий и повелительный голос Покровского, а за его спиной оркестранты будут шептаться: «Хозяин вернулся!» (кстати, однокашник Бориса Александровича по ГИТИСу Георгий Товстоногов придерживался подобной же «хозяйской» тактики и лексики, исповедуя в своем театре «Добровольную диктатуру»). Слово «хозяин» в Большом театре очень любили. Что же до причины увольнения, то пролетят еще годы, и доживший почти до ста лет Покровский, не утеряв чувства юмора, заметит: «Сейчас этот конфликт кажется смешным, потому что мой Камерный театр ездит по всему миру и поет спектакли на языке оригинала. Так что я в дураках. Но каждый может делать ошибки»[29].
В Бетховенском зале проходили и прослушивания музыкантов оркестра Большого театра, на протяжении довольно долгого времени отличавшегося высоким профессиональным уровнем исполнительского мастерства. В оркестре в разное время играли выдающиеся музыканты, например, скрипачи Абрам Ямпольский, Дмитрий Цыганов, Семен Калиновский, арфистки Ксения Эрдели и Вера Дулова, трубачи Михаил Табаков, Тимофей Докшицер, Георгий Орвид, Николай Полонский, тромбонист Владимир Щербинин, кларнетисты Сергей Розанов, Александр Володин, гобоист Яков Куклес, фаготисты Михаил Халилеев, Ян Шуберт, флейтист Иосиф Ютсон, виолончелисты Станислав Кнушевицкий, Иосиф Буравский, Григорий Пятигорский, Семен Козолупов[30] и многие другие.
Скрипач Артур Штильман в октябре 1966 года пришел в Большой театр для прохождения конкурса в оркестр, состоявшего из двух этапов. Сперва исполнялась сольная программа. Штильман сыграл «Чакону» Баха для скрипки соло и первую часть концерта Бартока. Второй этап сулил сложности – необходимо было исполнить «с листа», то есть без подготовки, отрывки из известных опер, причем сразу же после первого тура. Отрывки из опер выбирал Марк Эрмлер, стоящий за дирижерским пультом. «Эрмлер, – вспоминает Штильман, – вел себя исключительно по-джентльменски, но все равно было ясно, что в оркестре этот репертуар я не играл, хотя Эрмлер мне не дирижировал, а предлагал сразу играть с определенного места. В общем, эта трудная часть закончилась более или менее благополучно. Во всяком случае, качество самой игры – ритм, настоящую сольную интонацию, достойный скрипичный тон, мне удалось сохранить в большинстве отрывков. Я один остался ждать результатов».
После подведения итогов к Штильману подошел первый концертмейстер оркестра скрипач Игорь Солодуев (потомственный музыкант Большого – его отец Василий Солодуев был валторнистом еще в 1903 году) и сказал: «Мне не удалось добиться для тебя места на первых пультах. Но я тебе не советую отказываться от работы. Начав на последнем пульте первых скрипок – мы все с этого начинали, и я тоже, – я уверен, что на первом же внутреннем конкурсе ты проявишь себя так же отлично, но тогда ты уже будешь “своим”, тебя будут знать по работе здесь, да и как человека тоже. В общем, моя просьба к тебе – не отказывайся от работы. Ты скоро свое возьмешь, а при твоей игре – тем более». Так в 31 год Штильман стал скрипачом Большого театра. На работу в театр его взяли охотно (это ведь не 1948 год!), торжественно вручив красное удостоверение с советским гербом, превращавшееся в палочку-выручалочку в тот момент, когда машину спешившего на репетицию скрипача останавливал гаишник. Скрипач не только демонстрировал удостоверение всем своим родным и знакомым, но и убеждал их, что поступил на работу в чуть ли не единственное место в Москве – «счастливый остров, свободный от страшной раковой болезни антисемитизма». То есть антисемиты были, но в количестве четырех человек – всех их подсчитал Штильман. И действительно – откуда взяться разгулу антисемитизма в Большом театре, если вторым концертмейстером оркестра был Юлий Реентович, третьим – Леон Закс, четвертым – Абрам Гурфинкель, о котором Солодуев говорил: «Абраша Гурфинкель – наш лучший оркестрант и превосходный скрипач».
А Юлий Реентович руководил еще и Ансамблем скрипачей Большого театра. Мало кто из телезрителей не видел выступлений этого оригинального коллектива, особенно любили его показывать под Новый год в «Голубом огоньке» – с иголочки одетые солисты, мужчины во фраках и красивые женщины в эффектных платьях играли популярную классику Паганини, Чайковского, Моцарта и произведения советских композиторов. Ансамбль имел и неофициальное название, совсем не обидное, а, наоборот, подчеркивающее его высокий исполнительский уровень – «Большая скрипка Большого театра».
Первое выступление скрипачей состоялось на родной сцене 25 февраля 1956 года – успех был таков, что уже вскоре виртуозов смычка и деки попросили сыграть снова, на следующих концертах, например к 8 Марта. А затем еще и еще… Выяснилось, что публика готова внимать музыкантам оркестра, не только когда они находятся в яме, напоминая о своем присутствии по команде дирижера будто дрессировщика в цирке, – отныне скрипачи получили полноправную прописку на сцене. Их стали приглашать на всевозможные концерты (в том числе и правительственные!), не говоря уже о выступлениях в цехах заводов, фабрик и депо «Москва-Сортировочная», где на импровизированных помостах до них уже танцевали артисты балета и пели солисты оперы Большого театра с популярными концертными номерами.
Расширению репертуара ансамбля способствовала напряженная работа так называемых транскрипторов – композиторов, специализировавшихся на переложении популярных мелодий для ансамблевой скрипичной игры, в частности Игоря Заборова, скрипача и композитора в одном лице. Возникает вопрос: каким образом музыкантам удавалось совмещать основную работу в театре с концертной деятельностью (некоторые безответственные люди называют ее халтурой)? Ведь в любом драматическом театре актерам, постоянно отпрашивающимся для съемок в кино, худрук давно бы сказал: выбирайте – или сцена или киноэкран! И многие сделали выбор не в пользу театра… А вот оркестрантам Большого просто повезло – директор театра Михаил Чулаки по совместительству был еще и композитором, написавшим для ансамбля несколько произведений (в частности «Вариации на тему Паганини»). Какое совпадение! Он-то, директор, и провел разъяснительную работу с заведующим оркестром, чтобы молодому и растущему коллективу не мешали развиваться, а точнее, создал условия, «обеспечивающие планомерную репетиционную работу и возможность систематически выступать перед публикой». Короче говоря, помимо одного (общего для всего театра) выходного – понедельника – ансамблистов обеспечили еще и вторым, дабы они могли радовать своим искусством жителей не только Москвы, но и других городов Советского Союза.
Так постепенно и сложилась слава ансамбля. В фильме «Деревенский детектив» участковый Анискин, разыскивая аккордеон заведующего клубом, просит того послушать, что звучит из окон односельчан в вечерний час. И завклубом безошибочно угадывает игру Ансамбля скрипачей Большого театра. Телевидение делало свое дело. А что же происходило за голубым экраном? Юлий Реентович, неплохой скрипач (не Ойстрах, конечно, но всё же) и хороший организатор, сумел раскрутить ансамбль и за пределами Союза, чем и прельстил молодого Артура Штильмана. И вроде все началось хорошо, только вот почему-то на гастроли ансамбля в Австрию скрипача не взяли, а потом и в Америку. То есть в Полтаву и Воронеж – милости просим, а вот в Вашингтон – стоп-кран закрыт. Что же выяснилось? Оказалось, что в ансамбле играют два штатных осведомителя КГБ, на Штильмана собран компромат, и ход ему дал сам бдительный Реентович, заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист РСФСР. Компромат такой: в 1973 году во время гастролей Большого театра в Чехословакии скрипач зашел в Еврейский музей Праги, где встретил еще двух таких же скрипачей, и сдуру прочитал надпись под одним из экспонатов на иврите, о чем те и доложили немедля Реентовичу, который мгновенно исключил полиглота из списков участников поездки в Австрию. А ведь говорили Штильману: держи язык за зубами и ешь пирог с грибами! Таким же образом «изолировали» и лучшего скрипача оркестра Большого театра и его концертмейстера Даниила Шиндарева. В Свердловском райкоме партии правдоискателю Штильману так и сказали: «Чего вы от нас хотите? Реентович на вас показал! Он показал, что вы дружили и дружите с лицами, покинувшими Советский Союз. Мы вынуждены доверять Реентовичу, хотя мы знаем, что вы человек порядочный и нас не подводили».
В Большом театре лауреат международных конкурсов Штильман получил звание народного артиста РСФСР. В его памяти остался Дворец съездов в Кремле, выполнявший роль второй сцены Большого театра, и особенно «великолепный буфет на последнем этаже, где продавались изысканные яства в виде жюльенов в серебряных маленьких кастрюльках или блинов с черной икрой (сегодня это вполне может показаться неудачной шуткой), хорошие вина и шампанское – все это значительно поднимало настроение зрителей, попавших в такой приятный мир. Кроме этого, оттуда открывался прекрасный вид на Москву – весь Кремль, Замоскворечье, улица Горького…». Свой буфет работал во дворце и для артистов и музыкантов театра, однажды из-за него чуть было не сорвалась репетиция торжественного концерта к XXV съезду КПСС – в продажу выбросили растворимый кофе в банках. Лишь скорое окончание дефицита позволило вернуть оркестрантов на их рабочие места, за пюпитры. В 1979 году Штильман, подав заявление в ОВИР на эмиграцию, также вылетел из Большого театра – сначала в Вену, затем в Рим, а потом уже в Америку, где с 1980 по 2013 год играл в оркестре Метрополитен-оперы, что лишний раз подтверждает высокий уровень исполнительского искусства самого главного советского театра. Пример Штильмана – далеко не единичный, оркестр Большого театра лишился многих талантливых музыкантов, эмигрировавших за границу, а вот Реентович не успел – в 1982 году он неудачно поскользнулся на лестнице в театре и вскоре скончался.
Отсутствие возможности свободного выезда за границу и присвоение государством права решать за артиста, где ему петь и танцевать, привело к бегству солистов Большого театра во время зарубежных гастролей. Приведем лишь один из примеров. 11 ноября 1982 года советское радио сообщило о кончине генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева – не большого любителя классического искусства, и все же почему-то именно в Большом театре решили провести траурный митинг. Труппа собралась в зале. Слово предоставили Борису Покровскому. Борис Александрович проникновенно и с чувством раскрыл образ покойного, особо подчеркнув, с какой особой теплотой и любовью относились к нему советские люди: «Мы называли его не просто товарищ Брежнев, а Леонид Ильич. Это говорит о многом». Речь главного (пока еще) режиссера встретили аплодисментами. Следующие выступающие, представители театральной общественности, парткома и профкома вспомнили и о вкладе генсека в борьбу за мир и международную разрядку. Некоторые в зале плакали (артисты!).
О том, что борьба за укрепление мира между народами – это не пустые слова, коллектив театра (как и все остальные советские люди) почувствовал уже скоро. На очередном витке холодной войны 1 сентября 1983 года советскими войсками ПВО над Сахалином был сбит пассажирский авиалайнер из Южной Кореи. Это привело к жесткому обострению отношений между СССР и США. В дело с обеих сторон вступили пропагандисты. В частности, в ЦК КПСС достали (будто скелет из шкафа) прибереженный для удобного случая сюжет о невозвращенце Александре Годунове, оставшемся в Америке в августе 1979 года во время гастролей Большого театра. Он был далеко не первым артистом балета, «выбравшим свободу». Среди коллег Годунова, примеру которых он последовал, были артисты Кировского театра – Рудольф Нуреев, Михаил Барышников и Наталья Макарова, оставшиеся в разное время на Западе. Но побег Годунова по своему резонансу превзошел все прежние подобные случаи. Чтобы разрулить возникшую в августе 1979 года ситуацию, пришлось привлекать чуть ли не «самого Леонида Ильича»…
В Большой театр Годунов пришел по приглашению Юрия Николаевича Григоровича в 1971 году – его заметила супруга балетмейстера, Наталья Бессмертнова, и посоветовала мужу взять талантливого танцовщика. А было Годунову 32 года, и на сцене Большого он триумфально дебютировал в «Лебедином озере», станцевав Зигфрида. Майя Плисецкая особо выделяла его среди своих партнеров: «Александр Годунов был могуч, горделив, высок. Сноп соломенных волос, делавший его похожим на скандинава, полыхал на ветру годуновского неповторимого пируэта. Он лучше танцевал, чем держал партнершу. Человек был верный, порядочный, совершенно беззащитный, вопреки своей мужественной внешности. Сенсационная история с его бегством из “коммунистического рая” была подготовлена бесприютным нищенским существованием в Большом. Его терзали, тоже долго не выпускали за границу, не давали танцевать. Он сидел без копейки денег, что по его широте и гордыне было мучительно. Даже свой угол он получил только незадолго до побега. Я лишилась Зигфрида, Вронского, Хозе». И не только Зигфрида, добавим мы…
Майе Михайловне, известной искусительнице своих партнеров, конечно, виднее со своего недосягаемого пьедестала, когда она пишет о нищете солиста Большого театра, получающего министерскую зарплату, – хотя, согласитесь, понятие «без копейки» имеет свой смысл для людей разного достатка. О решении остаться в Америке Годунов поведал Плисецкой еще в 1974 году во время гастролей. Однако она упросила его отсрочить – дабы не испортить судьбу фильму-балету «Анна Каренина», в котором они в это время снимались: «Подожди, пока фильм выйдет на экраны. В следующий раз останешься». И он тогда вернулся в Союз, пообещав: «Хорошо. Подожду. А может, в следующий раз – вместе?»
Столь крепкие отношения с примой Большого театра объяснялись тем, что Годунов в противостоянии трех сильных балетных группировок принял сторону Плисецкой, что не могло не сказаться на отношении к нему Григоровича (третья группа артистов опиралась на Владимира Васильева). В частности, Григоровичу не понравилась трактовка Годуновым образа Спартака, что явно не способствовало участию артиста в балетах мастера. В итоге роль Спартака он станцевал всего пять раз, Ивана Грозного – девять, а Пастуха в «Весне священной» – два раза, подсчитали поклонники Годунова. В то же время в балетах с Плисецкой он танцевал гораздо чаще – в «Кармен-сюите» почти 40 раз, в «Анне Карениной» – больше тридцати и т. д.
Жена Годунова – Людмила Власова пришла в труппу Большого за десять лет до него, в 1961 году. Годунов увел ее от мужа, также артиста балета: «У меня было все: квартира, драгоценности. Когда Саша первый раз на сцене Большого театра танцевал “Лебединое озеро”, я сидела дома и не могла разделить его триумфа. Я послала ему розы с запиской… Я переехала в его однокомнатную квартирку на Юго-Западе. Первое время я все продавала – шубы, бриллианты, мне это было и не нужно. Он очень переживал: “Как только я начну ездить, я тебе все куплю”. И действительно, он мне покупал всё. У меня была чуть ли не первой в Москве роскошная шуба из песца. Сам же он предпочитал джинсы и рубашки, ходил, как хиппи». Глагол «ездить» прочно вошел в повседневный лексикон артистов Большого театра и означал возможность выезда на зарубежные гастроли.
Талантливый и трудолюбивый Годунов, питомец Рижского хореографического училища, довольно быстро прошел путь от новичка до премьера театра. Если в начале своей карьеры на сцене Большого он получал как артист кордебалета, то перед бегством из Большого – 550 рублей (с голоду трудно умереть!), в 1976 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Из квартиры на Юго-Западной он переехал в Брюсов переулок, в дом артистов МХАТа, где соседствовал с Марисом Лиепой. Правда, квартира его была на первом этаже, но уже обещали дать другую, побольше и повыше. Свидетельством широкой популярности артиста стало его участие в кинофильме «31 июня», где он сыграл вместе с женой. Карьера почти что голливудская, а сколько еще впереди! Только знай, с кем танцевать и дружить (особенно если ты секретарь комсомольской организации Большого театра)…
Годунова выпускали и за границу, где критики называли его первым принцем советского балета с царской фамилией (да, фамилия удачная, раскрученная, если можно так выразиться, и даже лучше, чем Отрепьев или Шакловитый). А когда артиста не выпускали, то дирекция Большого театра заявляла, что он болен, – обычная практика! Вот почему учитель Годунова – в прошлом звезда советского балета и трижды сталинский лауреат Алексей Ермолаев, перешедший в Большой из Кировского еще в 1930 году, – как-то назвал его «самым болезненным своим учеником». Смысл горькой остроты очевиден. Ермолаев также жил в Брюсовом переулке, 7, и в знак особого расположения к Годунову однажды подарил ему свою старую дубленку, но не потому, что Александру нечего было носить и он мерз зимой. Это был подарок с очень глубоким смыслом, оцененный благодарным учеником, буквально не снимавшим ермолаевскую дубленку в холодное время года. Ставить на нее заплатки он доверял лишь скорнякам Большого театра. И это при том, что он мог достать любую шмотку в брежневской Москве. Смерть Ермолаева в 1975 году от инфаркта стала для Годунова трагедией – он сам на руках отнес его в машину «скорой помощи». Ермолаев очень хотел, чтобы мемориальная доска в память о нем висела между окнами квартиры Годунова и Власовой.
Перед гастролями Большого театра 1979 года, куда взяли и Годунова, ему пообещали после возвращения не только присвоить очередное звание народного артиста РСФСР, но и улучшить жилищные условия. Однако этого ему было уже мало. Талантливый человек тем и отличается от нас, грешных, что переживает постоянный творческий рост, остановить который невозможно. Потребность к развитию, достижению новых вершин в творчестве настолько сильна, что преобладает по накалу с желанием повышения материального благополучия. Годунова было уже не вернуть – склоки и дрязги в Большом, столкновения между главными его действующими лицами в балете не обещали ничего хорошего. А жизнь-то проходит: лучшие годы! В итоге 19 августа 1979 года после своего последнего балета «Ромео и Джульетта», где Годунов танцевал Тибальда, артист решил остаться в Америке, запросив политического убежища. Хотя речь шла прежде всего об убежище театральном.
«В этот день, – вспоминала Власова, – я разрешила Саше отдохнуть в отеле. Когда я пришла после репетиции, его не было. Я решила, что он в гостях у наших друзей, хотя мне показалось странным, что нет записки. Я прождала его до вечера и никому не сказала о том, что его нет. “Наши люди” уже зашевелились: “Где Саша?” Я ответила, что он у друзей. На следующее утро я все поняла. Я отправилась через дорогу в другой отель, где на 50-м этаже был бассейн – наш американский импресарио нам с Сашей сделал туда бесплатные пропуска. Весь день там просидела, чтобы никого не видеть. Вечером после спектакля я вызвала к себе в номер зав. труппой и все рассказала. Он пришел в ужас. Пришлось рассказать всем. Я сразу поняла, кто его увел. Это был фотограф Блиох. Он давно эмигрировал в Штаты, еще в Москве часто ходил к нам, много фотографировал и, между прочим, вел разговоры об отъезде: “Мила, ты такая красивая, ты можешь стать в Америке фотомоделью”. Приходил он к нам в отель и в Нью-Йорке. Кстати, потом, после скандала, на наших фотографиях он сделал себе состояние. Позже мне передали, что на панихиде Саши весь зал был увешан фотографиями работы Блиоха, а он сам плакал: “Это я виноват во всем!”».
Годунов бежал один, укрывшись у друзей, среди которых был и Иосиф Бродский, выступивший в роли переводчика. Примечательно, что в течение всех гастролей они с Власовой усердно покупали подарки для родных и близких, завалив ими люксовый номер отеля. Думал ли он в эту минуту, что будет с его женой, – вопрос риторический. Бродский (в присутствии которого полицейские взяли у Годунова отпечатки пальцев) по этому поводу замечает: «Саша объяснил мне – буквально на следующий день после своего побега, – что они обсуждали такую возможность неоднократно. Тем не менее в последние дни в Нью-Йорке она не выразила готовности; хотя в другом случае она такую готовность, видимо, выражала. Годунов догадывался, что после Нью-Йорка его собираются отправлять обратно в Москву. Он понял, что времени нет. Что разговоры с Милой будут длиться бесконечно… Отбросим романтическую, эмоциональную сторону, которая могла бы побудить Милу остаться. С практической точки зрения, чисто профессионально, ход рассуждений Милы мог быть таков. Годунов звезда. Ей, по качеству ее таланта, особой малины не предвиделось. Она была на семь лет старше Годунова. У Саши, если к нему придет успех на Западе, не останется никаких – если мы опять-таки отбросим романтические чувства – сдерживающих обстоятельств. Поэтому Мила вполне могла предположить, что ее жизнь на Западе обернется не самым счастливым образом. Ее итоговое решение зависело бы от степени привязанности к Годунову».
В итоге Власова решила срочно лететь в Москву, домой, к маме, руководящему работнику универмага «Москва» на Ленинском проспекте. Американские газеты уже вовсю раструбили об очередном советском невозвращенце, заметно накалив ситуацию. «Свободу Власовой!» – с плакатами такого рода собрались свободолюбивые граждане Нью-Йорка у отеля, где жили советские артисты (если раньше американцы знали лишь одного Власова – сдавшегося немцам в 1942 году генерала, – то теперь им пришлось запомнить и фамилию советской балерины, которую якобы силой решили вернуть в «империю зла»). Но Власова этого уже не видела, ее дорога до аэропорта имени Джона Кеннеди напоминала путаный маршрут заметающего следы иностранного резидента: главное сесть в наш самолет. Советские дипломаты в погонах здорово помогли ей в этом вопросе. Белоснежный лайнер «Аэрофлота», на котором предлагалось летать всем гражданам СССР (а других-то и не было!), вот-вот готов был к взлету, как неожиданно дорогу ему преградили полицейские машины с противными синими мигалками: Государственный департамент США запретил вылет, потребовав предоставления доказательств того, что Власову никто насильственно не увозит в СССР.
Три дня продолжались мучительные переговоры, все это время Власова и другие ни в чем не повинные пассажиры находились в самолете – юридически на советской территории. Американцы уговаривали Людмилу выйти к Годунову: «Вас насильно увозят. Он здесь, рядом, он вас безумно любит. Выйдите к нему и скажите сами, что не хотите оставаться». Но она не вышла, чувствуя свою слабину – любовь зла! В качестве моральной поддержки приходил в самолет Юрий Григорович, чтобы затем перед вечерним спектаклем в Метрополитен-опере выйти на сцену и сказать, что советскую балерину вместе со всем самолетом не отпускают домой (гастроли еще не кончились). Американцы привели к Власовой доктора: «Врач, оказывается, должен был определить, не накачана ли я наркотиками. Меня долго упрашивали остаться, но я твердила, что должна вернуться к своей матери, она не выдержит всего этого. Адвокат не произнес ни слова, но он стал весь мокрый. Выходили они все, как побитые». Да что там врач – сам Бродский пытался помочь уговорить Власову, все бесполезно. «Советская малина врагу сказала: нет!» В итоге самолет отпустили – не вечно же ему стоять в аэропорту!
Ну а что же зрители Большого театра? Они-то знали о происходящем? И как реагировали? Наверное, скорбели о том, что никогда больше не увидят любимого артиста воочию? На этот проникновенный вопрос ответим так: если они и скорбели, то лишь о том, что не могут выехать туда же вместе с Годуновым. А еще пообывательски костерили на чем свет стоит Власову: ну и дура! Дело в том, что все это время советские граждане наблюдали за происходящим по своим «Рекордам» и «Рубинам», а наиболее безответственные слушали параллельно еще и вражеские голоса. Можно сказать, что это было одно из первых ток-шоу в прямом эфире. «Завершился трехдневный телесериал про измену балеруна Годунова: будучи на гастролях в Штатах, ломанул от соглядатаев, попросил политическое убежище, фэбээровцы годуновскую жену Власову мурыжили в самолете, и три дня мы с американцами перетягивали канат, но все кончилось компромиссом – боевая ничья! А какая конфетная статья про Годунова недавно в “Студенческом меридиане” была! – семьянин, комсорг театра, образец для нашей молодежи…» – отметил в дневнике журналист Георгий Елин 25 августа 1979 года. В тот же день Андрей Тарковский записал: «По телевизору рассказывали о том, что Годунов (балерун из Большого) попросил политического убежища в США. Его жену выловили и привезли в самолет, заявив, что она не разделяет взглядов мужа. Амер. власти не выпускают самолет до тех пор, пока она не скажет об этом сама».
Советские газеты объясняли поступок Годунова привычно, мол, его «осаждала повсюду целая команда подстрекателей, суливших златые горы и море дармового виски». Но народ этим объяснением удовлетвориться никак не мог, обосновывая произошедший патриотический стриптиз на свой лад. «Редкий день, когда иностранное радио не принесло бы известия, что еще один гражданин нашей страны сделал родине ручкой. Последнее сообщение из Швеции, где инженер, посланный на нашу выставку, попросил политического убежища. Фамилию не назвали. Годунов, чета Козловых (балетные), Белоусова и Протопопов, матрос судна, инженер в Токио, физик в Швеции. Это в самое последнее время. Промытые в бесчисленных анкетных водах, просвеченные аппаратами компетентных органов, проверенные-перепроверенные – и такой конфуз. Кувалда массированной пропаганды вбивает в головы патриотические стереотипы, а люди бегут. Одни задыхаются от отсутствия политических свобод, другие стремятся поправить материальное положение. Душно даже тем, кто от политики далек. Массовость этих явлений должна была бы наталкивать на какие-то выводы профилактического свойства, побудить что-то изменить в правилах нашего существования, а не громче свистеть в полицейский свисток. Но хозяева страны и их челядь самоохранным инстинктом чувствуют, что только status quo удерживает их. Приоткрой форточку, впусти свежий воздух – и ветер перемен сметет их. Дела в стране идут все хуже и хуже, но утешение начальство черпает в слабости заграничных противников, которые вчера вынуждены были примириться с потерей Ирана, сегодня проглотить сандинистов в Никарагуа, завтра потерять влияние еще в каком-нибудь государстве. Но то, что сегодня выглядит нашей победой, завтра обернется величайшим поражением», – отметил 2 ноября 1979 года в дневнике критик Лев Левицкий. Трудно что-либо добавить к написанному, зная, как развернулись дела дальше. Будто провидец писал…
Упомянутые супруги Козловы – это коллеги Годунова, также сбежавшие на Запад в это время. Леонид Козлов танцевал в Большом с 1965 года, исполняя партии Зигфрида, Злого гения в «Лебедином озере», Базиля в «Дон Кихоте», а жена его, Валентина, пришла в труппу в 1973 году (Одетта-Одиллия, Хозяйка Медной горы, Джульетта). В отличие от Годунова и Власовой, не оправдавших поговорку, что муж и жена – одна сатана, супруги Козловы решили бежать единодушно, так сказать в ритме вальса. Они затем неплохо устроились в Америке, танцевали в труппе «Мерилэнд балле», в Австралийском балете, в «Нью-Йорк сити балле», создали свою труппу, с которой много гастролировали по миру. Резонанс от их побега был бы не таким громким, если бы не Годунов – с его звездным статусом. Одно дело, когда бежит один, а тут за короткий срок сразу трио. Целая комсомольская ячейка! Все это немедля дало повод острякам-скалозубам пошутить: «После возвращения с американских гастролей Большой театр будет переименован во второй Малый». А вот шуточка про фигуристов Протопопова и Белоусову: «Лед тронулся». Смешно.
А сотруднику ЦК КПСС Анатолию Черняеву (будущему помощнику Михаила Горбачёва) было не смешно. Как раз в эти дни его отправили в командировку в США, на встречу с американскими коммунистами (были там и такие). И вот со всего Нью-Йорка с трудом собрали человек 300 убежденных марксистов-ленинцев, партия которых успешно боролась с капитализмом в самом его логове (на советские, правда, денежки). Черняев должен был выступить с докладом перед американскими товарищами, многие из которых никогда в СССР не бывали, но за приближение светлого будущего активно боролись, а потому с повседневной жизнью при коммунизме не были знакомы. Поначалу все шло хорошо – разговор про разрядку мировой напряженности, и т. д., и т. п. Потом вдруг кто-то задал и вредные вопросы: почему из Советского Союза бегут его граждане и в частности артисты самого лучшего в мире балета? С трудом удалось Черняеву свернуть на любимую советскими пропагандистами тему о мирном использовании ядерной энергии, о борьбе за мир во всем мире, которую неустанно ведет дорогой Леонид Ильич.
И все же бегство раскрученного Годунова не прошло даром. Если уж американские коммунисты не могли понять причину его побега, что говорить о своих. Народ зашевелился и стал задавать вопросы прямо на встречах с лекторами общества «Знание». Специально для таких непонятливых были разработаны ответы. Приводим один из них: «Александр Годунов и балерина Людмила Власова, которые в 1979 году бежали за границу, просятся обратно в наш Союз. Ростропович также обивает порог нашего посольства, говорит: “Разрешите вернуться в Советский Союз, умоляю!” А мы говорим: “Изменникам прощения нет!”». И все ясно.
Вполне обыденными были и доводы американских журналистов, сбившихся со счету советским невозвращенцам и трактовавших эту историю как повторение шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте, на этот раз в условиях холодной войны. А какой сюжет хороший – так и просится на кинопленку! И самое удивительное, что первыми это осознали советские кинематографисты, а не жрецы Голливуда. Когда все вроде уже успокоилось, в 1984 году про Годунова на его родине опять вспомнили. При Андропове в Советском Союзе историю с самолетом решили экранизировать, изменив профессии главных героев, превратившихся в фигуристку и спортсмена. И ведь что интересно – снятый в назидание фильм «Рейс 222» снискал зрительский успех, заняв третье место во всесоюзном прокате 1986 года.
Нельзя сказать, что в дальнейшем судьба Годунова сложилась удачно и он обрел в Штатах то, что искал. Поначалу его статус премьера в Американском театре балета обусловил высокую ставку – пять тысяч долларов в неделю, или более 150 тысяч в год. Но долго это продолжаться не могло по той причине, что руководил труппой его однокашник по Рижскому хореографическому училищу Михаил Барышников: и здесь интриги! Барышникову приписывают фразу: «Эти 20 сантиметров я тебе не забуду!» Речь идет о том, что Годунов был выше его на два десятка сантиметров, что в балете является важнейшим критерием для отбора на те или иные роли. «Сейчас многие считают, что ему помог бежать его однокурсник Миша Барышников, – говорит Людмила Власова. – Но мне кажется, что как раз Миша был меньше всего заинтересован в том, чтобы Саша остался в Америке. Там был целый клан людей, которым был нужен Годунов. Миша – фантастический танцовщик, но он маленького роста. Он завидовал Годунову, его росту, красоте и таланту. А потом, они и не были такими уж друзьями. Контракт с Американским театром скоро прервался по инициативе Барышникова, но не Миша сломал его карьеру, а Саша сам это сделал. Он всегда был бессребреником, а Миша всегда знал, что́ ему нужно».
Когда Годунов пришел в Американский балет, там уже несколько месяцев продолжалась забастовка кордебалета, требовавшего повышения зарплаты, – прямо скажем, фон не очень подходящий для дебюта. Кроме того, странным образом после прихода Годунова из репертуара балета исчезли постановки, в которых танцевал Годунов, в том числе «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». После ухода в 1982 году из Американского балета Годунов продолжал выступать на разных сценах мира. А через три года, закончив с балетом, решил продолжить кинокарьеру, начавшуюся еще в СССР. Из всех зарубежных фильмов, которых наберется с десяток, он запомнился ролью террориста-маньяка в боевике «Крепкий орешек» 1988 года. Долгий роман связывал Годунова с красавицей киноактрисой Жаклин Биссет… А в мае 1995 года Годунова обнаружили мертвым в его доме в Западном Голливуде. Причина смерти неясна (будь то злоупотребление алкоголем или встречающееся среди балетных тяжелое заболевание) – вскрытия не было. Прах Годунова развеян над Тихим океаном. Иосиф Бродский написал в некрологе: «Я считаю, что он не прижился и умер от одиночества».
Людмила Власова через некоторое время после развода с Годуновым (осуществленного через совпосольство) связала свою жизнь с басом Большого театра Юрием Статником, посвятив себя воспитанию молодых спортсменов в художественной гимнастике и фигурном катании (в частности, Анна Семенович и Владимир Федоров). Что же касается компетентных органов, в очередной раз прозевавших артистичного бегуна, то их концепция себя не оправдала. Генерал КГБ Юрий Дроздов рассказывал, что после бегства из СССР Рудольфа Нуреева, а затем Барышникова, в результате глубоких раздумий в недрах комитета родилась мысль – причиной их поступка является вредное влияние общего учителя – ленинградского хореографа Александра Ивановича Пушкина. Дескать, это он внушил артистам любовь к свободе, заставившую их оставить родное отечество. Но Годунов-то у Пушкина не учился!
А бежать из театра артисты пытались постоянно. Перед войной в Большом было три звезды, три молодых тенора – Иван Козловский, Сергей Лемешев и Иван Жадан. Все орденоносцы, все со званиями, пользовавшиеся бешеной популярностью у публики и на кремлевских концертах. Только вот первые два нам хорошо известны, а третий – Жадан (певший в Большом с 1927 года) – куда-то подевался. Все объясняется просто: он оказался на оккупированной территории и ушел с немцами в надежде на лучшую жизнь… А в 1930-х годах имя его не сходило с афиш. «В филиале Большого была на “Фаусте”. Сначала понравилось. Надо забыть “Фауста” Гёте, и тогда поймешь “Фауста” в филиале. Здесь Фауст – сластолюбивый старец, связавшийся с Мефистофелем только потому, что тот вернул ему младость. Самое лучшее в этой постановке – музыка, особенно арии “Люди гибнут за металл”, “Дверь не отворяй”, очаровательный вальс и много других мест. Мефистофель (Пирогов) изумителен, Маргарита (Баратова) старовата, Фауст (Жадан) толстоват. Это портит впечатление», – читаем мы в дневнике москвички Нины Костериной в записи от 7 ноября 1938 года…
Осенью 1941 года обстановка на подступах к Москве опасно обострилась. Большому театру было предписано эвакуироваться в Куйбышев. 16 октября в городе воцарилась жуткая паника – остановился транспорт, грабили магазины, брали все, что могли унести с собой. Десятки тысяч людей устремились из города в восточном направлении, испытывая одно-единственное желание – любой ценой сесть в поезд на Казанском вокзале. Но к вокзалу было не пробиться, поезда брали штурмом. Молодой дирижер Большого театра Кирилл Кондрашин, уже переживший одну эвакуацию (из Ленинграда), удивлялся: какая огромная разница между столицей и Ленинградом: «Как был организован народ в Ленинграде! Никакой паники, все очень серьезно, сурово и четко. И какая паника была в это время в Москве! Была непосредственная угроза захвата. Уже шли разговоры о том, что город готов к эвакуации».
Только недавно он приехал в Москву из Ленинграда, а тут пришлось Кондрашину эвакуироваться второй раз: «И вот вечером, часов в шесть, нам сказали – скорее на вокзал. Мы бросились в гостиницу за своими тючками, а у каждого их три-четыре. В метро мы сели, доехали до вокзала и не можем выйти. Вокзалы закрыты и выходы из метро на Казанском вокзале тоже закрыты. Ничего не известно. Толпа, дикая свалка. Мы знаем, что часть театра там, часть с нами, здесь. Закрыли двери, не пускают, переполнено все. Выяснилось потом, что все поезда отменены, кроме двух. Один идет в Саратов, другой – в Куйбышев, и все. А там же – Союз композиторов. Там Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Арам Хачатурян, Кабалевский – все сидят на перроне, а мы не можем на перрон попасть. И тут нам как-то повезло. Кто-то поднапер – двери выломались, и вся толпа вывалилась на перрон. Тут все полезли в вагоны, мы в том числе, и Шостакович с вещами. Арам Ильич Хачатурян страшно волновался, что у него медикаменты пропали. В общем, как только все залезли в вагон – поезд тронулся. До Куйбышева поезд шел семь дней… В шестиместном купе ехало 11 человек… А потом добрались и до Оренбурга, где Хайкин (Борис Хайкин, дирижер. – А. В.) стал директорствовать».
Не все артисты Большого театра сумели протиснуться в вагон, немалая часть их осталась в Москве. Александр Пирогов, например, не смог выехать – у него тяжело заболела жена, а когда пошли разговоры, что он ждет немцев, певец был вынужден эвакуироваться, дабы избежать подозрений. Лемешев, ожидая посадки, сильно простудился на Казанском вокзале – ему не помогло даже то, что провожать его пришла Полина Жемчужина, жена Вячеслава Молотова, наркома иностранных дел (они дружили семьями, Лемешев с Молотовым были партнерами по преферансу). Впоследствии певец, пережив воспаление легких, все же смог покинуть город. И вот что занятно – проживая в эвакуации в Елабуге весной 1942 года, Лемешев старался побольше дышать чистым воздухом, для чего часто ездил в сосновый лес – так ему рекомендовали врачи. В лесу он любил репетировать, петь. Но у органов НКВД эти поездки знаменитого тенора вызвали серьезную обеспокоенность. Местные компетентные товарищи решили, что он шпион, а в лесу прячет радиопередатчик, по которому передает секретную информацию самому Гитлеру. И это не шутка – чекисты прочесали весь лес, но передатчика не нашли, только грибы да ягоды. К счастью, Лемешев вскоре покинул Елабугу, а затем вернулся в Москву.
А Иван Данилович Жадан на Казанский вокзал не поехал, устремившись совсем в ином направлении – на Запад, в поселок Манихино Истринского района, в дачный кооператив «Вокалист Большого театра» – излюбленное еще до войны место отдыха не только артистов главной сцены страны, но и остальной творческой интеллигенции Москвы. Здесь, на своих дачах, Жадан и его соседи дождались прихода немцев. Среди них были актер Малого театра заслуженный артист РСФСР Всеволод Блюменталь-Тамарин, бывший директор Вахтанговского театра Освальд Глазунов. К ним хотел примкнуть и популярный солист Всесоюзного радио Борис Дейнека, один из первых исполнителей песни «Широка страна моя родная» в сопровождении Ансамбля песни и пляски Московского военного округа. Но Дейнеку задержал военный патруль, причем, как утверждал его сосед Аркадий Ваксберг, вместе с белым роялем и другими личными вещами (неужели в Третьем рейхе не нашлось бы лишнего рояля?), певец был арестован и осужден на десять лет лагерей[31].
Долго ждать немцев не пришлось. В конце ноября фашисты заняли Истру, катастрофические для местных памятников архитектуры последствия их двухнедельной оккупации ощущаются до сих пор. Сам Жадан рассказывал так: «Манихино захватили немцы. Нас, солистов Большого театра, тогда там было много. Так вот, в мой дом, где вместе со мной тогда были концертмейстер, знавшая хорошо немецкий язык, баритон Волков и еще несколько артистов, вошел офицер. “Кто такие?” – сурово спросил он. “Артисты”, – пролепетала насмерть перепуганная пианистка. Офицер на минуту задумался, потом его лицо просветлело. “А Вагнера можете исполнить?” Волков утвердительно кивнул головой…»
Иван Жадан и его коллеги порадовали «освободителей» импровизированным концертом по случаю дня рождения одного из немецких офицеров. Конечно, трудно поверить в тот факт, что они оказались в этом месте и в это время случайно или вынужденно. Все всё прекрасно понимали. И не зря они и ушли вместе с фашистами. В дальнейшем их судьба сложилась соответственно. Блюменталь-Тамарин за активное сотрудничество с гитлеровцами был убит советским агентом Миклашевским в 1945 году. Глазунова арестовали в Риге органы Смерша в 1944 году, он умер в лагере в 1949-м. Лишь Жадан избежал ответственности и, перебравшись в США, продолжал сольную карьеру. На странный вопрос о том, почему он не вернулся в СССР, певец ответил: «Я не пострадал, мне было очень хорошо, я был материально всем обеспечен, но русский народ пострадал. А разве я не принадлежу к народу? Глаза-то у меня были, я видел все, что творилось».
Да, Жадан отнюдь не страдал при большевиках – имел квартиру в Брюсовом переулке и все полагающиеся привилегии, большими тиражами выходили его пластинки, постоянно транслировали его записи и по радио. Жадана не назовешь и совсем уж невыездным – в середине 1930-х годов его отпускали петь в Турцию и Латвию, не Америка, конечно, но всё же. За границей о нем писали как о первом русском теноре, успех был фантастическим, что и повлияло на дальнейшее сворачивание гастрольной деятельности певца: сбежит еще, пусть лучше у нас поет, перед рабочими и колхозниками (вредным с моральной точки зрения было и долгое пребывание советских граждан, кем бы они ни были, в капстранах с их товарным изобилием).
Слухи о произошедшем в Манихине дошли до Москвы довольно скоро, несмотря на то, что эта информация всячески скрывалась. В дневнике филолога Леонида Тимофеева читаем: «Я ел недавно собачью котлету. Она очень вкусная. В Москве очень много бездомных собак. Их доставляют в ветеринарные больницы, где убивают электротоком. Ветеринары употребляют их мясо в пищу и снабжают своих друзей. Один из них меня и угостил… Говорят, что в Истре на своих дачах остались наши артисты – Жадан, Редикульцев и другие – и уехали вместе с немцами. Такой же эпизод был в Ленинграде с Печковским. В Тарусе оставалось несколько знакомых наших знакомых. Они говорят о любезности немцев. Зверств не было, но многое они брали “на память” и просто так, хотя офицеры в то же время разговаривали об искусстве и прочем. Уходя, они говорили, что вернутся и что Москва будет обязательно ими взята».
После бегства Жадана (с женой и младшим сыном) его старший сын, призванный ранее на фронт, был репрессирован. После освобождения ему помогали с московской пропиской бывшие коллеги отца, в частности Вера Александровна Давыдова. С сыном Жадан встретился уже в 1992 году, когда приехал в Москву, вновь переступив порог Большого театра после стольких лет разлуки уже в качестве зрителя. Сын не держал на него обиды: «За что мне его упрекать? Покинуть родину его вынудили обстоятельства, которые никто не сможет объяснить. Разве он кого-то убивал, кого-то предавал? Нет, мне не в чем упрекнуть своего отца. Я горжусь им», – сказал он в интервью газете «Труд» в 1994 году. Жизнь певца была долгой – он прожил 92 года, успев дождаться исхода советской власти. Мог бы, наверное, и выступить на сцене Большого театра (а чем он хуже старика Рейзена?), да, видно, никто ему не предложил…
Интересно, что упомянутый Жаданом баритон Большого театра Александр Волков – не кто иной, как настоящий отец актрисы Вахтанговского театра Людмилы Максаковой. Об этом она не раз говорила в своих интервью. Уйдя с немцами, Волков впоследствии перебрался в Америку, где создал свою школу драматического и оперного искусства. В этой же компании – и бас Иннокентий Редикульцев, выступавший в Большом театре в 1931–1940 годах. При немцах он пел в Литве для местного населения. Погиб он в 1944 году сорока пяти лет от роду при весьма необычных обстоятельствах. Дело в том, что он был близок с митрополитом Виленским и Литовским Сергием (Воскресенским) – тем самым, что остался в оккупированной гитлеровцами Прибалтике. 29 апреля 1944 года машину Сергия, в которой ехал и Редикульцев с супругой, взорвали под Вильнюсом. Кто это сделал – до сих пор остается загадкой: то ли партизаны, то ли сами немцы, которым бывший советский митрополит уже поднадоел. Примечательно, что даже через много лет в своих воспоминаниях Иван Козловский писал о Редикульцеве как о героически погибшем «своем товарище», ставя его в ряд с певцом Александром Окаемовым, расстрелянным немцами.
Описанные случаи с известными деятелями советского искусства – не из ряда вон выходящие. Аналогичная ситуация сложилась, например, в жизни знаменитого оперного певца, народного артиста РСФСР, кавалера ордена Ленина Николая Печковского, выступавшего на оккупированных территориях. Ольга Форш рассказывала Всеволоду Иванову в январе 1943 года: «Был такой тенор, пел в “Евгении Онегине”. Напел много, построил дачу против меня (в поселке Карташовка. – А. В.). Глупый. Дача “ампир”, с колоннами. Он сидит на террасе, в джемпере, вышитом незабудками – мальчиков любил, они и вышивали. Вижу, возле террасы старушка варенье варит. Все едут мимо – и в восторге. “Ах, – ‘Евгений Онегин!’ ”… Немцы идут. Все мы уезжаем. А Печковский все сидит и сидит. – “Чего это он?” – “Да немцев, говорят, ждет”. Верно, немцев. Дождался. Он на советскую власть обижался: ордена не дает, потому что мальчиков любил. Поехал он в Киев. Выступал там с большим успехом. Решил – все в порядке, все устроено, на дачу возвращаться пора и – вернулся. А тем временем окрестные мужики все в партизаны ушли. Вот сидит он на даче, приходят мужики: “Пожалуйте в лес”. – “Чего?” – “Приговор надо исполнить”. – “Какой приговор?” – “Вынесли приговор мы, надо привести в исполнение”. Увели в лес, исполнили, – а бумагу об исполнении сюда прислали».
Находившиеся в Москве участники процитированного разговора не могли знать, что попытка партизан повесить Печковского не удалась, а вешать было за что – он слишком громко пел при немцах. Вот что писала о нем коллаборационистская газета «Речь» в сентябре 1942 года: «Артист Мариинского оперного театра Николай Константинович Печковский на днях дал в Пскове три концерта. Псковичи с нетерпением ждали знаменитого русского артиста и чрезвычайно были рады дорогому гостю, порадовавшему население своими прекрасными песнями. Печковский не пожелал следовать с красной ордой, вожди которой, несомненно, желали иметь при себе такого крупного деятеля искусства. “Я рад служить своему народу и его освободителям – германским воинам”, – говорит Николай Константинович». Судя по всему, говорил Печковский искренне.
Резонанс от его выступлений перед оккупантами был настолько большой, что голос певца услышали даже в Кремле. Попытка выкрасть и судить Печковского в назидание другим не удалась. Лишь в 1944 году сотрудники Смерша, наконец, арестовали артиста, трибунал дал ему десять лет лагерей. В Инте он руководил лагерной самодеятельностью. О смягчении участи певца хлопотал Иван Козловский, пославший ему в лагерь посылку с продуктами и деньги – две тысячи рублей. Нельзя сказать, что они дружили – Иван Семенович сделал это скорее из цеховой солидарности. А году в 1958-м Печковский вдруг объявился в Москве. Он решил вернуться на сцену, но не своего родного ленинградского Кировского театра, а сразу в Большой. Ну куда же еще стремиться человеку с такой пестрой биографией! Стреляный воробей, Печковский не придумал ничего лучше, как сразу обратиться к директору театра Михаилу Чулаки, позвонив ему по телефону: «С вами говорит Николай Печковский, если вы помните такого!» Ну как же его не помнить – пел из всех репродукторов в 1930-е годы, если только не из утюга. Печковский напросился на встречу.
Едва зайдя в кабинет директора Большого театра, Николай Константинович начал с места в карьер, рассказав, что он полностью реабилитирован – не хватает только документов, в получении которых он просит помочь Чулаки, что тот и сделал, позвонив куда надо. Уже на следующий день Печковский получил не только нужные бумаги, но даже орден Ленина, присвоенный ему в 1939 году. Директору и в голову не пришло, что это лишь начало: нацепив орден, певец обратился со следующей просьбой – взять его на работу в Большой театр, ведь теперь в свои 62 года он поет «еще лучше, чем в прошлые времена», к тому же все документы у него теперь на руках. «Вы пригласите меня спеть спектакль в качестве гастролера, вот и узнаете, каков я на сегодняшний день», – смело предложил Печковский. Оторопев от такой наглости, Чулаки все же заставил просителя немного сбавить пыл и продемонстрировать свой прекрасный голос на прослушивании. Но и тут Печковский выторговал себе привилегию: на прослушивании не должно быть «никаких Покровских, никаких Мелик-Пашаевых», а только лишь один аккомпаниатор Наум Вальтер (он числился при Всесоюзном радио и выступал вместе с Козловским, Лемешевым и многими «первачами»).
Как и следовало ожидать, та напористость, с которой орденоносец Печковский рвался в ряды артистов Большого театра, оказалась обратно пропорциональна уровню его пения, от которого ничего не осталось с той поры, когда он собирал полные залы. Тактичный Чулаки искал подходящие слова: «И вот мы идем с ним по пустынным переходам Большого театра, направляясь в сторону директорского кабинета, и я наконец решаюсь: “Николай Константинович! В памяти нескольких поколений вы занимали место в ряду наиболее выдающихся русских певцов нашего времени. И вы не имеете права снижать этот светлый образ, принадлежащий отечественной культуре. Вы не можете, не должны больше петь!” Сказал, и вновь мы печатаем шаги в гулком молчании спящего театра. И лишь на последнем марше лестницы, ведущей вверх, в мой кабинет, а вниз, на выход из театра, Печковский резко затормозил и отчеканил: “То, что вы сказали, – ужасно!” – и после некоторой паузы добавил: “Но я с вами не согласен”». Потерпев неудачу в Большом театре, Печковский уехал брать приступом Кировский театр, где его также постигло разочарование.
Но даже если бы случилось чудо и Печковский взял бы верхнюю ноту до, вряд ли его зачислили бы в труппу Большого театра, как раз в это время переживавшего непростые времена – на пенсию отправили бо́льшую часть совсем еще не старых любимцев публики. Большой театр – жестокий театр. Вслед за своим дирижером Головановым артисты первого положения получили напечатанные на тонкой папиросной бумаге приказы о их увольнении. Пришел такой конверт и Марии Максаковой, дочь которой Людмила запомнила, до какой степени это было «невероятно, неожиданно, жестоко и бесчеловечно», что ее мать тяжело заболела.
Увольнение из Большого театра – процесс болезненный независимо от того, как он проходит. Уходить не хочется никому, ни народному артисту, ни артисту из народа. Тем более что народных артистов все же меньше, чем всех остальных, и потому сопротивляются они отчаянно. Понять людей можно. Внезапно нарушается выработанный десятилетиями ритм повседневной жизни, да и какой жизни – крепко спаянной с судьбой лучшего в стране и в мире (как тогда надеялись многие) Большого театра, без которого уже невозможно себя представить. Им было что терять. После войны Сталин установил солистам Большого театра министерские оклады – по семь тысяч рублей в месяц при средней зарплате по стране 400 рублей (а в колхозах и вовсе за палочки спину гнули). За эти деньги народные артисты СССР должны были петь по пять спектаклей в месяц, а пели от силы два-три раза. Их повседневная жизнь сильно отличалась от жизни зрителей. Тот же Иван Семенович Козловский – сосед Максаковой – имел двухэтажную квартиру в доме Большого театра на улице Неждановой[32], машину, дачу, ни в чем не нуждаясь. Правда, за границу его не выпускали, на просьбу певца отправить его на гастроли в Европу Сталин возразил: «Вы где родились? В украинском селе Марьяновка? Вот туда и езжайте!» Но ему и так неплохо было, а точнее – незыблемо.
Все изменилось в 1953 году. Отсутствие в Кремле главного любителя опер и балетов, начало кукурузной кампании и полетов космических кораблей, бороздящих просторы Вселенной и унесших туда же (то есть в небо) и без того мизерные доходы простых советских тружеников, а также общая ревизия сталинского наследства как таковая – все это позволило наконец добраться и до неприкасаемых народных артистов. В газете «Правда» вышел фельетон Семена Нариньяни «На верхнем до», обличающий зажиточную жизнь хорошо устроившихся многолетних солистов Большого театра и их финансовые претензии. Фамилия этого фельетониста гремела тогда на весь Советский Союз. Своими публикациями он испортил жизнь многим известным людям – звездам кино и спорта (одна история со Стрельцовым чего стоит!). В те годы сила печатного слова была высока: раз фельетон напечатан, значит, во-первых, это правда, а во-вторых, это кому-то нужно и этот кто-то сидит очень высоко.
В фельетоне Нариньяни ловко обыгрывалась личность солиста Большого театра, обозначенного как герцог Мантуанский (из оперы «Риголетто») – или просто Мантуан Мантуанович, который требовал за свои выступления на гастролях по 25 (!) концертных ставок. В фельетоне называлась конкретная сумма – 126 тысяч за 14 выступлений в Минском оперном театре. Это было не много, а слишком много даже для Большого театра. Сталкиваясь с фантастическими запросами Мантуана Мантуановича, дирекции советских театров вынужденно повышали цены на билеты в два-три раза, не боясь, что они будут не раскуплены. И ведь раскупали все под чистую – так его любила публика. Такие штуки до 1917 года проделывал только Шаляпин. Но он-то пел для помещиков и капиталистов!
А ведь еще при Сталине Комитет по делам искусств издал приказ № 752, регламентировавший размер концертных ставок для артистов, распространявшийся в том числе и на Большой театр. Но в любом правиле есть исключения, было оно и в приказе – в специальном примечании говорилось, что ставки можно повышать в случае подготовки новой высокохудожественной программы, а также за поездки в отдаленные районы СССР. Этой лазейкой и воспользовался Мантуан Мантуанович, выступление которого в том же Минске оплачивалось по расценкам Чукотки. Автор фельетона взывал к совести Мантуана Мантуановича, приводя в пример его коллег по театру – Пирогова, Михайлова, Лисициана, Уланову, которые повышенных гонораров не требовали. А он – златолюбец такой, всегда долго и нудно торгуется перед каждым выступлением. Фельетон заканчивался призывом к Министерству культуры ударить по ветхозаветным и мелкособственническим инстинктам Мантуана Мантуановича.
Осведомленным читателям газеты было понятно, о ком идет речь, – о Козловском, крайне болезненно относившемся к критике, воспринимавшем ее как оскорбление. Еще в 1938 году в Большом театре случилась похожая ситуация – Иван Семенович прочитал о себе статью «Заносчивый тенор», придя в столь сильное расстройство, что никак не мог выйти на сцену. Начало оперы «Риголетто» (совпадение какое!) задержали на 45 минут. Вызванный на замену тенор также не стал петь, из солидарности. Спектакль оказался под угрозой отмены. Возмущенный главный дирижер и художественный руководитель театра Самосуд, не услышав от Козловского извинений, решил в качестве воспитательной меры уволить его, наткнувшись на сопротивление Комитета по делам искусств, где ссориться с любимцем Сталина не захотели. Тогда Самосуд просто отстранил певца от работы, поставив ультиматум: «Или я, или Козловский!» Но никто не мог взять на себя смелость уволить заносчивого тенора, советуя Самосуду: «А вы Молотову позвоните!» Главный дирижер не отважился беспокоить главу советского правительства по такому, казалось бы, пустяковому вопросу – и правильно сделал. У него в эти дни и без Большого театра хлопот хватало – предстояла поездка в Берлин, к Гитлеру.
Самосуду осталось лишь сетовать на собственную беспомощность: «Козловский зарабатывает по 85–90 тысяч рублей в месяц. Он у нас числится, жалованье получает, но не поет потому, что художественное руководство не пускает. В Большом театре есть такие, которые зарабатывают по 60–75 и 80 тысяч рублей, и в то же время есть балетные девушки, получающие 253–275 рублей в месяц. Им даже на чулки денег не хватает… И есть кучка стяжателей. Одни недовольны потому, что получают очень мало, а те недовольны, что им не дают возможности быть Рокфеллерами. Многие имеют машины, дачи. Они льют слезы о старом, потому что они имели бы дома каменные. Многие из них на пенсии. В императорских театрах были оклады по 50–60 тысяч золотом. Это считался придворный театр. Сейчас оклады небольшие – 12–16–18 тысяч. Тариф смешной: скажем, Рейзен в Ленинграде получает четыре тысячи рублей за спектакль. А у нас он получает 1200 рублей. Козловский получает четыре тысячи рублей за выход – где угодно ему девушки платят, а в театре он получает 1300 рублей за семь выступлений. 1300 рублей он платит своему шоферу». Самосуд не только не смог уволить Козловского, но и вынужден был выпустить его на сцену, когда на очередной спектакль приехал Сталин, а в афише фамилии любимого тенора вождя не обнаружилось. Ничего не брало заносчивого Ивана Семеновича.
Интересно читать и сравнивать свидетельства разных эпох, убеждающих нас в том, что времена меняются, а люди остаются прежними. Проблема, о которой шла речь в фельетоне, назрела в Большом театре давно, можно сказать, перезрела. Кирилл Кондрашин, на глазах которого все это развивалось, очень точно сформулировал диагноз, обозначив его как распад классического искусства в Большом театре. Выразилось это в том, что артисты-Рокфеллеры «потеряли чувство ответственности перед искусством», не желая даже репетировать в полную силу, работая «вполноги». Вельможные солисты настолько привыкли к курортным условиям труда в Большом театре, что отстаивали свое право петь два раза в неделю, а не пять. И их можно было понять: являясь гордостью советского народа, они старались всячески себя для этого народа беречь. Спевки на репетициях превратились в механическое отбивание такта и проверку партий: «Фактически всю работу с певцами передоверили концертмейстерам, которые готовили с певцами партию не дальше того, чтобы они знали ее приблизительно». В театре получил распространение так называемый грибок премьерства, как зараза расползавшийся по гримеркам и кулисам. С нежелающих работать «первачей» брали плохой пример артисты второго ряда, за ними – третьего. «Мы с Покровским были вынуждены в каждой новой постановке не занимать тех, кто работал с нами в предыдущей. Потому что наш опыт показывал: если человек получил свой кусок, то работал уже с неохотой. Случались исключения – Нэлепп, Михайлов, ряд добросовестных принципиальных художников, с которыми всегда работать было одно удовольствие – таких было мало, к сожалению…» – с горечью говорил Кондрашин в эмиграции. Негативную роль играла и безнаказанность, усугублявшая моральную сторону проблемы: в своем театре они поют через силу, а за его пределами стараются как стахановцы.
Свою печаль и обиду на фельетон «На верхнем до» и его автора Иван Семенович принес в кабинет директора Большого театра, потребовав, чтобы его защитили от возмутительных нападок. Но времена на дворе стояли другие, театр не пожелал заступаться, тогда Козловский отказался выходить на сцену в очередной раз. Тут и нашла коса на камень – администрация театра как раз в это время решила призвать солистов работать, как положено. Возникло даже некоторое противостояние между кардиналом (директором) и мушкетерами (так прозвали в театре отважных певцов-стяжателей). Народные артисты, отражая очередной выпад дирекции, утверждали, что получаемая ими зарплата должна соответствовать уровню дохода их коллег в ведущих театрах мира, например в Ла Скала или Гранд-опера. Мечтать не вредно…
Тогдашний директор театра (в 1951–1955 годах) Александр Анисимов пошел ва-банк, решив наказать мушкетеров рублем: придя 20-го числа за окладом, они увидели в ведомости не привычную сумму с тремя нулями, а ее сильно урезанный вариант. Народным артистам начислили зарплату ровно за то количество спектаклей, в которых они изволили петь, – за два, а не за пять, то есть получили они на руки лишь 40 процентов от причитающегося им. В ответ обиженные примы и премьеры пожаловались наверх, откуда раздалась гроза: директору велели немедля извиниться перед лауреатами Сталинских премий и чуть ли не лично вручить им зарплату в полном объеме, уподобляясь Юродивому из «Бориса Годунова» (только с тем условием, что Юродивый должен был не просить копеечку, а уговаривать взять ее). Звонок поступил чуть ли не из приемной самого Георгия Маленкова, короткое время пребывания которого на посту советского премьера осталось в поговорке «Пришел Маленков – поели блинков!».
Однако вскоре посягнувшего на святое директора сняли (вместе с Маленковым!), и уже его сменщик Михаил Чулаки, не связанный ранее данными обязательствами, сумел не только поставить строптивых певцов на место, но и отправить их на заслуженный отдых. Из театра, правда, их никто не выгонял – выведя сталинских лауреатов за штат, им предложили стать приглашенными певцами, работать по контракту – до трех раз в месяц, а платить им теперь будут конкретно за каждую исполненную партию в зависимости от ее сложности. Разумно. Но мушкетеры посчитали для себя новые условия оплаты унизительными, на собраниях своего штаба в Брюсовом переулке (где они все и жили) певцы-пенсионеры решили добиваться самых высоких ставок. В ответ дирекция предложила – спойте в ближайших операх свои коронные партии, а оплата будет по низшему разряду, ведь роли-то небольшие, а там посмотрим! В частности, в спектакле «Садко» это были партии Варяжского и Индийского гостей. Так постепенно народные артисты втянулись в работу на новых условиях: в конце концов, надо дорожить тем, что еще зовут. Лишь один человек заартачился, проявив свой заносчивый характер, он-то и был лидером этого «мушкетерского» движения. Кто это? Нетрудно догадаться – Мантуан Мантуанович, то есть извините, Иван Семенович Козловский. Все его коллеги-пенсионеры позже выступали в спектаклях театра – и Рейзен, и Лемешев, лишь он один лишил публику такой радости, проявив неуступчивость. Хотя на сцену Большого он все же выходил – во время всевозможных юбилейных торжеств, в том числе и в честь себя любимого, когда Козловский появлялся перед народом в своей неизменной белой пилотке, принадлежавшей когда-то Джавахарлалу Неру. Иван Семенович полагал, что пилотка – залог долголетия, что и подтвердил на собственном опыте, прожив 93 года.
Массовый исход народных артистов на пенсию был обоснован. Мало того что после смерти Сталина зарплату ведущим солистам урезали – отныне самая высокая ставка составляла пять с половиной тысяч рублей в месяц, но чтобы выйти на пенсию, теперь нужно было пропеть уже не 20, а 25 лет! Вот почему, прикинув в уме, что к чему, Козловский, Лемешев, Рейзен и другие певцы благоразумно для себя решили воспользоваться ситуацией. Не оформившие пенсии певцы много потеряли в дальнейшем. В частности, народный артист СССР Алексей Иванов, выступавший на сцене Большого 30 лет кряду и вышедший на пенсию уже после реформы 1961 года, получал лишь половину от пенсии своих знаменитых коллег, всего 200 рублей (в деревнях в это время только-только стали получать пенсии по 30–40 рублей) вместо 400. Остальные артисты получали и того меньше – 120 рублей в месяц.
Что же касается певцов второго ряда, то к ним привилегированные условия не относились. Как рассказывает сын Соломона Хромченко, когда его отец стал ездить с программами по различным городам страны, то его и другого вышедшего на пенсию певца – Петра Селиванова уличили в получении нетрудовых доходов: «Пенсионеры имели право заработать, в пересчете на месяц, не больше половины бывшей зарплаты, а потому, когда в первой же поездке ее превысили, их тут же вызвали в налоговую инспекцию и не только оштрафовали, но и предложили вернуть заработанные честным трудом “излишки”».
Чтобы уволить из театра потерявшего вокальную форму или часто болеющего певца, достаточно было выставить его на конкурс, в процессе которого он должен был доказать право остаться в труппе. Особенно это проявилось в начале 1960-х годов, когда в Большой театр пришло много молодежи, в том числе после стажировки в Италии. И здесь случались подлинные трагедии, по накалу несравнимые с «Ромео и Джульеттой». Когда заслуженная артистка Мордовской АССР меццо-сопрано Елена Грибова узнала об увольнении после двадцати лет работы в театре, «с ней случился нервный припадок – она полезла в петлю, откуда ее успели вовремя вынуть и отправили в больницу. Мы с ее устройством возились больше полугода, и лишь в мае 1964 года она получила небольшую персональную пенсию местного значения (60 рублей) и ушла из театра», – сообщает завтруппой Анатолий Орфенов. Случалось, что из театра уходили и по своей воле. В частности, в 1960-х годах один из драматических теноров решил покинуть труппу в самом начале сезона, что застало дирекцию врасплох: 43-летний певец ушел в ансамбль Александрова. Опасаясь быть уволенным из театра до выхода на пенсию (до которой ему нужно было проработать еще пять лет), бывший мичман Черноморского флота вновь пошел служить на сверхсрочную службу в ансамбль, дабы обеспечить себе безбедную старость.
Но даже пройдя конкурсные испытания, певцы порой соглашались на любые партии. Например, вместо князя Игоря или Мизгиря они назначались на третьестепенные роли безликого боярина в «Борисе Годунове» или Нарумова в «Пиковой даме». Не прошедшие конкурс (изменился тембр, захрипел голос) пытались остаться в театре, хоть в любом качестве – суфлером, хористом, артистом миманса, инспектором оперы, помощником режиссера, заведующим стажерской группой. Уходили и на педагогическую работу, в ГИТИС или консерваторию. Периодически в театре проводилось сокращение кадров, например, в 1981 году в штате насчитывалось 94 солиста, а уже в 1984 году – 84. Несмотря на омоложение труппы, уже к началу перестройки в Большом театре сложилась неприглядная ситуация – поющий на премьерах первый состав некем было заменить. К 1985 году подавляющее число певцов – почти три десятка человек – имели право на пенсию, как то: Ирина Архипова, Владимир Атлантов, Александр Ведерников, Юрий Гуляев, Юрий Мазурок, Алексей Масленников, Тамара Милашкина, Елена Образцова, Владислав Пьявко, Евгений Райков, Белла Руденко, Тамара Синявская, Артур Эйзен и другие. Старение труппы было налицо. Похожая ситуация наблюдалась и в балете.
Глава третья. Жизнь за царя и генерального секретаря. Куда сажали в Большом театре
Пророчество Шаляпина: Федька и Митька – Баритон Дмитрий Головин – Неподражаемый голос и неровное поведение – В одном доме с Мейерхольдом – «Признать виновным» – В лагере его называли Батей – Зрители за колючей проволокой – Оркестр Варламова – Контральто Ольга Михайлова: из кассирш в певицы – Вторая жена маршала Буденного – Семен Михайлович или Соломон Маркович? – «Подлая шпионка» трех разведок – Ссылка в Енисейске – В театр как на праздник – Психушка – «Иван Сусанин» 1939 года и политическая подоплека – Булгаков правит бал и либретто – Режиссер Борис Мордвинов и дирижер Самуил Самосуд – «Спасибо товарищу Сталину за его ценные указания» – Арест Мордвинова – Театр в Воркуте – Балерина Нина Горская, жена Бориса Чиркова – Балерина Галина Лерхе – Аврелия Добровольская, первая Шемаханская царица – За опоздание – под суд!
Дабы избавить читателя от мучительных раздумий о содержании данной главы, оговоримся сразу – речь идет не о контрамарках и знакомых капельдинерах и не о галерке, бельэтаже или партере, куда усаживаются пришедшие насладиться оперой и балетом зрители. Имеются в виду посадки иного рода. Напрасно было бы надеяться, что зачисление того или иного артиста в труппу первого театра страны ставило его в ряд неприкасаемых. В ту эпоху незаменимых людей не было, как можно было бы убедиться хотя бы из данной книги. Вот почему у Большого театра своя история, связанная с куда-то исчезнувшими солистами. Еще вчера человек регулярно получал зарплату в окошке бухгалтерии, расписывался в ведомостях, отоваривался в спецраспределителе, сидел на собраниях, приходил на репетиции, гримировался перед спектаклем, распевался, шутил с коллегами по работе, отбивался от поклонниц как от назойливых мух, а вахтеры на служебном входе милостиво не спрашивали пропуск, давая понять, что узнают знаменитость в лицо (не всех, конечно, но многих). И вдруг в один миг артистическая карьера заканчивалась, чтобы через какое-то время продолжиться, но уже на другой сцене – лагерной. А в Большом театре отныне фамилию пропавшего артиста произносили разве что шепотом. Нет человека – нет и афиши.
Сажали артистов Большого театра не только за выступления перед немцами, но и по политическим мотивам. За свое соседство с Зинаидой Райх и Всеволодом Мейерхольдом жестоко поплатился баритон Дмитрий Данилович Головин, настолько популярный, что, как признавался Лемешев, «в пору своего расцвета в конце 20-х и в 30-е годы он часто пел так, как, пожалуй, до него никто не пел. Голос его по диапазону представлялся бесконечным, казалось, что его вполне хватило бы на двух певцов!». В какой-то мере голос и подвел Головина, а точнее, длинный язык, тот самый, что до Лубянки доведет: он любил рассказывать в гримерке весьма опасные анекдоты про коллективизацию и индустриализацию. Не был членом партии, да к тому же отказывался подписываться на госзаймы (вещь недопустимая!). Головин в театре был взят на карандаш, хотя пел хорошо.
В юности Дмитрий Данилович пел в архиерейском хоре, а в 1917 году сам Шаляпин (ну куда же без него-то!) посоветовал 23-летнему Головину непременно поступить в консерваторию. «А ведь голос-то у тебя редкий. И откуда берется только такая силища звука у такого худого, небольшого человека?» – так рассказывал сам певец в своих официальных воспоминаниях уже после реабилитации. А соседям по лагерным нарам эту историю он изложил более красочно. Работал Головин матросом на небольшом рейсовом пароходике на Черном море, драил палубу и во время этого нужного дела пел во все горло. Вдруг подходит к нему какой-то представительный господин и происходит у них диалог:
– Тебя как звать-то, парень?
– Митькой! А тебя?
– А я – Федька! Слушай, Митька, тебе не палубу драить – тебе петь нужно.
– Так я и пою!
– Тебе учиться надо. Попомни мое слово, ты большим артистом станешь!
– Артистом, – засмеялся матрос. – Мне бы боцманом стать, и то хорошо.
– Ежели надумаешь учиться, любому педагогу скажи: меня Шаляпин слушал и сказал, чтобы я учился! Понял?
Он все понял. В консерваторию Головина приняли, но позже, после того как он успел принять дьяконский сан и одновременно приобрел опыт исполнения оперных партий в музыкальном театре Ставрополя. В 1920 году впервые услышавший дьяка-певца директор Московской консерватории Михаил Ипполитов-Иванов назвал его «русским Титто Руффо», а преподаватель Назарий Райский изрек: «Тебе многое дано, Митя, от богатой русской природы, а мы, педагоги, должны ювелирно обработать алмаз, чтобы он засверкал всеми огнями». Головин поступил и в Оперную студию Большого театра к Станиславскому. При этом он продолжал петь в церковном хоре.
Придирчивые москвичи вскоре оценили его дарование и степень обработки алмазного голоса. «Пели артисты Большого театра. Пел в числе других Викторов – еврей, драматический тенор с отвратительным, пронзительным, но громадным голосом. И пел некий Головин, баритон из Большого театра. Оказывается, он бывший дьякон из Ставрополя. Явился в Ставропольскую оперу и через три месяца пел Демона, а через год-полтора оказался в Большом. Голос его бесподобен», – отмечал 16 апреля 1924 года писатель-меломан Михаил Булгаков после концерта в Доме союзов.
В 1924 году Головина в роли Бориса Годунова услышал директор Большого театра и режиссер Иосиф Лапицкий, предложивший ему спеть на сцене театра партию Валентина в «Фаусте» Шарля Гуно, что и случилось в октябре того же года.
Без малого два десятка лет Головин пел на сцене Большого – Годунова, Мазепу, князя Игоря, Фигаро, Эскамильо, Риголетто, Амонасро и многие другие партии. В конце 1920-х Головина выпустили в Европу – сначала стажироваться в Италии (у дирижера Виктора де Сабаты), а затем в лучшие оперные театры, где основными его партнерами были звезды тамошней сцены, а слушателями – представители русской эмиграции, лидеры Белого движения, пассажиры «философского парохода». Бурные аплодисменты генералов Деникина и Кутепова, сидевших в ложе парижской Гранд-опера, впоследствии «надбавили» Головину лишние годы заключения (его обвинили в том, что он-то их и пригласил на концерт).
В Ла Скала судьба вновь свела его с Шаляпиным. «Я пел там Фигаро, а он на следующий день – Дон Кихота. Никогда себе не прощу, что, по нашей проклятой привычке верить властям, числил его “предателем Родины” и разговаривать с ним опасался. Эх, рабы системы – вот такими мы и были! А представляешь, – подошел бы я к нему и сказал: “Здорово, Федька. Я – Митька, послушался тебя, певцом, стал, в Большом пою…” Эх, жизнь моя страшная – не подошел! А знаю, что он меня из-за кулис слушал и даже аплодировал», – откровенничал певец в лагере за пять минут до побудки.
Высокую оценку зарубежным гастролям певца дали и критики: «Выступление русского баритона Головина произвело неизгладимое впечатление. По красоте и силе звука, по благородству тембра голос Головина не знает себе равного. Чтобы дать представление об этом феноменальном артисте-певце, достаточно сказать, что он свободно берет верхнее “до”, предельную ноту лучших теноров» или: «Головин в роли “Риголетто” – явление исключительное. Сравнивая его с лучшими баритонами мира в этой роли, нужно признать, что Головин превосходит их во многих отношениях. В его исполнении столько чарующей теплоты, блеска, огня и подлинного стихийного дарования». Побывал Головин и в Аргентине – театр «Колон» предложил ему длительные гастроли, впрочем, Москва не одобрила сие предложение, оперативно вернув певца на родину.
Вместе с тем в своей повседневной вокальной жизни обладатель необузданного актерского темперамента Головин часто оказывался нестабилен, будучи подвержен настроению. Как вспоминал Лемешев, «…натура стихийная, прямо-таки “начиненная” противоречиями! Головин был одним из немногих певцов, которые позволяли себе приходить на репетиции несобранными, взбудораженными… Он вечно с азартом вступал в конфликты с дирижерами, нередко дезорганизуя этим ход репетиции. Естественно, что выступления Головина в спектаклях были очень неровные. Поражала не только сила звука, но также легкость и свобода, с которой он преодолевал все технические трудности. И артистический темперамент певца был под стать его вокальному дарованию. Когда Головин был “в ударе”, на сцене, за кулисами и в зрительном зале царил праздник, небывалый подъем. После его первых выступлений в “Демоне” на тбилисской сцене, помню, не только зрители, но и многие из певцов словно шалели от той стихии звука и мощного драматизма, который обрушивал на них Головин»[33].
Когда Головин пел Мазепу и брал верхнюю ноту ля-бемоль, в зале Большого театра аж звенела люстра! Зал стонал от восторга, за что и ценил Головина почти его однофамилец Николай Голованов, многое ему прощая. Когда у Николая Семеновича спрашивали, почему в спектакли с участием оперных прим Неждановой и Обуховой он ставит Головина, который нередко позволяет себе грешить против авторского текста, дирижер отвечал, что «за одну лишь фразу Грязного “Страдалица невинная” я готов простить Головину все». Это расценивалось и как право Головина на ошибку. На других певцов дирижер позволял себе орать: «Как поешь, черт бы тебя побрал!»
Дмитрия Даниловича можно назвать человеком крайностей, выйдя на сцену, он мог спровоцировать либо несравнимый успех, либо жуткий скандал. «Сегодня поет блестяще, а завтра мог остановиться посреди арии или романса, показать рукой на горло и уйти со сцены, не допев арии. Он мог петь очень музыкально, создавать трогательный образ, и он же мог позволить себе “пустить петуха” в тех местах, где и не ожидаешь. Особенно неровно пел Головин в концертах. Программа его выступлений была почти всегда случайна, наполнена ариями, романсами и неаполитанскими песнями, которые певец пел блестяще», – свидетельствовал Анатолий Орфенов.
В 1934-м Головин получил звание заслуженного артиста, а вот орден Трудового Красного Знамени в 1937-м – со второго раза. В списке массово награжденных артистов Большого театра его фамилия отсутствовала. Вряд ли певца забыли: скорее всего, сыграла роль неблагонадежность. Хорошо, что в театре были свои стукачи, – они-то и донесли до руководства страны обиду артиста. В хранящемся ныне в архиве спецсообщении секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР «О реакции артистов Большого театра на награждение их орденами и присвоение почетных званий» от 3 июня 1937 года приводятся слова Головина: «Мне ничего не дали. Я совершенно убит. По-видимому, политически не доверяют. Боюсь, что в отношении меня будут приняты меры репрессии за те высказывания, которые были истолкованы как восхваление Троцкого. Несмотря на обиду, я постараюсь прекрасно работать и показать, на что я способен. Я орден себе добуду».
Реакция певца в виде процитированного спецсообщения дошла до Молотова, который, несмотря на «восхваление Троцкого», дал указание – Головина наградить! В тот же день его включили в новые наградные списки вместе с другими обиженными. Интересно, сделал ли Головин вывод о причинах столь оперативного решения или решил, что так и надо? Судя по дальнейшим событиям, крепче держать язык за зубами он не стал. А зря.
После начала войны в июне 1941 года Головин часто выступал на сцене филиала, много ездил с фронтовыми бригадами на передовую. Поездки эти были сопряжены с серьезной опасностью – Павел Лисициан вспоминал, как предчувствие однажды спасло его от плена и гибели. Приехав выступать в воинскую часть, он не остался ночевать по предложению гостеприимных бойцов, а вернулся со своей фронтовой бригадой в Москву. По пути они встретили другую группу артистов, ехавших на передовую. Больше они их не видели. Судьба артистов оказалась трагичной – захватившие их в плен фашисты сразу же расстреляли всех евреев, а оставшихся отправили в лагерь.
Беда пришла с другой стороны, от своих же. В 1943 году Головина неожиданно арестовали, причем вместе с сыном Виталием, обвиненным в убийстве Зинаиды Райх, совершенном за четыре года до этого – в 1939 году. Следователи обвинили певца в сокрытии улик и хранении вещей убитой актрисы, в частности золотого портсигара, якобы найденного в квартире Головиных при обыске, а на самом деле подброшенного. Обвинение было сфабриковано по доносу, отправленному на Лубянку. Семья Головиных имела хорошую большую квартиру в престижном доме 12 в Брюсовом переулке, в так называемом «кооперативном доме артистов», где жили главный режиссер Большого Николай Смолич, балерины Викторина Кригер и Марина Семенова, танцовщик Михаил Лавровский, балетмейстер Василий Тихомиров, а также известные театральные семьи – Иван Берсенев и Софья Гиацинтова, Анатолий Кторов и Вера Попова. Здесь певца и арестовали.
В квартире Мейерхольда и Райх в этом же доме в 1930-х годах возник известный на всю Москву богемный салон. Интереснейшие свидетельства о нем оставил музыкант Юрий Елагин – в 1930-х годах он был скрипачом в оркестре Театра им. Евгения Вахтангова, а во время войны, оказавшись на оккупированной территории, сумел перебраться в США. В Америке Елагин не терял времени даром, выступая по «Голосу Америки» с рассказами и разоблачениями советского режима. Вот что он поведал о салоне Мейерхольда: «Московская четырехкомнатная квартира в Брюсовом переулке стала одним из самых шумных и модных салонов столицы, где на еженедельных вечеринках встречалась элита советского художественного и литературного мира с представителями правительственных и партийных кругов. Здесь можно было встретить Книппер-Чехову и Москвина, Маяковского и Сельвинского, знаменитых балерин и певцов из Большого театра, виднейших московских музыкантов, так же как и большевистских вождей всех рангов, за исключением, конечно, самого высшего. Луначарский, Карахан, Семашко, Енукидзе, Красин, Раскольников, командиры Красной армии с двумя, тремя и четырьмя ромбами в петлицах, самые главные чекисты – Ягода, Прокофьев, Агранов и другие – все бывали гостями на вечеринках у Всеволода Эмильевича. Веселые собрания устраивались на широкую ногу. Столы ломились от бутылок и блюд с самыми изысканными дорогими закусками, какие только можно было достать в Москве. В торжественных случаях подавали приглашенные из “Метрополя” официанты, приезжали цыгане из Арбатского подвала, и вечеринки затягивались до рассвета. В избранном обществе мейерхольдовских гостей можно было часто встретить “знатных иностранцев” – корреспондентов западных газет, писателей, режиссеров, музыкантов, наезжавших в Москву…» Частым гостем у Райх бывал и Дмитрий Головин, что не составило труда его недоброжелателям наклепать на него донос.
Удивительные вещи пишет в своем дневнике 15 декабря 1943 года Любовь Шапорина, жена композитора Юрия Шапорина, как раз в это время сочинявшего для Большого очередную оперу: «Услыхала сенсационную новость: Мейерхольд в Москве художественным руководителем или главным режиссером студии Станиславского. Как он выжил, как он пережил свои пять лет тюрьмы и зверское убийство З. Н.?» То есть со слов Шапориной, в Москве в те дни поговаривали, что Мейерхольд жив и вернулся в Москву. А вот что она сообщает об убийстве Райх: «На нее напали двое и нанесли восемь кинжальных ран, но глаз не выкалывали, как тогда рассказывали. Прислуга была оглушена чем-то по голове. Придя в себя, она побежала за дворником и, уходя, захлопнула дверь (на французский замок). Когда дворник взломал дверь, З. Н. была еще жива, но скоро умерла. Сказать она ничего не смогла. Дворник из противоположного дома (кажется, МХАТа) видел, как двое людей выбежали, побежали вниз по переулку, сели в ожидавший их автомобиль и скрылись! Когда прислугу стали спрашивать, почему она впустила неизвестных, она отвечала: это были свои. Ее взяли для допроса в НКВД, и вернувшись оттуда, она стала отрицать все прежде сказанное… Теперь возможным убийцей называют Головина, сына артиста… Украдено ничего не было, рядом с З. Н. остались лежать ее золотые часы».
Многие завсегдатаи богемного салона отвернулись от Мейерхольда и Райх, когда над режиссером сгустились тучи. Престарелый отец актрисы обратился за помощью в организации похорон к мхатовцу Ивану Москвину. В ответ он услышал: «Общественность отказывается хоронить вашу дочь. И, по-моему, выселяют вас правильно». Кроме балерины Екатерины Гельцер, жившей неподалеку и пришедшей на похороны «в строгом официальном костюме с орденом на груди», проводить Зинаиду Райх пришел и Дмитрий Головин, что выглядело откровенным вызовом этой самой «общественности».
10 декабря 1943 года в филиале Большого театра давали «Севильского цирюльника». Фигаро в дуэте с Ириной Масленниковой – Розиной – пел уже Алексей Иванов. Ему долго хлопали – новому цирюльнику, а как же – ведь «никто лучше его не играет. Головин был хорош, но у него образ не цельный, а у Иванова каждое движение чудно и на своем месте. И потом, что мне очень понравилось – то, что у него нет ни одного жеста Головина. Все свое и нисколько не хуже, а даже лучше. И он весь сиял и сверкал, как солнечный день. К нему очень идет такой грим. Сам он такой чудесный… Сидела я в партере с одним военным, он сказал, что Иванов – “мировой”. Мне очень понравилось», – писала одна из театралок. Вот и замена быстро нашлась – и для театра, и для поклонниц.
Арестовали Головина в разгар работы над новой постановкой «Царской невесты», которую Самосуд поручил делать Покровскому. Молодой режиссер пристал к звездному солисту со своими вопросами – каким он видит образ своего будущего персонажа Григория Грязного, знает ли он его биографию и т. д., и т. п. С трудом сдерживаясь, эмоциональный Головин резко оборвал Покровского: «Хватит! Довольно умничать, играть в загадки, мы взрослые люди, а вы, режиссеры, приходите и уходите, может быть, завтра вас здесь не будет… надоело!» Режиссер не дал себя в обиду: «В Большом театре я надолго, а будете ли вы здесь завтра, я сомневаюсь!» Покровский как в воду глядел – назавтра-то певец и не пришел, то есть вообще не пришел. Больше с режиссером никто не спорил. А Самосуд сострил: «Я говорил, что он хитрый!»
Головину дали «десятку» по 58-й статье. Судил его военный трибунал, потратив на это повседневное в общем-то дельце от силы пять минут. Отныне все эти годы у него будет другая (но и не менее благодарная аудитория!) – заключенные ГУЛАГа и лагерное начальство. Он будет петь в бараках и столовках (они заменят зрительный зал) для таких же, как он, оболганных и невинно осужденных людей, среди них встретятся и его бывшие поклонники. За колючей проволокой ему дадут кличку «Батя», а лагерный конферансье нередко будет объявлять вместо его фамилии и имени пятизначный номер заключенного на спине телогрейки, по которому их и выкликают. А вместо букетов в награду – дополнительная пайка хлеба.
Как тут не вспомнить трижды сидевшего Ярослава Смелякова:
- В казенной шапке, в лагерном бушлате,
- полученном в интинской стороне,
- без пуговиц, но с черною печатью,
- поставленной чекистом на спине.
Эти строки были написаны им в 1953 году, в заполярной Инте, печально прославившейся своими лагерями. Упоминаемая черная печать – это лагерный номер Смелякова: Л-222. А Головина отправили в Ивдельлаг, о котором у Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ» читаем: «Мы сидим на Краснопресненской пересылке и молим Бога только об одном – не попасть бы в самый страшный советский лагерь, в Недель, что на Северном Урале».
Но и там, на Северном Урале, где разрабатывались месторождения урана для советского атомного проекта, люди тоже жили. Хороший достался Головину лагерь – сам начальник, генерал Беляков, оказался меломаном. Дирижером лагерного оркестра у него трудился Александр Варламов – да-да, тот самый легендарный джазмен, бывший главный дирижер Государственного джаз-оркестра СССР, а затем с 1941 года – руководитель симфоджаза при Всесоюзной студии эстрадного искусства. Вместе со своей солисткой популярнейшей Деборой Пантофель-Нечецкой Варламов готовился выступать перед моряками северных конвоев. Да только вот незадача – в том же 1943-м его осудили на восемь лет лишения свободы. И пришлось автору хита «Уходит вечер» выступать не перед моряками-союзниками, а перед зэками. Но джаз-оркестр в лагере тоже имелся свой, хороший.
«Батя» Головин и руководил театром, в составе которого была группа солистов оперы и оперетты, а также драматические актеры. Театр выступал исключительно перед зэками и вохровцами. Обычно летом они погружались на катер и плыли по реке, останавливаясь у лагпунктов. Приставать к деревням и устраивать концерты для колхозников было категорически запрещено под страхом дополнительного срока и списания из театра «на общие работы». Соседом Головина по нарам был Матвей Гринблат – будущий автор монологов Аркадия Райкина под псевдонимом Матвей Грин. Они с Головиным крепко подружились. Позднее Грин возглавил лагерный театр вместо Головина – тот сам предложил его кандидатуру политотделу лагеря.
Грин пишет: «Было все: и общие работы – лесоповал, лесная биржа с ручной погрузкой бревен, молевой сплав по реке, постройка бараков, но потом все-таки театр, театр за колючей проволокой, в котором работали прекрасные артисты драмы, оперы, балета, эстрады, цирка… Страшная закономерность – плохих артистов там не было, видимо, “брали” только артистов с союзной, а то и мировой известностью, сказавших свое слово в искусстве. Даже портной у зэков-артистов был непростой – бывший главный портной Киевского театра оперы и балета Михаил Абрамович Трагинер. Он любил грустно пошутить: “Вы мне можете объяснить – каждый день этап – полторы-две тысячи человек и все враги народа! Вы объясните мне, что это за страна, у которой столько врагов?”».
Грин – человек остроумный и языкатый – вел концерты, объявляя выступления Головина, будь то партия Онегина или ария Мазепы. Но даже здесь таился опасный подвох. Начальник культурно-воспитательной части (КВО) лагеря капитан Родионов как-то предупредил: «Тут до вас был один – Лотштейн из Одессы. Он тоже сам писал и конферировал. На одном концерте он сказал: “Дорогие друзья! Начинаем концерт”. А концерт шел для лагерного управления. Ну, конечно, я сразу отправил его в карцер. А потом первым же этапом – в Воркуту. Это ж надо! Мы – друзья этого врага народа! И вообще, что-то уж слишком много смеха на этих концертах. Вредили, шпионили, страну предавали, а теперь еще и смеются! Над кем? Над нами? Какой курорт мы тут им устроили!.. “Запомни: наше дело – приказывать, ваше – исполнять. Понял?”» Ну как же не понять…
Когда один из зэков-певцов отказался исполнять «Песню о Родине» Дунаевского («Широка страна моя родная…»), Грина сразу вызвали в лагерную спецчасть. Головин посоветовал: «Начальство у нас малограмотное. Забивайте им мозги терминами. Скажите, что он не может петь эти строчки по тесситуре его голоса». Это помогло – среди вертухаев никто не знал, что такое тесситура.
Однажды на таком вот концерте произошла встреча Головина со своим хорошим знакомым – молодым академиком-физиком Анатолием Александровым (тем самым, что стал потом трижды Героем Социалистического Труда, президентом Академии наук СССР и сказал, что Чернобыльская АЭС настолько безопасна, что он готов поставить ее хоть на своей даче на Николиной Горе). Артистам объявили, что приехала таинственно-важная комиссия из Москвы и нужно для нее подготовить концерт по первому разряду. «Я вернулся в зону, – вспоминает Грин, – сказал всем, что сегодня концерт в клубе Дзержинского, выход к вахте в 18 часов. К этому времени пришел конвой, не наш обычный “театральный” конвой, а из первого отдела… Мы вышли к вахте, у ворот раздавался яростный лай служебных собак. “Господа артисты! Собаки поданы – можем ехать на концерт”, – раздался скрипучий голос Варламова. Все засмеялись… Минут семь ходу, и мы в “вольном” клубе управления лагеря. Все разошлись по своим уборным одеваться, а ко мне подошел начальник лагеря и сказал: “Генерал сказал – фамилии не называть! Генерал сказал – по номерам!” Я чуть не упал в обморок. Нас трудно было чем-то удивить, но такого еще не бывало! Что ж это за комиссия из Москвы, которой нельзя знать, кто тут сидит? Значит, не из ГУЛАГа! А откуда же? Я пошел предупредить своих и записать номера, которые мы носили на телогрейках и ватных штанах…»
А комиссия действительно была из Москвы – большая группа ученых из Академии наук приехала для изысканий полезных ископаемых. Вот и решили ее развлечь культурным мероприятием с участием известных артистов. Концерт начался с объявления такого типа: «Жорж Бизе, увертюра к опере “Кармен”, исполняет оркестр театра, дирижирует номер 16879-В». В – это значит Варламов. Когда он появился на сцене, из глубины зала послышалось: «Господи! Да это же Варламов из джаза!» Это какая-то ученая женщина из Москвы узнала известного дирижера и чуть не упала в обморок.
Потом следующий номер: «Жюль Массне. Элегия. Исполняет номер… Аккомпанирует рояль номер… Виолончель номер…» И вышел во фраке высоченного роста Дмитрий Головин. Не узнать его было нельзя – оперная звезда, несмотря на лагерные условия, он сохранил свою осанку и выправку. Тут и началось – из зала понеслись крики: «Головин! Браво! Привет, Головин!» Это было явным нарушением вохровского порядка. Артисты испугались, что сидевший здесь же начальник лагеря прекратит концерт, а их всех немедля отправит в зону. Сумевший совладать с волнением Головин выдал весь свой лучший репертуар – арии Онегина и Мазепы, романсы Рахманинова. Московские зрители не хотели отпускать певца со сцены, а во время антракта за кулисами пожелали поблагодарить его лично. Но конвой с автоматами наперевес разделял публику и артистов: «Отойти всем! Стрелять будем! Назад!» Лагерные начальники не знали, что делать: незваные московские гости вели себя слишком раскованно и свободно – позволяли себе то, что даже вертухаям было не дано. Факт вообще редчайший: осужденные и те, кого еще только могут в будущем сюда же отправить, вступают в прямой контакт… Но вдруг прибежавший начальник лагерного театра разрешил конвою отступить. Началось братание: «Женщины окружили Варламова, громко вспоминая летние вечера в “Эрмитаже”, зимние – в Колонном зале, его песни, его джаз и его солистку, негритянку из Америки Цестину Коол. Головин стоял, обнявшись, с каким-то солидным мужчиной, и оба… плакали». Солидным мужчиной был давний поклонник Головина физик-атомщик Александров:
– Дима! Где я тебя слушал в последний раз?
– Ну как же, Толя – в Гранд-опера, я Фигаро пел. Говорили мне на следствии, что в зале сидели Деникин и Кутепов, как будто я их приглашал!
Александров попытался сунуть Головину деньги в карман, но что певец мог с ними сделать в лагере? Разве что сжигать и фокусы показывать, как Арутюн Акопян. И тогда благодарные и свободные зрители принесли из гостиницы все продукты, которые у них были, – сгущенку, масло, сыр, изюм, конфеты, печенье. Зэки уж и вкус всего этого позабыли. Многие плакали, причем и те и другие. Между зрителями и артистами воцарилось нередкое для того времени взаимопонимание, не позволявшее называть вслух вещи своими именами. Надо ли говорить, какой пир устроили артисты в этот вечер. Спасибо куму – начальнику лагеря: приказал не шмонать возвращавшихся в зону актеров театра и самого Головина. Деликатесов вместо баланды хватило почти на неделю…
Отбыв срок и дожив до реабилитации, Головин, как ни пытался, не смог прописаться в Москве, квартиру конфисковали после суда. И в конце 1950-х годов он поселился под Анапой, где принимал участие в работе местной самодеятельности. Там певец и скончался.
Как-то Головин выступал в одном из лагерей. К нему подошла сильно изможденная женщина в телогрейке – такая же зэчка, как и он: «Простите, Дмитрий Данилович, вы меня не помните?» Вглядевшись в красивое когда-то лицо, изрезанное глубокими морщинами, Головин едва узнал ее: «Мать честная, да это же Михайлова! И она здесь!» Да, это была бывшая солистка Большого театра Ольга Стефановна Михайлова и по совместительству вторая жена маршала Буденного. Головин сильно удивился, увидев Михайлову живой (но сильно нездоровой), ибо в Большом театре, да и во всей остальной Москве были уверены, что она давно уже в могиле. Не зря в вышедшей в Америке в конце 1940-х годов книге скрипача-невозвращенца Елагина утверждается: «Арестовали и вскоре расстреляли певицу Михайлову – жену маршала Буденного». В быстрой расправе над певицей были уверены многие.
Михайлову взяли в августе 1937-го прямо после выступления на одном из концертов и привезли на Лубянку – как есть, в концертном платье и лакированных туфлях. В это время ее муж Буденный находился на учениях, а узнав об аресте супруги, безрезультатно пытался заступиться за нее перед Сталиным, а затем и Ежовым. Последний успокоил Буденного, сказав, что от Михайловой требуются показания на жену маршала Егорова, а затем ее отпустят. Однако несчастной женщине суждено было провести в лагерях и ссылках почти два десятка лет.
В Большом театре Михайлова (это ее сценический псевдоним) пела с 1934 года. Обладая самым низким женским голосом контральто, она исполняла в основном партии второго ряда – Ольгу в «Евгении Онегине», Зибеля в «Фаусте», Леля в «Снегурочке». Ее внешние данные преобладали над вокальными – красивая, высокая, статная, она привлекала внимание мужчин, особенно в военной форме. Так произошло и ее знакомство с командармом Семеном Буденным, второй женой которого она официально стала в январе 1927 года. К тому времени первая жена знаменитого кавалериста – не певица, но казачка – уже успела уйти из жизни при не выясненных по сию пору обстоятельствах. 13 декабря 1925 года Михаил Булгаков записал: «Мельком слышал, что умерла жена Буденного. Потом слух, что самоубийство, а потом, оказывается, он ее убил. Он влюбился, она ему мешала. Остается совершенно безнаказанным. По рассказу – она угрожала ему, что выступит с разоблачением его жестокостей с солдатами в царское время, когда он был вахмистром».
Версия интересная и противоречит объяснениям Буденного – дескать, первая жена случайно застрелилась из его же пистолета, который он забыл снять с предохранителя, придя домой. Семен Михайлович говорил, что он «всего лишь обругал» свою жену за политически неправильную позицию, поскольку она слишком активно поддерживала Троцкого, но не убивать же ее за это! Однако не только одного Булгакова, но и других литераторов с богатым воображением изложенная Буденным причина смерти первой жены устроить не могла. Вот и Исаак Бабель, развивая бурную деятельность по превращению Семена Михайловича в образ Синей Бороды, писал: «Буденный убил свою жену и женился на буржуйке. Сталин держит его, зная за ним грязную историю. Сталин не любит биографий без пятен». А позже Бабель пошел еще дальше в своих разговорах, напрямую связав смерть жены Буденного со смертью жены Сталина, Аллилуевой, последовавшей в 1932 году. «У нас такие вещи случаются», – говорил он, подразумевая, что такими вот методами высокопоставленные мужья избавляются от своих слишком строптивых и не к месту информированных жен. К слову, «Конармия» Бабеля Буденному не понравилась, маршал расценил книгу как клевету на себя и своих однополчан. Отсюда, видимо, и пошел широко известный в народе анекдот.
Спрашивают как-то Буденного:
– Семен Михайлович, вам Бабель нравится?
– Смотря какая!
И все же Михайлова не была буржуйкой, отличаясь самым что ни на есть пролетарским происхождением. Как следует из лагерного дела № Р-5716, ее отец был из крестьян, всю жизнь отработал на железной дороге. Сама же Михайлова (в девичестве Будницкая) с шестнадцати лет служила в Красной армии: телефонисткой в 1921–1922 годах, а затем работала билетным кассиром, в этом качестве и познакомилась с Буденным, ставшим ее вторым по счету мужем. О том, что Ольга Стефановна работала кассиршей на Курском вокзале, утверждает и Михаил Соловьев – бывший корреспондент «Известий», близко наблюдавший Буденного в 1920–1930-е годы, поскольку писал за него речи – ораторским даром лихой рубака не отличался. Во время войны Соловьев угодил в плен и на родину уже не вернулся и потому так откровенно поведал миру о многих «красных командирах» и их сущности.
Подруга Михайловой – арестованная вслед за ней жена маршала Егорова Галина Цешковская рассказывала на допросе 27 января 1938 года: «Я знаю Семена Михайловича с 1920 года как человека веселого, приятного, при этом себе на уме, честолюбивого и тщеславного, человека позы и некоторой доли актерства. Непрерывно развиваясь культурно и политически, Буденный уже не мог удовлетвориться жизнью с простой малограмотной казачкой. Встреча Ольги Стефановны и Семена Михайловича произошла на моих глазах в Кисловодске. Однажды я, Егоров и Буденный поехали кататься к Лермонтовской скале. По приезде туда через некоторый период времени неожиданно приехали две пары. Это были Кулик и Георгадзе с двумя женщинами, одной из которых была Ольга Стефановна. Вскоре я уехала с Егоровым к себе в санаторий, а Буденный остался с новой компанией. Наутро разыгралась сцена ревности с Куликом, который привозил Ольгу Стефановну для себя. Так начался роман Буденного с Ольгой Стефановной. Казачка застрелилась. Буквально на второй день после самоубийства казачки в дом Семена Михайловича пришла Ольга Стефановна».
Примечательно, что Буденный (если верить его дочери Нине) и сделал из кассирши с Курского вокзала солистку Большого театра: «Женился-то он не на певице, а на обычной девушке (они познакомились в санатории). Она уже его женой в консерваторию поступала. И то он ей объяснял, как надо петь. У него слух был очень хороший: что ему ни сунь в руки, на всем играет. И на баяне, и на аккордеоне, и на гармошке немецкого строя, а это очень сложный инструмент. Так вот: его вторая жена, Ольга Стефановна, начинала учиться как меццо-сопрано, а потом папа ей сказал: “Ты поешь не своим голосом”, – и она переквалифицировалась в контральто». Получается, что Буденный разбирался не только в лошадях, но и в вокальном искусстве. Многосторонняя натура! Ему бы самому если не петь, так сидеть в оркестре Большого театра – Сталин не раз просил его сыграть на гармошке «Барыню» на кремлевских банкетах. Музыкальный талант маршала смогли оценить и простые советские меломаны – фирма «Мелодия» выпустила пластинку, на которой Буденный играет на гармонике в дуэте с баянистом.
Итак, супруги Буденные стали жить-поживать и добра наживать (а добра-то много, и все под себя, под себя!). Ольга поступила в Московскую консерваторию на улице Герцена, до которой от улицы Грановского, где жили Буденные и вся советская политическая верхушка (кроме вождя), было рукой подать. Но ее возили на черной машине с шофером. Жила – как сыр в масле каталась: все к ее ногам, и цветы, и драгоценности от любящего мужа, и полный отрыв от народа, который в ту жуткую эпоху коллективизации и индустриализации перебивался с воды на хлеб (сыр и масло стали редкостью). А к услугам жены маршала – все что нужно: спецателье с кремлевскими портными, спецмагазин со спецбарахлом инпошива, спецраспределитель с дефицитными продуктами в соседнем доме, прислуга, поездки на отдых за границу и все, что раньше было доступно только буржуям, если использовать терминологию Бабеля. И, конечно, громадная дача в Баковке – то ли десять, то ли одиннадцать (а то и все двадцать!) гектаров. Говорят, на этой даче были места, где не ступала нога Буденного – такая она была большая (а площадь дачи до сих пор подсчитать не могут, ибо многие наши нынешние политики любят обмолвиться, что, мол, живу на бывшей даче Буденного. Слушаешь и думаешь: это сколько же земли было у маршала, что ее и сейчас «нарезают»).
Статус жены Буденного не мог не повлиять на ее дальнейшую карьеру. Поступив в консерваторию в 1928 году (как следует из того же лагерного дела), она окончила ее в 1932-м и еще два года была там аспиранткой, преподавала. А в 1934 году впервые выступила на сцене Большого театра как солистка под творческим псевдонимом Михайлова. Петь в Большом желают многие, а берут избранных. Да и самому Семену Михайловичу было приятно щеголять такой супругой. Сидеть в ложе, приходя на премьеры с участием поющей красавицы-жены. Это вызывало гордость, особенно перед друзьями. Вот, например, у его друга Клима Ворошилова тоже жена имелась, – но какая: располневшая к началу 1930-х годов Екатерина Давидовна Горбман была прежде всего товарищем по партии, а затем уж супругой наркома обороны (как и у многих большевистских шишек). Ее и обнять-то не за что было – талии нет! А на жену Буденного смотреть одно удовольствие – когда в 1933 году американский посол Буллит закатил банкет в «Национале» для верхушки Красной армии – Ворошилова с «круглым лицом херувима», Буденного, Егорова, Тухачевского, лишь Семен Михайлович взял с собой супругу, с которой без устали танцевали участники этой попойки, включая самого господина посла – известного холостяка и любителя женского пола.
Между прочим, в Большом театре Буденный бывал и раньше. А пригласил его туда… Шаляпин. Это случилось после того знаменитого обеда в вагоне у Буденного, сопровождавшегося исполнением русских народных песен. Году в 1919-м Шаляпин по совету Демьяна Бедного решил «познакомиться с человеком, о котором так много говорили тогда» – с Буденным, штабной вагон которого стоял под Москвой на запасном пути Московско-Киево-Воронежской железной дороги. Кроме того, Демьян Бедный намекнул, что поездка сулит Шаляпину «лишний пуд муки, что в то время было огромной вещью. Любопытно мне было, а тут еще пуд муки!».
Приняли певца хорошо, главное, что Шаляпин отметил в Буденном, – это его усы: «Сосредоточенные этакие усы, как будто вылитые, скованные из железа, и совсем простое со скулами солдатское лицо. Видно было, что это как раз тот самый российский вояка, которого не устрашает ничто и никто, который если и думает о смерти, то всегда о чужой, но никогда о своей собственной». Тут же и Ворошилов, напомнивший певцу, что еще до 1917 года приходил к нему выпрашивать контрамарки. Сели за стол. Всё по-простому: водка, селедка с картошкой, курица жареная. В общем, «фельдфебельский пир». Выпили, съели, стали петь: «Дубинушка», «Лучинушка» и т. п. Простились хорошо, а на другой день Шаляпин получил «некоторое количество муки и сахару» – «подарок от донского казака».
А Семен Михайлович пришел в Большой театр послушать Шаляпина в роли Бориса Годунова. Восторга своего он не скрывал – еще вчера певец пил с ним водку и ел селедку, а сегодня на сцене превратился в царя: большой артист! Такой же большой, как и сам Буденный, который после сего знакомства не раз говорил по случаю и без: «Ну и погано же вы поете, товарищи, не то что у нас в армии. Я, например, с самим Шаляпиным пел!» А еще он рассказывал, как спас певца от голодной смерти: «А когда Федор Иванович уходил, мы ему окорок запеченный в тесте преподнесли». Странно, что Шаляпин усы Буденного запомнил, а про окорок ничего не написал. А ведь в то время это был действительно ценный подарок![34]
Да, быть Буденным, – про которого сочинялись стихи и песни, – честь особая, а уж его женой – вдвойне. Но и ответственность большая! Куда ни кинь, – всюду мужнино имя: в честь Буденного назвали головной убор красноармейцев – буденовку, военный марш Красной армии – Буденновский («Мы красные кавалеристы»; в конце 1920-х годов композитора Дмитрия Покрасса уличили в плагиате, дескать, он превратил в марш свадебную еврейскую мелодию) и даже цирк в городе Воронеже, не говоря уже о колхозах и конезаводах. Любовь народа к Семену Михайловичу была огромной. И такой же огромной была квартира Буденного в бывшем доходном доме, построенном когда-то для богатых москвичей. Она отличалась такими размерами, что хоть на велосипеде катайся. Только вот оценить сие преимущество было некому – детский смех не оглашал обширного пространства апартаментов маршала. Более десяти лет прожили вместе супруги Буденные, а детей не нажили. Ольге Стефановне все некогда было – сначала консерватория, затем Большой театр. Когда рожать-то? Да и вредно это для певицы. Еще вся жизнь впереди! Да и не жизнь это – а малина.
Пока Семен Михайлович из седла не вылезает, по военным округам мотается, прыгает с парашютом (в 1931-м году, но без коня!), готовит свою кавалерию к будущей войне с танками и моторами, жена его с иностранцами якшается, в общем, компрометирует. С подругами – женой наркома Бубнова и супругой маршала Егорова – не вылезает из посольств капиталистических стран (а других тогда и не было – кроме одной, где так вольно дышал один-единственный человек). А среди хороших знакомых мадам Буденной (так обозначалась она в свидетельстве о браке) – итальянский посол Бернардо Аттолико, министр иностранных дел Латвии Вильгельм Мунтерс, японский посол Сигэмицу Мамору и другие официальные, но все равно вражеские лица.
Дети, правда, иногда появлялись на даче – племянники Ольги Стефановны. Современница-пионерка вспоминала: «Мы – дети – иногда наблюдали, как открывались ворота и в машинах въезжали обожествленные вожди, лица которых узнавались по портретам. С особым нетерпением ожидали мы встречи с обожаемым Семеном Михайловичем Буденным, надеясь, что он хоть раз обратит внимание на наши пионерские галстуки, повязанные особым образом, чтобы получились “буденновские усики”. На узел прикрепляли значок – “Пионерский костер”. Это было верхом элегантности! В будние дни сквозь щели в заборе порой удавалось проникать на запретную территорию, чтобы полакомиться малиной. Там, в девственном лесу, иногда встречали красивого, черноволосого подростка. Он, сидя на шее милиционера, погонял его прутиком, словно лошадь. Мальчишке не терпелось изловить нас, но мы разбегались в разные стороны. Милиционер терялся, а мальчик сердился… Одни говорили, что мальчик – сын Семена Михайловича, другие – что племянник…» Эта же женщина (вот совпадение!) Майя Король спустя 30 лет, в 1960-х годах, будет работать в московской психиатрической больнице ординатором женского беспокойного отделения, куда не без помощи Буденного определят его сумасшедшую вторую жену Михайлову.
Но пока с головой у нее все в порядке. Словно не осознавая всей сложности международной обстановки (обострение которой довело СССР до дружбы с Гитлером), Михайлова проводит в посольствах немалую часть времени, поет для дипломатов, танцует с ними, пьет шампанское, много болтает. До первых петухов остается на посольских дачах в Серебряном Бору. Рядом с ней замечен и коллега по театру – тенор Александр Алексеев, радующий империалистов куплетами герцога из «Риголетто». Кроме того, Михайлова – увлеченный болельщик на скачках, для чего постоянно посещает московский ипподром, опять же в обществе Алексеева, пристрастившего ее к этому затягивающему, но увлекательному развлечению. К слову сказать, нынче глубоко забытые бега и скачки в 1930–1950-е годы были любимым видом спорта московской богемы. В ложах ипподрома встречались не только известные артисты Большого театра, МХАТа, но и спортсмены (да те же братья-футболисты Старостины), писатели, композиторы, художники. За один заезд, бывало, они выигрывали столько, что могли прокормить целый кавалерийский полк с лошадьми в придачу. А на деньги, проигранные ими в эти годы, можно было выстроить еще один ипподром.