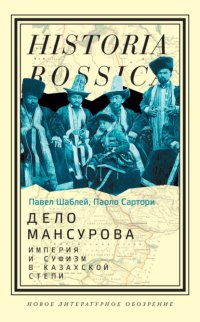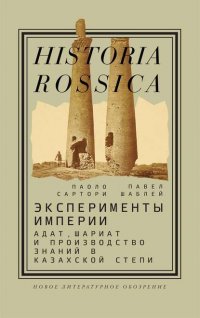
Читать онлайн Эксперименты империи бесплатно
- Все книги автора: Павел Шаблей, Паоло Сартори
© П. Сартори, П. Шаблей, 2019,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *
ВВЕДЕНИЕ
В 1857 г. на столе у востоковеда В. В. Григорьева, председателя Оренбургской пограничной комиссии (ОПК), лежал сборник казахского обычного права, подготовленный другим востоковедом – чиновником Азиатского департамента Министерства иностранных дел (МИД) И. Я. Осмоловским. Ознакомившись с содержанием текста, В. В. Григорьев выступил против его публикации, так как труд И. Я. Осмоловского не содержал строгого разграничения между адатом и шариатом, представлявшегося ему очевидным, наоборот, отражал идею, что адат является частью обширной исламской правовой культуры. Считая, что в таком виде работа не соответствует правительственным задачам и несет в себе политическую угрозу, председатель ОПК предполагал осуществить собственную редакцию текста[1].
Противоречия в восприятии казахского обычного права не были просто политической интригой – они отражали разный уровень представлений о местном праве в среде российской колониальной администрации. После вхождения Казахской степи в состав Российской империи власти предпринимали разнообразные действия по адаптации региона к нуждам колониального управления. Одна из таких мер заключалась в кодификации адата, который российские чиновники надеялись использовать для разбора исковых дел казахов. Сама идея кодификации не была лишена противоречий. Для того чтобы собранные материалы отличались ясностью и практичностью, необходимо было проанализировать разные источники местного права. Однако чиновники часто путали адат и шариат или пытались искусственно разделить их. Со временем эта путаница осложнилась еще и тем, что шариат стал противопоставляться адату не только в силу невежества некоторых чиновников, но и по политическим мотивам – ислам представлял угрозу на пути реализации реформ Российской империи в Казахской степи[2]. В начале 1850‐х гг., когда подобная идеология получает широкое распространение, появляется сборник И. Я. Осмоловского, подрывающий прежнюю систему колониальных знаний о местной правовой культуре и демонстрирующий, что подход к ее трансформации не может быть таким очевидным, как его представляли себе В. В. Григорьев и др.
Сюжет этой книги не ограничивается событиями, происходившими в Оренбурге и его окрестностях. Вслед за нашими героями мы переносимся в другую имперскую ситуацию – на Сыр-Дарьинскую военно-укрепленную линию. Примечательно, что здесь дискуссия вокруг адата и шариата не приобрела такого драматического характера, как в Оренбурге. Стратегическая важность Сыр-Дарьинской линии как плацдарма для продвижения вглубь Центральной Азии, отдаленность от крупных административных центров, сосредоточение больших властных полномочий в руках местных чиновников, выгоды торговли с местным населением, тесные контакты казахов с другими мусульманскими этническими группами (бухарцами, хивинцами, кокандцами, каракалпаками) способствовали созданию нового опыта колониального управления. Этот опыт базировался на конструировании системы знаний, которая хотя и вступала в противоречие с идеологическими и политическими доктринами империи, принятыми на вооружение в других регионах Казахской степи, но в силу прагматических соображений не могла быть отвергнута В. В. Григорьевым, В. А. Перовским[3] и, конечно, самим И. Я. Осмоловским.
В центре нашего исследования находится проблема субъективности знания и множественности имперских ситуаций. Как мы увидим, колониальное управление не основывалось на каком-то едином или предсказуемом производстве знаний. В зависимости от различных факторов империя конструировала новые формы знаний или заимствовала опыт других колониальных держав. Большую роль в этом деле сыграли востоковеды и чиновники разных уровней, противоречия между которыми, а также особенности их взаимодействия с местным казахским населением будут подробно рассмотрены в этой книге. При этом ключевую роль играет вопрос о соотношении адата и шариата, позволяющий нам обсудить не только принципиальные разногласия по поводу специфических правовых вопросов, но и широкий спектр проблем имперской политики, культурных изменений и административного регулирования в разных регионах Казахской степи.
Одним из характерных проявлений имперского конструирования знаний был процесс кодификации казахского обычного права. Примечательно, что его участниками, наряду с чиновниками и востоковедами, были и местные казахи. Их понимание адата и шариата было несколько иным – отличным от того, как эти вещи представляли себе российские власти. Ключевое внимание здесь было сосредоточено на фигуре бия, который в имперском дискурсе объявлялся главным судьей и хранителем «традиционных» правовых знаний (основанных на адате)[4]. Однако в действительности все было не так просто. Некоторые бии также были муллами и кади (кади – мусульманский судья)[5], что демонстрировало синкретизм правовой культуры и комплексность местных судебных практик. Таким же неоднозначным является вопрос о колониальной трансформации адата, а также о том, что представляло собой местное право до присоединения Казахской степи к Российской империи. Так как казахская правовая культура не имела письменной традиции, наши знания об адате основываются в основном на сборниках, подготовленных российскими чиновниками. В связи с этим существует несколько интерпретационных парадигм. Первая сводится к тому, что в колониальный период адат был воспринят как некая общепринятая традиция. Имперские чиновники считали, что необходимо записать полную версию популярных среди казахов преданий о судопроизводстве времен хана Тауке (годы правления 1680–1718). Российской администрации импонировала эта мысль еще и потому, что Тауке-хан смог не только объединить враждующие кочевые группировки, но и добиться, согласно рассказам самих казахов, признания своего свода норм обычного права[6] во всех трех жузах. Такой сборник, составленный на основе сведений местных информаторов, должен был воспроизвести «подлинные» черты казахской правовой культуры и стать действующим руководством для чиновников колониального управления. В этом случае империи предстояло отделить доколониальный адат, определявшийся в виде «истинно-казахских обычаев»[7], от его современных видоизменений, сформировавшихся благодаря влиянию Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС), центральноазиатских государств и др.[8] Однако подобное объяснение не может восприниматься без проблем. Исследователи колониальных империй убедительно показали, что нормы обычного права не обязательно должны обладать продолжительной (или даже патриархальной) историей. Они могут измеряться временем жизни определенного сообщества. Такое общество сохраняет прежние нормы и адаптирует новые как часть своей схемы социальных соглашений, обязательств и т. д. Различия или специфика обычного права, таким образом, не есть что-то устойчивое или строго зафиксированное. Даже в жизни отдельных деревень, кланов, племен некоторые нормы обычного права могут быть несопоставимы, так как служат различным целям, которые преследуют эти общества[9]. Важно отметить и то обстоятельство, что исследователи не всегда учитывают особенности мышления, которыми могли руководствоваться местные информаторы права. Востоковед и военный губернатор Сыр-Дарьинской области Н. И. Гродеков заметил, что адаптация сознания местных жителей к колониальному контексту происходила гораздо быстрее, чем это предполагали сами составители сборников. Предоставляя колониальным чиновникам информацию о местном праве, казахи Сыр-Дарьинской области могли понимать, что империи выгоден адат, а не шариат[10]. Это допущение позволяло манипулировать одними и теми же понятиями и видоизменять их более ранние значения.
Понимая, что версии казахского обычного права, зафиксированные имперскими чиновниками, могли сильно отличаться от доколониальных практик, мы должны иметь в виду некоторые особенности эволюции местной культуры. Так, исследователи часто обращают внимание на некое внешнее сходство между культами, верованиями и религиями, которые исторически бытовали на одной и той же территории, и вследствие этого делают выводы о синкретизме религиозного сознания, например об адаптации ислама к шаманизму[11]. Подобные заключения используются для того, чтобы указать на гибкий и бесконфликтный путь трансформации религиозных практик в истории тюркских народов. Антропологический фокус заставляет сомневаться в эффективности двухъярусных моделей. Согласно Девину ДеУису, исследователи (особенно советские этнографы), говоря об «исламизированном шаманстве»[12], часто создавали искусственные рамки, чтобы с помощью научного аппарата, разработанного для шаманизма, изучать менее известный им суфизм[13]. Такой подход, предусматривавший существование различных религиозных наслоений, в конечном счете препятствовал пониманию специфики тех или иных религиозных практик[14]. С такого же рода проблемами сталкиваются исследователи, когда говорят о существовании регионального ислама и об особенностях ислама казахского, чеченского, сибирского и т. п.[15] В действительности же это приводит к созданию иерархической модели объяснения и некоей конкуренции разных исламов (например, противопоставляются официальный и народный ислам). С нашей точки зрения, прежде чем говорить о различных региональных проявлениях ислама и его ассимиляционных возможностях, необходимо детально разобраться в истории религиозных практик[16].
Антропологический подход проливает свет и на соотношение адата и шариата. В этом случае различия между ними приобретают значение только тогда, когда они представляются в виде идеально-типичных дефиниций, а бии, муллы и кади пытаются различить адат и шариат только для того, чтобы сказать, как люди должны жить и какими правилами руководствоваться. Однако вследствие разнообразных условий жизни нормативность не может играть определяющей роли, и различиям между адатом и шариатом не предается принципиального значения. В рамках коллективного сознания адат отражает более широкую сферу потребностей. Под ним могут понимать не только шариат, но и ряд повседневных практик – этикет, ритуалы и др.[17]
Обращая внимание на обозначенные выше особенности, мы понимаем, что правовая история Казахской степи является частью более широких вопросов о праве, колониализме и имперской истории. В последние десятилетия сложилось несколько важных подходов и теорий в этом направлении. Остановимся на некоторых из них подробнее. Например, идея правового разнообразия/плюрализма («Legal Pluralism»), появившаяся в начале 1970‐х гг. на фоне процессов деколонизация стран Азии и Африки. Этот подход стал противовесом к доминировавшему прежде понятию «правовой централизм» («Legal Centralism»)[18]. Сторонники правового плюрализма утверждают, что государство – это не единственный источник нормативности. Существуют и другие ее источники, находящиеся за пределами правовой культуры, которая контролируется государством (например, адат или шариат)[19]. Классический правовой плюрализм рассматривается как «слабый» вид правового плюрализма, потому что все правовые институты управляются и контролируются одной системой, связанной с государственным законом[20]. «Сильный» правовой плюрализм отражает ситуацию, в которой несколько правовых институтов существуют в пределах одного социального поля, но не все из них контролируются государством[21]. Другие исследователи фокусируются на юрисдикционных ограничениях колониального правового плюрализма. Так, в целях урегулирования конфликтов и поддержания порядка империя вынуждена признать правовое разнообразие. Такое решение принимается не столько по желанию государства, сколько под давлением местных «туземных» элит[22]. Если применять правовой плюрализм для изучения правовой истории Казахской степи, то следует признать, что все стороны (Российская империя, казахи, бии, кади и другие) могли без проблем различать адат и шариат и использовать правовые альтернативы, ставя под сомнение компетентность местных судей. Однако, как уже говорилось, ни представители колониальной администрации, ни сами казахи не могли провести ясную границу между адатом и шариатом, а если и пытались их разделить, то результат был не самый обнадеживающий. Одновременно с этим мы должны отметить, что ни в Казахской степи, ни на Северном Кавказе, ни в Восточной Сибири идея кодификации обычного права не принадлежала местной элите. Это был имперский проект, который предусматривал колониальную трансформацию адата и контроль над деятельностью местных правовых институтов, которые необходимо было реформировать в соответствии с требованиями политики русификации, а со временем полностью устранить.
Определенной вариацией правового плюрализма является исследование Вирджинии Мартин. Она попыталась рассмотреть правовую историю Казахской степи в колониальный период как трансформацию местных юридических практик без использования силы. Сохраняя многие нормы обычного права, империя вместе с тем стремилась благодаря реформам 1868 и 1891 гг.[23] сблизиться с местным обществом, которое могло воспринимать имперские преобразования как реальную возможность для реализации правовых альтернатив. Например, выражая недоверие бию как правовому эксперту, казахи обращались к русской администрации, в русские суды или шли к кади. При этом В. Мартин рассматривает критерии выбора казахами той или иной правовой инстанции через их способность проанализировать значение имперского закона как процессуальной нормы. Так, предпочтение русского суда обосновывается хорошей осведомленностью относительно имперского права, а игнорирование народного суда (суда биев) сводится к утрате авторитета бия как знатока адата и шариата[24]. Иначе говоря, речь идет о вопросах развития правового сознания и возможности различать правовые сферы, анализировать их преимущества и недостатки. Интересно, что в такой же перспективе рассматривается понятие «татарский шариат». Согласно В. Мартин, казахи не всегда принимали «татарский шариат», стремясь остаться в рамках «казахской правовой культуры»[25]. Такой анализ влияния имперских реформ на правовое сознание и объяснение особенностей правового разнообразия не представляются убедительными. Скорее следует говорить о том, что реформы империи позволили казахам освоить систему колониальных знаний (бюрократические практики, русский язык, связи и др.) и реализовывать благодаря этому собственные прагматические интересы, манипулируя не только отдельными понятиями, но и правовыми процедурами. Результатом этой перспективы также становилась и артикуляция понятия «татарский шариат», когда местная управленческая и интеллектуальная элита[26], рассчитывая на должности и привилегии, говорила языком имперского дискурса, согласно которому «татарский ислам» объявлялся угрозой для реализации колониальных реформ[27].
Идея правового плюрализма становится популярной и среди казахстанских исследователей. Ж. С. Мажитова и А. Г. Ибраева, например, считают, что правовой плюрализм возникает на территории Казахской степи в начале XIX в. Происходит это по причине исламизации кочевников благодаря созданию ОМДС и разработке проектов кодификации[28]. Такой подход во многом основывается на некритическом прочтении имперских и советологических трудов, в которых шариат рассматривался в качестве некоего чужеродного элемента, а интересы элиты противопоставлялись интересам простого народа[29]. Однако, несмотря на стремление акцентировать наше внимание на правовом плюрализме в колониальный период, сведя взаимодействие адата и шариата к механическому смешению и неспособности самих участников правового разбирательства ориентироваться в особенностях той или иной правовой системы, исследователи не обеспечили целостной картины. Таким образом, возникает необходимость искать другие – более убедительные – подходы для анализа казахской правовой культуры.
Ситуация, сложившаяся в Казахской степи в XIX – начале ХХ в., позволяет больше говорить о правовой гибридности[30] и непредсказуемых последствиях российских реформ, чем о признании главенства закона как поиска своего места в империи и выбора в соответствии с этим более предпочтительных правовых альтернатив. Иначе говоря, мы допускаем мысль, что правовая ситуация включала в себя множество противоречий и исключений. Несмотря на свои представления о трансформации местного общества и жесткие требования закона, российские власти вынуждены были допускать существование правового разнообразия и даже использовать в гражданских судах практики, основанные на адате и шариате[31]. Признание чиновниками нескольких источников права часто вступало в конфликт с мерами по русификации Казахской степи. В силу того что реальное положение вещей определялось не имперской политикой как таковой, а характером столкновений различных интересов и амбиций в среде администрации, не существовало какого-то простого решения этой проблемы. В этом контексте фокус на правовую гибридность позволяет говорить о неопределенности колониальной трансформации. Так, кодификация казахского обычного права обладала существенной проблематичностью в свете того, каким образом подготовленные сборники могут быть востребованы в судебных практиках казахов. С этой же проблемой имперские власти столкнулись и на Северном Кавказе. Здесь, как и в Казахской степи, чиновники не смогли адаптировать сборники обычного права к потребностям местной юстиции[32].
Другая черта гибридности заключается в том, что, несмотря на рост исламофобии и требования новых реформ, обусловленных политикой русификации, власти не торопились с устранением отдельных норм шариата или адата, так как их юридическая эффективность почти не заставляла сомневаться в том, что они лучше, чем имперский закон, могут справиться с тонкими вопросами местной рутины, например с нотаризацией прав собственности[33]. С другой стороны, введение гибридности часто воспринималось в качестве временной меры[34], особенно на слабо интегрированных в имперскую бюрократическую систему территориях, где ресурсы управления создаются за счет адаптации к местным правовым и социальным особенностям. Этот вариант гибридности будет рассмотрен в четвертой главе, в которой речь пойдет о ситуации на Сырдарье в 1850–1860‐е гг.
События на Сырдарье – это интересная совместимость региональной истории, колониализма и права. В 1853–1864 гг. нижнее и среднее течение Сырдарьи было сферой соприкосновения интересов разных политических и социальных акторов: с одной стороны, Российская империя, стремившаяся к завоеванию Центральной Азии, с другой же – ее политические соперники: Кокандское и Хивинское ханства. Между ними находились казахские кочевые группы, которые могли извлекать выгоду из этого геополитического соперничества или не придавать ему определяющего значения. Таким образом, это не только военная история как неизбежный процесс с его стратегией завоевания[35], динамикой конфликта и мирного урегулирования, но и череда сопутствующих обстоятельств, характеризовавшихся непредсказуемостью и зыбким равновесием. Одна из главных причин такой нестабильности заключалась в трудности определения рамок территориального и политического доминирования. Одни чиновники называли Сырдарью государственной границей, другие – «естественной границей» (т. е. военным пределом)[36]. Однако такие наименования часто шли вразрез с реальным положением дел и, как правило, были связаны с особенностями бюрократического языка или чиновничьих амбиций, которые благодаря языковой экспрессивности усиливали представление о военном имидже империи. Справедливости ради следует отметить, что Кокандское и Хивинское ханства также не выработали какой-либо строгой системы в отношении понятия «граница». Когда чиновники этих государств писали, в частности, о своих северных землях и казахских кочевых группах, располагавшихся на них, речь в основном шла о контроле над народами, а не над территорией[37]. При этом отношения между кочевниками и центральноазиатскими ханствами не были строго детерминированы и основывались на выполнении только определенных социально-экономических (например, выплата закята) и политических обязательств (военные альянсы, военное снаряжение, строительные работы и др.)[38]. Соблюдение этих обязательств не ограничивало особенностей кочевого образа жизни – перемещений по большой территории, входившей в сферу влияния разных государств. Указывая на неоднозначность понимания описанных выше процессов, мы предлагаем расширить представление о пространстве и называть нижнее и среднее течение Сырдарьи в период с 1853 по 1864 г. не границей или военным пределом (учитывая также и нагрузку, которую несут эти понятия), а фронтиром, т. е. сложной контактной зоной[39]. Сам фронтир анализируется как контекст и как процесс. Ситуация на Сырдарье имеет мало общего с другими фронтирными историями Российской империи[40] и не всегда удачно может быть вписана в опыт разных колониальных империй. Мы не рассматриваем фронтир как буквальное столкновение между вторгающимся и местным обществом, когда последнее предсказуемо занимает маргинальную позицию и следует правилам игры фронтирсмена[41]. Взаимоотношения между фронтирующими обществами не были напрямую связаны с особенностями этнической и религиозной идентичности тех или иных групп[42]. Контактная зона в районе Сырдарьи представляла собой сложный, иногда непредсказуемый процесс, включавший много возможностей и ресурсов для фронтирующих групп и широкий выбор для обмена[43]. Поведение русских чиновников в этой ситуации скорее было подчинено логике местных обстоятельств, чем возведенной в принцип политике. Империя не только поддерживала правовую гибридность, но и санкционировала широкие возможности для осуществления торговой и экономической деятельности во фронтирной зоне. Очевидно, что такие шаги воспринимались разными фронтирующими группами неоднозначно. Казахи обращались к колониальным чиновникам с просьбой разобрать их иски согласно адату, шариату или русскому закону. Это обращение было следствием гибкости правового сознания, когда кочевники использовали колониальную интерпретацию адата или шариата в прагматических целях. С другой стороны, отношения в рамках фронтирной зоны не имели какой-то определенной или устойчивой динамики. Учитывая низкую плодородность района Сырдарьи, а также политические обстоятельства, власти не решились осуществлять в 1850–1860‐е гг. экономическую колонизацию края, т. е. реализовывать меры, способные ускорить интеграцию региона в состав Российской империи. Не проводилась здесь и миссионерская деятельность, которая могла бы содействовать широкому культурному обмену в рамках фронтирной зоны. Наоборот, некоторые местные чиновники выступили с инициативой сделать отдельные пункты фронтира центром притяжения исламской религии, возводя мечети и приглашая мулл из Оренбурга[44].
Так как главные герои нашего исследования были крупными востоковедами, оказывавшими серьезное влияние на свое интеллектуальное и политическое окружение, следует немного сказать о возможностях использования теории ориентализма. Если считать, что ориентализм – это дискурс, который производится и существует в ходе неравного обмена с различными видами власти, то биографии В. В. Григорьева, И. Я. Осмоловского, его заместителя М. Б. Первухина и других востоковедов показательны в плане адаптации их знания и опыта к потребностям колониального управления. В этом отношении научный аппарат выступает средством, с помощью которого утверждается западное колониальное господство. Таким образом, увеличивается культурная, политическая, экономическая дистанция между Западом и Востоком. Последний же, в свою очередь, определяется в терминах загадочного, феминизированного объекта покорения и в то же время «недоброжелательного и опасного культурного соперника»[45]. Однако ориенталистский дискурс не так однозначен, как может показаться на первый взгляд. Некоторые исследователи пришли к выводу, что опыт западных колониальных держав не всегда удачно может быть экстраполирован на историю Российской империи. Адиб Халид, например, полагает, что закономерным считается установление к началу XIX в. «абсолютной цивилизационной дистанции» между интеллектуальной элитой, имперским российским центром и Востоком, ассоциировавшимся с деспотизмом, фанатизмом, эротизмом и т. п.[46] Его оппоненты признают некоторую упрощенность подобного подхода и замечают, что восприятие Востока в России было сложным феноменом. С одной стороны, проявлялось родство между Россией и Азией, обусловленное как амбивалентностью российской географии, так и интеллектуальным творчеством, сформировавшимся на основе рефлексии отечественной истории и неприятия европейских идей; с другой же стороны необходимо признание сложности самой имперской ситуации, которая, выталкивая на окраину (на военную службу, в ссылку, по заданиям Русского географического общества) многочисленных представителей образованного общества, формировала несколько ориентализмов[47]. Если для одних интеллектуалов научные дисциплины открывали дорогу к власти[48], то другие, пытаясь проявлять собственную чрезмерную инициативу в производстве знаний о Востоке, потерпели неудачу в административно-политической карьере[49].
Мы не исключаем, что ориентализм поможет нам прояснить ряд аспектов деятельности В. В. Григорьева, И. Я. Осмоловского и др., но заостряем внимание читателя прежде всего на том, что этот подход не всегда эффективен, чтобы изучать поведение личности в сложной исторической динамике, многофакторности, в которой необходимо выбрать более важное решение и, наконец, соотнести моральность, личные амбиции с имперским сценарием[50]. В связи с этим важное место занимают принципы герменевтики, позволяющие целостно оценить деятельность отдельно взятого человека в системе его ценностей и смыслов и таким образом выйти на уровень разграничения отвлеченно-теоретического мира (политические установки, требования держать в голове понятие «цивилизационная миссия», дихотомия Восток – Запад и др.), задающего некие исходные смыслы, и субъекта индивидуально мыслящего, укорененного в историческом и социокультурном контексте. Это особенно очевидно при изучении подробностей жизненного пути И. Я. Осмоловского и М. Б. Первухина. Как мы увидим, деятельность каждого из этих чиновников была достаточно противоречивой. И тот и другой часто подменяли стратегии собственного успеха и принятия решений категориями имперского дискурса – например, использовали формализованный бюрократический язык, чтобы скрыть истинное состояние дел. Непоследовательность ориентализма как властного дискурса в нашей истории показательна и в том, что перед И. Я. Осмоловским, подготовившим сборник казахского обычного права, который встретил существенное противодействие со стороны высших имперских чиновников, не закрываются двери для карьеры и личного успеха. Колониальная динамика выводит субъекта имперской истории за пределы прежней иерархии власти и знания и образует новый контекст. Понимая, что его перспективы в Оренбурге не являются обнадеживающими, И. Я. Осмоловский после взятия русскими войсками кокандской крепости Ак-Мечеть в 1853 г. получает шанс адаптировать собственный опыт и некоторые свои идеи к условиям сырдарьинского фронтира, где голоса В. В. Григорьева и других его начальников из Оренбурга не могли в силу разных особенностей восприниматься в качестве догмы колониального знания.
Эта книга неоднородна по содержанию и включает в себя смешанную методологию. Конструкции имперских знаний, которые находятся в центре нашего внимания, анализируются на фоне политических и культурных изменений, происходивших в Казахской степи с конца XVIII в. до середины 1860‐х гг. В теоретическом плане такой подход, как правовая гибридность, дополняется концепцией ориентализма, герменевтическим анализом, теорией фронтира, позволяющими почувствовать динамику колониальной истории, разобраться в ее дискурсивных и контекстуальных особенностях. Такая теоретическая база и разнообразие контекстов должны дать читателю понять, что с ситуацией в Казахской степи сложно разобраться, если рассматривать изменения только в рамках какого-либо одного вектора развития – например, влияния реформ Российской империи на образование новых обществ и изменение правового сознания.
В первой главе дается представление об истории Казахской степи в колониальном контексте. Кроме того, подробное внимание уделяется практикам имперского конструирования знаний и влиянию этих практик на особенности управления регионом. Вторая глава показывает, каким образом осуществлялись попытки кодифицировать казахское обычное право в Оренбурге и Омске. В силу того что многие чиновники были неспособны проанализировать разные источники местного права, составленные сборники отличались противоречивостью и вызывали неоднозначную реакцию среди высшего эшелона колониальной администрации. В третьей главе мы рассматриваем, как появление нового сборника обычного права, подготовленного И. Я. Осмоловским и отразившего идею, что адат является частью обширной исламской правовой культуры, подрывает систему колониальных знаний о Казахской степи, которая основывалась на противопоставлении адата и шариата. Дискуссия, развернувшаяся по этому поводу среди чиновников разного управленческого уровня, приводит некоторых из них к идее свернуть или «заморозить» дальнейшие усилия в сфере кодификации. Эти действия были связаны с необходимостью исключить любые риски, которые могут оказать влияние на изменение направлений колониальной политики. И опасения по поводу переоценки И. Я. Осмоловским роли шариата среди казахов играли здесь ключевое значение. В четвертой главе анализируется ситуация, сложившаяся на Сырдарье в период между 1853 и 1864 гг. Процессы, происходившие здесь, изучаются в рамках теории фронтира, которая позволяет рассмотреть эту часть колониальной истории на фоне существенного разнообразия правовых, политических и культурных взаимодействий местных обществ и институтов.
В ходе работы над книгой нам очень пригодилось содействие коллег. Особая благодарность Ульфату Абдурасулову, Нурёгди Тошову и Владимиру Бобровникову, которые на различных этапах подготовки этого исследования высказывали ценные рекомендации и замечания. Кроме того, мы признательны Болату Жанаеву, Ильясу Самигулину и Дмитрию Васильеву за помощь в ходе архивных изысканий.
Значительная часть этой работы была выполнена на базе Института иранистики Академии наук Австрии. Мы благодарим это учреждение за поддержку и финансирование.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И КАЗАХСКАЯ СТЕПЬ В XVIII–XIX ВВ.: ИСТОРИЯ, КОЛОНИАЛИЗМ И ПРАВО
Основная задача этой главы заключается в том, чтобы сформировать представление читателя об истории Казахской степи в колониальном контексте. Право в данном случае рассматривается в качестве механизма, с помощью которого формируется имперский опыт по управлению окраинами. Процесс накопления знаний о местном праве при этом непостоянен. Это тактический инструмент – гибкий и манипулятивный, воздействие которого может быть взаимовыгодным (для колонизаторов и колонизируемых) или же отражать интересы лишь одной из сторон. Предложенное наблюдение имеет важное значение прежде всего потому, что во многих научных работах проблемы колониализма все еще ограничиваются понятиями «гегемония», «институциональное регулирование», «цивилизационная миссия», «господствующий правовой режим». Поведение же колонизируемых рассматривается преимущественно в виде адаптации к существующему политическому порядку. Это восприятие генерализирует наше представление о пространстве и времени. Например, для историков характерно утверждение о том, что после присоединения казахских жузов к Российской империи социальные и правовые практики кочевников подверглись незначительному изменению, а сами чиновники без оглядки на существующую реальность стремились реанимировать доколониальные обычаи и правовые нормы казахов. Другое распространенное заблуждение основывается на выстраивании некоего культурного барьера между колонизаторами и колонизируемыми. Однако разные случаи культурных изменений открывают для нас более широкую текстуру колониализма, основанную на сложной социальной динамике, в рамках которой происходила трансформация сознания и поведения не только субъектов колониального управления, но и самих чиновников. Иначе говоря, колониальная ситуация в Восточной, Западной и Средней части Зауральской Орды отличалась от ситуации на нижней и средней Сырдарье. Поэтому колониальный режим каждый раз должен был производить новые конструкции знаний и опыта, позволяющие управлять людьми и территорией.
СТАТУС РЕГИОНА В СОСТАВЕ ИМПЕРИИ: КОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Вхождение Казахской степи в состав Российской империи – это сложный и неоднозначный процесс, протекавший в течение длительного времени и обусловливавшийся набором разнообразных условий и факторов. Региональная неоднородность Казахской степи, амбивалентность имперской политики, особенности геополитической ситуации, трудности в изучении истории казахских правовых и политических институтов в период, предшествовавший началу XVIII столетия, и другие нюансы позволяют исследователям находить новые горизонты для научных дискуссий. При этом ключевую роль занимает проблема определения статуса казахских жузов/регионов в составе империи[51]. С объективной точки зрения ответ на вопрос, как изменялись формы управления Казахской степью и каким образом такие перемены влияли на трансформацию политического и правового сознания местных жителей, формирует некие концептуальные схемы, которые во многом определяются такими понятиями, как колония, протекторат, вассальные отношения. Как мы увидим, анализ с помощью этих понятий отдельных институтов (особенности ханской власти у казахов, адат, суд биев и др.) не всегда является убедительным и приобретает характер искусственных обобщений. Если имперские власти могли рассматривать свои отношения с казахской кочевой элитой через категории подданства и колониальный контекст, то не исключено, что подходы местной родовой верхушки к восприятию империи были более разнообразны: например, временный политический союз или стратегический альянс, участники которого в зависимости от текущей конъюнктуры способны были менять свои взгляды и тактику поведения. Анализ современных исследований поможет нам понять, что имперскую историю Казахской степи не следует сводить только к принципам линейности. Она включает в себя целый ряд региональных, институциональных, социальных и иных особенностей.
Взгляды исследователей на представленную выше проблематику условно можно разделить на несколько групп. К первой относятся попытки выявить закономерности в политико-правовых отношениях между империей и казахами и показать, что эти взаимодействия развивались по какому-то определенному институциональному сценарию. Большое значение здесь уделяется анализу юридических документов и имперской политики как таковой. Второй подход пытается минимизировать значение политико-правовой терминологии (сюзеренитет, подданство, вассальные отношения и др.), которую историки используют для объяснения процесса вхождения казахских земель в состав Российской империи. Такие выводы делаются на основании утверждения об отсутствии в начале XVIII в. государственности у казахов. Следующая группа исследователей стремится доказать, что сам характер политико-правовых отношений не был облачен на ранних стадиях в форму неопределенности и некоего поэтапного ограничения суверенности казахских земель. Имперская политика с самого начала была колониальной. Другие ученые обращают внимание на комплексность и взаимообусловленность внешних и внутренних процессов, а также на то обстоятельство, что казахи и империя должны были не только ориентироваться на интересы друг друга, но и учитывать влияние других своих политических соседей и конкурентов. В последнее время становится популярным подход, фокус которого смещается от политического контекста к изучению взаимодействия пограничных обществ. В результате этого взаимодействия формируется контактная зона, жители которой не всегда придают большое значение имперской политике, так как руководствуются стремлением к достижению взаимной выгоды и прагматизмом.
Остановимся на каждом из представленных подходов подробнее. Согласно историкам первого направления, после присяги кочевой элиты Младшего и Среднего жузов начался период формально-правового сюзеренитета Российской империи[52]. При этом отношения между казахами и империей были не столько вассальными, сколько союзническими[53]. С середины XVIII в. ситуация меняется – на общеимперском и региональном уровнях формируются попытки по созданию системы управления казахами. Это эпоха так называемого государственно-политического протектората[54]. Следующий этап начинается после отмены ханской власти в Младшем (1824) и Среднем (1822) жузах. Эти реформы заложили принципы колониального управления казахами[55]. Данный анализ изменения политико-правового статуса Казахской степи в составе Российской империи хотя и представляется логичным, однако содержит целый ряд пробелов и положений, аргументированность которых не является убедительной. Прежде всего, понятия вассалитета и протектората по своему содержанию больше тяготеют к средневековой европейской модели вассала и сюзерена, но не к той модели, которую выработали колониальные империи Нового времени, – например, политика Британии и Германии в Восточной Африке[56] или опыт Российской империи по созданию протекторатов в Центральной Азии во второй половине XIX в.[57] С другой стороны, исследования И. В. Ерофеевой, К. А. Жиренчина сосредоточены преимущественно на русско-казахском сценарии, оставляя за пределами внимания читателя подробный анализ других геополитических контекстов. Интересным в связи с этим является вопрос о роли фирманов[58] на ханство, полученных представителями кочевой элиты от правителей центральноазиатских государств[59]. Есть основания полагать, что интенсивность контактов казахов со своими южными, юго-восточными и восточными соседями могла определять важные изменения в политической, общественной и экономической жизни[60]. Пожалуй, одним из самых противоречивых положений, представленных И. В. Ерофеевой, является попытка рассмотреть обычное право через призму понятий «модернизация», «традиция» и «альтернатива». Считая, что древние нормы адата (Касым-хана[61], Есим-хана[62], Тауке-хана[63]), бытовавшие в устной форме, воспринимались некоторыми казахскими правителями как «реминисценция» старины, Ерофеева пытается показать, что хан Младшего жуза Абулхаир, испытав европейское культурное влияние, стал мечтать о реальных властных функциях и прерогативах. Чтобы осуществить это, необходимо было преодолеть указания о формальном статусе ханской власти в обычном праве и ввести его в область «государственного права»[64]. Эта формулировка содержит ощутимые противоречия. Очевидно, что в казахском обществе не было разделения на обычное и так называемое «государственное право». Когда речь идет о модернизации, включая и правовые изменения, историки в основном фокусируются на влиянии Российской империи. Это не совсем верно, так как в XVIII и XIX столетиях и, вероятно, еще раньше местное право испытало сильное влияние мусульманских норм, значительную роль в распространении которых сыграли Кокандское и Хивинское ханства[65]. Важно отметить и то обстоятельство, что адат для казахов не представлялся в виде исторически устойчивой и территориально целостной традиции. Его нормы могли не только иметь региональные различия (в пределах жузов, родовых подразделений и даже отдельных аулов), но и эволюционировать с учетом менявшихся интересов, образа жизни, экономических потребностей[66]. В следующих главах нашего исследования станет очевидным и то, что русские чиновники, в отличие от самих казахов, редко придавали большое значение контекстуальным особенностям адата. Считая, что ориентация на Россию позволяла Абулхаир-хану думать о реформе местного права по своему собственному сценарию, И. В. Ерофеева переоценивает наличие какой-либо значимой автономии в плане принятия решений казахскими правителями. Несмотря на отсутствие строгого контроля, империя могла достаточно жестко реагировать на те или иные факторы проявления самостоятельности, что, по сути, больше отражает формы колониального управления, а не отношения вассала и сюзерена. Одним из проявлений такого контроля было стремление противодействовать попыткам чингизидов[67] самостоятельно кодифицировать нормы местного права. Так, в 1789 г. уфимский и симбирский наместник О. А. Игельстром выступил против обнародованных в Младшем казахском жузе «узаконений» хана Каипа[68].
Близким по содержанию к исследованиям И. В. Ерофеевой и Д. В. Васильева является так называемый формально-правовой подход. Его сторонники основное внимание уделяют изучению правовых актов, закреплявших подданство казахов. Основной аргумент таких работ сводится к тому, что российские юридические документы вплоть до 1780‐х гг. отражали идею вассальных отношений, но не колониальной зависимости, так как не производилось попыток внедрить имперские институты управления и права[69]. Однако буквальное следование языку этих документов не всегда может прояснить контекст конкретных политических ситуаций, тем более сложно утверждать, что в 1780‐е гг., как считают авторы этого подхода, в сознании казахов сложились целостные представления о подданстве и они могли взаимодействовать с империей согласно этим представлениям[70]. Несмотря на закрепление в бумагах положений о вассалитете казахской элиты и официальное признание российского сюзеренитета, те и другие стороны часто выходили за официальные юридические рамки и действовали, руководствуясь разной логикой поведения. В результате появлялись сложные и гибридные формы политического регулирования общественных отношений. Так, в годы протестного движения батыра Срыма Датова (1783–1797) имперская администрация вынуждена была на территории Младшего жуза задействовать в качестве дипломатического посредника первого муфтия ОМДС Мухаммеджана Хусаинова[71]. Он же вошел в состав ханского совета – специального института, который, несмотря на существование ханской власти, должен был решать все важные вопросы управления регионом[72]. Интересно и другое обстоятельство. Отправляя М. Хусаинова в Младший казахский жуз, имперские власти преследовали исключительно политические задачи. Однако часть местного населения воспринимала этого человека прежде всего как муфтия (фактически компетенция ОМДС на Казахскую степь была распространена только в 1820‐е гг.)[73], а не как чиновника, который должен был действовать в интересах Санкт-Петербурга. Подобного рода представления импонировали М. Хусаинову, который в бумагах, адресованных казахам, мог называть себя муфтием, а в документах, направленных в русские канцелярии, выступать совершенно в ином качестве[74].
Противоположную точку зрения представляет А. Ю. Быков. Исследователь объявляет несостоятельными подходы, признающие наличие государственности у казахов в период, предшествовавший их вхождению в состав Российской империи. По его мнению, институциональные представления у местного населения стали складываться только под воздействием колониальной системы управления. В окончательном виде эта картина сформировалась в 1820‐е гг., и связана она была с ликвидацией традиционных институтов. К ним А. Ю. Быков относит ханскую власть, которая до воздействия империи была скорее званием, а не должностью, и обычное право, отражавшее представление о слабости ханской власти (вследствие этого, считает исследователь, хан не мог быть легитимным правителем) и не имевшее письменной традиции[75]. Подобный взгляд содержит определенную генерализацию представлений об институтах и процессах, сформированную благодаря широкому привлечению имперских источников. Прежде всего обратим внимание на недооценку исследователем понятия «легитимность». Источники легитимности казахской элиты не всегда отчетливо прослеживаются в адате. Однако это не означает, что они отсутствуют. Разные контексты формировали и разное восприятие местного права. Если российские монархи и чиновники, говоря о социальной стратификации местного общества, сталкивались с семантической путаницей (в определении функций не только хана, но и бия, например)[76], то для китайских императоров власть казахских ханов носила легитимный характер. Они в официальных документах признавали их потомками Чингисхана (чингизидами)[77]. С этой точки зрения подход А. Ю. Быкова к обычному праву как к механизму, сдерживавшему развитие институциональной системы, является односторонним. Он не отражает ту простую идею, что адат не был «законсервированной традицией», а развивался и видоизменялся вместе с обществом и, следовательно, включал в себя старые и новые представления о функциях и легитимности тех или иных институтов в Казахской степи – например, положение о том, что бий является не только судьей по адату, но и мусульманским судьей (кади)[78].
Некоторые исследователи придерживаются мнения, что уже в первой половине XVIII в. политика Российской империи по отношению к казахам Младшего и Среднего жузов носила колониальный характер. Ее основные проявления – это лишение казахских ханов возможности осуществлять самостоятельную внешнюю политику[79] и казачья колонизация, которая не ограничивалась строительством военно-укрепленных линий, но включала в себя походы вглубь степи, изъятие земель у местных жителей и убийство мирного населения[80]. Нет сомнений, что эти явления достаточно хорошо вписываются в природу колониальных империй и колониальной политики как таковой, однако вопрос о чертах российского колониализма в Казахской степи не разработан на глубоком теоретическом уровне. Проводя подобное исследование, необходимо сделать сравнительный анализ региона с опытом колониальной политики европейских держав в Африке, Юго-Восточной Азии, Океании и на других территориях.
В последнее время делаются попытки комплексного изучения процессов и событий, происходивших в Казахской степи и на сопредельных территориях. В недавно вышедшей в свет монографии японский исследователь Джин Нода справедливо указывает на то, что изучение общественно-политической истории казахов в XVIII – первой половине XIX в. только с точки зрения казахско-русских отношений и на основании соответствующих источников ведет к ограниченным результатам. Он обращает внимание читателей на широкую панораму событий и контекстов, фокусируясь на нескольких векторах развития политического процесса: казахи и Цинская империя, Российская и Цинская империи. При этом казахи пытались взаимодействовать с каждой из вышеназванных империй своим собственным оригинальным способом. В свою очередь Российская империя, учитывая влияние Цинской империи (казахи Среднего жуза признавали себя подданными не только России, но и Китая) на земли современного Восточного и Юго-Восточного Казахстана, вынуждена была проводить на территории Среднего и Старшего жузов более умеренную политику, отличную от той, которая велась в Младшем жузе[81].
Смешение разных форм политического взаимодействия, многообразие региональных особенностей и сложность сопредельных контактов, а также отсутствие какой-либо строгой понятийной верификации правового статуса территорий Казахской степи в XVIII – первой половине XIX в. требует анализа процессов не только на глобальном, но и на локальном уровне. Один из вариантов этого направления исследования – изучение пограничных обществ. К наиболее разработанным моделям такого взгляда относится обращение к истории взаимодействия кочевников с казаками. Недавно эту попытку осуществил Ю. Маликов, взяв за основу взаимоотношения казахов, проживавших на территории современного Северного Казахстана, с казаками Сибирского казачьего войска[82]. Однако, несмотря на всю привлекательность фронтира, его инструментарий следует применять с большой осторожностью. Основные замечания в адрес работы Ю. Маликова заключаются в том, что не всегда инварианты фронтира (в данном случае опора на работу Томаса Баррета по Северному Кавказу и заимствование его идеи «линий неопределенности»[83]) могут быть успешно экстраполированы на другие контактные зоны. Выводы о том, что взаимопроникновение между казачьей и казахской культурами обеспечивалось благодаря отсутствию у каждой из групп «сильной» этнической и религиозной идентичности, также не являются убедительными[84]. Как минимум такое заключение требует анализа разных источников, а не только имперских нарративов, представлявших казахов в качестве «поверхностных мусульман». Идея нашей работы заключается в том, что новая имперская ситуация создает новую фронтирную историю. Ее контекст и характер взаимодействия между пограничными обществами сложно моделировать на основе уже имеющихся аналогов. Особенности этнической, религиозной идентичности, социальный состав пограничных обществ, поддержка властями одних групп в ущерб другим не всегда являются определяющими факторами. Более существенную роль играют возможности и ресурсы (или их отсутствие), которые обеспечивает фронтирная зона.
ДИАЛЕКТИКА ИМПЕРСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ: КОЛОНИАЛЬНЫЕ VS «ТУЗЕМНЫЕ ЗНАНИЯ»
Распространяя свое влияние на Казахскую степь, Российская империя сталкивалась с различными проблемами в сфере контроля и управления. Важную роль в решении этих трудностей играл процесс формирования колониальных знаний о своих новых подданных. Необходимо было дать этнографическое описание местных групп, изучить их политические и правовые институты, систему социальных и экономических отношений, религиозные воззрения, т. е. те нормы, обычаи и правила, которые помогли бы империи выработать свои собственные подходы для осуществления реформ и проведения политики русификации. Как формировалась система колониальных знаний о казахах? Каким образом она взаимодействовала с так называемыми «туземными знаниями»?[85] Стремясь найти ответы на эти вопросы, мы признаем несколько положений, которые не исключают, а дополняют друг друга. Одним из подходов к отбору колониальных знаний о туземных жителях было представление о цивилизационной миссии[86]. Поэтому между французскими колониями в Африке[87], Северным Кавказом[88], Казахской степью и другими зависимыми территориями можно найти некоторые аналогии имперского восприятия местного общества и реформ, проводимых в соответствии с этим восприятием. Однако общность тех или иных черт колониальной политики не обязательно указывает на то, что ориенталистский дискурс должен воспроизводиться в истории разных империй по одной и той же схеме. Он может различаться и в рамках определенного колониального опыта. В зависимости от региональных особенностей, текущих целей колониального управления, степени влияния научного подхода, особенностей индивидуального мышления самих чиновников и ученых ориентализм приобретал новые черты и видоизменялся[89]. Чтобы читателю было проще представить себе смысл сказанного, приведем пример. Некоторые исследователи российской имперской истории попытались систематизировать траектории развития ориентализма. Так, по мнению О. Е. Сухих, с конца XVIII до середины XIX в. Казахская степь воспринималась путешественниками и чиновниками как чужое и опасное пространство, а населявшие ее кочевники представлялись разбойниками[90]. Такой подход представляет несколько упрощенную и крайне генерализированную версию ориентализма. Даже в официальных бумагах некоторые колониальные администраторы пытались избежать общего взгляда на Казахскую степь. В инструкции 1851 г., составленной для чиновников оренбургского ведомства на случай их столкновения с жителями степи[91], говорилось, в частности, следующее: казахи, кочевавшие вблизи русских военно-укрепленных линий, благодаря сближению и контактам с казаками отличаются от так называемых «дальних или степных киргиз-кайсаков», которые из‐за удаленности от русских укреплений и столкновений с «кокандцами» и «хивинцами» «приняли характер: дикий, грубый, самобытный, своенравный»[92]. Следует считать, что подобного рода инструкции, подготовленные в соответствии с идеологическими, военными, стратегическими задачами того времени, могли отличаться от описаний иного рода – работ востоковедов, уделявших большое значение местным языкам, культурному контексту и особенностям взаимодействий пограничных обществ. Примечательно, что И. Я. Осмоловский, подготовивший труд по казахскому обычному праву, не характеризовал «дальних» казахов, т. е. не находившихся в прямом контакте с русскими укреплениями и их жителями, как диких или грубых. Наоборот, соседство с кокандцами и хивинцами он рассматривал как важный шаг в сторону развития мусульманской грамотности и эволюции правовой культуры[93].
Теперь обратимся к несколько иному контексту. В последнее время исследователи, пишущие о том, что в имперской ситуации не существовало монополии на производство знаний, больше внимания уделяют так называемым местным или «туземным» голосам. Особый интерес здесь представляет проблема «колониального посредничества»[94]. Ян Кэмпбелл показал, что Российская империя в своем стремлении модернизировать Казахскую степь не могла обойтись без местных представителей (ставших переводчиками, чиновниками, военными и прочими колониальными деятелями), которые, приняв императивы модернизации, тем не менее «сохраняли степень интеллектуальной автономии и деятельности»[95]. Такой подход, адаптированный Я. Кэмпбеллом из работ Бернарда Кона[96] и Кристофера Бейли[97], призван продемонстрировать, что «знание в колониальных контекстах должно неизменно зависеть в некоторой степени от туземных акторов, сетей и пониманий; хотя результаты этой кооперации не всегда предсказуемы и прямолинейны»[98]. Конечно, подобного рода анализ является показательным, если мы представляем колониальное воздействие как широкий круг возможностей и сферу достижения взаимных интересов. С этой точки зрения местные элиты могли рассчитывать на карьерный успех в российских бюрократических ведомствах, а также получали возможность перераспределить ресурсы экономического, политического и иного влияния. Для имперских ведомств услуги местных жителей играют особенно важную роль в тех сферах, которые связаны с текущими политическими и административными задачами: составление карт, перепись, изучение обычного права и др. Однако само по себе колониальное посредничество как разновидность знания (колониальное vs «туземное») идентифицировать чрезвычайно сложно. Поэтому исследователи часто определяют его особенности скорее в условных, чем в строгих понятийных и аутентичных формах. В случае Казахской степи эта проблема осложняется еще и тем, что казахский язык занимал по сравнению с татарским и русским менее привилегированное положение. В XVIII – первой половине XIX в. мало было и местных переводчиков[99]. В колониальных учреждениях в основном была представлена казахская элита, прошедшая русские учебные заведения. Однако данных о том, как такое посредничество функционировало в условиях смешанного опыта и разного интеллектуального фона – например, наличие сразу и мусульманского, и русского образования, – мало. С другой стороны, не проясняется и сам опыт элиты иного качества – мулл, кади, аксакалов, биев, дистанцированных от изучения русского языка, системы знаний и привилегий, обеспеченных империей. Если мы не имеем здесь ясной картины, то возникают только фрагментированные или упрощенные представления о формировании «туземных знаний» в период колониальной зависимости, например рассмотрение казахской поэтической традиции «Зар-заман», усиливавшей исламские элементы, только в виде реакции на колониальную политику[100], не допуская, следовательно, что колониальная тематика могла стать составной частью более древней интеллектуальной традиции, развивавшейся в рамках собственных ориентиров. Сталкиваясь с подобного рода трудностями, мы признаем, что будет заблуждением искать путь к интерпретации «туземных знаний» через дихотомические вариации – например, противопоставление модерности и традиции. Очевидно, что «туземные знания» имели гибридный характер и являлись продуктом многих обменов. При этом «туземные знания» одного региона могли стать колониальными в другом[101]. Подобного рода сравнения можно найти и в истории Российской империи. В 1840‐е, когда обсуждалась идея кодификации обычного права для казахов оренбургского ведомства, в качестве образцовых должны были использоваться сборники адата, предназначенные для народов Восточной Сибири (тунгусов, остяков, самоедов, бурятов и др.)[102], составленные по указанию М. М. Сперанского в 1820‐е гг.[103]
Определенного рода заблуждением является и суждение о том, что «туземные знания» нетрудно вычленить из колониального контекста и с их помощью найти «достоверный» язык описания местного общества. В действительности же это очень сложная задача. Местные жители, описывая себя и свое общество через понятия «традиция», «род», «племя» и другие категории, апеллирующие к прошлому и доколониальному опыту, часто скрывают свои истинные намерения, тесно связанные с современным политическим и идеологическим контекстом[104].
Полагая, что понятие «туземные знания» может смутить читателя этой книги, мы не пытаемся его артикулировать в каком-то узком автономном смысле. Производство знаний в Казахской степи – это не настолько очевидное, как может показаться на первый взгляд, противопоставление разных традиций и эпистем (колониальное vs туземное, адат vs шариат, Казахская степь и центральноазиатские ханства), а скорее их смешение и взаимопроникновение. В связи с этим следует подчеркнуть, что гибридность сознания и разнообразие стратегий поведения проявлялись не только среди казахской кочевой элиты. Имперские чиновники, востоковеды, военные действовали в колониальной истории по-разному. Становление отдельных личностей, особенности их мышления, подходы к изучению реальности развивались в разнообразных и зачастую противоречивых условиях. Стремление к совершенствованию колониальной системы управления и политический прагматизм могли сочетаться с научной рациональностью и щепетильностью, а также с требованиями здравого смысла. Все это в совокупности обеспечивало релятивистское представление о знании, основанное на поиске адекватного для той или иной имперской ситуации языка описания реальности. Очевидно, что И. Я. Осмоловский, рассматривая адат как часть исламской правовой культуры, руководствовался не только научным подходом к делу, но и современным политическим прагматизмом, который учитывал необходимость русификации Казахской степи. Однако этот прагматизм и вытекавшая из него оценка действительности были несколько иного характера, отличными от представлений о них В. В. Григорьева, В. А. Перовского и других администраторов. Поэтому сближение адата и шариата и совершенствование языка и методики изучения кочевников, представлявшихся в качестве очевидного ресурса колониального управления для одних имперских деятелей, не было настолько же очевидным для других – тех, кто, прежде всего из‐за политических рисков и бюрократического формализма, не готов был выйти за рамки единых и линейных схем понимания реальности.
ЗНАНИЕ КАК РЕСУРС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРИЕЙ
Рассматривая производство знаний в колониальном контексте, исследователи, как правило, пытаются указать на его позитивистскую составляющую. Иначе говоря, знание – это основа для административных преобразований (с помощью классификации, систематизации, категоризации) и в то же время следствие длительного социального процесса, выделяющегося своей противоречивостью и непоследовательностью в отношениях между империей и ее подданными. Бернард Кон, изучая Британскую Индию, пришел к выводу, что колониальные чиновники представляли себе местное общество как «серию фактов», влиявших непосредственным образом на эффективность управления. Систематизация и категоризация таких фактов посредством статистических отчетов, этнографических наблюдений, правовых кодексов и прочего позволяли более ясно ставить и решать различные административные вопросы[105]