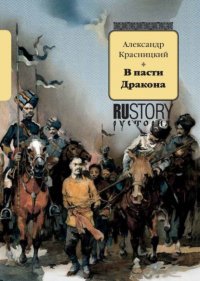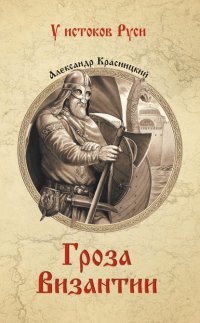
Читать онлайн Гроза Византии (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Александр Красницкий
© Красницкий А.И., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Сайт издательства www.veche.ru
* * *
Гроза Византии
Часть первая
Голубые и зеленые
1. На берегу Босфора
День догорал. Ярко-багровый диск заходящего солнца купался уже в позолоченных его же последними лучами волнах Босфора. Он как бы медлил погрузиться совсем в эту беспредельную гладь и, казалось, отдыхал теперь в отрадной вечерней прохладе, сменившей зной дня. Последние лучи его продолжали еще упорно бороться с надвигавшейся темнотой ночи. Они золотили не только воды пролива, теперь безмятежно спокойного, но также играли на куполах императорского дворца, на крестах дворцовых церквей, полутенями спускались к самому берегу и пропадали в чуть заметной ряби Босфора, подходившего в этом месте как раз к подножию роскошных густолиственных деревьев.
Было очень тихо. Сюда почти не доносились шум и гам Нового Рима – их заглушали деревья парка и рокот волн. Редко-редко чириканье птиц нарушало торжественную тишину этого спокойного уголка всегда такой шумной Византии.
Впрочем, не одни только птицы и волны Босфора нарушали эту тишину.
Неуклюжая рыбачья ладья, покачивающаяся у берега, показывала, что где-то близко находились люди.
И в самом деле, этот утолок был обитаем.
В нескольких шагах от воды стояла покосившаяся, жалкая лачужка. Растянутые около нее для просушки сети, невода, небрежно кинутые у самого входа весла прямо говорили, что хозяин этой лачужки был рыбаком.
Около входа в хижину, на небольшой прикрытой травой прогалинке, на камне сидел старик, нежась в догоравших лучах солнца. Он был согбен. Голова его и длинная борода были белы как снег. Сморщенное лицо с крупными чертами было очень добродушно. Выцветшие от старости глаза смотрели тепло и ласково.
Одет он был чуть ли не в лохмотья, едва прикрывавшие его пепельно-серое тело.
Впрочем, в этом уголке другой одежды, пожалуй, и не надобно было. Люди заходили сюда редко, а молоденькая девушка, склонившая голову на колени старика, никогда бы его не осудила за недостатки в одежде уже хотя бы потому, что старик, ласково гладивший ее волосы, называл ее внучкой.
Девушка была очень молода и красива. На вид ей нельзя было дать более пятнадцати-шестнадцати лет, и это отражалось в ее невинных, чистых глазах, в беззаботном, веселом смехе и шаловливости, которая так свойственна тем переходным годам, когда в ребенке-девочке только просыпается женщина.
Она, очевидно, не сознавала своей красоты. Однако эта красота была совсем особенная. Среди красавиц Нового Рима блондинки – редкость, а эта девушка была блондинка с золотистыми волосами, ясными голубыми глазами и ярким румянцем, заливающим ее щечки. Фигура ее была стройная, статная, с хорошо развитым бюстом, несколько приподнятыми плечами и крепкими руками. Она вся теперь дышала не только красотой и молодостью, но и совсем несвойственной женщинам юга физической силой, разлитой во всех ее движениях и придававшей ей какой-то уверенный вид.
Она полулежала на траве, охватив колени старика, и слушала его тихую речь, прерываемую время от времени нежными обращениями ее собеседника, которого она называла «добрым Лукой».
Они беседовали.
– Вот так все и устроено, внучка, на этом свете, – тихо говорил старец, – всегда так было и будет… Радость и горе постоянно чередуются друг с другом. Хорошо человеку – радуется он, счастлив, думает, так и до конца его дней будет, а в это время горе уже сторожит его и вдруг, как дикий зверь, кидается на счастливца в тот самый миг, когда он и ожидать этого не мог… И всегда так.
– И меня, стало быть, ждет горе? – вздохнула девушка.
– И ты, Ирина, не минуешь его… Это – обычная участь всех.
– Близко это горе…
– Близко? Откуда ты это можешь знать, дитя?.. Наше будущее скрыто от нас.
– А я это знаю, чувствую. Да, наконец, ты мне и сам только что сказал…
– Я ничего не говорил.
– Нет, ты сказал! Ты сказал сам, что горе подкрадывается к людям всегда в то время, когда они чувствуют себя счастливыми, так ведь?
– Да, это верно…
– Ну вот, так и со мной: я счастлива, безмерно счастлива, порой мне кажется, что счастливее меня никого нет во всей Византии, а вот теперь я и думаю, что как раз горе и сторожит мое счастье, принесется оно, унесет его, и я буду плакать, долго плакать…
– Отгони от себя мрачные мысли, дитя! Кто знает будущее? Тебе придется страдать, как и всякому, но что поделать, если уж так суждено. Да и счастлива ли ты теперь?
– Счастлива, дедушка, я уже тебе сказала об этом. Да и как же я могу быть несчастливой? Все у меня есть: ты выезжаешь на ловлю и всегда привозишь так много рыбы, что мы совсем не знаем голода. И потом кругом всего так много! Видишь, там журчит наш ручеек, вода его вкусна и холодна, и здесь столько цветов, красивые они, и я могу плести венки… Наконец, ты, когда ходишь с рыбой к дворцовому куропалату, всегда получаешь от его слуг обильные подарки. Видишь, всего у нас вдоволь, все есть, и живем мы тихо и спокойно, не трогая других и забытые всеми.
Старик тяжело вздохнул.
– Коли бы всегда так было, Ирина! – печально промолвил он.
– Так и будет всегда.
– Нет, нет… так не может всегда быть… Я стар, дни мои сочтены, жизнь моя позади, ты молода, у тебя все впереди. Что хорошо для старца, совсем нехорошо для молодки. Молодость требует другого…
– Чего же, Лука?
– Мало ли чего… В твои годы все так рассуждают, потому что молчит пока сердце.
– Как молчит? Отчего?
– Оттого, что любовь еще не посетила его.
– Вот про что ты, дед! А откуда ты знаешь, что я никого не люблю? Ты ошибаешься, я люблю…
– Как? Неужели? – с испугом в голосе воскликнул Лука.
– Да, да! Люблю… люблю вот эту хижину нашу, люблю свет солнца и это море, потом люблю нашу лодку, птиц, которые собираются клевать крошки после нашего обеда, люблю, когда звонят в колокола в храмах, а потом, и тебя люблю…
– Хвала Создателю! – с облегчением вздохнул старик. – А я думал, что в самом деле горе уже постигло тебя.
– А разве любовь – горе?
– Да, дитя.
– Я думала, что – счастье…
– Для кого как… Для очень немногих на земле это, может быть, и счастье, только такое смутное, неясное, тревожное счастье, что, пожалуй, горе для человека – лучший удел, если сравнишь их; для остальных же любовь – просто горе, тяжелое, страшное горе.
– Вот как!
– Это верно. Видишь, я стар, долго живу я на свете и твердо знаю это.
– Ты любил?
– Да, и меня посетило это горе. Оно никого не минует.
– Но ты говорил, что был счастлив с твоей женой.
– Ты права. Мать твоего отца дала мне счастье, какое только возможно на земле, но это-то счастье и было вместе с тем горем…
– Я не понимаю тебя!
– Поймешь сейчас: я боялся потерять это счастье и мучился, а когда потерял мою жену, то вот уже много лет не знаю счастья, а терплю только одни муки.
– Она умерла?
– Да, с тоски по свободе и от горя, что жена ее сына убила себя сама. Я до сих пор вижу страшную рану на ее горле…
– Убила? Зачем?
– Ты хочешь знать, дитя? Так я скажу. Она любила нас и решилась скорее умереть, чем расстаться с нами… Хорошо, я расскажу тебе все… Теперь ты выросла и должна знать, как попала сюда. Мне уже недолго жить на свете, и я должен наконец рассказать тебе все. Ты будешь слушать?
– Да, дед… Ты много раз обещал мне поведать об этом, но, как я тебя ни просила, ты никогда не был со мной откровенен. Отчего это?
– Не приходило время еще.
– А теперь пришло?
Старик задумался.
– Не знаю, что и сказать тебе, как ответить на этот вопрос… Чувствую, что оно не пришло, это время, но какие-то мрачные предчувствия так и одолевают меня… Откуда это, почему? Не знаю сам, но чувствую.
– Что же ты чувствуешь, Лука?
– Многое, ох многое, дитя.
– Тобой недоволен куропалат?..
– Нет, этого нет!.. А вот чувствую я, что жить мне недолго, ох недолго остается.
Ирина вскочила и с трепетным страхом посмотрела на старика.
– Дед, дед! Что ты говоришь! Опомнись, – лепетала она.
– Что, дитя, чего ты так испугалась?..
– Ты сказал про смерть? и так сказал, что я поверила. Ты сказал это совсем по-особенному, в твоих словах была страшная уверенность.
– Что делать? Этот конец неизбежен для всех живущих.
– А как же я?
– За тебя-то мне и страшно! Да, за тебя… Ты – единственное, что только и держит меня в этой жизни. Ради тебя только и живу я. Что я такое? Одинокий, жалкий, затерявшийся среди чужих старик… все равно, как дерево, вырванное с корнем налетевшим вихрем и перенесенное на чужую почву… вот и я… Привился, прозябаю. Зачем, к чему? Только ты, ты – мой побег молодой, молодая лоза, вот и жалко мне тебя…
– Лука, дед, старый, добрый дед, ты не умирай, ты послушай меня, не умирай! – с громким воплем кинулась к нему на грудь Ирина.
– Да я и не думаю умирать.
– А сам сказал…
– Сказал только, что тоска меня смертная гложет, может быть, я еще и ошибаюсь… Может быть, все это пустяки из пустяков – так, плохо спалось, а все-таки хочу я тебе рассказать про прошлое, на всякий случай.
– Лучше не говори, Лука.
– Отчего же, дитя?
– Ты так напугал меня… вот я и не хочу слушать.
– Полно, успокойся, ну, не плачь же, прошу тебя, не плачь.
– Я не буду слушать. Ты собираешься умирать, вот и хочешь мне рассказать про свою прошлую жизнь.
– Ты должна слушать… Если что-то случится, ты должна знать, кто ты. Будешь?
Ирина потупилась.
– Будешь слушать? – настойчиво повторил Лука.
– Говори, буду! – прошептала девушка, отирая рукавом слезы.
2. Тень прошлого
– Слушай же, дитя, слушай и на всю жизнь запомни мои слова, – начал Лука, поудобнее усаживаясь на своем камне. – Ты живешь на свете уже шестнадцатую весну и знаешь себя всегда вот здесь, в этом тихом уголке дворцового парка; но, может быть, смутно ты припомнишь, что не вся твоя жизнь протекла здесь. Не так ли, Ирина?
– Да, да, дед Лука, как во сне, иногда, особенно когда задумываюсь, припоминаются мне высокие, обросшие с вершин до скатов лесом горы, широкая река, то тихая и спокойная, как вот этот наш залив, то бурная и ревущая. Потом помню я и людей, но совсем не таких, каких видела здесь. Они были высоки ростом, широки в плечах. У них были голубые глаза, как у меня, и белые волосы, как у тебя. Впрочем, таких людей я видела и здесь – среди варягов… Скажи же, дед, что это такое в самом деле, сон или действительность? Я думаю, что это сон.
– Нет, память не изменяет тебе, это не сон, не девичье воображение.
– Но что же?
– То, что действительно было… Ты не здесь родилась, Ирина. Твоя родина – не шумная Византия; первый раз свет солнца увидела ты не под сенью дерев этого парка, а далеко-далеко от него.
– Но где же? Где, Лука?
– Сказал, далеко… слушай же и не перебивай. Далеко отсюда, далеко от шумной и развратной Византии, за этим морем, которое кажется тебе безбрежным, есть другая страна. Она не похожа на эту. Нет там таких городов, как эта Византия, и народ там живет совсем другой – крепкий, сильный, здоровый, с русыми волосами и голубыми глазами.
– Варвары! – воскликнула Ирина.
– Здесь так называют их… Здесь ведь всех так называют, кто не римлянин или эллин. Только по совести – все варвары, даже дикие, и те добрее и лучше жителей Нового Рима. Я знаю этих варваров близко, потому что я родился там, среди них. Детство, юность, взрослые годы, начало старости провел я в этой стране, и здесь я сам – варвар.
– Ты никогда не говорил мне этого.
– Не приходило время, дитя… Да, я – варвар… Моя родина за этим морем, на берегах великой славянской реки Днепр. Там я родился, там жил, любил и был счастлив, но, видно, умереть мне там не суждено. Родина моя, родина, далекая, милая!.. Поля мои зеленые, леса дремучие, непроходимые!.. Не увижу никогда я вас, не вдохну я своей старой грудью того воздуха, которым дышал, когда родился. Все потеряно для меня, и только в грезах моих и мечтах, да во сне еще, вижу я родимую сторону, и болит мое старое сердце, трепещет оно, как подстреленная птица!.. А как позор свой вспомню…
– Говори, дед, говори, я слушаю тебя! – с волнением закричала Ирина, отклоняясь от старика и становясь перед ним на колени. Лицо ее пылало, как в огне, глаза сверкали, высокая грудь вздымалась, что волна Босфора в бурю.
– Как же ты попал сюда? Каким образом очутился ты здесь, старый, хилый. Ведь не по своей воле покинул ты родину? – задыхаясь от волнения, спрашивала она.
– Не по своей! Кто же решится сам покинуть родную сторону, ты права… Так слушай же! Тяжело мне, а все поведаю я тебе… слушай… Там, в родной мне стране, на берегах Днепра, жили наши роды. Мы жили в долинах вокруг высот, на которых стоял наш город – Великий Киев. Полянами нас всех звали другие племена. Жили мы мирно, никого не трогали, не обижали, хотя нас было много. Неподалеку от нас в дремучих лесах жили древляне. Нашего корня было это племя. Говорили они одним языком с нами. Мы их понимали, а они нас. Одним богам мы молились и жертвы приносили, только нравы да обычаи у нас были совсем разные: древляне как звери дикие лесные жили – грабежами промышляли, вечно в раздорах между собой были, а наши роды тихие, смирные, хлеб растили, торговали с наезжими гостями в Киеве, сбывали им, что из земли потом да кровью своей добывали, а о битвах, о войнах не только что друг с другом, но и даже с обижавшими нас племенами не помышляли… Да и к чему эти войны? Все ведь мы – родные были, недаром на всем пути великом из варяг в греки и далеко окрест все, кто жил там, одним именем – славянами – назывались: и у нас на Днепре, и на великом озере славянском Ильмене, и все, все мы, сказал уже я, одинаково говорили и одним богам молились. Но однажды пришла беда: не смогли мы больше в мире и согласии жить. Начались между нами ссоры да раздоры пошли, и не стало меж нами правды; что на Ильмене, то и на Днепре кровь братская рекой полилась. Род теперь постоянно враждовал с родом, и чаще всего по пустякам, и внимания не стоившим. Оттого-то, хоть и много было нас и сильны были мы телом, духом слабее детей были… Всякий, кто хотел, мог явиться к нам, воевать нас и всегда побеждал. Будь между нами согласие, не было бы народа равного нам в целом свете! Но что же поделать, если судьба не давала нам этого, оттого и гибли мы… Так, должно быть, предопределено славянским племенам во веки веков… Однако даже при этих раздорах мы жили счастливо, особенно тот род, к которому я принадлежал. Этот род славен был богатством своим и красотою своих дев голубооких. Все окрест уважали его. К старикам его приходили даже дикие древляне, если хотели ссоры свои разрешить не кровью, а мирным правдивым словом. Не смущались даже тем, что во главе рода не старик стоял, опытом прожитых лет славный, а только что пришедший в зрелый возраст родич… Впрочем, нет, не так я говорю, больше пятидесяти зим было этому старейшине, когда сородичи его над собой поставили. Был он человек добрый, справедливый, хотя и в обиду никогда своих не давал. Знали его не только в родах окрест, но в самом Киеве с почетом встречали, когда он приходил зачем-нибудь туда. Итак, счастливо правил он этим родом своим многие годы… Только, сказал уже я тебе, дитя, что не знают смертные, где конец счастья, где начало горя – так они близко друг с другом соединены. Стал думать этот старейшина, что боги будут всегда милостивы к нему…
– Ты говоришь, Лука, боги? Разве там, на твоей родине, не веровали во Христа?
– Нет, дитя, там не знали Его тогда, а может быть, и теперь не знают.
– Но кому же там молятся?
– Кому? Главе всех богов – Перуну-громовержцу, злому Чернобогу, доброму Волосу, веселому Лелю…
– Истуканам?
– С виду истуканам, пожалуй, но на моей родине этими истуканами изображались великие силы природы. Однако ты меня перебила… Узнай же, что случилось. Пришли в мой край злые люди, это были варяги, они из-за дальнего моря шли по своему обычному пути сюда. И прежде они часто проходили мимо, но никогда ни мы им, ни они нам зла не делали. Дружно всегда жили. Они выменивали у нас хлеб и шкуры на свое железо и оружие. Так шли многие годы. Тут вдруг они явились к нам не с добром, с мечом. После я уже слышал, что вышли у них распри с приильменскими родами, и покорили они их, потом и к нам явились с военною грозою… Ну могли ли мы им сопротивляться? В ратном деле они очень искусны были, мы едва умели в ряды построиться. Так и не сумели мы защитить себя от врага. Помощи нам ниоткуда не было. Все соседние роды разбежались, и остался только мой род, один на один со врагом лютым. Кто успел в лес к древлянам убежать, тот спасся; больше всего побили на месте, многих также в плен забрали и с собой, вот сюда – в Византию, как рабов увезли.
И старейшина увезен был со всей семьей своей как раб. Были у него жена, с которой он душа в душу прожил, дочь твоих вот лет – красавица, сын с женой и сыном маленьким. Так их всех и взяли. В Византии на рынках рабов семьями всегда охотно покупали. Варяги рассчитывали продать их там или на своих выменять. А тут еще славянский старейшина… За него рассчитывали взять больше, хотя он и немолод был. По дороге, пока морем плыли, они обращались хорошо со всеми своими пленниками – никого не обижали, кормили, поили, ничем от себя не отделяя, работать заставляли – когда вихря не было, грести мы должны были, – да это ничего было, легко. Старейшина плененный только грустил тогда. Еще бы! То первым человеком был, а то вдруг жалким рабом стал… Так переменчиво счастье людское!
– Дед, ведь этот старейшина был…
– Молчи, дитя, и слушай! Ведь только начинались беды этого старейшины тогда. Сын его любимый, единственный, Всеслав, вдруг одному из варяжских вождей полюбился. Молодец он был этот Всеслав, во всем роде другого такого не было: силы и удали непомерной, и лицом пригож, и станом строен. Взял его варяг к себе, отнял от отца и матери, от жены молодой, и больше с той поры не видали они его никогда, и что с ним сделалось, скрыла от них судьба… Да и не суждено им, знать, уже свидеться более. Плакали и мать и жена, когда их разлучили. Да что? Разве слезами поможешь тут чему-нибудь?.. Разлука ли, горе ли повлияли – не знаю, только у оставшейся жены сына старейшины тут же на варяжской ладье дочь родилась. Варяги-то тогда только смеялись да радовались, одного, говорят, нет, на его место новая пленница явилась, все что-нибудь в Византии и за нее дадут. Впрочем, они мало обращали внимания на пленных, пока наконец не прибыли в Византию. Там варяги всех их сковали попарно. Старейшина был скован не только с женой своей, но и дочерью, и с женой своего сына. Как плакала тогда она, бедняжка… Малютка была у нее на руках, чувствовала она, эта бедная мать, что скоро, скоро придется ей навеки расстаться со своими детками! Так это и сталось! Красавица была эта славянка, здесь таких нет, и как она была похожа…
Лука вдруг умолк и пристально посмотрел на Ирину.
– На меня? – тихо промолвила девушка, потупляя глаза.
– Да, на тебя…
– Это была моя мать?
Но старик, как будто не слыша этого вопроса, продолжал:
– Нас вывели на рынок. Не одни мы там были. Много, много рабов выставили на продажу. Только как совестно было стоять! Мы ничего не понимали, что говорили вокруг, но нас осматривали, как скот какой-нибудь. Меня – славянского вождя, заставляли раскрывать рот и показывать свои зубы… Позор! О, какие страдания я тогда перенес! Я не заметил, как увели от меня мою дочь, я даже не знал, кто купил ее, в себя меня привел отчаянный крик твоей матери… Она понимала по-эллински. Ей сказали, что ее отдадут в рабыни старому развратнику византийцу, купившему ее по дорогой цене. Закипела славянская кровь тогда. Смерть ей казалась лучше и слаще позора. Как-то выхватить она успела у близко стоявшего варяга его короткий меч и закололась прежде, чем кто-нибудь смог отнять у нее оружие… Это была твоя мать, Ирина. Но что это такое?
Вблизи от них, в кустарниках, слышен был треск сломившихся ветвей. Как будто кто-то поспешно пробирался через чащу сюда, на берег.
Старик вскочил, Ирина тоже. Треск слышался все ближе и ближе.
3. Беглец
Прошло всего несколько мгновений – мгновений смутного и тревожного ожидания, показавшихся Луке и его внучке очень-очень долгими.
Ни тот, ни другая нисколько не растерялись. Они знали, что зверей в парке нет, что от воров и грабителей, которыми кишела Византия, парк по одному тому бдительно охраняется, что он окружает императорский дворец. Если же человек идет не прямою дорогой, а пробирается через кусты, то, стало быть, для этого есть какая-нибудь особенная причина.
Но какая?
Сюда, в этот уголок, так редко заходили люди, что появление человеческого существа, да еще при таких обстоятельствах, могло грозить бог знает какими неприятностями. В этом же случае нельзя даже предугадать, как следует поступить: встретить ли гостя или обороняться от него?
Однако все эти недоумения быстро рассеялись.
Из чащи кустарников на прогалину выскочил человек и остановился, как бы пораженный присутствием людей.
Он был очень молод, с загорелым лицом. Глаза его были такие же голубые, как и глаза Ирины, а грива густых русых волос, в беспорядке падавших на плечи, также указывала на его не византийское происхождение. Одежда на нем была вся изорвана – недаром же он пробирался сквозь чащу кустарников. Из-под лохмотьев просвечивало мускулистое тело. Руки незнакомца казались чрезвычайно развитыми, да и сам он весь был олицетворением физической мощи.
Он стоял, тяжело дыша, и вопросительно глядел на старика и молодую девушку.
Очевидно, незнакомец соображал, кого он встретил в этих двух существах – друзей или врагов.
Наконец он решился заговорить:
– Кто бы вы ни были, спасите меня!
Эти слова были произнесены далеко не чистым византийским говором. Напротив, незнакомец коверкал и ударения и окончания, выговаривая все на какой-то особый лад.
В Византии так не говорили, и было видно по всему, что этот человек – чужеземец…
Однако Лука и Ирина сразу поняли незнакомца. Раз он обратился к ним с просьбой о спасении и помощи, он уже не мог быть им врагом. Это было ясно для них. Притом же этот юноша казался утомленным, ослабевшим до последней степени. Бояться насилия с его стороны было нечего.
– Кто ты? – тихо спросил его Лука.
– Все равно… потом… Пока только одно – спасите!
– Спаси его, Лука, укрой его! – воскликнула Ирина. – Посмотри: он изнемогает.
– Но если сюда придут…
– Так что же? Кто найдет его, если ты его спрячешь?
Старик был в нерешительности. Он смотрел то на внучку, то на так неожиданно появившегося в этом уголке юношу. Они с мольбой смотрели на него, ожидая ответа. Лука колебался. Он и желал спасти незнакомца, и в то же время боялся, чтобы не пришлось самому пострадать за это. Последнее чувство пересилило.
– Нет, – проговорил он, опуская глаза, – не могу я это сделать, я сам не свой здесь… Из милости только позволяют мне жить тут, и, если я навлеку на себя гнев куропалата, мне придется плохо… Уходи, я не буду тебя задерживать, но и не надейся, что я спасу тебя… от чего – я и сам не знаю.
– Лука! – воскликнула Ирина. – Ты отказываешь ему…
– Мне нечего больше делать… Уходи же, друг, и я никому не скажу, что ты здесь был.
Юноша тяжело вздохнул. Он по тону старика видел, что ему нечего ожидать помощи.
– Постой, Лука, – снова заговорил Ирина, – ты гонишь его, пусть так… но он, может быть, голоден. Позволь же мне накормить его. Тогда уже пусть он идет. Так ведь, Лука? Я вижу, ты согласен, да? Пойдем же, незнакомец, в нашу хижину и стань хотя бы ненадолго нашим гостем. Знай, что в гостеприимстве даже заклятым врагам не отказывают славяне.
– Славяне? Славяне – вы? – воскликнул юноша с удивлением.
– Да!.. И что с этого?
– Сами боги привели меня сюда. Ты, милая девушка, и ты, старик, знайте: я тоже славянин!
– Славянин? – воскликнул Лука. – Ты?
– Я…
– Откуда, откуда, скажи скорей?
– С Днепра, старик.
– Из-под Киева?
– Да.
– Вот видишь, дед, а ты хотел ему отказать в помощи, – торжествующе проговорила Ирина. – Пойдем же! Я не знаю, как тебя зовут?
– Изок, по времени, когда я родился[1].
– А меня зовут Ирина, его – дед Лука.
– Таких имен нет на Днепре.
– Ты прав. Но прежде он назывался по-другому, не Лукой… Так ведь, дед?
– Да, да… Но поди же приготовь ему трапезу, дитя. А мы подумаем, что можно будет сделать.
Ирина скрылась в лачуге. Лука и Изок остались одни на поляне.
– Сядь, ты устал, – сказал Лука, указывая на камень. – Скажи, как ты попал сюда? Откуда ты?
– Я скажу тебе, старик, делай, как хочешь. Я бежал из темницы.
Лука задрожал…
– Из дворцовой темницы… Ты как попал в нее?
– Я захвачен был два года тому назад в плен и продан сюда в рабство.
– Но кто же захватил тебя?
– Вблизи от того места, где наш Днепр впадает в море, основаны теперь греческие города. Около одного из них и захватили меня.
– А как ты к нам попал? Я помню, еще на родине я слышал об этих городах, но они никогда не воевали с днепровскими родами…
– Это было при тебе, если только ты – действительно славянин. Теперь на Днепре все не то…
– А что?
– Все изменилось. В Киеве есть князья, которым все приднепровские роды платят дань и дают в их дружины своих сынов.
– Князья… вот диво! Но кто они?!
– Варяжские витязи. Аскольд и Дир – так их зовут на Днепре… Они пришли к нам с Ильменя и прогнали козар. За это поляне и признали их своими князьями…
– Так, так… И лучше стало жить на Днепре?
– Еще бы! Явилась правда – всякий стал знать, где и у кого искать защиты.
В это время только что завязавшийся разговор перебило появление Ирины.
– Иди, Изок, сюда! – крикнула девушка. – Ты расскажешь дедушке все, что захочешь рассказать, а теперь подкрепи свои силы.
– Иди, и я пойду с тобой, но прежде скажи мне, что я могу для тебя сделать.
– Укрой меня, умоляю тебя, укрой, если будет погоня… не выдай! Укроешь?
– Попробую. Только бы удалось… Пока отдыхай. Ирина была права, когда сказала, что славяне никому не отказывают в гостеприимстве.
– И в помощи, Лука, – дополнила девушка, – особенно своим.
Они скрылись в хижине.
Сумрак наступающего вечера быстро сменился мглою ночи. Все затихло, только откуда-то издалека доносился лай сторожевых собак.
Даже грохот и гул всемирного города стали тише. Ночь наступила.
4. Древняя Византия
Тот шумный город, в тихом и скромном уголке которого мы только что познакомились со стариком Лукой, его внучкой Ириной и молодым варваром Изоком, в описываемое нами время достиг высшего своего великолепия и даже затмил в этом отношении Рим, переживший уже период упадка.
Византия же все украшалась и украшалась.
Целых пять веков скапливались здесь, по воле ее владык, богатства всего мира, и эти богатства являлись не чьим-либо личным достоянием, а именно собственностью этой новой столицы уже не Древнего, а нового мира.
Это была столица волшебная по своему великолепию, могущественная по своему положению, как средоточие торговли Европы, Азии и Африки, и глубоко испорченная по своим нравам.
Сказочное великолепие Востока сменило в Византии утонченную роскошь Запада.
Но не всегда Византия была так хороша.
За пять веков до начала рассказа это был жалкий городишко, даже не городишко, а просто большое поселение, жители которого постоянно трепетали за свою участь, так как каждый день, каждый час, каждую минуту жизнь их висела на волоске.
Однако даже и тогда эти жители, особенно те, которые являлись среди других своих сограждан носителями традиций старины, гордились своим происхождением, своей прошлой славой, наконец, тем, что их жалкий, разоренный городок во всяком случае являлся ключом из Азии в Европу.
Так оно и было на самом деле.
С одной стороны Византию омывало Черное море. На берегах его лежала именно та Азия, которая являлась в течение многих веков угрозой не только для Эллады, но даже и для гордого Рима. За этим морем жили таинственные скифы в своих никому еще тогда неведомых землях, там же лежали страны гиперборейские. Через это море можно было попасть в таинственный Бьармланд, о котором кое-какие сведения известны были в Византии. С другой стороны омывало ее берега море, приносившее сюда все товары Европы, а вместе с ними иногда и грозные флоты всепобедного Рима.
Итак, коренным обитателям Византии до известной степени было чем гордиться в своей родине…
Пылкая южная фантазия создала массу легенд о первоначальном основании Нового Рима.
Конечно, при этом не обошлось без сказаний, относившихся ко временам самой седой старины.
Например, есть предание, что один из вождей аргонавтов – Визант, происходивший по прямой линии от самого Посейдона, возвращаясь из знаменитого похода за золотым руном, так пленился чудной местностью на берегу Пропонтиды, что решил здесь остаться навсегда. К нему примкнуло несколько храбрецов, и они, поселившись здесь, положили начало новой греческой колонии, названной по имени основателя Византией.
По другому сказанию, относимому уже к не так отдаленным временам, этот Визант вовсе не был одним из аргонавтов, а просто начальствовал над выходцами из Мегары, с которыми он и основал новую колонию в 658 году до Рождества Христова на европейской стороне Босфора.
Важное значение этой колонии, находившейся в местности, господствовавшей над узким проливом, соединявшим Черное море с Мраморным и имевшим единственную в мире по удобству для стоянки судов бухту, сразу обратило на себя внимание предприимчивых греков.
Уже Дельфийский оракул указал им устроить город против поселения «слепых», и это показывает, какое значение придавали этой колонии умнейшие люди Древней Эллады.
В самом деле, Византия должна была собирать пошлины с судов, проходивших из Эгейского моря в Черное, вела торговлю со всеми европейскими и азиатскими народами и играла важную роль в борьбе греков с Персией.
Она первая испытала на себе и приняла удары Азии, так как во время похода Дария на скифов была сразу покорена персами.
Но и сама Эллада была злой мачехой для всей этой цветущей колонии. Находясь под властью персов, за участие в Йонийском движении она лишилась самостоятельности, жители Византии были разогнаны, сама она обращена в персидскую крепость, и только после битвы при Платее Павзаний, начальствовавший над афинским и спартанским флотом, освободил Византию от ига персов.
Но этим испытания Византии не закончились.
Во время Пелопоннесской войны спартанцы и афиняне упорно боролись за обладание ею, и только победы Алкивиада удержали ее в Афинском союзе.
Однако афиняне недаром боролись за Византию. Подчинив ее себе окончательно, они прежде всего постарались завладеть правами сбора пошлин, не делая в нем участниками византийцев. Этим они вызвали настолько упорное восстание, что Византия в конце концов добилась независимости, но – увы! – очень скоро ей пришлось выдержать новую борьбу, и на этот раз со врагом более страшным. Филипп Македонский, прекрасно сознавая значение Византии, пытался овладеть ею, но она победоносно отразила все нападения смелого завоевателя и, желая сохранить свою независимость, встала на сторону Рима в его войнах со славным завоевателем.
Рим того времени не остался неблагодарным. Конечно, он не замедлил покорить Византию, после того как присоединил к своим владениям Грецию, но дал ей многие права и преимущества, которых не имели другие римские колонии.
Так, например, Византия под римским господством сохранила свою автономию, с таким трудом отвоеванную у греков, римские легионы не грабили ее владений, и так продолжалось до первых императоров, при которых она успела достигнуть высокой степени благосостояния.
Однако в конце концов и Рим обратил внимание на Византию. Как могла под его рукой существовать страна, соединенная с ним только ровно ничего не представляющей по прочности связью, исключительно формальной, признававшей не вещественное, а призрачное владычество Рима! Такое положение вещей было противно уже установившемуся взгляду Рима на покоренный им мир. Он не мог допустить его, он должен был заставить Византию узнать, что такое орел на значках римских легионов, и вот римские императоры начали подыскивать предлог для окончательного покорения уже и без того подвластной им богатой страны.
Этот предлог нашел Веспасиан. Он объявил, что Византия слишком «злоупотребляет», в ущерб Риму, своей свободой. Этого предлога было вполне достаточно для начала военных действий. Римский флот и легионы двинулись к стенам обреченного огню и мечу города, но византийцы встрепенулись, в них заговорила прежняя доблесть. Они решили бороться до последних сил, но что они могли сделать против несокрушимой еще в то время военной силы славного Рима!..
Византия жестоко пострадала. Однако ее богатство, ее могущество еще не были сломлены окончательно. В конце II века от Рождества Христова Византия все еще обладала огромными ресурсами. Она на свой страх и риск продолжала борьбу с Римом, и, когда Септимий Север осадил ее, византийцы смогли выставить против него огромный по тем временам флот в пятьсот триар. Три года выдерживала Византия эту осаду и в конце концов пала…
Теперь ее благосостоянию нанесен был окончательный удар. Все ее укрепления были разрушены, политические права и привилегии отняты, и из цветущей колонии Византия превратилась в жалкий, бедный город, с второстепенным значением в торговле и без всякого веса в политической жизни подвластных Риму городов.
А в III веке Византию ждали новые испытания: на нее со всех сторон обрушивались полчища варваров, разоряли ее, а помощи ждать было неоткуда…
Так продолжалось до тех пор, пока Константин Великий, после победы над Лицинием не обратил внимания на Византию. Он сразу оценил все выгоды ее положения и поспешил основать здесь новый город, который должен был стать для него второй столицей.
Так он и сделал. Город был основан, и уже сама судьба заставила Константина покинуть Рим и в 330 году до Рождества Христова, в мае месяце, перенести столицу Римской империи в Византию…
5. Обломки языческого мира
Прежде чем продолжать наше повествование, мы считаем необходимым познакомить читателей с теми обстоятельствами, которые создали Византию, разрушив окончательно древний языческий мир, его культуру, его верования и создав вместо прежнего стройного целого нечто уродливое, такое же расшатанное, как и языческий Рим в его последние дни, но опирающееся, однако, на такую великую почву, как христианство.
Для того мы должны прежде всего обратить взгляд на прообраз Византии, который она, впрочем, превзошла в своих пороках.
А этим прообразом был самый великий Рим. Это необходимо помнить, потому что Византия явилась «Новым Римом» не только по одному своему названию, но и по духу, по порочности и презрению к правам человека; хотя в то же время, по неисповедимой воле Промысла, она смогла сохранить в себе в полной чистоте и неприкосновенности заветы первых христиан, которые потом передала такими же чистыми и нашей родине…
Рим при первых императорах достиг высшей точки своего развития. Он стал господином всего мира. Все страны и народы были покорны ему. Борьба за обладание миром кончилась, кончились все военные тревоги, наступило время воспользоваться плодами многовековых трудов отчаянной борьбы за существование.
«Pigritia est mater omnium vitiorum» («лень есть мать всех пороков») эта прописная мораль оставлена нам самими же римлянами, и на них она подтвердилась как нельзя более.
Лень же явилась последствием бездействия.
Простота сменилась роскошью, которую себе даже представить трудно. Она сопровождалась растлением нравов, и началось это растление именно с роскошного дворца императоров, откуда распространилось в дома патрициев, и все это происходило на фоне ужасающей нищеты плебеев – главной составной части римского народа.
Рим, великий Рим, приходил к концу… Он, погрязший в разврате, терял право на существование. Сама судьба, казалось, вела его к гибели, награждая Неронами, Калигулами, Клавдиями с их Поппеями, Мессалинами и прочими.
Это было заметно, но сами римляне ничего не видели, а те из них, которые и не были слепы, не смели говорить, потому что всякое слово, всякий протест против существовавшей разнузданности грозил опасностью для жизни, что и доказал пример первых христиан, выступивших с кротким, пассивным протестом…
Самым замечательным временем Рима, с которого, собственно говоря, и начался упадок всемирной империи, до́лжно считать то, которое предшествовало появлению христианства, и затем время после гонения на первых христиан при Нероне.
Старый Рим начинал уже клониться к упадку. Царившая в нем сказочная роскошь растлевала нравы. Народ бездельничал. Пользуясь правами и преимуществами римских граждан, чернь не хотела трудиться. Но самым пагубным злом явились для Рима преторианцы. Они, до известной степени, стали одной из самых явных причин падения всемирной империи.
Но, несмотря на внутреннее разложение, Рим еще три с половиной века был крепок своими традициями. Народы в нем видели не только всепобедного властелина, но и важный рынок для сбыта своей продукции.
Это до известной степени поддерживало Рим на прежней высоте. Но чего стоила эта высота! Рим самого себя принес в жертву миру, потому что и в самом деле, падая все ниже и ниже, он нес свою службу человечеству, если не мечом, то самим собой…
Он утопал в собственных пороках, это было противно натуре людей, и стоило только христианству показать новые идеалы жизни, как именно в этом-то, самом развратном, порочном и падшем Риме они нашли себе наибольшее число приверженцев и последователей, ярким примером доказавших, что добродетель сильнее порока и добро могучее зла…
Римляне сначала считали христианство одной из восточных сект и смотрели на него, как на религию рабов; но вскоре эта религия, быстро развившаяся за пределами Рима, обратила на себя их внимание, и семейство римлянина Праскилла первое отрешилось от древних традиций римского патрициата и явно высказалось за христианское учение, в духе которого матери стали воспитывать своих детей.
Быстрое распространение христианства и его отчужденность от римских городских богов, а также церемоний в честь императоров, обратили внимание правительства, и римское языческое общество, заметив развивающийся прозелитизм в своих семьях, обнаружило нерасположение к христианам. Однако к ним стали благоволить римлянки. Многие из них начали оставлять семьи для участия в ночных богослужениях в катакомбах, и поселился в семьях раздор, а последствием его была ненависть к христианам. К тому же христиане, распространяя свою религию, не только убеждали прозелитов в ее превосходстве перед другими религиями, но и открыто нападали на язычество. Их борьба выработала религиозный энтузиазм, составляющий силу христианской церкви, и в то же время это возмутило национальное чувство римлян, и они, оскорбленные, вступились за свою религию, несмотря на то, что та уже давно утратила свое достоинство в их глазах. Таким образом, враждебное отношение к ней христиан и провозглашение новой религии «истинною» вызвало нерасположение всего римского общества, а затем и правительства, которое не замедлило изменить своей обычной политике и вмешаться в дела религии. Поводом к этому, во-первых, послужило то, что император как представитель высшей религиозной власти обязан был вступиться за свою религию, на которую открыто нападали христиане. Во-вторых, нарушение христианами религиозных, освященных веками обрядностей признавалось опасным для государства, потому что оно могло разозлить богов, и, так как христиане отклоняли всякое свое участие в языческих обрядах, то это было язычниками признано за безбожие, и правительство стало недоверчиво относиться к людям, которые отказывались от участия в обычных церемониях, сопровождаемых иллюминациями, украшением ворот цветами в честь императоров, чествованием их статуй и вообще от участия во всех государственных праздниках. К тому же христиане во II веке образовали многочисленное и прочно организованное общество, которое в глазах римских властей было обществом тайным, а потому опасным для могущества империи. До императоров и сената то и дело доходили самые дикие обвинения христиан в ереси, не замедлившиеся распространиться и в народе. Так, например, цезарь и патриции слышали, что христиане, собираясь тайно на сходках, употребляли в пищу человеческое мясо и кровь, но разве они могли постигнуть, что такое обвинение основано на темных слухах о том, что христиане за общими своими трапезами вкушали кровь и плоть Христа, под видом хлеба и вина. Считая же их безбожниками, за которых боги наказывали Рим засухой, неурожаями, землетрясениями и другими несчастиями, цезари и начали преследование христиан, убедив народ, что вступаются за попранных божеств его…
Преследования начались с Нерона, который сжег Рим, приписывая пожар гневу богов и обвиняя в нем христиан; но все-таки до времен Траяна не было особого закона против христиан, и им приходилось испытывать беды только от разнузданности народной массы.
Наконец, при Деции открылось систематическое гонение христиан за отказ поклоняться статуям богов, и не в одном Риме, а во всей империи. Оно продолжалось два года, в течение которых христиан подвергали ужасным пыткам, их замучивали до смерти, и самой легкой из смертей было обезглавление. Храмы христианские жгли и разрушали, но это только увеличило число мучеников церкви, и император не был в силах истребить христианство, которое настолько глубоко пустило свои корни в языческую почву на протяжении двухсот лет, что вся свирепость гонителей, несмотря ни на какие усилия, не могла их искоренить.
Но вот настало время царствования Диоклетиана, которому жрецы объявили, что присутствие христиан лишает внутренности животных, приносимых в жертву богам, силы прорицания, что подтвердил и оракул Милета, указавший на истребление христиан и их религии как на средство возвратить Риму милость богов.
Диоклетиан послушал голоса, враждебного христианству, и приказал повсеместно в империи разрушать христианские храмы, жечь священные книги, сажать в тюрьмы священников и пытками заставлять всех без исключения христиан приносить жертвы богам, а ослушников императорского повеления наказывать смертью.
Эта угроза императора все-таки не устрашила христиан.
Их мучили, сжигали заживо, привязывали к раскаленным металлическим сиденьям, травили дикими зверями, лишали зрения, вырывали зубы, сажали в ямы с негашеной известью, рвали на куски их тело еще при жизни. Будучи не в силах достичь желаемого результата такими мерами, христиан даже склоняли к выбору свидетельств об отступлении от христианства, то есть предлагали им спасение жизни путем лицемерного обмана.
Но все оставалось втуне. Ничто не останавливало рост христианства, а, напротив, только закаляло его последователей в чувствах и убеждениях, подготавливая окончательное падение язычества и торжество истинной религии…
Это происходило за двадцать лет до вступления на престол императора Константина, впоследствии названного Великим, так как именно со времени его царствования христианская религия сделалась господствующей в Римской империи.
Диоклетиан, утомленный борьбой с христианством и проведением новых реформ в империи, в 305 году от Рождества Христова сложил с себя титул императора и, удалившись от дел, стал заниматься садоводством, предоставив управление империей своим цезарям Лицинию и Констанцию Хлору, между которыми вскоре возникли раздоры, выдвинувшие на театр исторических событий Константина, сына Констанция Хлора.
Междоусобная война соправителей окончилась решительным поражением легионов Лициния от легионов Константина, наследовавшего титул цезаря после смерти своего отца и провозглашенного легионерами императором.
Легионы Константина, доставившие ему императорский титул, состояли из христиан, которые, помня хорошее отношение к ним его отца и благочестивой матери Елены, ставшей уже христианкою, были преданы своему императору, несмотря даже на то, что он был язычником. Кроме того, они воодушевлены были данными им Константином знаменами с изображением креста вместо римского орла.
Такая замена символов произошла по следующему случаю.
Константин перед сражением со своим соперником Максенцием увидел во сне сияющий на небе крест с надписью: «Сим знамением победишь». Под впечатлением этого сна он тотчас же приказал покрыть золотом копье с крестообразной перекладиной и привесить к ней пурпуровую ткань с изображением своего портрета с сыновьями, и это знамя, увенчанное крестом, вручил своим легионам, а вместе с ним и щиты с изображением креста. Легионы, считая себя под покровительством креста, с религиозным воодушевлением бросились на неприятеля и, разбив его, обеспечили тем самым Константину единодержавие в империи.
Константин, получивший в истории титул Великого, при самом вступлении на престол прекратил преследование христиан и дал полную свободу развитию их религии, но в то же время он не притеснял и язычество; христианская религия быстро начала распространяться во всех слоях империи, а над могилами мучеников стали строиться христианские храмы, и богослужение, совершаемое до того времени в криптах катакомб подземного Рима, перешло в наземные храмы и совершалось открыто.
Но это предпочтение «религии рабов» древнеримской вере породило неудовольствие при дворе императора, а новый строй и изменение государственной жизни, вместе с разделением империи на префектуры, оказались очень не по сердцу высшим сословиям. Образовались партии недовольных, к большому прискорбию императора, и он сам, не чувствуя себя в безопасности в Риме, задумал расстаться с ним и основать новую столицу.
Долго Константин подыскивал место для основания новой столицы и, наконец, внимание его остановилось на дорийской колонии Византии, подчиненной Риму при обращении Греции, Македонии и Фракии в римские провинции и разрушенной, как было упомянуто выше, в конце II века римлянами за попытку к освобождению.
Константин, облюбовав Византию и объявив, что здесь будет новая столица Великой империи, согласно древнеримскому обычаю, сам провел плугом ее границы, и на рубеже Европы и Азии в 330 году возникла столица Восточной империи и была названа ее основателем Новым Римом, а народом – Константинополем.
Новая столица, благодаря прекрасному климату, выгодному местоположению и дарованным привилегиям, вскоре затмила своим великолепием гордый старый Рим и стала столицей не только могущественнейшего государства, но и колыбелью православия и затем центром Восточной империи…
Мы так надолго остановились на характеристике Рима именно с той целью, чтобы показать читателям, как вырос Новый Рим – Константинополь, явившийся в нравственном отношении осколком старого. А теперь, покончив с этим старым, перейдем к новому.
6. Новый Рим
Константин Великий, восстановив в достойном новой столицы блеске Византию, все еще оставался в Риме.
Важный шаг – признание христианства государственной религией – был уже совершен им, но сам Константин все еще не проникся великими истинами нового учения и если он в душе и не оставался язычником, то сохранил тем не менее все, что было отличительной чертой римлян в период упадка.
Он был коварен, жесток, свиреп, не останавливался перед кровопролитием. Он легко отдавался первому порыву и под влиянием его совершал преступления, которые были бы немыслимы, если бы он проникся истинами христианства до глубины души.
К таким преступлениям должно быть отнесено убийство Константином своего сына – юноши Криспа.
Этот юноша родился у императора от первой его жены, Минервины, и как первенец являлся наследником престола. Крисп, воспитанный под наблюдением философа Лактанция, оказался чрезвычайно способным полководцем, а по личным своим качествам – человеком очень симпатичным. Признанный в семнадцать лет цезарем, он управлял Галлией, освободил ее от германцев, отразил в междоусобной борьбе своего отца с Лицинием неприятельский флот и всем этим успел приобрести себе уважение войск, любовь народа и почет при дворе.
Но кроме этого на свое несчастие он возбудил тем же самым в своем отце завистливое чувство к себе. Это чувство обратилось в ненависть, и, когда мачеха Криспа, Фауста, обвинила юношу перед своим супругом и его отцом в попытке соблазнить ее, Константин, не слушая никаких оправданий своего первенца, приказал его казнить.
Однако народ, солдаты, придворные – все были за Криспа, все требовали его оправдания, и испуганный Константин не посмел противиться народной воле. Он сделал вид, что милует сына, и ограничился только ссылкой его в Истрию, где вскоре несчастный юноша был по приказанию отца убит…
Но в этой смерти сказалась воля судьбы. Весть об убийстве Криспа вызвала в Риме такое негодование – тем более что Фауста была изобличена в это время во лжи матерью императора Еленой, – что пребывание Константина в Вечном городе стало небезопасным. Народ прямо оскорблял его на улицах, и скрепя сердце Константин покинул Рим, объявив, что он переносит столицу империи в Византию.
С этих пор началось не прекращавшееся уже вплоть до разорения Византии сперва крестоносцами, а потом турками великолепие этого города, затмившего собой Рим.
В течение девяти столетий накапливались здесь лучшие произведения искусства, особенно ваяния. В Византию было перенесено из Рима древнейшее изваяние волчицы, своей тенью показывающей часы. Тут была колоссальная статуя Юноны, конная статуя Беллерофонта, громадная статуя Геркулеса, захваченная римлянами в Таренте, необыкновенная по своей красоте статуя Августы-Елены, святой матери основателя Византии, императора Константина. Каждый из императоров стремился украсить свою столицу статуями и бюстами, и своими, и своих предшественников, и выдающихся людей своего царствования.
Сам город, который являлся сокровищницей богатств всего мира, вполне соответствовал своему назначению. Еще только наметив здесь место новой столицы, Константин Великий сам копьем начертил на земле направление ее стен, и эти стены, как свидетельствуют историки, были в семь раз больше стен прежней Византии. Заботясь о блеске новой столицы, первый христианский император построил множество богатых зданий, собрал массу памятников и драгоценностей из всех мест своей империи. Главная городская площадь, как и в Риме, носила название форума. Она была великолепно разукрашена портиками, триумфальными арками, некоторые из которых сохранились и до нашего времени. Ипподром для излюбленных в то время сперва римлянами, а потом и византийцами конских состязаний был обновлен и окружен роскошнейшими по своей архитектуре и убранству зданиями, украшен древними статуями, привезенными для него отовсюду. Наконец, устроен был колоссальный водоем, известный под названием «Тысяча и одна колонна». Выстроено было множество церквей, отличавшихся сказочным, доступным только восточной фантазии великолепием.
Возводя новую столицу, Константин Великий назвал ее Новым Римом, но современники и потомки, признавая обновленный город созданием исключительно этого императора, назвали его городом Константина – Константинополем, а название «Новый Рим» сохранилось в надписи на одной из колонн ипподрома. Но за новой столицей осталось и прежнее название – Византия. Чтобы привлечь в Византию как можно больше населения, Константин давал жителям массу льгот и преимуществ, причем члены городского совета возводились даже в сенаторское достоинство. Следовавшие за Константином императоры действовали точно так же.
Византия, то есть Константинополь, несмотря на разрушившие его несколько раз землетрясения, опустошительные пожары и набеги варваров, быстро разросся. Он состоял из 14 округов, 12 из которых лежало внутри городской стены. За нею расположен был также лагерь семитысячного отряда готов – телохранителей царствовавшего императора, который, собственно, и составлял 13-й округ. В 14-м, тоже загородном округе, находился Влахернский дворец.
Стена Константина в 411 году была разрушена землетрясением и вновь восстановлена Феодосием II ввиду ожидавшегося нападения гуннов; эта стена через 14 лет тоже была разрушена землетрясением и только в 447 году выстроена почти сохранившаяся и поныне двойная Феодосиева стена. Это являлось настоятельной необходимостью, потому что Константинополь и его богатства отовсюду, как магнит, привлекали к себе варваров.
Но особенно замечателен был большой императорский дворец, выстроенный Константином Великим между ипподромом и роскошными садами, уступами спускавшимися к самому Босфору. Полного великолепия он достиг при Феодосии, выстроившем в садах дворца пять церквей.
Дворец этот поражал даже варваров красотою своей архитектуры. Колонны из фригийского мрамора поддерживали полукруглые портики, везде было золото, серебро, мрамор, порфир, живопись, мозаика. В садах кроме естественных деревьев было установлено отлитое из бронзы дерево с искусственными птицами, заводившимися во всякое время и, таким образом, певшими по первому приказу императора. У входа во дворец стояли прекрасно вылитые из золота львы, которые вращали головами и рычали. В разных местах дворцового парка били фонтаны, бассейны которых по краям были выложены серебряными плитами.
Как и в Древнем Риме, самой роскошной частью дворца стал триклиний.
Ясно, что это великолепие поглощало массу средств. Но куда же было их девать, как не на украшение столицы? Государственные доходы превышали расходы, а все правители, как Рима сперва, так и Византии потом, никогда не заботились ни о народном благосостоянии, ни об укреплении государства в его границах. Они стремились только к захвату престола, а затем, добившись власти, к тому, чтобы жить в свое удовольствие, не думая ни о чем другом.
Провинции страдали. За их счет шло украшение столиц, на их средства столицы защищались от врагов, а провинции первые выдерживали нападения варваров.
Мы уже видели, как украсился за счет целой империи Константинополь.
В нем одно здание нового Капитолия стоило сумасшедших денег. Кроме Капитолия было два театра, восемь публичных бань, пятьдесят два портика, четыре громадных зала для заседания сената, четырнадцать церквей, четырнадцать дворцов и четыре тысячи частных домов, принадлежавших местным богачам.
Бедность же ютилась где попало…
7. Святая София
Ранее мы говорили о великолепии византийских зданий… Рим в свое время тоже замечателен был своими постройками. Римские театры и вообще публичные постройки поражали грандиозностью. Об этом и теперь нам рассказывают развалины Колизея, воздвигнутого при Веспасиане евреями-рабами, которых привел из Иерусалима после его разрушения Тит.
Не меньшей славой пользовался и пользуется сохранившийся до сих пор мавзолей Адриана. Обращали на себя внимание и водопроводы, публичные бани, триумфальные арки, храмы богов.
Христианская Византия также потратила много труда на украшение храма Единого Бога. Церкви Константинополя поражали своей величественной архитектурой и великолепием отделки внутри.
Но со времен Юстиниана гордостью Константинополя стал храм Святой Софии, построенный этим императором в память усмирения бунта, во время которого он едва не лишился престола.
Задумав соорудить храм, Юстиниан обратился к знаменитейшим зодчим своего времени – Анфимию из Траллеса и Исидору из Милета. Он желал, чтобы воздвигаемый храм стал для него великим памятником, и потому не щадил средств. Под руководством Анфимия и Исидора на стройках ежедневно заняты были до десяти тысяч человек каменщиков, плотников и других работников. По мысли Юстиниана, храм Святой Софии должен был превзойти все когда-либо существовавшие храмы своей величиной и роскошью. Золото, серебро, слоновая кость, дорогие породы камней, украшения в несметном количестве употреблялись для постройки этого храма. Со всех концов империи привозились колонны и глыбы редкого мрамора, шедшие на его убранство. В результате родилось столь невиданное великолепие, что даже простой люд Византии позже слагал красивые легенды: не иначе как сами силы Небесные помогали зодчим в строительстве храма.
Ранее на его месте уже стоял храм, воздвигнутый Константином во имя божественной мудрости святой Софии. Тот самый, над которым на протяжении четырех веков так оскорбительно для христиан место креста занимала магометанская луна. Но он был тесен для многочисленного христианского народа, и Констанций, сын Константина, расширил его. В 404 году, во время правления Аркадия, храм был сожжен мятежниками. Впоследствии он еще не раз горел, и в январе 552 года случился последний пожар, унесший все останки этого храма. Однако почти сразу, 23 февраля того же года, император Юстиниан заложил первый камень нового храма Святой Софии. Он был выстроен за семь неполных лет – именно этот-то собор и сохранился до наших времен. В декабре 538 года праздновали его открытие, но семнадцать лет спустя восточная часть главного купола обрушилась от землетрясения и упала на драгоценный алтарь и амвон. Это несчастье нисколько не уменьшило рвения Юстиниана: он восстановил церковь с большею прочностью и великолепием, и 24 декабря 563 года, перед днем Рождества Христова, праздновали ее освящение. Под руководством двух главных зодчих сто других архитекторов управляли работами, и каждый из них имел под своим началом просто каменщиков. Пять тысяч работников трудились на правой стороне храма и столько же – на левой. По византийским преданиям, ангел начертал план этой церкви императору во сне. Император ободрял работников деньгами и своим присутствием, и, вместо того, чтобы, по восточному обычаю, отдыхать после обеда, он, обвязав голову платком, с палкою в руке ходил осматривать работы в простой полотняной одежде. Все сословия внесли денежную дань на постройку собора. Мрамор всех цветов – белый, розовый, зеленый и голубой, гранит Египта и порфир, а также драгоценные колонны, извлеченные из разных древних языческих храмов, – восемь порфировых колонн нижнего этажа знаменитого храма Солнца в Баальбеке, другие восемь из храма Дианы в Эфесе – украшали его. Замечательно, что материалы, вошедшие в состав здания, взяты из храмов, принадлежащих почти всем религиям языческим, так что оно опиралось на колонны храмов Исиды и Осириса, Солнца и Луны (в Гелиополисе), Минервы Афинской и Аполлона Делосского.
Вообще, в облике здания преобладает форма святилища храма Соломонова. Чтобы легче понять устройство собора Святой Софии, надо вообразить пространный четырехугольник, к которому с четырех его сторон примыкают четыре меньших квадрата и тем образуют внутри главные части здания и форму креста. По углам среднего большого квадрата выстроены четыре массивных столба (пильеры), вершины которых соединены между собой полукруглыми арками, и поверх всей этой аркады возвышается огромный купол, имеющий 35 метров в диаметре. Купол, по-видимому, опирается на арки только четырьмя точками, а остальная часть его поддерживается пандативами (треугольники в пересечении арок), которые начинаются на острых углах пильеров и идут вверх, так незаметно закругляясь, что кажутся простыми легкими жилками, а точки опоры этого гигантского свода ускользают от глаз наблюдателя, и купол кажется висящим в воздухе. Верхняя точка свода возвышается на 61 метр над полом церкви; длина церкви внутри стен – 81 метр, а ширина – 60 метров. К восточной и западной части среднего свода примыкают два полукупола и к каждому из них по три ниши, так что крыша главной части здания состоит из девяти куполов, возвышающихся один над другим; остальная часть покрыта мраморными плитами, а сами купола – свинцовыми листами. Полукуполы и ниши поддерживаются не только четырьмя главными пильерами, но еще и другими четырьмя меньшими, и под каждой нишей – по две порфировые колонны с капителями и базисами из белого мрамора. С севера и юга главного квадрата, под арками, между каждыми двумя большими пильерами, помещается по четыре колонны из прекраснейшего гранита, поддерживающие хоры для женщин, которые у древних христиан стояли во время богослужения отдельно от мужчин.
На 24 других колоннах из египетского гранита примыкают к хорам боковые галереи, освещенные окнами в три яруса; в нижнем и среднем по семь окон, а в верхнем пять. Главный купол освещен 24 окнами. Над 40 колоннами нижнего этажа расположены в верхних галереях 60 других, а выше входных дверей еще семь, так что всего 107 колонн. Этому числу на Востоке приписывали таинственное значение. Все колонны верхнего этажа мраморные или гранитные, превосходно выполированные и гладкие; но карнизы и архивольты поверх этих колонн совершенно фантастические. Они украшены бесчисленным множеством листьев и полосок в виде галунов, перемешанных и переплетенных между собою. Главный купол, для создания гармонии его размеров и легкости стиля, сложен из глиняных горшков, которые до сих пор удивляют своей крепостью; они сделаны из глины, найденной на острове Родос, и так легки, что вес двенадцати горшков равен весу одного обыкновенного кирпича. Стены сложены из кирпича и облицованы мраморными плитами, а пильеры сделаны из больших известковых камней, сцепленных между собой железными связями, и гладко оштукатурены известковым раствором на масле под мрамор различных цветов.
Карниз над основанием купола сделан из белого мрамора: простота господствует в его профиле. Везде на стенах блистали прежде изображения Богоматери, апостолов, евангелистов и греческих крестов с надписью «Сим знамением победиши!». В куполе сделано изображение Отца Предвечного и четырех херувимов. Все это исполнено из мозаики и цветного стекла, смешанного с серебром и золотом. В четырех пандативах помещены мозаичные изображения херувимов в колоссальном размере. Перед входом во храм был атриум, четырехугольный открытый двор, обнесенный портиком и вымощенный плитами, посреди которого был сделан бассейн. Одна только передняя галерея нарфекса, или паперти, была без украшений. В следующей внутренней галерее, у входных дверей, был представлен мозаичной работы архангел Михаил с огромным поднятым мечом. Все живописные изображения были нарисованы красками по золотому полю. В восточной полукруглой части был помещен престол, патриаршее место и другие места для соборного сидения. Эта часть была отделена невысоким иконостасом из кедрового дерева, украшенным двенадцатью серебряными колоннами, на котором помещены образа Спасителя, Божией Матери, апостолов и другие. Главные богатства были заключены в алтаре: золото, серебро и драгоценные камни блистали там на каждом шагу и особенно в украшении престола. Император желал, чтобы он был сделан из вещества, которое было бы драгоценнее золота, а потому верхнюю доску его выплавили из золота и серебра с мелкими драгоценными камнями и алмазами. Неудивительно, что, по преданию, император при виде своего творения, взойдя на него, с восторгом сказал: «Хвала Господу, превзошел тебя!» У нас в России храм этот служит образцом для знаменитой древней церкви, построенной в Киеве, также во имя святой Софии, Ярославом, и для Софийского собора в Новгороде. Константинопольский храм, почитавшийся чудом Средних веков, в настоящее время[2] лишен почти всех своих украшений: огромные ковры скрывают его прекрасный мраморный пол; все мозаичные изображения на стенах каждые два года безжалостно закрашиваются, и самые части мозаики разобраны и проданы иностранцам. Вся живопись, знаменитый образец нашей церковной, характер которой в XI и XII веках проник не только в Россию, но и в Италию и Францию, также забелена. В боковых нишах, около бывшего алтаря, помещены две вазы для омовения поклонников лжепророка. На месте изображения Предвечного Бога, в главном куполе, написаны стихи из Корана. Высокие минареты, пристроенные к церкви турецкими султанами, придали смешанный, неопределенный характер зданию; кроме того, наружность обезображена тяжелыми контрфорсами; христианский крест на вершине главного купола заменен, по приказанию султана Амурата III, луной. Замечательно, что многие мозаичные изображения, несмотря на старания турок, скоро освобождаются из-под окраски и остаются незабеленными, так, например, сохранился образ Святой Богородицы в алтаре.
Такова Святая София в Константинополе в прежнем своем виде.
8. Здание на песке
Вот каков был Новый Рим по своему великолепию. В своем внешнем облике он превзошел даже древний Рим и стал, действительно, столицею мира, но во внутренней, духовной стороне он мало чем уступал своему первообразу.
Мы уже видели, каким был Рим в период начала своего падения, но это был Рим языческий, боровшийся всеми силами с новым мировоззрением – и павший в этой борьбе. Константинополь, заняв место Рима, перенес на себя и все характерные его особенности. Это был тот же Рим, но – увы! – христианский… Впрочем, и в отношении порочности Новый Рим, несомненно, превзошел старый… Население города, собравшееся с разных сторон мира, разнородное, разнохарактерное, не связанное племенными узами или общими интересами, соединяло в себе все пороки европейского, еще не успевшего вполне освободиться от языческих веяний, человечества с дурными качествами азиатского мира. В нем тесно были переплетены стремление к роскоши с кровожадностью, чувственность с ложным благочестием, спесь с низкопоклонством. Страсть к зрелищам, волнующим кровь, разжигающим фантазию, вызывающим возбуждение, переходила с арены и ипподрома в жизнь и народа, и высших слоев общества, и в политику, и даже в то, что, казалось бы, должно было быть для всех неприкосновенным – в религию. Сразу породилось множество сект, главари которых искажали серьезность христианского вероучения и увлекали за собой не установившихся еще в правилах веры людей. Шли бесконечные и в то же время совершенно бесполезные, ничего не выяснявшие религиозные споры, сами императоры принимали в них иногда чересчур горячее участие, так как считали себя главами не только государства, но, по примеру Константина Великого, и церкви.
Другого рода смуты вызывались то честолюбивыми полководцами, добивавшимися для себя – очень часто не без удачи – императорской короны (в Византии, так же, как и в Риме, не было установлено полного порядка престолонаследия), то различными временщиками, куртизанками, фаворитами и фаворитками, то, наконец, самими императрицами, дарившими свою любовь не супругам, а первым, кто им успел понравиться, а вместе с любовью и императорскую корону.
Бывали случаи, что, по милости императриц, на византийский престол вступали простые дворцовые слуги. Так, известно, что предшественником Юстина – простого солдата – был дворцовый служитель Анастасий, понравившийся императрице Арианне тем, что у него один глаз был голубой, а другой черный. Чтобы сделать его своим мужем и императором, Арианна воспользовалась обмороком императора Зенона, своего законного мужа, отравившего, чтобы сделаться императором, своего сына. Она объявила Зенона умершим и приказала немедленно похоронить его. Несчастный был зарыт в могилу живым. Императорские гвардейцы слышали из могилы надрывающие душу крики, но не решились прийти на помощь заживо погребенному, и он задохнулся под землей. Жена императора Юстина, о котором сказано выше, Лупицина Евфтимия была рабой, а жена племянника Юстина, взошедшего на византийский престол под именем Юстиниана, Феодора, была дочерью циркового дрессировщика медведей и цирковой актрисой, окруженной неревнивыми поклонниками, и вслед за этим – византийской императрицей, разделявшей с мужем власть над жизнью и смертью своих подданных.
Впрочем, как Юстин, так и Юстиниан, славяне по происхождению, были одними из лучших императоров Византии. Лупицина Евфтимия была простая, но добрая женщина, а Феодора сумела держать себя в качестве императрицы с редким тактом, чего нельзя сказать о ней как о женщине и супруге.
Вообще, история рисует нам византийские нравы в самых неприглядных красках. Это – целый ряд кровавых казней, измен, насильственных захватов власти, отрав, пыток, страшной мести. Женщины, даже императрицы, совершенно равнодушно переходили от одного мужчины к другому. Дети составляли заговоры против родителей, родители против детей, дворцовые евнухи захватывали власть в свои руки, полководцев уважали не за храбрость, не за способности, а за искусство интриговать. Сегодняшний император завтра мог пасть под ударами наемных убийц, а сегодняшний приговоренный этим императором к смертной казни завтра сам начинал царствовать. И среди этого – бесконечные богословские споры, торжественные процессии и прочие эффекты.
Понятно, что при таком положении вещей императоры должны были волей-неволей заискивать перед чернью и потакать самым грубым ее инстинктам. Еще с Константина Великого, по примеру римских императоров, в Константинополе черни раздавали хлеб, вино, оливковое масло и деньги. В таком положении большинству незачем было что-нибудь делать – чернь могла жить без занятий, так как дневное пропитание ей было обеспечено. И сытый народ не знал, как ему убивать свободное время, и так же, как в Риме, требовал зрелищ. Императоры не решались отказывать ему в этом, тем более что императорская гвардия Константинополя была тем же, чем преторианцы последних дней Рима. Она сама выбирала себе вождей и ставила их на престол, не спрашивая даже воли народа. Император, вступая таким образом во власть, не знал, на кого ему опираться – на народ или гвардию. Угодить же им одновременно удавалось редко. Если император не угождал гвардии, она свергала его, если он не угождал народу – начинались мятежи. Эти мятежи были злом для Византии. Они сопровождались страшными и чаще всего бесчинными кровопролитиями, грабежами, пожарами. Победа той или другой партии ипподрома очень часто влекла за собой народный мятеж. Одно из таких возмущений было при Юстиниане. Причина его была пустяшная: борьба Голубых и Зеленых во время ристалищ вызвала спор, спор перекинулся в город, праздный народ поднял оружие и осадил императорский дворец. Знаменитый полководец Велизарий, собрав горсть оставшихся верных солдат, кинулся на бунтовщиков, произвел в их рядах смущение, заставил отступить в цирк; в один миг цирковые ворота были заперты, и тридцать тысяч человек очутились в ловушке. Немногие вышли из нее…
Таково было положение народа и императоров в Константинополе, где сосредоточилась вся жизнь Восточной Римской империи. Из всего сказанного ясно, что, только что возникнув при Константине, разделившись с Римом при Галерии, она тотчас же начала клониться к упадку, как клонится и всегда близко к падению всякое здание, построенное на песке.
Византия, как и вся страна, как все государство, как вся Восточная империя и олицетворявший ее Константинополь, была именно таким зданием…
9. Под пышной декорацией
Несмотря на свое великолепие, Византия представляется воображению, как организм, снедаемый страшными недугами. Это были недуги нравственные. Лихоимство, низкопоклонство, интриганство, правовой беспредел, пьянство – все это существовало в Византиийской империи.
В одной обличительной проповеди сохранилась такая характеристика Царьграда: «Наш град – блудница, вертеп разбойников, жилище убийц, наша столица – град плачущих и стонущих. Почему же это? Потому что справедливость покинула ее, и она возненавидела правосудие; потому что со стогн ее не ушли ростовщики и льстецы; потому что в ней царят ложь, интрига, высокомерие, насилие. Наш город – источник зла для всей страны, из него повсюду распространяется зараза. Правящие нами творят беззакония, торгуют правосудием, любят дары, за все требуют воздаяния; сборщики податей отнимают у нас последние крохи. Исчезли стыд и целомудрие, их заменили страсть к наживе и всякие вожделения. Господствуют наглость, суетные заботы: как бы приумножить свое имущество, как бы поесть и попить; женщины зарятся на мужчин, мужчины – на женщин».
Пьянство не представляло, по всей вероятности, очень распространенного порока. В южных странах, в Италии и Греции, где растет виноград и народ имеет возможность пить вино ежедневно, почти никогда не видишь пьяных на улице. Очевидно, так было и в Византии, где, по большей части, пили вино с водой.
Но пьяницы все-таки встречались. В одном византийском памфлете говорится: «Не входи в мои виноградники, Иаков, не срезай у меня лозы, не выжимай у меня винограда, ибо ты, как сухая губка, вбираешь в себя вино всеми частями. Ты пьешь целую ночь и, хвастаясь, говоришь: я не примешал к вину воды, как делают трактирщики, ни горячей, ни холодной; я пью его не смешанным».
В другом памфлете об осмеиваемом лице сказано, что он изучил все столичные трактиры и, поднеся кубок ко рту, пьет, не переводя дыхания, как животное.
Трактиры были в Константинополе, но посещать их считалось неприличным для людей порядочного общества, и самое ремесло трактирщика считалось позорным. Молодежь кутила, но задавала пиры у себя дома. Об одном важном сановнике, любившем пожуировать, историк Никита Хониат рассказывает: «Не имея себе соперников в обжорстве и превосходя всех в питье вина, он умел подпевать под лиру, играл на арфе и плясал кордакс (комическую пляску с непристойными телодвижениями), быстро перебирая ногами. Жадно наливаясь вином и часто насасываясь им, как губка, он не потоплял, однако же, своего ума в вине, не шатался, как пьяные, не склонял головы на сторону, как бывает от хмеля, но говорил умно и становился еще одушевленнее в разговоре. Он любил устраивать пиршества и этим приобрел любовь всех лиц, жаловавших веселый разгул. Приезжая к подобным господам, он пил столько, что многие не могли сравняться с ним и доходили до того, что им долго приходилось отрезвляться и освежать голову, другие же пили с ним наравне. Это были люди, которые вливали в свое брюхо по целым бочкам, пили из кувшинов, вместо стаканов. Этот сановник мог не только пить, но и есть необыкновенно много. Особенно любил он зеленые бобы, и, вот, когда он однажды был на войне и стоял лагерем на берегу реки, завидел он на другом берегу полосу бобов. Тотчас раздевшись донага и переплыв на другую сторону, он поел большую часть их, но и тем не удовольствовался. Связав остатки в пучки и положив на спину, он перетащил их через реку и, расположившись на полу в палатке, с наслаждением поедал бобы, как будто долгое время ничего не ел».
Нечего и говорить, что жестокость также была в тогдашних нравах. Делались такие зверства, от которых волосы становятся дыбом. Пытки и членовредительные наказания говорят о большой жестокости, но это, по крайней мере, делалось по суду, на суде можно было оправдаться, можно было надеяться, что судьи будут действовать по закону и справедливости. Гораздо хуже был административный произвол. Лиц, заподозренных в заговоре, обыкновенно не судили, а «убирали», этим пользовались, когда кто-нибудь казался неудобным. Временщики играли большую роль в Византии: они пользовались неограниченным доверием царя и распоряжались от его имени совершенно самовластно. Против таких лиц не было управы: они отравляли, конфисковывали имущество, ссылали; нельзя было жаловаться на них в суд. Впрочем, если они хотели сделать это законно, то подбирали подходящих судей, возводили на совершенно неповинных какое угодно обвинение и, считая его доказанным, действовали уже на основании такой-то статьи свода законов.
Вот примеры жестокости нравов, господствующих в Византии.
Один император придумал для своего дяди, имевшего титул деспота, особого рода место заключения. Была крепость, выстроенная на скале; жители ее выламывали камень из этой скалы и таким образом получались глубокие ямы, куда стекала дождевая вода. Вычерпав воду из одной такой ямы, туда спустили по лестнице деспота и одного мальчика из его прислуги. Затем закрыли яму и, по словам византийского историка, держали страдальца в тесноте. Нечего говорить о других неудобствах: о мраке и об удушливом воздухе, а скажу лишь об одном, более важном, что приводит меня в содрогание при одной мысли. Место, где сидели заключенные, было очень тесным; следовательно, по необходимости, должны были рядом находиться горшок для известного употребления и хлеб. Можно себе представить, что должно было быть на душе у заключенных во время еды при таком отвратительнейшем запахе! Но этого еще мало; горшок, подаваемый вечером сторожами на веревке, часто опрокидывался деспоту на голову, потому ли что сторожа издевались над ним или по нечаянности.
Некоего Феодосия, показавшегося неудобным полководцу Велизарию, поместили в совершенно темное подземелье. Тут его привязали к яслям очень короткой веревкой за шею так, что он должен был стоять все время в согнутом положении и разогнуться не мог; не мог он ни сесть, ни лечь. В ясли клали ему пищу, которую он ел как животные. В таком удручающем положении провел он четыре месяца, пока не сошел с ума и не был освобожден. Сразу же после этого он умер.
Едва ли в каком-нибудь государстве взяточничество было так распространено, как в Византии. Это была страшная язва, разъедавшая все византийское общество и в значительной степени способствовавшая падению Восточной Римской империи. Случаи, когда судьи брали взятки с ответчиков в гражданском процессе, принадлежали к самым обыкновенным. Бывало, что судья брал взятки с обеих сторон – и с истца и с ответчика; тогда он, надув обоих, оставлял дело нерешенным. Молодые чиновники начинали обыкновенно службу в должности сборщика податей где-нибудь в провинции, и тут-то они проходили особую школу. Податная система была очень сложна, потому что существовало много всяких налогов и сборов. Поземельная подать взыскивалась в разных размерах, смотря по тому, какой землей владел плательщик, земля же делилась, говорит П. Безобразов[3], как и у нас в Московском государстве, на три категории: хорошую, дурную и среднюю. Затем было множество дополнительных сборов, присчитывающихся к основной подати в виде процентных прибавок к ней; эти прибавки появлялись, когда императоры считали нужным увеличить государственные доходы. Наконец, монетная система была довольно путаная. Подать высчитывалась на полновесные золотые монеты; между тем императоры постоянно чеканили монеты, в которых лигатуры было более против положенного количества. Эти монеты подданные обязаны были принимать за полновесные, но государство не принимало их по номинальной цене. Например, крестьянину следует уплатить номизму (золотую монету в 4 рубля), он дает сборщику податей монету, которая в ходу, но в которой нет узаконенного веса. Сборщик ее принимает, но высчитывает, сколько ему надо еще доплатить, чтобы его монета имела номинальную ценность. Вот этой путаницей пользовались молодые чиновники и под видом податей вымогали у народа гораздо больше денег, чем следовало платить; излишек поступал, конечно, в их пользу, и таким путем составлялось не одно состояние. На вымогательства сборщиков податей общество смотрело донельзя снисходительно, хотя по закону за это взимался громадный штраф. Однажды губернатор одной провинции собирался привлечь к суду или наказать собственною властью своего подчиненного, позволившего себе незаконные поборы при взимании податей. Провинившийся чиновник нашел сильного покровителя в лице важного сановника и знаменитого философа Пселла, который написал по этому поводу губернатору письмо приблизительно следующего содержания: «Я уже просил тебя об этом молодом человеке и опять прошу: помогай ему при сборе податей и относись к нему благосклонно. Он не может довольствоваться законным сбором, потому что ему же нужно вернуть свои затраты. Ты, конечно, не позволяй ему поступать противозаконно, но не замечай того, что он делает, так чтобы тебе, глядя, не видеть и, слыша, не слышать. Таким образом, ты можешь в одно и то же время избежать упрека в незаконных действиях и быть милостивым к сборщикам податей». Это письмо – драгоценнейший перл византийской литературы. У бедного сборщика были большие расходы, прежде чем он поступил на место; другими словами, он дал кому-то приличную взятку: этого было достаточно, чтобы ему позволили обирать народ. Что же делать губернатору? Не смотреть, как его чиновники берут взятки, и затыкать уши, если до него дойдет подобный слух; тогда он и перед начальством будет чист (знать, мол, не знаю, ведать не ведаю), и с подчиненными станет жить в ладу. Вот мораль, достойная великого философа.
Другой отличительной чертой византийского общества было низкопоклонство и лакейство. По римской традиции, императора боготворили: его называли не только державным и великим, но также божественнейшим и священным; самые важные сановники падали пред ним ниц и лобызали его колени и пурпуровые туфли. В торжественных случаях царю произносили панегирики, необыкновенно напыщенные и необыкновенно лживые. Царствует, например, император, самый непопулярный, распутный; и вот, среди всеобщих стонов, среди всеобщего недовольства его развратом и тяжестью податей, во дворце раздаются слова оратора: «Ты, царь, защитник бедных; ты поощряешь добрых, караешь злых; указами твоими ты ввел в государстве правосудие и справедливость, ты не позволяешь сборщикам податей делать незаконные поборы или судьям судить не по закону. Будь жив Гесиод[4], он вынужден был бы изменить свой порядок: он должен был бы сказать, что сначала был медный век, потом серебряный, а теперь наступил золотой».
10. Еще раз о недугах нового Рима
Итак, под пышной декорацией скрывалась такая распущенность, что Рим, действовавший в этом отношении с грубой откровенностью, должен был уступить пальму первенства своему преемнику.
Суеверия, волшебство, гадания, симпатические средства – все это было очень распространено в Византии не только в народе, но и среди образованного класса.
Думали, например, что существует особое существо в женском образе, так называемая Гило, отвратительная старуха, с огненными глазами, железными руками, с головы до пяток покрытая шерстью, похожей на верблюжью. Гило обладает свойством проходить через запертые двери. Она зла, и главное ее занятие заключается в том, что она убивает новорожденных младенцев. Она отравляет также воду источников, из которых пьет скот, и губит животных. Чтобы избавиться от нее, надо знать двенадцать имен, которые она носит. В тот дом, где знают эти имена, Гило не входит, но бежит от него за пятьсот миль. Наблюдения над значительной смертностью малолетних подали, вероятно, повод к этому суеверию, так как, по некоторым сказаниям, Гило умела обращаться в духа, вселялась в младенцев и высасывала из них материнское молоко. Вера в Гило была так распространена, что однажды нескольких женщин привлекли к суду и обвинили в том, что они оборачивались в духов и, проникая незаметно через запертые двери, убивали грудных детей. Обвинители были убеждены, что эти женщины умеют принимать вид Гило. К счастью, их судил просвещенный судья и оправдал обвиняемых, считая немыслимым оборачиваться в призраки. Но дело на этом не кончилось. Император Константин Копроним (741–775) усомнился в правильности такого решения. Он призвал к себе судью и пытал его; несмотря на пытки, судья стоял на своем, и только тогда царь вынужден был утвердить его решение. Волшебство и разные магические средства были в большом ходу. До наших времен дошел трактат, где собраны рецепты подобных средств. Порошок, приготовлявшийся из асфоделя, корня проскурняка, чечевицы, белого мака и лука, назывался противоголодом и обладал таким свойством, что, поев его, можно было много дней ничего не есть. Средство некоей Зинарии, состоявшее из ромашки, белого перца, меда, смирны, шафрана, обладало тем свойством, что стоило только поесть его, как сейчас же забывалось все дурное и вспоминалось только хорошее. Чтобы иметь детей, мужчина должен был намазаться заячьей кровью или гусиным жиром. Женщины, не желавшие иметь детей, носили пуп лягушки, завернутый в тряпочку. Было средство, изобличающее воров: надо вырезать у головастиков языки, засушить их и смешать с хлебом, затем предложить этот состав подозреваемому лицу; если это был действительно вор, он приходил в экстаз и публично сознавался в содеянном.
Разгадать будущее, найти способ предсказывать – это одна из тех неразрешимых загадок, которой человечество занималось больше всего.
В Византии практиковались всякие способы гадания, многие из которых перешли по наследству от Древней Греции. Вырезали, например, кости животных и гадали по ним. В христианской стране, конечно, не могло быть и речи о жертвенных животных и о жертвах богам, но делались вещи еще более дикие. Жители города Пергам, осажденные однажды сарацинами, схватили беременную женщину, собиравшуюся рожать, вырезали из ее чрева младенца и бросили его в сосуд с кипятком. Чего они хотели достигнуть этим зверством, неизвестно, но, очевидно, они надеялись получить какой-то хороший результат за свою жестокость. Были люди, специально занимавшиеся предсказанием будущего и бравшие за это деньги; они гадали главным образом тремя способами: по особого рода книгам, по звездам и по снам. Существовали Сибиллины книги, заключавшие загадочные и очень туманные изречения о византийских императорах. Эти загадки старались объяснить и применять их в разных случаях. Вот, например, в одной из таких книг было сказано: пятидесятая цифра возьмет перевес над сороковой. Когда против императора Михаила VII восстал Никифор Вотаниат, последнему на этом основании предсказали, что он победит и будет царем. Действительно, цифра 50 обозначалась у греков буквой Н, а 40 – буквой М; по изречению, Н должно было одолеть М, то есть Никифор – Михаила. Снотолкование было своего рода наукой. Сны рассматривались как особого рода откровение, как впечатления, получаемые душой в то время, когда она в течение сна разлучается с телом. Не стоит распространяться об этом, потому что у нас самих до сих пор в большом ходу сонники, и Византия не представляла в этом отношении ничего оригинального. Астрология – наука столь же древняя, как мир, уступившая свое место астрономии. Недостаточное знакомство с небесными явлениями привело людей к убеждению, что есть какая-то связь между движением светил и человеческими действиями. По положению звезд можно было сказать, удастся ли то или иное предприятие. Когда византийские императоры колебались в своих решениях, они призывали астрологов, и те объявляли, какой их ждет исход.
У древних греков и римлян существовало гадание, сохранившееся до настоящего времени. Раскрывали Гомера или Вергилия, читали первый попавшийся стих и считали его изречением оракула. В христианские времена Священное Писание заменило классических авторов. Закрыв глаза, развертывали Библию или сочинение какого-нибудь Отца Церкви и попавшуюся случайно строчку считали ответом на вопрос, обращенный к судьбе. Способ этот практиковался в Древней Руси, как нам известно, до поучения Владимира Мономаха. Суеверные девицы до сих пор с закрытыми глазами раскрывают первую попавшуюся книгу и читают наудачу: «Что мне выйдет». В связи с этим существовал практиковавшийся в Византии обычай испытания судьбы двумя свитками. В чем он заключался, видно из следующего. Император Алексей Комнен желал выступить в поход против половцев, но приближенные к нему лица находили это неблагоразумным. Чтобы не подвергаться упрекам и снять с себя ответственность, император, не возражая против общего голоса, обратился к высшей воле и объявил, что отдает решение вопроса на волю Божию. Сопровождаемый военными чинами и многочисленным духовенством император отправился вечером в храм Святой Софии. В присутствии патриарха он написал два жребия на двух хартиях: на одной было написано, что следует идти в поход против половцев, на другой – что не следует. По приказанию императора патриарх положил оба жребия на престол церкви, где они и остались во время всенощного бдения. По окончании богослужения, уже утром, патриарх снова вошел в алтарь и вынес одну из хартий, которая была при всех распечатана и громогласно прочитана. Вышел жребий, решающий поход на половцев, и против этого никто уже не возражал. Таким образом неоднократно решались важнейшие государственные вопросы.
Точно так же избирались игумены монастырей. Выбирали трех кандидатов, записывали их имена на хартии, клали на престол, затем брали одну из хартий и считали избранным того, чье имя было вынуто. У нас, на Руси, этот способ также был в ходу при избрании новгородского епископа.
В Византии происходили постоянно очень таинственные и сверхъестественные явления, о которых сообщают летописцы. Вот, например, в субботу первой недели поста царь Андроник Палеолог (XIV в.) отправился в церковь и присутствовал при всенощном бдении, начинающемся в то время поздно вечером. К нему прибегают люди и сообщают, что случилось нечто необыкновенное: они слышали громкое ржание, между тем как ни во дворце, ни по соседству нет ни одной лошади. Все смутились, и пока рассуждали об этом таинственном явлении, раздалось опять громкое ржание. Царь приказал исследовать это, и оказалось, что ржет лошадь, нарисованная на одной из стен дворца. Первый министр очень обрадовался этому и объявил царю, что ржание предвещает победу над турками. Но царь с ним не согласился; по его словам, эта самая нарисованная лошадь ржала в царствование его отца, и тогда случилось большое бедствие. Действительно, на другой же день стоявшая на площади колонна со статуей Византа, основателя Византии, начала шататься и шаталась несколько дней. Это уже, очевидно, было не к добру. Тогда царь с первым министром достали книги, где записаны были разные предсказания, занялись астрологическими выкладками и, на основании всего этого, пришли к убеждению, что надо ждать нашествия неприятеля и смут в государстве.
Царь Михаил Палеолог отправился в Солунь и, прожив там год, умер, как это ему было предсказано. А предсказание заключалось в следующем. Когда он был в Адрианополе, во дворце открыли над дверями круг, а в кругу этом – изображение четырех животных: льва, барса, лисицы и зайца; над этими животными оказались стихи, в которых было сказано, что в Солуне поселится один царь из дома Палеологов и умрет там. «Этот круг, – рассказывает историк того времени, – находился от пола на высоте двух мужчин; невероятно, чтобы стихи эти написал человек. Нельзя думать, чтобы кто-нибудь подставлял лестницу и влезал туда для написания в то время, как во дворце находился царь и множество народу постоянно ходило и выходило».
Распространившиеся в народе оракулы иногда имели печальную судьбу. Так, один царь казнил некоего Пахомия только потому, что по Константинополю ходило предсказание, будто преемником его будет Пахомий! Никто не решался отвергать возможность гадания и значение, которое имеют разные предзнаменования вроде затмения или шатания колонны. Но образованные люди старались подыскать этому научное объяснение. Вот что пишет по этому поводу один ученейший писатель XIV века: «Что затмения небесных светил предвещают земные страдания, этого, думаю, не станет опровергать никто, разве кто любит попусту спорить. Если бы кто вздумал убедить совершающиеся в разные времена и в разных местах события, то он понапрасну стал бы трудиться и поступил бы крайне нерассудительно, взявшись учить неспособного к учению. Что бывает с телом человека, то происходит и с организмом Вселенной. Мир, как и человек, – органическое целое, состоящее из частей и членов. Как у человека боль головы или шеи производит жестокое страдание в голенях и пятках, так и в организме Вселенной страдания небесных светил доходят до земли и дают себя чувствовать и здесь». «Может быть, кто-нибудь недоумевает, – говорит тот же писатель, – откуда берутся и как появляются оракулы, которые ходят между людей, а также почему они, заключая в себе указание на будущее, изображают его в чертах, чрезвычайно загадочных. Кто был их составителем и кто передал их последующим поколениям, об этом мы не находим ничего ни у историков, ни у других писателей. Все они замечают только, что в то или другое время тот или другой оракул ходил в народе и впоследствии оправдался тем или другим событием. А кому обязан своим происхождением каждый из них, этого решительно никто не может сказать и объяснить, если только не захочет солгать. По мнению некоторых, какие-то «служебные силы» летают вокруг земли, присматриваясь к тому, что происходит здесь, и, получив выше знание о будущих событиях, передают его людям то в сновидениях, то при помощи звезд, то с какого-нибудь дельфийского треножника, то при посредстве внутренности жертвенных животных, а иногда посредством голоса, сначала неопределенно раздающегося в воздухе, а потом раздельно в ушах каждого; этот-то голос древние мудрецы и называли божественным. Часто случалось также, что на скалах или стенах находили письмена, без всякого указания на того, кто их написал. Но все оракулы даются не иначе, как загадочно и не совсем ясно, чтобы, подобно царским регалиям, оставаться священными и недоступными для толпы. Известно, к чему открыты доступы всякому, то мало ценят и уважают. Нельзя, однако, сказать, чтобы польза от оракулов была ничтожна, если рассматривать их не поверхностно, а с должным вниманием. Для одних они служат наказанием, для других – благодеянием. Руководствуясь ими, одни, заранее приняв умные меры, или смягчали грозившие им бедствия, или даже совсем отклоняли их от себя, умилостивив Бога исправлением своей жизни. Но для людей малодушных ожидание грядущих бедствий становится сущим наказанием. Они заранее страдают от того, от чего должны еще пострадать, и это – по устроению Промысла, чтобы сильнее наказать их за то, в чем они согрешили. Если же некоторые оракулы оказываются ложными, то это только потому, что их не умеют правильно истолковать».
Естественно, что в Византии верили в чудотворные иконы, так как учение религии признает в них действительную силу. Но характерно то, что в Византии чудеса, творимые иконами, могли иметь силу судебного доказательства. П. Безобразов указывает на один случай подобного рода, ставший известным только тогда, когда он открыл в одной рукописи ватиканской библиотеки интереснейший протокол.
В одном из главных константинопольских храмов, Влахернском, была икона Божией Матери, обладавшая особенным чудодейственным свойством. Она находилась на правой стороне иконостаса и была задрапирована куском материи, как до сих пор, по древнему обычаю, драпируются иконы в Греции. В обыкновенное время драпировка вполне закрывала лик Богородицы, по субботам, во время утрени, она внезапно раскрывалась или поднималась кверху, и молящимся являлся скрытый лик Божией Матери. Чудо это называлось обычным и свершалось еженедельно, но, кроме того, оно могло явиться по какому-нибудь особенному поводу и в другое время. Выступая в поход, императоры имели обыкновение помолиться во Влахернской церкви, и, когда при этом не свершалось чуда, они считали это за дурное предзнаменование. Так, например, царь Алексей Комнен решил начать поход против Боэмунда Тарентского 1 ноября 1107 года, но испугался, потому что Влахернская Божия Матерь не явила обычного чуда, когда он выходил из храма. Он принял это за зловещий признак и решил подождать четыре дня; затем он отправился вновь во Влахернский храм; после его усердной молитвы чудо свершилось, и он вышел из церкви уверенный в победе.
Один гражданский иск был решен однажды на основании такого чуда. Воевода Лев Мандал поспорил с Каллийским монастырем, кому должна принадлежать мельница, стоявшая на границе их владений. Судились они несколько раз, и судьи присуждали мельницу то одной стороне, то другой, потому что ни у воеводы, ни у монастыря не было в руках надлежащих документов. Последний раз, когда они судились, судья поставил владеть им мельницей сообща, но это давало повод к массе пререканий, никого не удовлетворяло, и они порешили покончить дело без суда, полюбовно. Думали, думали и рассудили сделать так: рано поутру отправиться обеим сторонам во Влахернский храм, стать против чудотворной иконы Богородицы и молить ее быть судьею в их деле. А саму тяжбу решить таким способом: если завеса на иконе останется неподвижною, признать, что дело выиграли монахи, если же она задвигается, и, следовательно, чудо свершится, признать, что прав воевода. На этом основании воевода и монахи написали форменный договор, который они во всяком случае обязаны были исполнить. Как условились, так и сделали.
Обе стороны пришли во Влахернский храм, стали против иконы, молились со слезами и ожидали решения своей участи в зависимости от того, придет в движение или нет завеса на иконе. Прождали некоторое время, завеса оставалась неподвижною. Это было сочтено за решение и окончание дела. Монахи радовались своей победе, а воевода стоял опечаленный, осужденный судом Божиим. Воевода собирался уже передать монахам письменное удостоверение, что признает себя осужденным и отказывается от права владеть половиною мельницы, как вдруг завеса на иконе Божией Матери поднялась. Дело приняло иной оборот: радовавшиеся опечалились, а опечаленный преисполнился радости и удовольствия. Монахи стали говорить, что чудо свершилось слишком поздно, что чудо свершилось не в то время, когда молились стороны, а тогда, когда воевода признал монастырь владельцем мельницы, они говорили, что чудо указывает на их правоту и явилось как знак согласия на то, что хотел сделать воевода, собиравшийся в эту минуту отказаться от своих прав на мельницу. Спор, однако, продолжался, и дело было доведено до императора Михаила Дуки; он приказал Пселлу разобрать тяжбу и написать протокол и судебный приговор. Надо было оформить этот оригинальный процесс, подыскать статьи закона, поставить все это на юридическую почву. Такому тонкому диалектику, как Пселл, сделать это было нетрудно. Прежде всего желательно было решить эту тяжбу окончательно и устранить всякий повод к новому ее пересмотру. Поэтому соглашение сторон было понято таким образом, что они обратились к третейскому суду. Третейский суд признавался законами; и притом против него нельзя было апеллировать. Следовательно, знамение чудотворной иконы должно рассматривать, как приговор третейского судьи. В чью же пользу клонится этот приговор? Очевидно, в пользу воеводы. Он выиграл процесс, потому что чудо явилось, возражение же монахов, будто чудо явилось слишком поздно, когда они собирались уходить из церкви, ничего не доказывает: в условии не было сказано, когда ждать чудесного знамения и сколько стоять в церкви. На этом основании было издано судебное постановление, подписанное надлежащими властями. Оно послужило воеводе оправдательным документом и давало ему право владеть спорной мельницей.
Это и есть Византия – пышная преемница когда-то славного Рима.
Чтобы покончить с ее недугами, мы должны показать, чем была византийская женщина, так как в Новом Риме дочери Евы играли роль, пожалуй, еще более видную, чем в первом.
11. Женщина нового Рима
Византия, приняв всю культуру от Рима, вместе с тем не отрешилась и от азиатского деспотизма, что в особенности сказалось на положении византийских женщин.
В Византийской империи женщина не пользовалась большим уважением. Ее считали порождением дьявола, виновницей грехопадения рода человеческого, существом слабым и нечистым, предназначенным быть служанкой и рабой мужчины. Она не была самостоятельной, не имела права распоряжаться ни собою, ни имуществом. До замужества она полностью подчинялась отцу; выданная замуж отцом за человека, которого часто в глаза до того не видала, она попадала в полное подчинение к мужу. Ее приданое отдавалось мужу, который мог распоряжаться ее доходами по своему усмотрению, только не имея права отчуждать капитал. Но если она расходилась с мужем, приданое возвращалось не ей, а ее отцу.
Жена была до некоторой степени свободна лишь у себя дома: тут она могла и даже обязана была заниматься своим домашним хозяйством и женским рукоделием. Но выходить из дому, бывать в театре или цирке она могла только с разрешения мужа, ослушание в подобных случаях считалось преступлением.
Даже в собственном доме свобода ее была ограничена: ей отводилась отдельная половина дома, называвшаяся гинекеем, откуда она не имела права выходить, когда у ее мужа сидели гости-мужчины.
На этом основании один византийский писатель дает совет не помещать у себя дома приезжих гостей. «Если имеешь друга, – говорит он, – жившего где-нибудь в другом городе, и он проезжает городом, в котором ты живешь, не помещай его в своем доме, но пусть он остановится в другом месте, а ты посылай ему все нужное. Если же ты поместишь его в своем доме, то послушай, сколько из-за этого произойдет неприятностей. Во-первых, ни жена твоя, ни дочери не будут иметь свободы выходить из комнаты своей и распоряжаться в доме как следует. А если же им будет неотложная нужда выйти, то друг твой вытянет шею и устремит на них глаза; пока ты будешь стоять вместе с ним, он, конечно, притворно потупит голову, но все-таки будет подсматривать, какая у них походка, как они поворачиваются, как подпоясаны и какой у них взгляд, – одним словом, будет их оглядывать с головы до ног, а после станет передразнивать перед своими домашними и осмеивать. Если он найдет удобный случай, он будет делать любовные знаки твоей жене, будет на нее смотреть бесстыдными глазами; если сможет, то и соблазнит ее, если же и нет, то все-таки, когда уйдет, похвастает, чем не следует».
Так мало доверяли своим женам византийцы. Они не допускали, что можно разговаривать с женщиной без грязного намерения, так как видели в ней исключительно орудие наслаждения. Полное бесправие византийской женщины видно из того факта, что она не могла быть свидетельницей на суде, а также из тех поводов, по которым она могла требовать развода. По византийским законам, муж мог требовать развода в следующим случаях: 1) если жена принимала участие в заговоре против царя и не сообщила об этом мужу; 2) если жена была ему неверна; 3) если жена намеревалась убить его; 4) если она без согласия мужа принимала участие в пиршестве с посторонними мужчинами или мылась вместе с ними в бане; 5) если она без ведома или против желания мужа отправлялась в театр или в цирк; 6) если против желания мужа проводила ночь вне дома, где бы то ни было, исключая только родительский дом.
В последнем случае закон оговаривал, что, если муж выгонит жену из дому и она, не имея родителей, переночует у знакомых, это не может считаться поводом к разводу.
Жена имела право требовать развода в ситуациях: 1) когда муж без ее ведома принимал участие в заговоре против императора; 2) когда он имел намерение убить ее; 3) когда он старался тем или иным способом заставить ее совершить прелюбодеяние; 4) когда он был неспособен к выполнению супружеских обязанностей и это продолжалось три года с момента вступления в брак.
Сейчас же бросается в глаза, что неверность мужа не служила поводом к разводу. Мужу достаточно было застать в комнате жены постороннего мужчину, чтобы обличить ее и развестись. Жена же могла ссылаться на неверность мужа только в совершенно исключительных случаях; единичного факта было мало, нужно было доказать, что муж изменяет постоянно, даже в таком случае развод давался только после усиленных увещаний родителей жены, когда муж категорически заявлял, что не намерен отказаться от своего преступного образа жизни.
Зато византийский закон предоставлял мужу множество поводов к разводу, так как он требовал полнейшего подчинения жены и в случае малейшего неповиновения с ее стороны тот мог бросить ее. Пойти в театр, принять приглашение на обед, где будут посторонние мужчины, – все это считалось для женщины зазорным, подобные поступки могла себе позволить только преступная жена.
Вот еще одна несправедливость византийского закона относительно женщин.
Когда жена получала развод по собственной вине, она не имела права вступить в новый брак раньше чем через пять лет, но и когда муж был признан виновным, она не могла венчаться раньше чем через год. А разведенному мужу никто не мешал жениться вторично хоть в тот самый день, когда получен развод. Таким образом, сам закон давал некоторую поблажку мужу в бракоразводных делах. Это не значит, однако, что византийские законы не карали преступлений против нравственности, совершаемых мужчиной. Де-юре мужчина отвечал наравне с женщиною, и за безнравственные поступки полагались очень строгие наказания. Незаконная связь между родственниками каралась или простым телесным наказанием, или отсечением руки, или смертной казнью, в зависимости от степени родства. За обыкновенное прелюбодеяние отрезали нос. Впрочем, в некоторых случаях можно было отделаться штрафом. Вступавший в связь с невинной девушкой с ее согласия в случае, если отказывался жениться, обязан был по закону уплатить ей литру золота (около 280 золотых рублей); несостоятельных подвергали телесному наказанию и ссылали.
Кроме того, в Византии существовал один обычай, который очень вредно отражался на семейной нравственности. Родители или, лучше сказать, отцы, обручали детей в малолетстве, и, став взрослыми, эти несчастные дети обязаны были исполнить обещание, данное за них родителями. Обыкновенно при этом писался форменный брачный договор, жених давал задаток, получал придание и обязывался жениться впоследствии на девочке. Закон признавал подобные контракты и требовал, чтобы они не нарушались; он ставил только одно ограничение: обручившимся должно было быть не меньше семи лет. Замечательно, что этот обычай перешел к нам, и в Московском государстве точно так же обручались дети и составлялись обязательные контракты, называвшиеся рядными записями.
Когда обручали семилетнюю девочку, конечно, не могло быть речи о любви с ее стороны: родители старались устроить детям выгодную партию, и привязанность супругов – единственное условие счастливого брака – не входила в их планы. Сколько трагических случаев, должно быть, возникало из-за этого нелепого обычая! Вырастая, девочка нередко замечала, что жених ей антипатичен, что она любит другого, но тем не менее она обязана была выйти за нелюбимого человека. Таких случаев, несомненно, было множество, и едва ли они могли способствовать семейному счастью.
Раннее обручение детей имело и другую вредную сторону. Родители требовали, чтобы свадьба была отпразднована, как только невеста вступит в законный возраст, а по византийским законам жениться можно было в четырнадцать лет, выходить замуж – в двенадцать. Хотя на юге женщины развиваются быстрее, тем не менее нельзя предполагать, чтобы двенадцатилетняя девочка была окончательно сформирована, и понятно, как вредно отзывались такие ранние браки и в физическом и в нравственном отношениях. Если простые смертные обручали детей в нежном возрасте, то это же все чаще случалось и в императорской фамилии, где браки имели большое политическое значение. Нечего и говорить уже о том, что дипломатия не признавала любви, иначе быть не может, но историки сообщили нам ряд самых возмутительных и безобразных фактов, творившихся во дворце. Византийские императоры не признавали закона, а потому считали возможным выдавать замуж дочерей, не достигших двенадцати лет. Так, например, одна восьмилетняя царевна была выдана замуж за сорокалетнего сербского короля, и хотя последний поклялся, что пощадит девочку и дождется зрелого возраста, он этого не исполнил, вследствие чего у его жены никогда не было детей. Император Андроник I (XII в.) сверг с престола Алексея и женился на его невесте, одиннадцатилетней Марии, тогда как ему самому было уже пятьдесят лет и на голове только кое-где росли седые волосы. Елена, дочь болгарского князя Асеня, была выдана замуж в одиннадцать лет за Федора, сына императора Иоанна Дуки. Можно бы привести много подобных фактов, но и сказанного довольно, чтобы иметь понятие о безобразном обычае.
Курьезно то, что этот обычай сохранился до нашего времени.
До сих пор в Греции родители, не спросив у дочери, обручают ее с каким-нибудь молодым человеком по своему выбору и заключают при этом форменный брачный контракт от своего имени.
12. Значение женщины в Византии
Не все, что сказано выше, касается женщин средних кругов. В общем, женщина Византии по своему развитию нимало не уступала женщинам Рима. Несмотря на то что женщинам считалось неприлично показываться на улице и полагалось довольствоваться домашней жизнью, девочек все-таки учили и некоторым давали даже отличное образование. Были ли отдельные школы для девочек – неизвестно, но есть несколько указаний, что их учили грамоте. В то время могли давать образование своим детям только люди состоятельные, поэтому высокообразованных женщин мы видим лишь в высших сферах. Известны две византийские писательницы: Евдокия Макремволитиса и Анна Комнен.
Евдокия была замужем за Константином Дукой, случайно попавшим на престол в 1059 году, следовательно, хотя она и была императрицей, но получила такое же воспитание, как и другие византийские аристократки. Она написала особого рода хрестоматию, где сначала изложены басни и разные фантастические рассказы, генеалогии языческих богов, превращения героев и героинь, мифы и аллегории, а за этим следуют выдержки из разных писателей-философов, медиков, риторов, поэтов, с биографическими сведениями об этих писателях и перечислением их сочинений. Из труда Евдокии видно, что она великолепно знала греческую литературу и в начитанности не уступала самым ученым византийцам.
Анна Комнен описала в двенадцати книгах деяния своего отца – императора Алексея (1081–1118). Это – солидный труд, составленный не только по рассказам очевидцев, но и по подлинным документам. Из него видно, что византийская царевна вполне овладела риторикой и философией; она умела писать искусственным языком, каким писали в ее время. Язык этот не имел ничего общего с живой разговорной речью. Византийцы старались писать языком древних авторов, Платона и Фукидида, уснащали свои произведения множеством архаизмов, оборотов, давно вышедших из употребления, почерпнутых из классиков и Священного Писания. Нужно было много учиться, чтобы писать таким искусственным языком, и, таким образом, сам факт, что Анна Комнен писала на языке, на котором давно никто не говорил, доказывает, как она была образованна.
Поэтому женщины играли в Византии немаловажную роль, по крайней мере, некоторые, особенно в придворном быту.
Императрицы нередко вмешивались в политику и подавали советы мужьям.
Выдающуюся роль играла в свое время императрица Феодора, супруга Юстиниана.
Она была дочерью укротителя зверей и в юности танцевала в театре. Ею пленился Юстиниан, женился на ней и короновал императрицей. Она была не только чрезвычайно красива, но необыкновенно умна и энергична. Юстиниан постоянно советовался с ней, и она с большим жаром старалась приводить в исполнение внушенные ею планы. Феодора с необыкновенной проницательностью разгадывала своих противников, а ее разгадать было трудно. Она могла быть и верным другом, и самым беспощадным врагом. В неге, которой она предавалась, среди роскошной и беспутной жизни, она находила время заниматься государственными делами, вмешивалась даже в церковные дела и богословские споры.
И вот старики рассказывают следующую сцену.
Феодора принимает во дворце епископов Мартиропольского и Анкирского.
– С твоего разрешения, мы прибегаем к тебе, владычица, – сказал епископ Анкирский. – Досточтимый патриарх Антиохийский Север, наш отец, наш владыка, смещен за то, что он – противник Халкидонского собора (против монофизитов). Народ отказывается признать патриарха, занявшего его место; поднялся бунт, проливается кровь. Мы разделяем учение Севера. Император пригласил нас на совет вместе с другими епископами, которые держатся противоположных мнений, чтобы обсудить вопросы, волнующие восточную церковь. Мы умоляем тебя склонить на нашу сторону твоего супруга, этого нового Давида.
– Каким образом, – ответила Феодора, – может женщина рассудить эти глубокие богословские споры, происходящие между вами, людьми, служащими украшением церкви?
– Мы не верим безумному Евтихию, – продолжал епископ Анкирский, – отрицающему воплощение Христа, мы не одобряем Нестория, но мы верим вместе с Севером, что Иисус принял плоть бесстрастную и не страдал на самом деле телесным страданием.
– Правда, – ответила императрица, – что тело Спасителя отличалось от нашего.
– Мудрость глаголет твоими устами, владычица, – сказал епископ Мартиропольский. – Божественное тело не могло иметь никаких плотских слабостей; Христос не мог ощущать голода и жажды.
– Мне кажется, это учение более подходит к величию Божества; впрочем, император рассудит это. Бог дал ему свет, рассеивающий мрак всех ересей.
Епископы удалились, очарованные милостивым вниманием и благочестием императрицы.
У Феодоры была своя тайная полиция, главным агентом которой являлась одна женщина, Хариклея. Это была особа весьма подозрительная, служившая Феодоре помощницей в ее любовных интригах, когда та не была еще на престоле. Тогда ее звали Македонией. Чтобы скрыть ее прошлое, императрица велела ей называться Хариклеей; официально ее обязанность состояла в том, чтобы раздавать милостыню бедным, неофициально же – в шпионстве. Однажды императрица позвала к себе Хариклею.
– Экевал еще жив, – сказала она глухим голосом.
– Если бы все, кого ты ненавидишь, были настолько же живы, как он! – ответила Хариклея. – Ты, должно быть, во сне видела этот преследующий тебя образ. Вот уже десять лет, как он умер в Антиозии.
– Нет, нет! – сказала Феодора. – Я видела вчера на улице старика, одетого по-персидски, который все шел рядом с моей стражей и как будто старался пробраться к моей колеснице, – это он!
– В самом деле, – ответила с ужасом Хариклея, – я уже несколько дней замечаю, что меня преследует какой-то странный человек, которого я как будто знаю и который, видимо, желает заговорить со мной.
– Если бы я и сомневалась, то теперь перестала бы. Так человек, прогнавший меня, как прогоняют рабыню, человек, который мог бы под моей пурпуровой мантией найти следы им нанесенных мне ударов, этот человек живет в Константинополе и рассказывает о своих любовных похождениях с Феодорой! Он жив в то время, как я царствую?
– Ну, не долго он будет жить. Впрочем, какое дело тебе, живущей на Олимпе, до шипенья какой-то змеи?
– На ступенях этого трона, блеск которого ослепляет тебя, сидят неумолимые враги, они не забывают, что я когда-то танцевала на театре. Как они торжествуют, что я не родила наследника престола! Надо мной тяготеет какое-то проклятье. Когда приходил из Палестины Савва, которого считают святым и которому приписывают чудодейственную силу, я унижалась пред ним, я просила его помолиться, чтобы у меня был сын. Он отказал мне; он осмелился сказать императору, что из моей утробы никогда не выйдет сына, потому что он был бы вскормлен нечестивыми догматами Севера и смущал бы церковь. Он – заодно с моими врагами, с представителями прежней династии. Император не обращает на них никакого внимания, но я – настороже. Преследование монофизитов может привести к бунту. Партия Зеленых, ненавидящая меня, очень взволнована. Собирается страшная гроза. Ты помнишь, какая удивительная комета появилась два месяца тому назад?
– Да, есть и другие зловещие предзнаменования. На днях видели, как одна статуя проливала слезы, да и слезы-то были не простые, а кровавые.
– Отсюда, из этого дворца, я слышу крики ненависти тех, кто хотел бы согнать меня с трона. Приближается роковой день, когда или все погибнет, или все будет спасено. Пусть он наступает скорее, я устала сражаться с гидрой, у которой тысяча голов, постоянно вырастающих вновь, по мере того как их отрубаешь. Отец мой был укротителем зверей, я продолжаю его ремесло, я тоже кормлю и укрощаю диких зверей. Я постоянно чувствую их дыхание, и на моих руках следы их укусов.
Императрица побледнела и ненадолго легла отдохнуть.
– Смотри, Македония, – сказала она, оправившись, – не дремать! Предупреди сегодня же Елиазара; пусть тот исчезнет без шума.
Смеркалось, когда Хариклея вышла из дворца и направилась к еврею Елиазару, секретному агенту императрицы. Евреи не принимали никакого участия в религиозных и политических распрях того времени, поэтому они лучше всех исполняли всякие даваемые им тайные поручения.
Когда Хариклея свернула на узкую и темную улицу, то заметила, что незнакомец, о котором она говорила с императрицей, следует за ней. Он подходил к ней несколько раз, но, по-видимому, колебался.
– Македония, – сказал он наконец.
Она вздрогнула, услышав свое настоящее имя, но ничего не ответив, пошла дальше.
– Македония! – позвал незнакомец еще раз и схватил ее за руку.
– Что тебе нужно от Хариклеи? – спросила она, высвобождаясь.
– Мы давно знакомы, – ответил он грубым голосом. – Я сейчас же узнал тебя: десять лет не настолько изменили ту, что помогала мне в интриге с Феодорой. Годы оставили на моем лице неизгладимые следы, но не может быть, чтобы ты забыла Экевала.
Она посмотрела на него с ужасом.
– Ты думала, что я умер? Не правда ли? Все это говорили. Я сам распустил этот слух, когда расстался с этой женщиной. Меня лишили места, я впал в нищету, потерял жену и сына, потом я скрывался в Аравии, где жил кое-как, торгуя пряностями.
– Какое падение! – сказала Македония.
– Обеднеть, лишиться высокого положения – это бы еще ничего. Но вот я вдруг почувствовал, что эта женщина, которую я прогнал, жестоко оскорбив ее, стала мне необходима, как воздух, – это истинное мучение. Ее обольстительный образ являлся ко мне по ночам, смущал меня даже днем. Я напрасно искал ее; я не знал, где она.
– Она возвратилась в Константинополь и жила здесь в такой же бедности, как ты.
– Проходили годы, я начал успокаиваться, и вдруг до меня доходит неслыханная весть: Феодора на троне. Я долго не верил этому.
– Почему же? Разве ты не знаешь, что такие лучезарные существа, как Феодора, Аспазия, Клеопатра, имеют особую прелесть, которой все покоряется. Это – бриллианты необъятной величины, которые могут временно валяться в грязи, но которые непременно попадут в царскую корону.
– Когда странный слух оправдался, я устремился сюда, я страстно желал увидеть ее. Напрасно старался я побороть это безумное желание. Случайно встретив тебя на улице, я сейчас же узнал Македонию, единственную женщину, которая может напомнить ей об Экевале.
– Увидеть ее! Ты требуешь слишком многого, – сказала Македония. – Пойди к императору, объясни ему, что ты имеешь больше прав на Феодору, потому что раньше обладал ею, и проси отдать Феодору, без которой ты не можешь жить. Да, кстати, потребуй, чтобы он уступил тебе корону.
– Ты насмехаешься надо мною. Если я желаю увидеть ее, намерения у меня самые чистые. Я мечтаю об этом, как мечтают увидеть Бога, я хочу только насладиться, лицезрея ее. Слушай, я видел вчера, как она возвращалась во дворец. Нитки жемчуга, спускавшиеся с диадемы, окаймляли ее щеки. Ее царственная фигура была величаво-спокойна; приветственные возгласы толпы поднимались к ней, как фимиам к небесам. «Это ли, – думал я, – актриса, обольстительная сирена?» В первый раз через десять лет увидел я ее лицо. Мне сделалось душно, я должен был схватиться за колонну.
– Успокойся, Экевал. Даже слыша твой голос, я сомневалась, ты ли это, но теперь узнаю тебя по страсти, которая все еще кипит в тебе. Для нашего брата любовь – забава, но для таких людей, как ты, это – яд, отравляющий кровь, от которого не избавишься. Ты очень жалок! Хотя я посвятила себя благотворительности и раздаю бедным деньги, получаемые от императрицы, я постараюсь помочь тебе. Но скажи: у кого ты живешь?
– Я остановился под именем Аркаса в одной гостинице.
– Однако это небезопасно; твое приключение с Феодорой слишком известно, тебя легко могут узнать. Тебе необходимо укрыться где-нибудь. У меня был брат, он уехал восемь лет тому назад и исчез бесследно, его звали Вианором.
– Да, я видел его в Сирии.
– Ты понял: Экевал умер, а пускай появится вновь Вианор. Я устрою все это, и тебе можно будет всюду показываться и добиться свидания с императрицей.
– Как, я увижу ее?
– Разве вчера она не говорила мне о тебе? Никто не помешает мне привести к ней моего нашедшегося брата, потому что ты для всех, кроме нее, будешь моим братом. Счастливая звезда привела тебя в Константинополь. Императрица страшна врагам, но кого любит – богато одаряет. Она сумеет сделать тебя опять богатым и важным сановником. Жди удобной минуты, она настанет очень скоро; может быть, через два-три дня. Я сведу тебя в дом моей большой подруги; это – еврейское семейство, где ты будешь в полной безопасности. Живут они далеко отсюда, но тем не менее пойдем.
Долго шли они по константинопольским улицам, наконец Македония остановилась у одного дома и постучала три раза в дверь. Появилась старая еврейка.
– Пусти нас, – сказала Македония, – я привела тебе своего брата, которого оплакивала в течение восьми лет. Он нашелся, но его ждут неумолимые кредиторы, от которых ему нужно скрыться на время. Береги его как родного и никому ничего не рассказывай.
Македония отошла в сторону с сыном еврейки, Елиазаром, и шепнула ему несколько слов.
– До свидания, – сказала она Экевалу, – завтра мы увидимся с тобою.
Македония вышла из дома и остановилась в саду. Она прождала здесь некоторое время. На террасе появился Елиазар, сделал ей знак и шепнул:
– Дело сделано.
Македония ушла довольная: она исполнила поручение императрицы.
Феодора была права, когда предсказывала беду. Против Юстиниана поднялся народный бунт; провозгласили другого императора, и решено было осадить Юстиниана в его дворце. Казалось, не было спасения. В это время император, в присутствии Феодоры, держал совет со своими приближенными. Юстиниан решил не сопротивляться больше, так как сопротивление было бесполезным, но взять все свои сокровища и бежать. Выслушав это решение, Феодора встала и сказала: «Женщина имеет право вмешиваться в дела, когда мужчины слабеют и впадают в отчаяние. В критическом положении всякий обязан высказать свое мнение. Я не убегу, даже если бегство – единственное средство спасения. Смерть неизбежна, а для того, кто царствовал, она предпочтительнее жизни изгнанника. Я не могу жить без пурпуровой мантии, без диадемы, без поклонения народа. Если ты хочешь бежать, самодержец, – вот море, вот корабли и золото, но помни, что вместо спасения тебя постигнет, может быть, позорная смерть. По-моему, лучше со славою умереть на троне».
После этой пылкой речи Юстиниан изменил свое мнение: он остался во дворце, и ему удалось подавить восстание.
Итак, вот чем были женщины Нового Рима. Униженные внизу и в средних кругах, они сияли великолепием вверху, но это великолепие было только прозрачной декорацией, прикрывающей собою развращенность последней степени… Женщины Византии, как это видно из приведенных примеров, были до некоторой степени недугом Византии, и недугом органическим, приведшим к падению эту сказочную столицу Востока…
13. Нерон нового Рима
Однако, несмотря на полный упадок нравов Восточной Римской империи, редкий из ее императоров, точно по указанию свыше, не был человеком выдающихся государственных способностей. Все они были лживы, коварны, не ставили ни во что добродетель, но даже самые низкие из них всегда заботились о величии своего государства, расширяли его пределы, развивали сношения с соседями, шли, в случае надобности, на них войной, покровительствовали наукам и искусствам, окружали себя государственного ума людьми, которых нередко даже брали себе в соправители.
Очень часто на византийском императорском престоле появлялись люди совсем низкого происхождения, но, достигнув высшей власти, они полностью изменялись и в делах правления выказывали самые разнообразные таланты.
Много императоров дало Византии славянское племя, и эти императоры были самыми замечательными в истории Восточной Римской империи.
Редко кто из императоров занимал престол по праву наследства. Такие были исключением, и сам народ отмечал их прозвищем порфирогенетов, то есть рожденных в порфире[5].
Таким был Михаил III, внук Михаила Косноязычного и сын императора Феофила, которому, кроме прозвища Порфирогенета, народ дал еще и другое, рисующее его с самой невыгодной стороны, – «пьяница». Это прозвище было дано Михаилу III за необыкновенное пристрастие к оргиям.
В 842 году, когда умер его отец, Михаилу было четыре года, поэтому управление перешло к матери малолетнего императора – Феодоре, при которой был совет, состоявший из трех высших византийских чиновников и брата Феодоры, Вардаса, стоящего во главе его. Несмотря на заботы Феодоры о воспитании сына, руководство которым было поручено его дяде, Вардасу, Михаил оказался человеком совершенно неспособным к правлению, слабохарактерным и развращенным донельзя.
Известно, например, что не раз он выступал в цирке возничим, к великому смущению всего народа.
Личного участия в делах управления он почти не принимал, предоставляя это матери и дяде. Впрочем, это было к лучшему для Византии. Управление Феодоры ознаменовалось, прежде всего, восстановлением на Константинопольском соборе иконопочитания, причем установлен был и праздник «Торжества православия». При ней же сарацины все более и более распространяли свою власть на Сицилии, и византийцы могли удержать в своих руках только восточную часть острова с Таорминой и Сиракузами. Борьба с арабами на восточной границе и морской поход против арабских пиратов, занявших остров Крит, окончились неудачей. В это время Михаил возмужал и решил прежде всего избавиться от опеки своей матери. Вскоре после войны с Борисом Булгарином, закончившейся мирным договором, Михаил низверг свою мать и, объявив себя новым Нероном, не последовал ему только в одном: Феодора была не убита, а заключена в монастырь, где и окончила свою жизнь. Ее место занял Вардас, к которому в 856 году перешло все дело правления и которому император дал титул цезаря. Вардас был замечательным политиком своего времени, но низложение им патриарха Игнатия и возведение на его место Фотия привели к распре с римским папой Николаем I, имевшей своим последствием разделение церквей. В последовавшей затем борьбе с болгарами Византии посчастливилось. Был заключен почетный мир, и болгарский царь Борис, последовав примеру Ростислава Моравского, обратившегося к Михаилу с просьбой прислать к нему вероучителей христианства, что и было сделано, сам принял святое крещение. Между тем на востоке борьба против арабов продолжалась. Союзниками магометан явились здесь павликиане. Византийский полководец Лев успешно боролся с арабами, но походы самого Михаила всегда оканчивались неудачей. Победа, одержанная братом Вардаса над эмиром Омаром Митиленским в 863 году, однако обеспечивала византийцам спокойствие на востоке, но вскоре после этого над ней разразилась нежданная гроза в виде норманнских храбрецов, пришедших в Византию из Скифии…
Вообще, с внешней стороны царствование Михаила III было блестящим. Такие выдающиеся личности, как Вардас, Фотий, Василий Македонянин, оставили неизгладимый след в истории, но сам император вовсе не соответствовал этому своему внешнему блеску.
«Удовольствие малой и низкой души, – говорит нам М.Н. Карамзин, – были единственным предметом императора Михаила, добродетель казалась ему врагом удовольствия. Он жил на ипподроме и, восхищаясь ристанием, не хотел слушать людей, которые приходили ему сказывать о близости неприятелей».
Вступив на престол, Михаил объявил, что он будет править «как Нерон», но наш историк по этому поводу замечет: «Нерон, по крайней мере, любил музыку и поэзию, Михаил – одних коней и распутство!»
Фаворитки его менялись с поразительной быстротой, но в то время, когда начинается наш рассказ, вниманием Порфирогенета всецело владела славянка Ингерина, которой цезарь был увлечен не на шутку.
14. Баловень судьбы
Весь шум и гул Византии никогда не долетали даже в незначительных отзвуках до того укромного уголка, где жили старый Лука и Ирина. Они даже не знали того, что давно уже было известно каждому мальчишке Нового Рима.
Михаил, после некоторого перерыва, когда несколько утихло его увлечение красавицей Ингериной, словно спешил наверстать в вихре безумных удовольствий то время, которое отняло у него сердечное увлечение. Пиры в императорском дворце не прекращались. С вечера до позднего утра раздавались пение невольниц, звон кубков, говор, смех, пьяный лепет пирующих. Но и это в конце концов наскучило византийскому Нерону…
Ингерина потеряла уже для него прелесть новизны, желания не волновали владыку Византии, а вместе с тем в нем пробуждалась жажда новых сильных ощущений, без которых пресыщенному деспоту и сама жизнь была не жизнь.
Он вспомнил, что давно уже не был на ипподроме. Не бывать на ипподроме, забыть о ристалищах, не знать, кто теперь побеждает, Голубые или Зеленые… это – ужас, это – позор, это… это – уже явная опасность династии и опасность самого близкого будущего. Что скажет народ, так долго не видавший своего императора? Он отвыкнет от него, забудет, а тут долго ли и до открытого возмущения?.. Такие примеры бывали не раз. Кругом враги, они всегда готовы воспользоваться любой оплошностью своего повелителя. Нет, скорее на ристалище. Но кто теперь в фаворе у византийцев? Голубые или Зеленые?
Михаил с грустью сознался сам себе, что он этого не знает. Он даже забыл, какая партия – дворцовая. У кого спросить? У Фотия. Нет, нет. С тех пор как этот не так еще давно блестящий царедворец стал против своей воли монахом, он изменился до неузнаваемости. Он углубился во внешнюю политику, в церковные дела, воюет там с латинянами, спорит с ними до слез, до обморока, и нет ему никакого дела ни до Голубых, ни до Зеленых, ни до светских удовольствий, которые так любят византийцы.
Да и страшно подступиться к нему. Михаил не на шутку побаивался патриарха, имевшего огромное нравственное влияние на народ. Он всегда такой холодный, суровый, строгий… Кого же спросить? Да! Вот этого молодца, которого он заметил на последнем пиру… Михаил был обрадован этой новой мыслью. Теперь он знал, кто выведет его из неловкого, по его мнению, положения, в которое его поставило увлечение Ингериной. На последнем пиру он случайно заметил совсем нового человека. Он не принадлежал к царедворцам, держался в стороне от них, но вместе с тем был полон необъяснимого в его положении достоинства. Он мог рассказать Михаилу об интересовавших его предметах, и притом с ним можно говорить более откровенно, не сдерживаясь особенно, потому что это было новое, во дворце мало еще кому известное лицо, и в случае чего-либо неприятного его можно будет легко, без всякого шума, убрать куда-нибудь подальше, и никто не заметит отсутствия нового человека.
Император, сразу пришедший от этой мысли в хорошее расположение духа, громко захлопал в ладоши. На зов его явился протостратор.
– Что изволишь повелеть, несравненный? – вкрадчиво проговорил он, склоняясь в три погибели перед своим владыкой.
– Э… э… ты?.. да… позови-ка мне… как его… Тут новый молодой, высокий такой, я его видел.
– Ты говоришь о македонянине Василии, великий?
– О нем… может быть… не знаю, как его… Позови македонянина.
– Сейчас он явится пред твои ясные очи. – И протостратор исчез из императорского покоя.
Успокоившийся Михаил задремал в ожидании. Подремать ему пришлось недолго, протостратор очень скоро снова появился перед ним, ведя молодого человека с загорелым, мужественным лицом и открытым взглядом.
Заснувший было император очнулся и устремил на вошедшего свои помутневшие от головной боли после попойки глаза.
– Э… ведь ты – Василий? – промычал он.
– Да, несравненный!
– Я знаю… видишь, я все знаю. Македонянин?
– Македония – моя родина!
– Знаю… от меня ничего не укроется… я все знаю…
– Всему миру известна твоя проницательность, несравненный… Все народы удивляются ей, а я, теперь испытавший это на себе, могу сказать: они правы, нет более проницательного, всеведущего человека на земле, чем Михаил Порфирогенет – повелитель Византии. Он читает сердца людей и их мысли, как открытый свиток.
Михаилу очень понравилась эта речь. Он всегда был склонен к лести, и, чем беззастенчивее была лесть, тем более она была ему приятна. Поэтому македонянин произвел на него очень приятное впечатление.
– Я, знаешь, хочу говорить с тобой о делах… о важных делах… Никто не должен слышать. Оставь нас! – кивнул император протостратору. Тот моментально исчез с поклоном. Михаил и Василий остались с глазу на глаз.
Напрасно, однако, повелитель Византии считал себя проницательным. Напрасно он верил в этом отношении льстецам… Если бы он мог на миг приподнять завесу будущего и заглянуть в него, он принял бы все меры, чтобы этот человек, теперь смиренный и почти что приниженный, с таким подобострастным вниманием ожидающий, что скажет ему повелитель, был бы как можно скорее уничтожен, стерт с лица земли…
Увы! Даже мудрецы не могут проникнуть в тайны будущего. Михаилу недоступен был истинный смысл совершающихся перед ним событий, а о том, чтобы проникнуть в будущее, не могло быть и речи.
Македонянин стоял перед своим повелителем. С тех пор как они остались одни, Василий изменился. Он прямо и смело смотрел в глаза Михаилу, смущая его этим своим до дерзости вызывающим взглядом. Император некоторое время подыскивал слова для начала разговора.
– Э… знаешь ли? Я все знаю, все… Но ты был в народе?
– Был.
– Что там говорят?
– Прославляют твое имя, несравненный!
– Знаю… А что говорят об ипподроме?
– Жалуются, что забыл его. Ведь давно уже не было ристалищ.
– Так, так… и это я знаю. Ты видишь, мне все известно. Но что же делать! Мы были во благо народа заняты важными делами…
Чуть заметная улыбка скользнула при этом возгласе по губам Василия. Михаил заметил это.
– Ты смеешься, несчастный? – воскликнул он. – Над кем? Может быть, надо мной?
Он даже приподнялся со своего золотого кресла, ожидая ответа.
Участь македонянина висела на волоске. Однако он быстро нашелся.
– Прости, несравненный, – спокойно заговорил Василий, – прости мне это невольное мое преступление, но я знаю, твоя проницательность уже подсказали, что эта моя невольная улыбка относилась вовсе не к тебе.
– Я знаю!.. Я все знаю, но я требую, чтобы мне говорили правду, одну правду!
– Мое сердце открыто пред тобой. Моя улыбка относилась…
– К кому?
– К тем безумным, которые уверяли, что ты забыл ипподром ради восторгов любви. Разве не безумны те, кто мог хотя бы на миг один предположить это?
Лицо Михаила прояснилось. Гроза над головой македонянина пронеслась, не разразившись.
– Так, так, – закивал головой Михаил, – я верю тебе, ты говоришь правду… Но кто были эти безумцы? Назови мне их!
– Прости, несравненный, я – человек новый и мало кого знаю по именам.
– Хорошо, когда узнаешь, приходи и скажи мне, прямо скажи! Я все знаю, но требую правды, да, вообще, ты приходи прямо ко мне. Хочешь, я прикажу назначить тебя моим протовестиаром? Ты мне очень нравишься! Или нет, подождем, зачем возбуждать лишнюю зависть? А ты скажи потом имена безумцев, осмелившихся так думать обо мне.
Македонянин низко поклонился императору.
«Если мне кого-нибудь нужно будет устранить со своей дороги, я назову тебе его имя!» – подумал он.
– Теперь скажи, народ очень скучает о ристалищах? – снова заговорил Михаил.
– Он ждет их с нетерпением, как твоей великой милости.
– И народ получит ее!
– Тогда он будет счастлив, как в тот день, когда после дождя и бурь из-за туч появляется солнце на небе.
– Ты так думаешь? Разве народ так уж любит ристалища?
– Он любит солнце…
– Какое?
– Его освещающее, оживляющее, ободряющее.
– Что ты говоришь? Что за солнце?
– Ты, несравненный! Кто же, кроме тебя, может быть для Византии солнцем?
Эта новая лесть окончательно расположила Михаила к македонянину.
– Так, так, ты хорошо говоришь, я очень люблю правду, – закивал он головой. – Но скажи мне, ты это должен знать, за кого народ? Мы и все наши предки всегда были за Зеленых. Это – хороший, яркий цвет, мы любим его, но разве есть вкус у низменной черни?
– Ты справедлив, как всегда, несравненный! Ведь победы Зеленых знаменуют собой урожай.
– Так, так! Хлеб – это богатство страны, но чернь не понимает этого. Она за Голубых?
– Не думаю… Теперь так мало мореходов в Византии.
– Тогда примут ли Голубые состязание?
– Они никогда не отказывались.
– Так вот, ты все это узнай и мне сообщи. Но ристалища, во всяком случае, будут, я извещу об этом сегодня же протоскафория и великого эпарха, пусть они будут наготове к моему выходу, а ты теперь иди, узнай все и сообщи мне. Вот тебе мой перстень, с ним и эпарх, и даже сам великий логофет окажут тебе помощь… иди… А мы, отдохнув немного, будем заниматься государственными делами.
Василий, преклонив колени, поцеловал протянутую ему в знак особой милости руку и быстро скрылся.
15. Голубые и зеленые
Василий вышел из покоев императора окончательно переродившимся. Еще так недавно, всего только за час до этой беседы, никто во дворце не счел бы для себя нужным удостоить его взглядом, не говоря уже о том, чтобы обратить на него внимание, а вот теперь со всех сторон неслись к нему заискивающие улыбки, ему кланялись; что там протостратор, даже сам куропалат поспешил к нему навстречу и первый заговорил с ним.
– Что слышно, мой друг? – вкрадчиво спросил он его.
– О чем? – с надменностью ответил вопросом на вопрос македонянин. Он прекрасно понимал, что значат и чего стоят все эти заискивания, и невольно увлекся желанием отплатить за то унижение, которое еще недавно ему приходилось выносить от этих подобострастно склоняющихся перед ним людей.
– У нашего несравненного императора, – смутился придворный.
– А? Ты говоришь про это? Прости меня, я имею некоторое поручение от Михаила и пока должен его держать в тайне. Ты понимаешь, что это необходимо.
– Да, да… Но, может быть, одно слово…
– Не могу ничего… спешу… прощай!
Голова македонянина закружилась. Мысли, одна смелее другой, волновали его. «Удача! Несомненная удача, – шептал он, – я верю в себя, я буду близок к этому, потерявшему облик человеческий, существу. Недаром я пожертвовал ему Ингерину! Я пожертвую всем ради власти. Может быть, завтра я буду великим логофетом, а там кто знает?..» Даже дыхание на миг остановилось в груди Василия, когда эта мысль промелькнула в его голове. «Что же, были же ведь примеры! Сам великий Юстин».
Громкий оклик прервал его размышления.
Василий остановился и оглянулся. Позади него стоял царедворец средних лет. В одежде его, широкой и богато украшенной, преобладал зеленый цвет. Это был цвет одной их двух наиболее сильных партий константинопольского ристалища.
Конные ристалища, известные еще в Древнем Риме, особенно развились в Константинополе со времени императрицы Феодоры, жены Юстиниана, сумевшей придать им политическое значение.
Вначале появились четыре партии, разделявшиеся по цвету своих одеяний: были Красные, Белые, Голубые, Зеленые.
Красные олицетворяли собой силы солнца и вообще огня, Белые – зиму и ее влияние на землю. Эти две партии не пользовались никаким значением среди константинопольцев.
Нельзя сказать того о Зеленых и Голубых. Первые олицетворяли собой высшую власть, императорский двор, вторые – народ, море…
Эти партии постоянно боролись не только в цирке, но и в жизни. Народ видел в Голубых воплощение самого себя и всегда стоял за них.
При Феодоре эта вражда достигла крайних пределов и едва не закончилась народным восстанием, успокоило которое только необыкновенное присутствие духа императрицы.
Состязание партий обыкновенно происходило на ипподроме.
Ипподром состоял из продолговатой, выровненной арены, одной стороной примыкавший к склону холма, на котором были устроены места для зрителей. С противоположной стороны была искусственная терраса, с местами для зрителей, изгибавшаяся в виде полукружия. Возницы получали обыкновенно при состязаниях места по жребию, и в константинопольском цирке допускалось на ристалища неограниченное количество их.
При установке колесниц всегда соблюдалось следующее правило. Перед каждым стойлом протягивалась веревка. Лишь только давался сигнал к началу ристалища, веревки перед самыми дальними стойлами одновременно опускались. Когда выехавшие из них колесницы достигали следующих ближайших стойл, отворялись и эти, и так до тех пор, пока все колесницы не выстраивались в одну прямую линию около заранее помеченного пункта.
После этого начиналось самое ристалище.
Колесницы во весь опор мчались вдоль ристалища, сперва мимо его правой террасы, достигнув заключающего полукружия, поворачивали и продолжали путь вдоль левой террасы. Место поворота обозначалось особым столбом – кампером, от которого шел барьер, ограниченный на другом конце величественной статуей Гипподамии.
Длина арены была в тысячу двести футов, а ширина – в сто.
Начало ристалищ возвещалось поднятием в воздух бронзового орла, а конец их – спуском на землю золотого дельфина.
На ристалища собирался весь Константинополь от мала до велика. Приходили даже из окрестностей. Являлись сам император, его двор, и только здесь чаще всего чернь могла видеть своих повелителей.
Но чернь не стеснялась во время состязаний присутствия императора. Она стояла всегда за своих любимцев – Голубых, и очень часто императоры должны были вступать в спор на состязаниях с народом.
Красные и Белые никогда не привлекали к себе особого внимания. У них были худшие кони, менее искусные возницы, и если они выступали, то обыкновенно только для начала состязания…
Зато борьба Голубых и Зеленых всегда приковывала к себе внимание зрителей. На тех или других ставились огромные деньги. Чернь отдавала в азарте свои последние гроши, рискуя остаться в тот же день без необходимого пропитания. Победа той или другой партии встречалась бесконечными криками восторга с одной стороны, проклятьями и угрозами – с другой. Борьба с ипподрома нередко переходила на улицы Византии и заканчивалась подчас кровопролитием.
По своему политическому значению Голубые и Зеленые были так могущественны, что даже нередко возводили на престол императоров.
16. Василий и Марциан
В разговаривавшем с ним придворном македонянин узнал одного из влиятельных куртизанов, пользовавшихся большою благосклонностью не только самого Порфирогенета, но и его дяди Вардаса.
Еще сегодня утром этот самый придворный не ответил даже кивком головы на почтительный поклон македонянина, а теперь, после того как Василий имел продолжительную беседу с глазу на глаз с императором, он сам первый счел нужным заговорить с ним как со старым приятелем. Звали этого куртизана Марциан.
– Куда ты так спешишь, Василий? – говорил он. – Я едва мог остановить тебя. Поклон тебе от прекрасной Зои.
– Благодарю тебя, Марциан, – ответил Василий, – твое известие наполняет радостью мое бедное сердце.
– Бедное, говоришь? Не верю! Или ты все еще тоскуешь по своей Ингерине? Так зачем же ты уступил ее другому?
– Нет… нет… – быстро заговорил Василий, почуяв в этих словах ловушку. – Я не знаю, о какой Ингерине ты говоришь.
– Уж будто?
– Право…
– А та, из-за которой наш великолепный Порфирогенет столько времени забывает и нас, и пиры, и даже цирк?
– Что же она мне?
– А прошлое?
– Оно забыто!
– Так скоро?
– Ты меня удивляешь, Марциан! Долго ли, скоро ли, но великолепная Ингерина теперь для меня недосягаема. Она стоит на такой высоте, что при одном взгляде на нее может закружиться моя бедная голова.
– Ты неискренен…
– Я говорю что чувствую. Она недосягаема для меня.
– Но эта высота не из тех, до которых нельзя подняться.
– Не понимаю твоих слов.
– Ингерина может вспомнить тебя… Порфирогенет не вечен, народ и войско всегда встанут за того, кто им понравится. Примеры налицо: Анастасий был рабом, Юстин – простым солдатом.
Василий ясно видел, о чем заведена была речь. Заговоры вошли в плоть и кровь византийцев. Они не могли вести даже простой разговор, чтобы не вставить в него несколько слов о возможном для каждого достижении высшей власти. Кроме того, Марциан был придворным до мозга костей. Он, как и другие, в одном только знаке милости императора к совершенно неизвестному лицу уже видел в этом неизвестном нового фаворита, временщика и, кто знает, может быть, будущего повелителя Византии. Ведь такие примеры бывали уже не раз. Во всяком случае, не мешало заручиться расположением вероятного будущего светила, тем более что около императора было лицо, которое, по всей вероятности, не оставит своими милостями этого безвестного македонянина, выведет его в большие люди.
Этим лицом была новая фаворитка Михаила – красавица Ингерина. Кто она, откуда? Неизвестно. Знали только, что вот этот самый македонянин, который и ко двору-то попал случайно, был ей одно время очень и очень близок. Они жили вместе, всюду являлись вдвоем, хотя и не были женаты. Потом она обратила на себя внимание императора Михаила… Злые языки поговаривали, что это устроил сам Василий. Он даже помог сближению своей Ингерины с Порфирогенетом. Никто ничего, благодаря существовавшей легкости нравов, не видел в этом дурного, и, напротив того, опытные царедворцы считали такой поступок македонянина весьма тонким выходом, который в конце концов должен был привести его к могуществу и власти, а может быть, и к императорской короне.
Все это прекрасно понимал Василий, но на первых порах, вступив в разговор с Марцианом, он решил держать себя по возможности скромно и даже не подавать вида, что питает какие-либо надежды на будущее.
– Перестанем говорить об этом, благородный Марциан, – тихо сказал он. – Мне ли, безвестному, думать – о чем? – о власти! Нет, я доволен тем, что имею, хочу остаться таким, каков я теперь. Больше мне ничего не надо.
– Ого! Ты скромен!
– Что еще поручила тебе передать несравненная Зоя?
– Да больше ничего. Ведь ты знаешь, эта красивая славянка стала теперь приближенной Ингерины.
– Опять Ингерина?
– А что же? Ну, не буду, перестань сердиться! Ты спешишь?
– Не особенно…
– Так пойдем со мной. У нас в темнице Демонодоры случилась беда: оттуда убежал один из заключенных там варягов. Уже посланы во все стороны гвардейцы, чтобы отыскать его.
Василия нисколько не интересовал этот беглец, но из вежливости он все-таки не замедлил спросить Марциана:
– Что же, этот варяг – знатное лицо?
– Нет, не то. Он ровно ничего не стоит, как и все они, вместе взятые, эти варвары. Но дело в том, что тут вмешалась любовь.
– Неужели?
– Разве ты не знаешь? Впрочем, да! Ты недавно при дворце. Дело в том, что этот жалкий варяг пришелся очень по сердцу Склирене. Ты, наверное, слыхал про нее – это приятельница Зои. Что только она нашла в нем хорошего? Грязный, дикий варвар и больше ничего… Впрочем, о вкусах не спорят. Наши матроны капризны… Ну, понравился так понравился, каждый волен выбирать себе игрушку по своему вкусу. Если это позволено и доступно даже детям, так отчего же не может быть доступно и для наших взрослых красавиц? Только, представь себе, этот варвар – глаза у него, кажется, были не выколоты – осмелился пренебречь несравненной Склиреной.
– Он отверг ее?
– В том-то и дело! Вот позор!.. Ничего такого не слыхано было с тех пор, как Визант, сын Посейдона, положил первый камень в основание этого города! Как ты считаешь?
– Ужасно!
– Я тоже так думаю!
Разговаривая таким образом, Василий и Марциан уже покинули дворец и шли по улицам Константинополя. Был жаркий день. Константинополь казался вымершим. Все попрятались в тени домов.
– Куда же мы идем? – спросил Василий.
– Погоди, ты это скоро узнаешь. Но я продолжаю о варяге… как его звали-то? Да! Изок! Какое варварское имя! Язык можно сломать. Посуди сам, разве могла перенести подобный позор гордая Склирена?
– Конечно же нет. Что этот Изок, как ты его назвал, и что – она!
– Очень рад, если ты держишься моего мнения. Склирена приказала бросить его в темницу Демонодоры, надеясь, что там он смирится. Ведь с этими дикими зверями делать более нечего… Его, конечно, немедленно бросили.
– И что же он? Смирился?
– Вовсе нет! Говорю, что это – дикий зверь. Он рвался, метался, отказывался от пищи и в конце концов нашел возможность убежать.
– Его поймают!
– Нет сомнения. Только будет ли милостива к нему Склирена? Но хватит об этом варяге. Что слышно у императора?
– О чем?
– Скоро он кончит свое затворничество?
– Не знаю я…
– Опять неискренность, Василий, и с кем же? С твоим искренним другом!
– Но откуда я могу знать?
– Всей Византии уже известно, что ты только что вышел от порфирогенета, с которым беседовал о чем-то с глазу на глаз. Ведь правда?
– Да, это было!
– Так я и прошу тебя, скажи, скоро ли ристалище?
– Не знаю…
– Опять «не знаю». Ты смеешься.
– Разве могут быть мне известны мысли великолепного Михаила?
– Ну, да, конечно! Это только он один знает, «все знает». Перестань скрытничать, скажи!
– Император не назначил еще дня.
– Но, может быть, он говорил, что скоро.
– Вероятно!
– Это – радостная весть! Пора, давно пора! Народ скучает, и долго ли до греха. Наша чернь не должна знать скуки, иначе она сразу может превратиться в очень опасного зверя. Пример великого Юстиниана налицо… Итак, император решил, что пойдет на ристалище. И мы скучаем. Признаться, я обезденежил и не прочь взять заклад. На кого ты ставишь на будущем ристалище?
– Ни на кого!
– Вот как?! Ты не только скрытен, но и скуп. Однако чьи это носилки?
Марциан заметил впереди чьи-то носилки, на которых видна была женская фигура. Их поддерживали четверо рабов-эфиопов, рядом шли невольники с зонтами и опахалами.
– Кто это может быть? – размышлял вслух Марциан. – Такое время, все отдыхают! Ба! Да ведь это – Зоя… Она, она! Пойдем скорее, догоним ее. Кстати, ты поблагодаришь ее за внимание и спросишь об… Ингерине. Идем же!
17. Матрона Зоя
Они быстро догнали носилки. Марциан оказался прав: в них, действительно, была Зоя. Василий узнал ее с первого взгляда. Это была уже не первой молодости, но замечательно сохранившаяся матрона. Тип ее был не южный. Марциан уже сказал, что Зоя была славянка по происхождению. Черты ее лица были несколько крупны, но очень гармоничны. Фигура ее была статная, мощная. Одевалась она со всей возможной по тому времени роскошью.
На поклоны Марциана и Василия она ответила легким наклоном головы, при этом взгляд ее, скользнув по первому, несколько дольше задержался на македонянине.
– Великолепная Зоя, – вскричал Марциан, – сегодня для нас обоих счастливый, как никогда в жизни, день!
– Почему? – лениво спросила матрона.
– Ты спрашиваешь?
– Откуда же я могу знать, что сделало вас счастливыми!
– А эта встреча? Разве могли мы, смели ли даже думать, что, появившись в такое глухое время, мы здесь встретим нашу великолепную, нашу несравненную Зою? О, я уверен, что даже древний Пизистрат – в зените своего счастья.
– Льстец! – перебила его, улыбаясь, матрона. – Перестань. Твой язык в разладе с твоей головой. Бери пример со своего товарища, он молчит в то время, когда ты сыплешь словами.
– Каждый выражает восторг по-своему. Я уверен, что у этого почтенного македонянина от восхищения прилип язык к гортани.
Зоя засмеялась.
– Он правду говорит, Василий? – обратилась она к угрюмо молчавшему македонянину.
– Он прав, великолепная, – серьезно отвечал тот, – но на моей угрюмой скалистой родине и в самом деле не привыкли выражать волнующие душу чувства словами… Для этого необходимы дела.
– Я понимаю тебя, Василий. Но вы не сказали, куда идете?
– Он идет со мной, – отвечал Марциан, кивая на македонянина, – а я иду сообщить поскорее моим Зеленым радостную весть: скоро ристалище.
– Вот как! В самом деле, прекрасная весть. Откуда ты знаешь это?
– От него!
Василий во время этого разговора отошел несколько поодаль и стоял с смиренным видом, потупив в землю глаза. Он скорее почувствовал, чем увидел, обращенный к нему полный удивления взгляд Зои. Матрона, очевидно, не была осведомлена еще о происшествиях дня. Марциан сделал ей едва заметный знак, из которого она поняла, что в императорских покоях случилось нечто такое, что в самом недалеком будущем обещает Византии нового временщика.
– А Вардас? – чуть не шепотом спросила она Марциана.
Тот пожал плечами:
– Что же – Вардас? Он стар и надоел, вместе со своим Фотием, Порфирогенету.
– Кто же за него при дворе?
– Ингерина.
– Вот как! Я и не знала… сожалею!
– Я поправил эту беду, великолепная.
– Как?
– Передав ему от тебя поклон и сообщив, что ты близка с Ингериной.
– Благодарю!
– За что? Мы должны помогать друг другу.
– С каких это пор? – оправившись от удивления окончательно, насмешливо спросила Зоя. – Разве ты меняешь свой цвет?
– Нет! Я был и буду Зеленым.
– А я была и буду Голубой!
– Ну, это для ипподрома!
– Что в ипподроме, то и в жизни… А он за кого?
– Не знаю пока! Он скрытен и скуп, но, может быть, последнее – от бедности.
– Теперь его кошелек скоро будет битком набит золотыми солидами. Однако мы долго оставляем его одного. Подойди же сюда, благородный Василий!
Василий, слух которого был с малых лет изощрен до тонкости, слышал весь этот разговор, как ни тихо вели его собеседники. В душе он очень был рад ему. Хитрый и сообразительный македонянин прекрасно понимал, что все эти таинственные переговоры и сообщения знаменуют собой его несомненный успех. Как крысы покидают корабль пред его близким крушением, так точно они стадами являются на судно, снаряжаемое в далекий путь, ибо ожидают, что на этом корабле собрана будет масса всевозможных запасов, которыми можно вдоволь поживиться. Точно так же и в роскошной Византии ее пышные царедворцы всегда покидали того, на кого падала хотя бы тень немилости императора, и тут же начинали курить фимиам всякому, сумевшему привлечь к себе внимание правителя. Македонянин был простого происхождения. Детство, юность, молодость он провел на приволье своей родины. Только двадцати пяти лет от роду появился он в этом великолепном городе. Поэтому он не совсем еще был опошлен придворной жизнью, хотя природный ум ясно рисовал ему общую картину положения дел. Василий прекрасно знал цену этим заискиваниям, а потому и не особенно льстился на них.
Но внимание Зои было ему дорого.
Эта матрона очень близка ко двору. Марциан только что сказал, что она приближена к Ингерине. Если это так, то через нее Василий мог знать все о дорогой ему женщине, которой он пожертвовал ради удовлетворения своего честолюбия. Может быть, он даже сможет хоть изредка видеться с ней. После это устроится само собой, если ему только удастся создать себе прочное положение около порфирогенета, но пока не мешает запастись расположением этой Зои.
Кто была Зоя? Марциан сказал, что славянка. Да это было и видно при одном только взгляде на нее. В Византии говорили, что она сперва была рабой и куплена уже умершим теперь патрицием Романом на рынке невольников. Роман был стар, развратен, пресыщен жизнью, но Зоя так умело повела с ним себя, что успела окончательно овладеть стариком. Ради нее Роман позабыл все на свете. Он был увлечен молоденькой славянкой настолько, что решил даже жениться на ней и сделать ее полной госпожой в своем доме. Однако он скоро умер, оставив Зою своей наследницей. Та недолго горевала о старике и вышла замуж за фаворита императрицы Феодоры, вдовы покойного Феофана и матери уже царствовавшего тогда малютки Михаила Порфирогенета. Благодаря этому она попала ко двору и держала себя так удачно, что, когда возмужавший Михаил заключил в монастырь свою энергичную мать, она сумела остаться на высоте, а не пала вместе с Феодорой. С тех пор она постоянно была при дворе, хотя и второй ее муж скоро умер. Злые языки Византии поговаривали, что всем своим положением она, безусловно, обязана Вардасу, дяде Михаила Порфирогенета, ставшему еще при жизни второго мужа Зои ее неизменным покровителем. Теперь Вардас был болен. Зоя знала, что, если он умрет, порушится и ее могущество. Она не показывала виду, но в душе сильно беспокоилась за свое будущее. Вот почему она и обратила внимание на македонянина, предчувствуя в нем так же, как и Марциан, новое яркое светило византийского двора.
– Я вижу, ты очень скромен, – заговорила она, – неужели все мужи твоей родины похожи на тебя?
– Не знаю, что и сказать тебе, великолепная? – ответил, подходя, Василий. – Действительно, у нас в Македонии говорят, что скромность – лучшее украшение мужей.
Зоя улыбнулась.
– Что хорошо в Македонии, то никуда не годится в Константинополе. Но вот что, хотя Марциан и сказал мне, что оба вы идете сообщить вашим друзьям радостную весть о начале ристалищ, я вижу – вы все-таки не особенно спешите. Если это так, пойдемте со мной, я отправляюсь к Склирене и тебе, Василий, советую заслужить ее расположение… Идем!
– К венероподобной Склирене! – вскричал Марциан. – О, если бы там меня ждала сама смерть, я готов был бы и с нею встретиться в покоях Склирены.
– Прекрасно! Ты согласен, а ты, Василий?
– Я тоже готов последовать за тобой, несравненная.
– Тогда идем, Склирена заждалась меня.
– Она утешилась? – спросил Марциан. – Радостью или горем блещут ее чудные очи?
– Разве может утешиться женщина в положении Склирены? Я не узнаю тебя, Марциан!
– Прости, несравненная! Но женское горе – что весенняя гроза. Соберутся тучи, прогремит гром, сверкнет молния, а затем снова все ясно и светло, снова светит радостное солнце. Но что там за шум?
Действительно, из одного из переулков доносились бряцание оружия, громкие голоса, хохот и отчаянные крики о помощи.
Крики эти были как громки, что Зоя испугалась.
Однако опасности не было. Из-за поворота дома показалась толпа вооруженных солдат. Среди них виден был связанный крепко-накрепко веревками какой-то человек, для которого императорские гвардейцы не жалели пинков и самых отборных ругательств.
Несколько в стороне от солдат, сбоку, шел человек в богатой одежде таких же цветов, какие были и на Марциане. Двое ближних к нему солдат скорее тащили, чем вели молоденькую девушку.
– Ого, – воскликнул Марциан, увидав эту группу, – мы принесем несравненной Склирене приятную весть, ведь это – ее варяг! Молодец Никифор!
Действительно, императорские гвардейцы вели Изока. Девушка же была – Ириной, внучкой старого Луки.
18. Мимолетное счастье
Предчувствие несчастья недаром овладело старым Лукой, когда он, повинуясь желанию внучки, с одной стороны, а с другой – влечению своего сердца, решил оказать помощь несчастному беглецу.
Да и как он мог отказать в этом Изоку? Ведь ты был ему родной по духу, по крови, по родине… ведь он был славянин.
Стар был Лука, всякая надежда когда-нибудь увидеть родину давно уже покинула его. Он здесь переменил даже веру отцов, но ничего не могло заставить его забыть родной Днепр с его беспредельными берегами. Никогда не выходил он из головы старика, который грезил, мечтал о нем… И вот теперь перед ним явился сын родной ему страны и просит о помощи.
Лука не решился ответить отказом. Он прекрасно понимал, что в случае, если погоня найдет здесь Изока, ему, жалкому рабу, придется плохо, но не за себя он боялся, а только за Ирину. В жилах девушки текла чистая славянская кровь. Старик знал, что его внучка смела, отважна, сумеет постоять за себя, не дастся в обиду; но он не рассчитал только одного – того, чему его, казалось бы, должен был научить опыт всей его жизни: Ирина была сильна и смела, но она была одна, а потому не могла бороться с целой Византией.
Решившись приютить и укрыть у себя Изока, Лука разом откинул все свои сомнения. Его решение было твердо, и оставалось только привести его в исполнение, то есть во что бы то ни стало укрыть беглеца. Но прежде чем сделать это, ему нужно было дать отдохнуть, набраться сил, а потом уже и спрятать.
Скромный ужин, поданный Ириной, был моментально уничтожен голодным Изоком. Не осталось даже крошек, которыми внучка Луки кормила обыкновенно своих любимиц – птиц. Рыбу он обглодал до костей. Первое чувство голода было утолено. Сытым себя Изок далеко еще не чувствовал, но силы все-таки несколько подкрепил.
Теперь его стало клонить в сон, но он не хотел казаться невежей и решил узнать, кто так радушно приютил его и разделил с ним более чем скромную трапезу.
– Скажи мне твое имя, старик, – заговорил Изок, стараясь преодолеть дремоту.
– Лука.
– Лука? Она сказала – ты с Днепра.
– Да!
– Но там нет таких имен!
– Ты прав, это имя я получил уже здесь.
– А как звали тебя раньше, у нас на Днепре?
– Я готов тебе сказать это. Там, у себя на родине, я носил имя Улеба.
– Улеб, Улеб! Знакомое имя! – проговорил задумчиво Изок. – У нас на Днепре до сих пор свято хранится память об одном Улебе.
– Каком?
– Старейшине полянском – он был взят в плен варягами, и с тех пор ничего не слышно о нем.
– Что же говорят об Улебе?
– Что это был один из лучших старейшин на Днепре, и боги покарали полян, отняв их у него. Но ты плачешь, старик, ты, может быть, знал Улеба.
– Знал… О Боже! Благодарю тебя!.. Юноша! Ты после стольких лет горя, тоски первый приносишь мне счастье! Ведь тот самый Улеб, о котором только что сказал ты, что он на родном Днепре не забыт, этот Улеб – я!
– Ты?
– Да, мальчик… Ты первый узнаешь это.
Изок вскочил. Сон разом отошел от него. Глаза его загорелись радостным огнем.
– О боги! Боги! Великий Перун! Ты дал мне встречу с ним! Ты, ты – Улеб? Скажи мне еще раз это!
– Да, я. Но что с тобой, я не узнаю тебя, ты переменился… как будто весь горишь…
– Да, я горю… горю от счастья. Еще прошу тебя. Эта девушка, которую ты зовешь своей внучкой, кто она?
– Как кто?
– Имя ее отца… ради богов, ради Перуна… ведь ее отец – твой сын?
Ирина, слушавшая весь этот разговор в углу хижины, теперь встала и подошла. Женским чутьем она поняла, что вот сейчас должно совершиться что-то очень важное, что произведет окончательный переворот в ее жизни.
– Скажи ему, Лука, как звали моего отца, – произнесла она. – Ты только что называл мне его имя.
Старик, однако, молчал. Он не понимал этого странного восторга, охватившего юношу.
– Скажи, Улеб, как имя ее отца? – по-прежнему настойчиво говорил Изок. – Или ты забыл?
– Нет…
– Не Всеслав ли?
– Да, Всеслав! Но откуда ты можешь это знать?
– Откуда? О боги! О Перун! Да как же мне не знать имени моего родного отца?!
– Родного отца? Что я слышу! Отца? Всеслава?
– Да, да! Всеслава, сына Улеба, полянского старейшины, увезенного в плен варягами… Если это – его дочь, – Изок показал на Ирину, – то она – моя сестра!
Вслед за этим признанием в хижине разом воцарилось мертвое молчание. Все трое стояли и в каком-то изумлении смотрели друг на друга. Первым пришел в себя старик.
– Бог христиан и вы – боги моей родины, – полным восторга и слез голосом заговорил он, – за что посылаете вы мне такое неслыханное счастье? Или для того, чтобы скрасить скрывающееся за ним новое горе? Изок – сын Всеслава, того Всеслава, которого я давно считал мертвым. Всеслав жив… О боже, боже! Ирина, что ты молчишь? Ведь это – твой брат! И как же я сразу не узнал тебя, ведь ты так похож на своего отца. Приди же, обними меня!
Чуть ли не первые счастливые минуты переживал старик с той поры, как потерял все дорогое для человека на свете: родину, свободу, жену, детей…
Радость его не знала предела. Ирина и Изок тоже сияли восторгом. Спать уже никто не ложился, до сна ли было счастливцам в эту ночь? Изок рассказал деду, что его сын, Всеслав, так полюбившийся варяжскому вождю, был взят им к себе. Сперва он был у него рабом, но потом варяг увез его в свою родную страну, где он был освобожден и стал свободным воином. Вместе с викингами бывал Всеслав в их походах, приобрел славу и честь и стал известен даже самому Рюрику, приемному сыну короля Белы. Вместе с ним он ходил войною на Ильмень, а затем, когда приильменцы призвали Рюрика княжить и владеть ими, он пошел в родную землю вместе с варяжскими дружинами. Потом, когда Аскольд и Дир ушли на Днепр, он ушел с ними и теперь живет на родной стороне и в большом почете у норманнских воинов. Еще до прихода на Ильмень он женился на норманке, и Изок родился там, в суровой Скандинавии. За отцом он пошел на его дальнюю сторону, полюбил приволье Днепра, но злая, как он до сегодня думал, судьба, привела его сюда, в Византию…
Юноша воодушевлялся, когда говорил о Днепре. Видно было, что в его жилах текла славянская кровь. Норманн по матери, он все-таки был славянин по отцу. Славянское простодушие сливалось в нем со скандинавской суровостью.
Он был силен, храбр, любил отца, князей, свой Днепр, свою вторую родину, и вот теперь, встретив этих людей, к которым его, очевидно, привела судьба, был просто сам не свой и не знал, что и подумать о таком странном стечении обстоятельств.
Он остановился на миг.
– О, говори, говори! – восклицал старик. – Я так давно не слышал родного наречья, что твои слова мне кажутся музыкой.
И Изок без умолку говорил, не уставая.
19. Горе
Поднявшееся снова солнце застало всех троих бодрствующими. Изок и Ирина говорили и говорили, их дед молчал, и только радостная улыбка свидетельствовала о том великом счастье, которое он переживал в эти мгновенья.
– Мы должны бежать, все втроем, на родимый наш Днепр, – говорил восторженно Изок.
– Да, да! Мы бежим отсюда, – вторила Ирина, – там ждет нас отец. Но как это сделать?
– Найдем возможность… Улеб, отчего ты не вернулся на родину? Ведь ты пользуешься свободой.
– Ты спрашиваешь меня об этом, дитя. Я готов тебе сказать. Когда я первое время жил здесь, я был рабом. Цепи тяготили мое тело, а потом, когда меня освободили от них, я уже чувствовал себя настолько дряхлым и слабым, что побег мне был не по силам.
– Ты был не один?
– Здесь умерла мать твоего отца. Кроме нее у меня была на руках вот она, Ирина. Не мог же я бросить их и бежать один! Да и как бежать, с кем? Варяги же, какие бывают здесь, меня не взяли, а пробраться без помощи – разве это было мыслимо?
– И ты остался?
– Да, ради жены и внучки.
– И изменил своим богам?
– Не я им изменил, а они мне. Бог же христиан помогал мне во многом. Я бывал в Его храмах, и мое сердце было Им тронуто. Я решил жить и умереть здесь, а потому и крестился. Она – тоже христианка.
– Но теперь, когда мы вернемся на родину, на наш Днепр, ты оставишь Бога христиан?
Старик печально покачал седой головой.
– Нет! – произнес он.
– Но ты должен!
– Пусть! Но что мы будем говорить об этом!
– И правда! Скажи мне лучше, как вам жилось здесь?
– Не скажу, что плохо… Я даже думаю, что во дворце мне кто-то покровительствует… Куропалат всегда добр ко мне, отдает почти все остатки с кухни императора, дарит мне одежду, и пока живем мы здесь – нас никто не трогает; мало того, никто даже не заходит сюда; мне спокойно, и в этой тишине я даже не боюсь за мою Ирину.
– Но кто этот покровитель?
– Не знаю!
День уже начался, когда счастливцы почувствовали усталость и захотели спать. Разговоры прекратились. Старик заметил это.
– Усни, Изок, и ты, Ирина! – сказал он.
– А ты?
– Я не могу.
– Тогда и мы не будем спать.
– Нет, нет! Вам, особенно тебе, Изок, необходим отдых. Ирина, ты останешься здесь, а я укажу ему место, где он будет в полной безопасности.
Сказав так, Лука увел юношу.
– Его никто не найдет, если даже придут сюда, – сказал он Ирине, возвратившись в хижину.
– О Лука, скажи мне, мы уйдем отсюда? – спросила девушка.
– Что и сказать тебе – не знаю… Кто угадает волю судьбы?
– Но мы должны уйти!
– Пусть вернется на Днепр Изок, он там найдет способ выручить нас, особенно если этого захочет Всеслав.
– Мой отец! Как сладко мне это слово!..
Лепеча так, Ирина заснула. Она не помнила, долго ли ей пришлось спать, только громкий шум, крик, бряцанье железа разбудили ее. «Что там такое? Верно, пришли за Изоком», – подумала Ирина и выбежала из хижины.
Она не ошиблась. На поляне, перед хижиной, она увидела надменного вида патриция, громко спорившего с ее дедом. Около патриция стояло двое вооруженных воинов, ожидавших приказаний своего начальника.
– Ты должен был видеть его! – кричал патриций.
– Нет, благородный господин, здесь никого не было! – смиренно отвечал Лука.
– Лжешь!
– Я никого не видал…
– Следы показывают, что варвар скрылся здесь.
– Пусть благородный господин прикажет осмотреть все кругом, и, если он найдет кого, я готов ответить жизнью!
– Твоей жизнью! Кому она нужна, собака? Ну смотри, я ухожу, мы уже все обшарили кругом, и если ты только осмелился солгать, то берегись, горе тебе!
Говоривший обвел глазами все вокруг, и взгляд его остановился в это мгновенье на вышедшей из хижины Ирине.
– Это кто? – отрывисто спросил он.
– Моя внучка, благородный господин!
Патриций так и впился глазами в девушку. Ирина смутилась под этим совершенно новым для нее взглядом, в котором так и отражалось – она инстинктом чистой неиспорченной души чувствовала это – какое-то неведомое для нее, скверное чувство.
– Внучка, ты говоришь? Подойди сюда, красавица!.. Вот цветок, который так пышно расцвел в нашем парке, и я не знал об этом. Как твое имя?
– Ирина!
– Чудное имя! Вот что, старик: я уже сказал, что тебе не верю, но что же делать! Если ты и скрыл варвара где-нибудь, то, признаю это, скрыл его очень ловко… Ты упорствуешь и не хочешь мне выдать его, так вот что: я, чтобы сломить твое упорство и заставить тебя быть искренним, эту девушку беру заложницей!
– Нет, нет, – закричал Лука, – ты не посмеешь этого!
– Отчего?
– Она – моя внучка!
– Ну так что же?
– Я не отдам тебе ее…
– Посмотрим, как ты это сделаешь. Эй, вы, взять ее!
– А старика? – спросил один из солдат.
– Оставьте эту падаль!
Ирина отчаянно отбивалась от солдат. Лука кинулся к ней на помощь. Он с ожесточением вцепился в одного из воинов, но тот, чтобы избавиться от него, ударил его мечом. С рассеченной головой покатился Лука…
Дикий крик Ирины, видевшей это злодеяние, огласил парк, но ей в ответ раздался другой крик. Это Изок, вырвав с корнем молодое деревце, кинулся на помощь сестре.
– Вот он, вот, держите! – закричал патриций, кидаясь сам в сторону и укрываясь за первым попавшимся деревом.
Изок бешеным ударом свалил с ног солдата, державшего Ирину, другой отскочил сам, но в это же мгновенье привлеченные криками другие воины из отряда появились на поляне.
После недолгой борьбы Изок был схвачен и крепко опутан веревками. Ирину пришлось тоже связать…
Поляна скоро опустела. Лука, мертвый и уже похолодевший, остался на том месте, где он упал.
20. Начало борьбы
Ирина эту ужасную сцену, так неожиданно разыгравшуюся перед ее глазами и участницей которой она стала сама, сперва не приняла даже за действительность. Ей казалось, что она видит какой-то ужасный сон, что стоит ей только сделать усилие и проснуться – все это мигом развеется, как дым от дуновенья ветра, и снова, но уже наяву, возвратятся сладкие мечты и грезы.
Но, увы, страшная действительность скоро дала себя почувствовать. Веревки резали ее тело, грубые толчки императорских гвардейцев помимо ее собственной воли заставляли ее передвигать ноги и идти вперед, а этот противный начальник солдат, лишивших ее самого дорогого на свете существа, шел рядом и шептал ей на ухо слова, смысл которых заставлял ее краснеть даже в такую минуту.
Впрочем, она плохо понимала, что говорит ей этот человек. Отдельные фразы доходили до ее слуха, поражали ее, заставляли краснеть невольно, но общий смысл все-таки ускользал. Пониманию этого ребенка-полудикаря мало была доступна витиеватая, полная фигурных оборотов речь византийца.
Она так была поражена постигшим несчастьем, что вся еще пребывала душой в страшной сцене, разыгравшейся на берегу Босфора, в том мирном уголке, где она провела всю свою жизнь.
«Как прав был Лука! – говорила сама себе Ирина. – Еще вчера он говорил мне, что в счастье скрыто горе. Явилось счастье и тотчас же затмилось горем! Неужели все так бывает на свете?»
Машинально она стала прислушиваться к тому, что говорил шедший рядом с ней византиец.
– Ты была, – шептал он ей, – среди всех цветов парка нашего императора самым роскошнейшим, самым пышным, но это было в лесной глуши, вдали от всего живого, только птицы да солнце любовались твоей красотой, но теперь, о, радуйся же, радуйся, теперь все изменится, все пойдет по-другому! Мой дом полон золота, серебра и багряниц; сотни рабов будут стремиться выполнить каждое твое желание, каждую твою прихоть; все, что на земле есть великолепного, роскошного, все будет к твоим услугам, и в моем доме ты, распустишься еще пышней, станешь еще прекраснее… И все это будет тебе за один только твой ласковый взгляд, за твою улыбку, нежное слово.
– Что тебе нужно от меня? – невольно вырвалось у расслышавшей эти слова Ирины. Она вся дрожала.
– Любви, твоей любви… – услышала она.
– К тебе? Убийце?
– Какой же я убийца? Что ты!
– А Лука…
– Так это вовсе не я… виноват вон тот гвардеец, а я тут ни при чем. Да что тебе в этом старике? Он достаточно пожил, на что ему была жизнь? Пожил на свете и умер – такой уж вечный закон природы, а как умереть – от болезни ли, от меча – не все ли равно.
– Отпусти меня!
– Конечно! Разве ты могла в этом сомневаться? Ты будешь свободна! В этом мое слово…
– Когда?
– Когда навестишь мой дом. Ты побудешь у меня немного. Поглядишь, как живут у нас в Византии, а потом, если угодно, если тебе у меня не понравится, иди… я не осмелюсь задерживать тебя.
– Тогда прикажи развязать веревки.
– Нет, прости… когда птица попадает в клетку, дверцы всегда остаются закрытыми.
– Презренный! Теперь я вижу, что ты все лжешь.
Византиец расхохотался.
– Как ты прекрасна в своем гневе! – воскликнул он. – Я поспешил бы отдать дань твоей красоте и расцеловать тебя, если бы не эти приближающиеся сюда люди, среди которых я вижу великолепную матрону Зою, моего милого Марциана и еще кого-то. Увы, эта встреча несколько мешает моим намерениям, но мой поцелуй за мной не пропадет… Я, как только мы будем дома, с излишком наверстаю все, теперь мною потерянное. Мы будем счастливы, мой цветочек! Но что это значит? Великолепная Зоя направляется в нашу сторону. О, я предчувствую, что она перехватит у меня радостную весть о поимке варвара и прежде меня принесет ее очаровательной Склирене!
Носилки Зои, действительно, остановились по ее знаку. Матрона с любопытством и изумлением глядела на связанных юношу и девушку.
– Привет тебе, несравненная Зоя, – подошел к ней начальствующий над гвардейцами патриций, – привет тебе, Марциан, и тебе…
Он низко поклонился, придав своему лицу возможно более подобострастное выражение.
Зоя внимательно посмотрела на него.
– И тебе мой привет, благородный Никифор, – ответила она, – я вижу, что сегодняшний день был для тебя удачным. Где нашел ты такую прекрасную добычу?
– Ты говоришь про девушку или про этого варвара?
– Про обоих.
– Я могу тебе сказать только про варвара. Ты видишь, он смотрит как будто во все глаза, между тем он слеп, как, впрочем, слепы все они…
– Перестань говорить загадками, я плохо понимаю тебя! Что ты хочешь сказать этими словами?
– Никифор намекает, – вмешался Марциан, – что этот варвар слеп потому, что его глаза не оценили всех прелестей венероподобной Склирены…
– Вот как! А эта девушка? Что она могла сделать? Или она осмелилась вступить в соперничество с моей несравненной Склиреной?
– О нет! Эта дикарка вместе с каким-то стариком укрыла у себя моего дикого зверя, но, благодаря мне, он был все-таки найден. Старик зачем-то нашел нужным умереть.
– Какой старик, о ком ты говоришь, Никифор? – с заметным волнением и тревогою воскликнула Зоя, даже приподнявшись на носилках.
Василий внимательно посмотрел на матрону и сразу заметил это ее волнение. «Что это может значить? – подумал он. – Зоя интересуется каким-то варваром! Не понимаю!»
– О каком старике говоришь ты? – повторила свой вопрос Зоя.
– Ах, почем я знаю! Какой-то варвар, живший в чаще парка, у самой воды. Его, кажется, я видел во дворце. Его называли Лукой.
– Он умер, ты говоришь
– Я в этом уверен, и рассуди сама, несравненная Зоя, мог ли я оставить этот цветок, – он указал на Ирину, – одиноким! Нет, тогда я считал бы сам себя самым грубым из варваров.
Он хотел еще что-то прибавить, но громкий крик перебил его. Это Изок, долго всматривающийся в Зою, вмешался и начал кричать, привлекая к себе общее внимание.
– Слушай ты, женщина! – гремел он. – Я знаю, я видел тебя и слышал, что в твоих жилах течет славянская кровь. Ведь ты сама с Днепра, это говорили мне верные люди, ты должна знать полянского старейшину Улеба.
– Улеба! – воскликнула Зоя, и смертельная бледность выступила даже сквозь покрывавшие ее щеки румяна. – Что с ним?
– Он убит… убит по приказанию вот этого человека, который говорит с тобой, как друг, а его внуков, детей его сына Всеслава – они перед тобой, – ведут на смерть, на муки, на позор. Радуйся, отступница, и да поразит тебя великий Перун своими громами!
Зоя совсем встала на носилках. Она с широко раскрытыми глазами слушала Изока. Теперь она вся бледная, с высоко вздымающейся грудью, соскочила с носилок и кинулась к юноше.
– Улеб! Ты сказал: Улеб, Всеслав? – повторяла она.
– Да… Да… Я – Изок, а это – сестра моя, Ирина, мы – дети Всеслава.
– О боги! Что же это… Никифор! Благородный Никифор!
– Что прикажешь, несравненная?
– Умоляю тебя, отдай мне твоих пленников!
– Ты просишь меня об этом? Но нет, я не могу исполнить такого желания!
– Отчего?
– Этот варвар – преступник, он должен быть возвращен в темницу Демонодоры, а эта девушка… Ну, ты, конечно, поймешь меня, если я скажу, что отпустить ее мне мешает мое сердце.
– Ты их отдашь мне! Я этого требую!
– Нет! Но прости, мне уже пора! Вперед!
По приказанию Никифора гвардейцы со своими пленниками тронулись в путь.
– Но что же мне делать? – прошептала Зоя. – Ведь я так или иначе должна спасти их…
Марциан в ответ только пожал плечами, как бы желая дать понять, что в этом случае на его помощь нечего рассчитывать.
– Прости и прощай, несравненная Зоя, – произнес Никифор, – не гневайся на меня, что я не могу исполнить твоей просьбы.
После иронически-вежливого поклона он хотел идти за солдатами, но выступивший вперед македонянин величавым жестом руки остановил его.
21. Перстень императора
– Постой, благородный Никифор, – заговорил он спокойным, но вместе с тем властным голосом, – остановись сам и прикажи остановиться твоим гвардейцам!
Никифор был изумлен этим дерзким, как ему казалось, обращением совершенно незнакомого ему человека.
– Кто ты, незнакомец? – воскликнул он. – Скажи мне сперва свое имя, чтобы я мог знать, с кем я имею дело!
– Сейчас ты это узнаешь: меня зовут Василий, а родина моя – Македония.
– А моя – Константинополь. Но довольно, дай мне дорогу, я должен спешить.
– Успеешь.
В голосе македонянина звучала уверенность. Когда он услыхал спор Зои с Никифором, приметил волнение женщины, он сразу же понял: перед его глазами происходит что-то не совсем обыкновенное. Ему очень не понравился вызывающий тон Никифора, о котором он и раньше слышал много дурного. Он тотчас принял сторону Зои и решил встать на ее защиту против этого видного, как он знал, вождя дворцовой партии Зеленых. При этом ему захотелось испытать, так ли он, на самом деле, могущественен, как показывало обращение с ним придворных, Марциана и даже самой Зои. Сверх всего ему очень хотелось сделать угодное этой важной матроне, ставшей подругой дорогой ему Ингерины. Она могла ему оказать много услуг, например, передавая вести от Ингерины к нему и обратно. Он решил действовать и смело преградил дорогу Никифору.
– Успеешь, – повторил он, спокойно глядя на него, – теперь я тебя прошу: исполни желание Зои!
Никифор даже покраснел от гнева. Он так и впился глазами в своего соперника и уже не видел тех знаков, которые ему делал Марциан. Зоя тоже с удивлением смотрела на своего неожиданного защитника. Гвардейцы, заинтересовавшиеся этой сценой, остановились и с любопытством ждали, чем все это кончится.
– Меня удивляет твоя настойчивость, – заговорил Никифор, – явился из какой-то Македонии, никому не известен, а смеешь вступать в разговоры с гражданами великой Византии! Это – дерзость, которая заслуживает того, чтобы за нее поучили! Эй, ко мне!
– Постой, – снова остановил его македонянин, – я вижу, ты очень горяч, но это я приписываю твоей молодости и ничему другому. Добро на тебя не действует, и я буду разговаривать с тобой теперь иначе.
– Благородный Василий, молю тебя, – возразила Зоя, почувствовавшая, что Василий имеет полные основания говорить так с одним из предводителей императорских телохранителей. – Умоляю тебя, прикажи ему отдать мне этих людей.
– Не беспокойся, прекрасная Зоя, – отвечал Василий, – все будет, как ты желаешь.
– Никогда! – неистово закричал Никифор.
– Ты не отпустишь этих людей?
– Нет!
– Если даже я приказываю тебе именем императора Порфирогенета?
Никифор на миг смутился.
– Чем ты можешь доказать это? – растерянно произнес он.
– Гляди! – Василий поднял в уровень с его глазами левую руку, на указательном пальце которой сверкал данный ему Михаилом именной перстень.
– Преклоняюсь перед волей несравненного и великолепного повелителя Византии, – весь как-то съежившись, проговорил Никифор. – Эй, отпустите их!
Это приказание было исполнено моментально.
– Ты довольна, прекрасная Зоя? – обратился к матроне, едва пришедшей в себя от изумления, Василий.
– Я не знаю, как и благодарить тебя, благородный македонянин!
– Не надо благодарностей… но услуга за услугу. Когда останешься с глазу на глаз с великолепной Ингериной, передай ей…
– Понимаю, что Василий по-прежнему люб…
– Тсс! Но кто отведет к тебе этих людей?
– Они пойдут сами. Дети Всеслава и внуки Улеба, обещаете ли вы без всякого сопротивления, не делая никаких попыток к бегству, последовать за мной в мой дом, где вы найдете прием, достойный вас?
– Обещаем! – в один голос отвечали Изок и Ирина.
– Тогда пойдемте! Следуйте за моими носилками. Василий, прошу тебя, проводи нас немного.
– Ты мне доставляешь только удовольствие этим своим приказанием, Зоя, – поклонился Василий. – До свиданья, Марциан… Наши пути расходятся отсюда в разные стороны.
По знаку Зои носильщики подняли ее и тронулись вперед. Изок и Ирина покорно последовали за матроной, рядом с носилками пошел Василий. Никифор проводил их злобным взглядом, Марциан же, как только носильщики отошли подальше, разразился взрывом веселого смеха.
– Кто это? – скрежеща зубами, спросил у него Никифор.
– Я сам не много знаю. Известно только, что несравненная Ингерина раньше принадлежала ему, а потом он уступил ее нашему Порфирогенету.
– Долой этого пьяницу! Я подниму на него всю гвардию. Но откуда у этого выскочки перстень императора?
– Он беседовал с ним с глазу на глаз.
– Вот как! Но как бы то ни было, я должен ему отомстить!
– Будь осторожней!
– Все равно…
– Тогда, если ты только решился, у тебя есть очень верное средство для мести.
– Какое?
– Ты не догадываешься? А Склирена? Ведь это Зоя увела Изока, и, если суметь направить в нужную сторону ревнивое чувство женщины, можно горами ворочать.
– Ты прав! Склирена сломит и Зою.
– Это было бы хорошо. Не следует забывать, что Зоя принадлежит к Голубым.
– Да, да! Пойдем же к Склирене…
– Нет, ты уж иди один. Я в этом деле нисколько не заинтересован, да притом мне нужно зайти на ипподром.
Приятели расстались.
Почти в то же время и Василий стал прощаться с Зоей.
– Еще раз благодарю тебя за услугу. Но вот еще просьба… Ты знаешь Анастаса, эпарха, он главный начальник Голубых, к которым принадлежу и я? – заговорила Зоя.
– Мне приходилось слышать о нем. Что же я должен сделать?
– Пойди к нему и расскажи о том, что я сделала. Никифор не простит мне, и я должна ждать неприятностей. Вардас болен; если бы он был здоров, я ничего не боялась бы… Исполнишь ты это?
– Я все сделаю для тебя, прекрасная Зоя, но теперь позволь мне тебя оставить. Ведь этот Никифор не простит и мне, и я должен упредить его.
– Иди, иди! И да благословит тебя Бог!
Василий, в самом деле, поспешил во дворец. Слова Зои о том, что Никифор не простит обиды, явились для него предостережением. Он понял, что в лице этого патриция нажил смертельного врага, но эта предстоящая борьба нисколько не пугала македонянина; в ней он решил испытать свои силы. В случае победы он мог быть уверенным, что счастье обернулось к нему лицом.
В покои Михаила он был допущен немедленно. Император был в состоянии полудремоты, когда вошел к нему македонянин. Порфирогенет сейчас же узнал Василия и даже обрадовался его появлению.
– А-а, это ты! – закричал он. – С вестями, какими?
Василий начал было обычное приветствие.
– Не надо… скорее! Что говорят?
– Весь народ восхваляет тебя и твою мудрость, несравненный!
– Знаю, все знаю – ты говоришь правду… А что о предстоящих ристалищах?
– В Константинополе очень много мореходов, как я это теперь узнал, и народ на стороне Голубых. Раздражать его опасно!
– Знаю. Пусть Зеленые держатся как можно скромнее! Но мною все довольны?
– Скучают по тебе, великолепный, и все с восторгом встретят твое появление на ипподроме. Но я прошу у тебя одной милости.
– Уже? Как это скучно…
– Я прошу милостиво выслушать меня.
– А-а, говори!
Василий поспешил рассказать, что произошло между Зоей и Никифором.
– Чтобы не раздражать Голубых, я счел нужным для виду принять сторону Зои и приказал Никифору отдать ей этих пленных. Потом их можно будет снова взять, но пока не кончились ристалища, Голубые не должны иметь повода к возмущению народа.
– Так, так, ты поступил хорошо. Я хвалю тебя, – с улыбкой сказал Михаил. – Можешь оставить у себя мой перстень! Я вижу – он в хороших руках.
Сердце македонянина радостно забилось: счастье было в его руках!
22. За миг от признания
Зоя, Изок и Ирина за всю дорогу не вымолвили ни одного слова. Только вступая уже под портик своих палат, матрона, обращаясь к юноше и девушке, произнесла:
– Добро пожаловать! Вы оба входите сюда не как рабы, а как дорогие гости. Здесь, под этим кровом, вы находитесь в полной безопасности, а что будет потом, это мы увидим.
Эти слова удивили Изока и Ирину как нельзя более. Что могло это значить? Ведь еще так недавно они были жалкими рабами в руках грубых солдат, а теперь эта роскошно одетая, знатная матрона вдруг и в самом деле обращается с ними, как с дорогими гостями, не обращая даже внимания на то, что они были презираемыми в Византии варварами.
К их услугам явились рабы; как Ирине, так и Изоку было отведено по особому покою, им подали лучшие яства и пития.
Только сама хозяйка не выходила к ним.
Утолив первый голод, Изок снова почувствовал, что усталость последних дней берет свое. Оставшись один, он не мог преодолеть дремоты и быстро заснул крепким, молодым сном, заставляющим забывать все на свете.
Ирина, напротив того, несмотря на все перенесенные волнения и усталость, и не думала спать. Теперь, очутившись одна, она снова пережила все случившееся, и чем больше она думала над событиями этого дня, тем все более и более разгоралась в ней ненависть ко всей Византии, и вместе с тем зарождалось желание отмщения тому грубому патрицию, которого она считала главной причиной своего плена и смерти старого деда.
Ни вмешательству знатной матроны, ни ее обращению с ними она не удивлялась. По своей наивной простоте она принимала все это как должное. Она считала себя во всем безусловно правой и думала, что вместе с ней в ее правоте должен быть уверен весь мир и всякий должен ей помочь, раз с ней случилась какая-нибудь беда.
Так прошел весь день, наступил другой, за ним третий, а Зоя все еще не показывалась своим гостям. Изок и Ирина начинали скучать.
Зоя же с умыслом не выходила к молодым славянам. Она желала дать им время оглядеться, освоиться со своим положением и вместе с тем подыскивала способы не только к их освобождению, но и к тому, чтобы дать им обоим возможность вернуться в родную страну, на Днепр.
За это время ее несколько раз навестил вождь Голубых, эпарх Анастас, пользовавшийся, за болезнью Вардаса, расположением матроны. Он сообщил ей, что македонянин Василий быстро возвышается, что его положение фаворита императора становится все прочнее и прочнее уже по одному тому, что Михаил почти не может обходиться без его совета.
О Никифоре ничего не было слышно. Зоя мало-помалу начинала успокаиваться.
Теперь она могла явиться к сиротам, которым дала приют в своем роскошном доме.
Изок и Ирина встретили ее появление громким криком радости. Наконец-то они увидели ту, которая была так добра к ним все это время. Ирина с восторгом протянула к ней руки, Изок благодарно смотрел на нее.
Зоя была растрогана этой встречей.
– Дети, вижу я, что вы благодарны мне, – говорила она, прижимая к своему сердцу Ирину и протягивая руку Изоку, – вижу это и чувствую себя счастливой. Видно, не совсем я покинута судьбой, пославшей мне вас. Счастливы ли вы?
– Благородная госпожа, – ответил за себя и за сестру Изок, – мы всем довольны здесь, в твоем доме, и, родись мы в Византии, счастливее нас не было бы в целом мире! Но подумай сама, можно ли быть счастливым вдали от родины, в позорном плену?
– Ты прав, Изок, я понимаю тебя. Но что ты скажешь, если я нашла средства доставить вам и это счастье?
– Неужели? О, благородная госпожа! Перун вознаградит тебя за эту доброту! А мы?.. Чем мы, бедные сироты, можем отплатить тебе за это?
– Вы вспомните обо мне, когда будете у себя. Поклонитесь величавому Днепру и передайте его приволью вздох моей груди. Знаете, на этих днях в Константинополе на ипподроме должно будет происходить ристалище. Когда весь народ и приближенные к императору будут на ипподроме, мои рабы выведут вас отсюда и проводят на трирему, которая и отвезет вас на родину.
– А сама ты?
– Я! Что вам до меня?
– Но ты – такая же славянка, как и мы…
– Для меня все кончено. Я должна кончить жизнь здесь. Так, верно, суждено мне при рождении. Но не будем говорить об этом… Итак, вы видите, что все благоприятствует тому, чтобы вы, дети, вернулись на родину.
– Не знаем, как и благодарить тебя, добрая госпожа!
– Расскажите мне о своей жизни… о Днепре… о вашем отце…
Завязалась мирная беседа. Изок повел речь обо всем, что делалось на родине. С нескрываемым восторгом рассказал он, как явились на Днепр норманнские витязи Аскольд и Дир, как они помогли полянам освободиться от козар и, наконец, стали сами править полянами, защищая их от набегов буйных соседей за очень умеренную дань. Большое место в этом рассказе Изока заняли и похождения его отца, Всеслава, ставшего одним из наиболее приближенных к Аскольду витязей.
– А о сестре своей не вспоминает ваш отец? – тихо спросила Зоя, перебивая рассказчика.
– Он часто мне говорил о ней.
Изок хотел еще что-то прибавить, но заменявшая дверь занавесь в это время с шумом распахнулась. Зоя даже вскрикнула от неожиданности, но тотчас же успокоилась: в стремительно вошедшем мужчине она узнала эпарха Анастаса. Он был бледен, тяжело дышал и, едва войдя в покой, тотчас же упал на сиденье.
– Зоя, Зоя! – прошептал он. – Грозит беда!
– Что с тобой, Анастас? Какая беда? Кому?
– Прежде всего им, – указала он на Изока и Ирину, – а потом, может быть, и тебе.
– Что же случилось?
– Михаил отдал приказ схватить их.
– Не может быть!
– Я знаю это из дворца… Пусть они бегут. Но поздно!.. Слышишь?
У входа раздавался топот ног, бряцанье оружия.
– Именем императора! – послышался хорошо знакомый Зое насмешливый голос Никифора.
23. Коварство
Напрасно Зоя была так спокойна относительно Склирены. Ближе, чем кому-либо другому, ей должен был бы быть известен мстительный характер подруги.
Склирена занимала в Константинополе такое же положение, как и Зоя. Она была вдова сенатора, но предпочитала свободу брачным узам, хотя в Византии того времени они были вовсе не тяжелы для знатных женщин.
К Изоку она питала чисто животную страсть, а так как ее чувства были не разделены и страсть осталась не удовлетворенною, от этого она разгорелась еще более и охватила все существо Склирены.
Когда Никифор рассказал ей о том, что Зоя отняла у него Изока (об Ирине он нашел нужным умолчать), Склирена сразу же почувствовала, как в сердце вспыхивает ненависть к подруге. Марциан был прав, когда сказал Никифору, что ревность женщины можно всегда направить по какой угодно дороге. Так и случилось с Склиреной. Она не желала знать, какие побуждения заставили Зою поступить так, и была уверена, что подруга завладела для самой себя предметом ее страсти.
Злоба ее прежде всего выразилась в том, что она изорвала в клочки драгоценную шаль, привезенную из далекой Индии, но это нисколько не успокоило ее.
– Что же делать? – воскликнула она. – Я пойду и вырву ей глаза.
– И ничем не поможешь своему горю.
– Тогда как же поступить?
– Дай ей день или два успокоиться, а потом выпроси у Порфирогенета приказ задержать и твою коварную подругу, и так интересующего тебя варвара.
– Никогда Михаил не даст мне указа о задержании Зои! Ведь Ингерина…
– Так ты и не говори императору о Зое…
– О ком же тогда?
– Пусть он прикажет схватить тех, кто будет найден в ее доме. Исполнение приказа я приму на себя, и ты понимаешь, что уж я сумею и твою вероломную подругу познакомить с тюрьмой Демонодоры.
План этот понравился Склирене. Они тотчас же начали плести интригу, но ей все не удавалось увидеться с Михаилом. Мешал этому Василий, действительно, занявший в течение этого недолгого времени место наперсника императора. Никифор Склирене указал на македонянина как на врага, но влияние Склирены было слишком незначительным, чтобы повредить новому фавориту, успевшему в глазах Михаила затмить собою всех остальных приближенных.
Но женщина всегда добивается поставленной цели. Так было и в этом случае. Склирене удалось в конце концов добиться свидания с порфирогенетом, и как раз в один из наиболее удобных для того моментов. Нерон Нового Рима находился в том состоянии, которое теперь называется похмельем. Он мог слышать слова, но смысл их не давался ему ясно. Это было самым удобным временем, чтобы выманить у него какое угодно повеление.
Склирена, войдя в императорские покои, прежде всего пала на колени пред императором и с мольбою протянула к нему руки. Тот сперва испугался, но, разглядев перед собою женщину, и притом умоляющую его, сейчас же принял напыщенный вид.
– Ты – Склирена? Видишь, я знаю даже, как тебя зовут, я все знаю, – громко сказал он. – Что хочешь ты от меня?
– Справедливости, великолепный, и кары для твоих врагов.
– Что, разве опять заговор? – не на шутку перепугался Михаил. – Кто и где?
– Твои враги везде и всюду. Я не могу назвать тебе их имена, но могу указать место, где они собираются.
– Где же?
– Я не знаю, как зовут владельца дома, где собираются твои враги, но, если ты пошлешь со мной твоих телохранителей, я проведу их, и пусть они задержат тех, кого найдут в доме.
Михаил задумался.
– Мне кажется, ты говоришь неправду, Склирена.
– Моя жизнь тебе порукой в том, что я не лгу! Но, великолепный, если бы и задержали невиновных, то ты ведь сумеешь прочесть всю правду в их сердцах и отпустишь их, щедро одарив, а меня тогда прикажи казнить. Что в том, если и невиновные, ради блага Византии, проведут несколько часов среди твоих телохранителей, а если же это – виновные, то через это будет спасено государство.
– Ты права, Склирена, и я так и поступлю. Эй, позвать ко мне сюда Никифора!
Начальник телохранителей не замедлил явиться на зов.
– Вот, мы получили известие о новом заговоре, – сказал ему Михаил. – Ты сейчас же отправишься со Склиреной в тот дом, который она тебе укажет, и схватишь…
Михаил остановился в затруднении, не зная, кого назвать.
– Того, кто там будет, – подсказала ему Склирена.
– Кто там будет, – как эхо, повторил Порфирогенет. Он хотел прибавить еще что-то, но Никифор, быстро выкликнув прощальное приветствие, скрылся за дверями.
Вслед за ним из покоев Михаила так же незаметно скрылась и Склирена. Оба они были очень довольны. Замысел их удался как нельзя лучше. Едва они ушли, Михаил окончательно забыл об отданном им приказании…
Склирена, Никифор и отряд телохранителей поспешили к палатам Зои. Никифор видел, что какая-то мужская фигура вошла в дом. Сердце его радостно забилось. Ему почему-то показалось, что вошедшим был македонянин Василий. Но он ошибся, то был эпарх Анастас.
Склирена не вошла в дом. Спрятавшись за одним из его выступов, она с замиранием сердца ждала, чем кончится ее интрига. Между тем Никифор и телохранители распоряжались в доме Зои.
– Прости, несравненная, – говорил Никифор, обращаясь к матроне, – я прихожу сюда не по своей воле.
– Что тебе надобно?
– Прежде всего вот этого варвара и эту девушку… возьмите их!
– Постой, Никифор, – попробовал остановить его Анастас.
– Я исполняю волю императора, – пожал плечами тот, – и ты на моем месте поступил бы так же. Правда?
– Воля императора священна! – смущенно пробормотал Анастас.
– Очень рад, если ты соглашаешься с этим! Крепко ли вы их связали? А! Хорошо… Ну, теперь возьмите вот и эту пару!
И Никифор со злобным смехом указал на Зою и Анастаса.
– Как! Ты ошибаешься! – воскликнули те, отступая назад в удивлении. – Нас не может касаться этот приказ.
– Не знаю. Я исполняю то, что мне приказано! Что же вы встали? – крикнул он солдатам. – Берите же их!
Анастас схватился за меч; Никифор заметил это движение.
– Напрасно, – покачал он головой, – будь благоразумен, Анастас! Ведь ты сам же сказал, что воля императора всегда священна.
– Но какая же наша вина?
– Не знаю…
– Не может быть, чтобы ты этого не знал.
– Вероятно, вам это скажут потом. Теперь же следуйте лучше за мной по доброй воле, иначе я и вас прикажу связать.
Тон, которым были сказаны эти слова, не допускал возражений. Зоя и Анастас поняли, что о сопротивлении не может быть и речи.
Дело было сделано быстро. Не прошло и часа, как Зоя, Анастас, Ирина и Изок – все вместе были заключены в мрачном тюремном подземелье…
Михаил же, увлекшись в этот вечер обычной оргией, так и не вспомнил о своем приказе. Не в интересах Никифора или Склирены было напоминать ему об этом.
24. На форуме
Наступил день, в который должны были происходить ристалища на ипподроме. С первыми лучами солнца весь люд Константинополя поднялся на ноги. Изо всех четырнадцати его округов народ спешил на форум, куда выходило самое большое количество ворот ипподрома. Вся жизнь столицы теперь сосредотачивалась здесь. В других местах город казался вымершим. Лавки были закрыты, рынки пусты. Во всем Константинополе, кроме форума, царила мертвая тишина.
Зато здесь был настоящий хаос звуков. Кричали, пели, свистели, и все это смешивалось в оглушительный гул, похожий на рев какого-то тысячеголового чудовища. Везде шел отчаянный спор о том, кто должен победить в этот день.
Больше никакие вопросы не волновали толпу.
– Зеленые, Зеленые, Зеленые! – кричали во всю мочь сотни человек в разных концах форума.
– Голубые! – отвечали им тысячи. – Мы за солнце. Оно нас греет и взращивает жатву, без которой ни Голубым, ни Зеленым делать нечего…
– Долой Красных! Что солнце, когда есть зимний снег, да здравствуют Белые!
– Да здравствует весна, да здравствует первая зелень!
– Долой весну! Хлеб снимают осенью, да здравствуют Голубые!
– Да здравствуют Красные!
– Держу заклад, что клячи Красных растянутся на первой стадии. Я – за Зеленых; у них не кони – ветер.
Такие крики разносились по всему форуму.
У Красных и Белых сторонников было немного. Они пребывали теперь не в почете у византийцев. Они даже не играли и политической роли, тогда как борьба Зеленых и Голубых имела именно такое значение, как мы это уже знаем. Зеленые у простого народа никогда не были любимцами. Видя в Голубых своих представителей, народ, в особенности чернь, поддерживал их, как олицетворение самого себя. Поэтому на Голубых была заключена масса закладов, правда мелких, тогда как на Зеленых всегда ставились крупные суммы.
В народе раздавались крики нетерпения. Казалось, что слишком долго не открывали ворота ипподрома. Все горели азартом. Только появление колесниц, направляющихся к ипподрому, несколько успокоило толпу.
Первыми показались Красные. Толпа встретила их хохотом, свистом, насмешками, хотя и кони Красных, и возницы были превосходны. Та же участь постигла и Белых.
– Клячи, клячи, а колесницы – бочки водовозов! – гудела толпа при их появлении.
Однако дальше хохота, криков и свиста толпа не шла в выражении своей неприязни к малочисленным партиям.
Белые и Красные проследовали на ипподром, не обращая на толпу ни малейшего внимания. Они так привыкли ко всему происходившему, что эти сцены не представляли для них ничего нового.
Зеленые зато встречены были громкими криками одобрения. Хотя у них в толпе было не так много сторонников, как у Голубых, все-таки они пользовались уважением. Колесницы Зеленых гордо проследовали на ипподром, но, когда они скрылись, все на форуме стали оглядываться, как будто ожидая еще кого-то.
– Где же Голубые? Отчего их нет? – послышалось со всех сторон.
– Может быть, они уже на ипподроме?
– Когда же они успели попасть туда?
– Видел ли их кто?
Оказалось, что Голубых ни накануне, ни в этот день решительно никто в Константинополе не видел.
Толпа встревожилась:
– Где же они? Может быть, их не будет…
– Они должны быть! А то они разорят половину Константинополя. Что будет тогда с нами?
Но как раз в это время отворили ворота на ипподром. Толпа забыла на время свои страхи и живой волной хлынула вперед, стараясь поскорее занять места.
В один миг ипподром весь был заполнен народом.
Толпа шумела, кричала, ревела, требуя начала ристалища, но его нельзя было начать, пока император не займет своего места.
Между тем одна только его ложа оставалась пустою.
Вся знать Византии уже была налицо.
Сенаторы, великий логофет, подчиненные ему логофеты, эпарх и префект, драгоманы, великий герцог, великий друкирий, со своими свитами каждый, заняли отдельные ложи. Среди них видны были куропалаты, провестиары и протостраторы. Великий эпарх, в кольце варягов, и протоспафарий с телохранителями императора тесным кольцом окружили убранную золотом и серебром ложу, которую должен был занять сам порфирогенет.
Но вот со всех сторон понеслись громкие, восторженные крики.
Это византийский народ приветствовал своего повелителя…
Михаила несли на носилках. Он был одет с чисто восточной роскошью. Мантия из багряницы красивыми складками окутывала его. Из-под нее видны были только пурпуровые полусапожки с перевязями. На голове Порфирогенета красовалась корона в форме пирамиды, образуемой четырьмя золотыми дугами. Она вся была усыпана жемчугом и драгоценными камеями. На том месте, где дуги сходились, вдет был золотой крест, от которого по нижнему ободку спускались сплошные нити жемчуга.
Рядом с Порфирогенетом народ увидел женщину замечательной красоты. Она не была императрица, это видно было по отсутствию на ее голове короны. Тем не менее все в Константинополе знали, кто она. Это была красавица Ингерина, новая подруга Михаила Порфирогенета.
Рядом с носилками шел македонянин Василий. Он был один около императора и его подруги, и сразу всем стало ясно, что этот, так недавно никому еще не известный, человек, теперь – новый временщик, новый вершитель судеб Византии и ее народа.
Михаил был в обычном для него состоянии похмелья и лениво поводил мутными глазами направо и налево, ожидая, когда толпа перестанет кричать и успокоится.
Но вот наконец все стихло, и император подал знак к началу ристалищ.
Первыми выступили Красные и Белые, за ними из конюшен ипподрома показались колесницы Зеленых.
Колесницы стали выравниваться.
Голубых не было…
25. Неудачное состязание
Толпа ожидала всего, но только не этого. Где Голубые? Что с ними случилось? Отчего они не вышли? С кем будут состязаться Зеленые? Неужели с этими жалкими Красными и Белыми… ведь тогда пропадет весь интерес состязания.
На мгновение толпа занялась новым вопросом, что случилось с Голубыми. Никто не мог объяснить этого, и теперь заговорило любопытство.
– Голубых, Голубых! – ревела толпа.
Напрасно, в надежде отвлечь внимание бесновавшегося народа, пущены были колесницы трех партий – на них никто не обращал внимания. Теперь уже приверженцы всех без различия партий требовали Голубых, все хотели знать, что случилось.
Как раз в это время, когда напряжение достигло высшей степени, несколько византийцев, разукрашенных голубыми цветами, перескочили барьер, отделявший арену от мест для зрителей, и знаками потребовали, чтобы толпа смолкла и дала им возможность говорить.
В этих людях все тотчас же узнали наиболее видных представителей партии Голубых, но все также были удивлены, что между ними не было их вождя Анастаса.
Разом все стихло. На ипподроме после оглушительного шума и рева наступила мертвая тишина.
– Народ константинопольский, – изо всех сил закричал один из Голубых, – ты желаешь знать, почему мы не вышли на состязание? Так это?
– Так, так, говори! – как один человек, отвечала толпа.
– Я готов тебе сказать это, но только с позволения нашего великого императора.
Михаил и сам был заинтересован, почему Голубые не явились на ристалище. Он повернул голову к говорившему и сделал утвердительный жест.
– О солнце правды, олицетворенная мудрость империи! – воскликнул Голубой, обращаясь сперва к императору, а потом и к народу. – Узнай ты и ты, народ византийский, что мы уклонились от состязания на этот раз потому, что нет между нами нашего вождя – эпарха Анастаса, который должен был руководить нами. Как мы могли явиться без него на борьбу с таким мощным соперником, как Зеленые? Он знал все, что касалось нас, он подготавливал ристалище, и теперь его нет… Пусть же простит нам народ византийский, а те, кто держал на нас заклады, беспрекословно отдадут их своим противникам, но пусть знают все, что уклонились мы от состязаний не по своей вине… Пусть всякий, кто несет из-за нас убытки, не жалуется на нас, мы ни в чем не виноваты!
– Кто же виновен? Чья вина? – заревела толпа. – Где Анастас? Где он? Он не умер, об его смерти ничего не было слышно. Говори же, где он?
Голубой на минуту смолк и взглянул в сторону Михаила.
Крики же становились все сильнее и сильнее, требования все настойчивее и настойчивее.
Наконец говоривший сделал знак рукой.
Толпа поняла, что он готов сообщить причину, и снова смолкла.
– Народ византийский! – еще громче, чем прежде, закричал он. – Вождь Голубых Анастас по приказанию императора Михаила Порфирогенета за неизвестную вину заключен в темницу Демонодоры, оттого мы и не можем принять борьбы с Зелеными.
Как громом поразила эта весть весь ипподром.
Так вот где причина, вот почему не явились Голубые! О, это – происки Зеленых, не надеявшихся на победу! Так вот кто разоряет стольких византийцев, державших против дворцовой партии. Измена! Предательство!
Несколько мгновений продолжалась тишина, но потом сразу поднялся такой гам и крик, что вот-вот, казалось, развалятся стены ипподрома от одного только вызванного им сотрясения воздуха.
– Пьяница, внук Бальбы, долой его, вон его! Анастаса! Анастаса! Смерть Зеленым! Перебить их всех! – неслось со всех сторон.
С народом, да еще на ипподроме, шутить не приходилось. Этого не позволяли себе даже императоры, безусловно любимые византийцами, к Порфирогенету же чернь была холодна: любовью народа, которому нелегко жилось при нем, он не пользовался.
– Как прав ты был, о великий! – наклонился к Михаилу Василий. – Когда приказывал не раздражать Голубых. Но около тебя недостойные слуги, осмеливающиеся не исполнять твоих приказаний.
– Я знал, все это знал, – лепетал растерявшийся Порфирогенет. – Но кто этот ослушник?
– Никифор… Он сам говорил, что бросил в тюрьму Анастаса по твоему приказанию.
– Я никогда этого не приказывал, я очень люблю Анастаса, сегодня я хотел держать на него заклад. Никифор поплатится за это. Прикажи… нет, ты слишком добр, я распоряжусь сам. Подойди сюда! – жестом позвал к себе император начальника варягов. – Я тебе приказываю сейчас же схватить Никифора, ты знаешь, телохранителя моего, и чтобы сегодня же мне принесена была его голова. Только не забудь положить ее на золотое блюдо, я терпеть не могу ничего иного. Так, Василий, ты слышал, скажи им это…
– Мне кажется, великолепный, что ты хотел освободить прежде Анастаса и поручил мне уже это передать народу?
– Да, да! Я это приказал тебе… не говори про Никифора, скажи про Анастаса.
Пока происходил этот разговор, настроение толпы приняло уже совсем другой характер. Крики и брань прекратились. Повсюду выламывали скамьи, готовясь к нападению.
Василий приказал телохранителям и варягам плотным кольцом окружить ложу Михаила, а сам, выступив вперед, протянул к толпе руки, давая этим знать, что он желает говорить.
Страсти не успели еще разгореться, жест македонянина был замечен и понят. На ипподроме все смолкло.
– Народ византийский! Великий император поручил мне сказать тебе, – не менее громко, чем представитель Голубых, заговорил Василий, – что враги, и его, и твои, помимо его ведома сделали то, о чем ты услышал из уст почтенного патриция. Император всегда любил и любит Анастаса и Голубых, он уже приказал наказать виновного и немедленно освободить невинного эпарха. По приказанию императора Голубые выйдут на борьбу с Зелеными, в этом порукою слово великого Михаила Порфирогенета. Доволен ли ты?
Толпа – это дитя. Ее впечатления сменяются с необыкновенной быстротой. Крики «Да здравствует император!» были ответом на эту речь македонянина.
Буря была предотвращена…
Михаил не остался более на ипподроме. Он был испуган и опасался за свою жизнь. Подтвердив еще раз свое приказание относительно Никифора, он распорядился унести себя во дворец.
Василий тотчас же, его именем, отдал приказание об освобождении Анастаса и Зои. Он долго ждал возвращения посланного, но не дождался и сам пошел в тюрьму.
На ипподроме между тем продолжалось состязание колесниц.
Народ отвлекся, стал держать пари на состязавшихся и даже обратил свое внимание на Красных и Белых.
На этот раз они ему показались интересными.
Но его ждал еще сюрприз.
Лишь только Голубые узнали, что отдан приказ об освобождении их вождя, они, не дожидаясь его, поспешили выйти на арену.
Крики восторга приветствовали их колесницы.
Зеленые не знали, что и делать. Теперь они очутились в положении Голубых. Их вождь Никифор был схвачен на их глазах варягами по приказанию императора, и они уже узнали, какая участь его ждет. Опечаленные, расстроенные, они провели бег так, что Голубые без всякого труда завладели лавровым венком.
Пока происходил бег колесниц, веселый и всеведущий Марциан с уверенностью рассказывал, что происшедшее не обошлось без участия Василия Македонянина.
А тот между тем напрасно искал Анастаса и Зою в дворцовой тюрьме. Их нигде не было…
26. Бегство
Накануне ристалища Никифор, даже не предчувствуя, какая участь его ждет, имел продолжительное свидание со Склиреной.
– Что нам делать теперь? – с тревогой спрашивала Склирена. – Ты знаешь ли, эта проклятая Ингерина уже несколько раз спрашивала меня о Зое!
– А Михаил – меня об Анастасе.
– Что же делать? Ведь этот проклятый македонянин не задумается сказать, где они находятся и по чьей вине попали в подземелье.
– Ты рассуждаешь верно. Будет очень жаль, если все наши хлопоты пропадут напрасно! Ведь ты еще не утешена этим варваром, насколько я знаю?
– А ты – славянской девчонкой.
– Тоже! Потому-то я и говорю, что будет очень жаль, если все наши труды пропадут даром.
– Разве они не могут умереть там?
Никифор отрицательно покачал головой.
– Ты забыла, что за них македонянин… Умереть они могут, но их тела скрыть будет нельзя…
– Однако нельзя же их выпустить.
– Соглашаюсь с тобой!
– Стало быть, у нас нет никакого выхода…
– Постой, я, кажется, напал на счастливую мысль. Но тут, Склирена, ты должна мне помочь.
– Я готова все сделать! Говори, что нужно?
– Тогда наклонись ко мне, и я на ухо скажу тебе, что я придумал…
Никифор шепотом передал Склирене свой план. Та, пока он говорил, все время одобрительно кивала головой, а когда он закончил, вскочила и принялась громко хлопать в ладоши.
– Как хорошо придумано, Никифор, как хорошо! Мы спасены.
– Спасены, если только тебе удастся сделать все, что я говорю…
– Но ты уверен, что их ждет судно?
– Да, я знаю это от тех, кто ходил нанимать мореходов.
– Все складывается в нашу пользу.
– Итак, ты будешь действовать?
– Да, завтра!
– Завтра, но только тебе не придется быть на ипподроме.
– Голова дороже ипподрома.
– Я думаю!
Они расстались очень довольные друг другом.
Между тем в подземелье, где были заключены узники, происходили другие сцены.
Анастас переносил тюрьму со стойкостью философа. Он все эти дни почти не вставал с кинутого для него пука соломы, мало говорил и к своему тяжелому положению относился довольно беззаботно. Зоя, напротив, совсем упала духом. Она не могла понять, откуда постиг ее удар, и плакала целыми днями. Ирина напрасно старалась утешить ее, слова не помогали, а, напротив, еще более увеличивали скорбь Зои. Однако она нисколько не раскаивалась в том, что приняла участие в судьбе молодых славян, хотя и знала, что это заключение было местью Никифора, но сам по себе Никифор казался ей таким незначительным, что о нем она даже думала без злобы.
Спокойнее их всех троих был Изок. Эта тюрьма не была для него новой. Он был заключен теперь не один и надеялся, что какой-нибудь счастливый случай снова выведет его отсюда.
Так шли томительные дни.
– Сегодня ристалище, – вспомнил Анастас о дне, когда он должен был выступить со своими Голубыми на ипподроме.
Ему никто не ответил. Ирину и Изока ристалище не интересовало, а Зое в эти минуты было не до того.
Она знала, что такое темница Демонодоры. Очень-очень редко кто выходил оттуда живой. Императрица Феодора, устроив это мрачное здание, выказала большую сообразительность. Заключенный туда забывался всеми и навсегда.
Все это знала Зоя, и на сердце у нее становилось все тоскливее и тоскливее…
В этот день печаль особенно одолела Зою, она не могла даже скрыть своих чувств и несколько раз начинала плакать.
Но вскоре этот день показался им всем самым счастливым в жизни, по крайней мере Зое и Анастасу.
Совсем не в урочное время дверь в подземелье отворилась, и вошел тюремщик.
– Благородная Зоя, и ты, благородный Анастас, – обратился он к ним, – прошу вас следовать за мной.
– Куда? – спросили они в один голос.
– Вы сейчас это узнаете. Идите…
– Не вернемся ли мы сюда?
– Не знаю этого. Спешите же, вас ждут!
Он вывел их из подземелья в тюремный коридор.
Там, к великому своему удивлению, Зоя и Анастас увидели ожидавшую их Склирену. Молодая вдова с криком радости кинулась на шею Зои.
– Наконец-то я увидела тебя! Милая моя, дорогая Зоя! О, если бы ты знала, как переживала я за вас! Этот негодяй Никифор…
– Постой, – отстранила ее Зоя, – скажи прежде, зачем ты пришла сюда?
– Спасти!
– От чего?
– От смерти… Этот Никифор!.. За что он так озлоблен на вас? Но некогда говорить, иначе будет поздно. Сегодня ристалище. Кто знает, что может случиться после? Бегите!
– Бежать? Куда?
– Подальше отсюда… Я слышала, Зоя, у тебя нанят корабль; воспользуйся им. Я подкупила тюремщиков, и вы уйдете отсюда свободно… Кругом никого нет, все на ипподроме. Спешите на корабль, и пусть он немедленно поднимает паруса и уходит в море.
– Я ничего не понимаю… Ты намекаешь, что нас после ристалица ждет казнь, за что?
– Разве пьяница знает, за что! Он приказывает, его приказанья исполняют… Бегите, бегите сейчас! Я принесла вам простое платье.
– Мы верим тебе. Но мы возьмем с собой и тех славян, которые заключены с нами…
– Нет, нет, их нельзя брать, их не выпустит тюремщик на волю, и из-за них он задержит и вас. Спешите же!
– А наше имущество?..
– Я позабочусь о нем… Или нет! Лучше ты, Зоя, и ты, Анастас, напишите сейчас македонянину Василию… он в большой силе… пусть он позаботится о том, что вы оставляете здесь. Вот таблица, вот стиль… пиши же, Анастас, и идем!
Тон ее был так убедителен и искренен, что ни Анастас, ни Зоя не заподозрили даже, что перед ними ложный друг.
Оба они быстро написали таблицы к Василию.
В них они объяснили, что бегут, спасая свою жизнь, и вернутся тогда, когда Михаила-пьяницы не будет на византийском престоле.
Вместе с этим они поручали все свое оставленное имущество ему на сохранение, и Зоя от себя, кроме того, просила позаботиться об Изоке и Ирине, которым в случае, если она не возвратится, отдавала все свое имущество…
Придуманная Никифором хитрость удалась.
Своим беспричинным бегством Анастас и Зоя снимали с него всякую ответственность.
Ристалище еще не начиналось, когда нанятая Зоей трирема под всеми парусами выходила в море, унося с собой двух беглецов.
Часть вторая
На берегах Днепра
1. Пророчество
Это было вскоре после страданий и смерти Иисуса Христа. Он умер, заповедав всему миру кроткую братскую любовь, оплату добром за зло, но благая весть о Его Святом учении пока хранилась и распространялась в одном только еврейском народе и едва-едва, в виде неясных, туманных слухов, достигала до более или менее отдаленных от Палестины народов Древнего мира…
Но Божественный Учитель еще до своей крестной смерти заповедал ближайшим своим ученикам разнести эту благую весть повсюду, где только есть люди.
Могли ли они забыть завет Того, за Которым последовали, оставив все земное, все земные радости, печали, горе, счастье?.. Все это, все было принесено в великую жертву служения человечеству, над которым тяготел в то время беспросветный мрак язычества.
И вот святые апостолы разошлись по всему тогдашнему миру, всюду проповедуя слово Божие, всюду разнося радостную весть кроткой братской любви, всепрощения и тихого мира в сердцах человеческих.
Одни из святых апостолов избрали для проповеди страны более близкие к Палестине, где протекала жизнь их Божественного Учителя, где Он страданиями своими искупил первый грех прародителей. Они пошли в Грецию, Рим, Африку. Там уже сам языческий мир, со своим особым складом мысли, приготовил благодатную почву для восприятия нового учения. Предстояла, правда, борьба, тяжелая борьба с язычеством, но апостолы и их ученики были уверены, что в этой борьбе они победят, рассеяв своим убежденным словом тяготевший целые века над человечеством мрак. И они пошли туда, смелые, готовые на все, даже на самые страшные мучения, ради исполнения своего святого долга.
Другие же из них для себя избрали совсем иной путь.
Они пошли в неведомые страны, в земли, на которые даже гордый Рим не находил нужным обращать свое внимание.
Среди них был и святой апостол Андрей, один из первых учеников Иоанна Крестителя, а потому и назван Протоклетосом, то есть Первозванным.
Он вместе с братом своим пошел принести благую весть о спасении совершенно «варварским» народам, обитавшим на южных, восточных и северо-восточных берегах Черного моря. Самой плохой славой пользовались эти народы в Древнем мире. Чем-то нечеловеческим отзывалось в представлении даже образованнейших народов того времени – римлян и греков – понятие «скиф». Целые легенды сложены были о них. Говорили, что скифы не обыкновенные люди, а ужасные существа, имевшие наполовину туловище человека, наполовину – лошади… Они были рассеяны на огромном пространстве, жили отдельными племенами, не зная никаких других занятий, кроме охоты. Между ними не было никакой связи, хотя они все говорили на одном языке и молились одним богам. Каждый, даже самый маленький род управлялся по-своему. Твердых начал власти у них не было и в помине. Вечно они вели между собой ожесточенные войны, и никогда между ними не существовало дружбы и согласия.
К этим-то ужасным скифам и понес благую весть первозванный святой апостол.
Постепенно он обошел все побережье Черного моря, наконец прибыл в таинственную, пустынную Скифию.
Напрасно искал святой апостол людей, которым бы он мог проповедовать благую весть. Их было слишком мало на этих беспредельных пространствах, сплошь покрытых или девственными лесами, или заросшими гигантской травой степями. Однако апостол не был смущен этим. Он смело шел вперед по неведомому дикому пути, пока не достиг устья великой реки – Днепра. Совершенно верное предположение, что по берегам этой реки должны были жить люди, заставило апостола скорее идти к ее верховьям. Чудная природа страны также влекла его в эту неведомую даль, где он должен был впервые возвестить ее дикими обитателям слова любви и мира. Эта природа не была так пышна, как на его родине – в Галилее. Солнце здесь не палило землю лучами своими, напротив, оно только ласково обогревало ее, как бы возвращая к жизни после всемертвящего сна долгой северной зимы. Трава степей, зеленая листва дубрав не были слишком ярки, но в них преобладал нежный оттенок. Сам климат был нежен, воздух не дышал зноем. Ветерок в своих легких порывах то и дело приносил отрадную прохладу.
Да и обитатели этой неведомой никому дотоле страны были совсем другие. Рослые, статные, дышащие физической мощью, с русыми длинными волосами, с открытым, доверчивым взглядом голубых, как само небо над ними, глаз, – как резко отличались они от соотечественников апостола Андрея, грубых, алчных до наживы, фанатичных до мозга костей израильтян, от хитрых, вероломных, всегда готовых на любое предательство греков, от гордых, презирающих все на свете, уверенных в своей мировой силе римлян, уже близких тогда к падению!..
Это был новый, свежий народ, в котором на много-много тысячелетий хранился запас великих душевных сил. Этого народа-младенца пока еще не коснулось разложение. Он жил как дитя, но в этом дитяти свежи и без гнили таились семена правды и любви. Этот народ не легко отдавался первому своему впечатлению. Он не был способен на эффектное мученичество, но был готов тихо, незаметно умереть за то, что считал правым… Он жил по заветам своей страны, был верен этим заветам, но врожденный здравый смысл в то же самое время позволял ему ясно видеть и то хорошее, что могло быть вне преданий его дедов и прадедов.
Этим народом были славяне, наши предки…
К ним-то и явился с вдохновенной проповедью апостол Божий.
Он со своими ступниками шел вверх по великой реке славянской – Днепру. Он шел, и с каждым его шагом вперед по этой неведомой стране высшая сила, сила небесная, озаряла вдохновенную душу апостола. Одаренный высшим разумом, он своим взором, проникавшим через завесу будущего, ясно видел, что этой стране предстоит великое дело – стать истинной хранительницей заветов Христа, что придет время, когда свет истины засияет в ней и многие тысячелетия будет гореть ярким пламенем в сердцах ее обитателей.
С такими мыслями дошел апостол до того места, где берег Днепра отвесной стеной вздымался над гладью реки. Это была целая гора, покрытая в то время лесом у своей подошвы.
Святой апостол не замедлил взойти на самый верх этой горы.
Чудная картина представилась ему отсюда. Синей лентой извивался, идя из неведомой дали, величавый Днепр, а вокруг него, насколько мог видеть глаз, тонули в беспредельном пространстве необозримые зеленые степи…
Сердце апостола забилось. Он чувствовал, что сошла в его душу неземная сила, и, не желая бороться с овладевшим им волнением, он, благословив все, что было перед его глазами, пророчески воскликнул:
– Благословение Господа Нашего над землей этой! Отныне и вовеки воссияет здесь благодать Господня!
2. Мать городов русских
Прошла весна… Вскоре после посещения Скифии святой предвозвестник великой воли небес, апостол Андрей Первозванный, призвавший благодать Господню на земли славянские, мученически кончил жизнь свою. Во время проповеди на Патрасе он был схвачен по приказанию римского проконсула Эгея и распят головой вниз на восьмиконечном кресте.
Так закончилось вдохновленное свыше дело святого проповедника благого учения Христа на земле.
Но с земной его кончиной его великое дело не умерло, не заглохло, а все росло и укреплялось. За Христом следовали уже целые народы. Ради Него христиане тысячами гибли на арене римского Колизея. Христианство все более проникало и развивалось в Риме и Греции. Оно вступило в отчаянную борьбу с язычеством, и близко было то время, когда оно должно было победить великим светом любви этого своего врага…
В Скифии, однако, ничто не подтверждало собой пророчества апостола, ничто не указывало на его близкое исполнение. Там все было по-прежнему. По-прежнему ласково, нежно светило с голубых небес солнышко. Так же, как и прежде, голубой лентой извивался среди безграничных степей и непроходимых лесов красавец Днепр.
Изменились только те горы, с которых вдохновенный проповедник вещал о великом будущем земли славянской.
Поредел дремучий лес на этих горах. Видны повсюду стволы вековых лесных великанов, под корень срубленных острыми топорами, видны невыкорчеванные пни, слышен веселый шум голосов, бряцанье железа, крики.
Птицы, привыкшие к недавнему еще безмолвию этой местности, с испугом улетают прочь. Они понять не могут, что делают здесь эти люди, зачем пришли сюда и разом нарушили царившую целые века мертвую тишину.
Но птицы должны были бы привыкнуть ко всему происходящему теперь на этих высотах.
Не первый уже день, много-много десятков лет тому назад началось это…
На том самом месте, где пророчествовал святой Андрей Первозванный и которое он благословил, возник теперь первый на земле приднепровских славян город.
Это был Киев – мать городов русских, как его назвали после.
Он уже был основан и успел привлечь к себе внимание славян, стекавшихся под защиту его стен целыми родами.
Как он не похож был на сегодняшний Киев!
Прежде всего, местность нынешнего Киева, в особенности важнейших нагорных его частей, чрезвычайно изменилась не только с IX по XIX век, но даже с конца XIV века по настоящее время. Срыты целые горы, засыпаны старые рвы и овраги – это работа рук человеческих, но, с другой стороны, работала над этим изменением и сама природа своим постоянным, обычным неуклонным путем, обрушивая горы, подмывая берега, копая острова и мели, изменяя русла многочисленных днепровских притоков. Нынешняя низменная часть Киева (Подол) в прежнее время не омывалась Днепром, так как тут протекала речка Почайна. В эту речку, а не в Днепр, впадал быстрый и сильный ручей Глубочица. Протекая между горами, этот ручей принимал в себя речку Киянку и пролагал себе путь к Почайне по болотистой низменности Подола.
Сама Почайна, устье которой находилось под Крещатицким оврагом, в нижней части своего течения шла почти параллельно Днепру и отделялась от него довольно широкой полосой земли. Эта полоса в виде узкой косы существовала не далее, как в прошлом столетии, но была уничтожена напором Днепра, и, как память, остался от нее небольшой островок против Крещатицкого оврага. Вследствие этого исчезновения целой полосы берега Почайна теперь впадает в Днепр уже не у подошвы киевских гор, на которых стоял древний город, а на полверсты выше Подола.
С другой стороны вид местности, лежащей против Киева, также представляется совершенно иным, чем он был много веков тому назад.
Местность левого берега, в настоящее время изрезанного притоками Днепра, образующими большие и малые прибрежные мели и острова, между которыми в недавнее время прорыт широкий искусственный канал (так называемый Пробитец), была, вероятно, покрыта водой Днепра, который, конечно, был и шире, и обильнее водами в те времена, когда дремучие леса покрывали его берега и подходили отовсюду под самые стены Киева.
Поэтому пространство, на котором могло основаться первоначальное поселение на месте нынешнего Киева, являлось незначительным. Оно ограничивалось вершиною так называемой Старо-Киевской горы, где и теперь находится Андреевское отделение Старого Киева, или Старый город. Этот Старый город составляет только северо-восточный угол киевской горы, глубокими оврагами отделенной от всех остальных киевских возвышенностей.
Насколько можно судить, это и был город Киев, который только со второй половины X века стал быстро разрастаться и к концу XI успел уже увеличиться в двадцать раз по сравнению со своим первоначальным объемом.
Интересно знать размеры этого древнейшего русского города или городка, впоследствии обратившегося в резиденцию князей киевских. Вся площадь его равняется 26,316 кв. сажен; наибольшая длина от юга к северу – 238 сажен, наибольшая ширина от севера к востоку и к юго-западу – 148 сажен. В окружности своей по валам город Киев имел всего 540 сажен, а с предместьями мог заключить в себе не более 2 верст.
Пределы древнейшего Киева определяются так: на юге он граничил с глубоким оврагом, носившем название Перевесища (ныне Крещатицкий), на востоке – с крутыми, неприступными склонами горы, спускавшейся к Почайне; на северо-востоке – с Подолом и на севере – с оврагом, отделявшим городскую гору от нынешней Киселевки. На западной стороне находились ворота детинца, а перед воротами – древнейший мост, соединявший детинец с Горою (нынешнее Софийское отделение Старого города). Вверху, по окраине нынешнего Крещатицкого оврага, шла единственная от устья Почайны (и с прибрежий Днепра) дорога в детинец, носившая название «Боричева увоза», или «ввоза».
Далее на север по тому же оврагу (западнее огибая Киселевку и следуя течению речки Киянки) та же дорога спускалась на Подол и потом шла к Вышгороду.
К сожалению, летописцы дают вообще очень мало сведений о Киеве того времени. Есть только указание, что все остальное пространство Горы было не заселено, а занято полями и огородами, и на западных и южных окраинах Горы уже начинались леса. Даже под самым городом от его стен, на месте нынешнего Крещатика, за Боричевым увозом, уже начинался лес и тянулся далеко на юг.
Этими ограниченными сведениями исчерпывается все, что известно из летописей о древнейшем городе, матери городов русских – Киеве, в IX–X столетиях.
3. Норманны на Днепре
В то время, когда начинается наш рассказ, древний Киев только что успокоился после страшных невзгод и испытаний, пережитых им.
Киевляне лишь недавно освободились из-под власти козар, покоривших под свою власть все приднепровские земли. Никаких особенных усилий не стоило это воинственному народу. Приднепровские славяне сдались врагам почти без борьбы, но при этом произошел случай, как бы предсказавший всю дальнейшую судьбу этой страны.
Киевляне, как говорит Нестор, дали козарскому кагану, в виде дани, «по мечу с дыму». Может быть, козары взяли такую дань с намерением обезоружить покорившиеся им племена, но только когда их мудрецы увидали эту дань, то не могли скрыть своей печали.