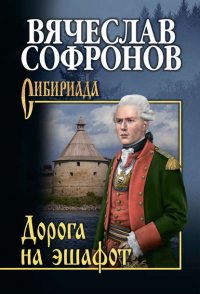Читать онлайн Обречённый странник бесплатно
- Все книги автора: Вячеслав Софронов
© Софронов В.Ю., 2018
© ООО «Издательство „Вече“», 2018
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2018
Часть первая
Обманчивые прииски
1
Возвращался в Тобольск Иван Зубарев, что называется, без гроша в кармане. Обкорнала, обмишурила, обчистила Москва-матушка сибирского ходока по сенатским коридорам, словно лихой человек в темном лесу запоздалого путника. И не тайком или там ножик вострый к горлу приставя, а средь бела дня, открыто, принародно, без всяческого стыда и стеснения вытряхнула столичная жизнь все до последнего медяка, выщелкнула и сплюнула пустую скорлупку на родную сторону обратно ту деньгу зарабатывать. Чтоб сызнова вернуться в нее, в Москву, с полными карманами, а убраться восвояси голью перекатной…
Случайно встретил Зубарев на кривой московской улочке мужика-возчика из хохлов, что нещадно бранился, прилаживая отлетевшее тележное колесо, которое он никак не мог один приспособить на место. Телега стояла, плотно нагруженная рогожными кулями, сквозь которые белесо искрились кристаллики соли. Мужик оказался чумаком, что нанялись с такими же хохлами, как и он сам, свезти с Москвы в Казань три сотни пудов соли, да малость загулял в Москве, потерял своих спутников, а тут еще и колесо…
Иван помог тому разгрузить телегу, одели сообща колесо, сложили кули обратно, разговорились. Тогда Василь, так звали того хохла, и предложил ему ехать вместе, пусть неспешно, но все одно с каждой верстой ближе к дому. Иван, недолго думая, согласился и отмахал рядом с телегой аж до самой Казани. Там Василь нашел своих земляков, которые уже и не чаяли, что сыщется их товарищ. Как раз грянули затяжные дожди, и Ивану пришлось искать других попутчиков. Так от города к городу, от села к селу каликой перехожим он брел вслед за возами с кожами, зерном, пенькой, холстами и прочими торговыми грузами, перевозимыми по всей России, прижимая к груди зашитую в чистую тряпицу драгоценную бумагу, выданную ему в Московском Сенате.
Уже за Уралом неожиданно ударили первые морозы, и Иван, ночуя, как это часто ему случалось, в стогу, однажды выбрался утром из него, громко щелкая зубами и охлопывая себя изо всех сил по груди, бокам, животу, быстрехонько натянул сапоги и рванул дробной рысью по увядшей, тронутой куржаком стерне, ухая на бегу, размахивая руками, словно на него набросился целый рой лесных ос. Издали он увидел трех верховых, остановившихся у края дороги и внимательно вглядывающихся в его сторону. По одежде признал в них казаков и побежал быстрее, в надежде встретить кого-то из знакомых. Так оно и вышло – то были мужики из Тюмени, служившие под началом его крестного, полковника Угрюмова. Иван взобрался на круп лошади одного из них, и так, по переменке, они доставили его прямо к дому полковника.
– Вовремя поспел, Ванюша, – сумрачно вздохнул тот, когда они расцеловались, и провел едва стоящего на ногах гостя в большую светлую горницу, стены которой были увешаны всеми видами оружия.
– Думал, в Москве, будь она трижды неладна, так и останусь, – в изнеможении опускаясь на лавку, выдохнул Иван.
– Пойду, велю коляску свою заложить, – Угрюмов направился к двери, – поспеть бы… Как перекусишь, сразу и едем.
– Куда едем? – удивился Иван. – Дай мне хоть пару деньков в себя прийти.
– Как? Ты разве не знаешь? – в свою очередь удивился полковник. – Не дошла до тебя моя весточка?
– Что за весточка?
– С купцом одним отправлял… – остановился у самого порога Угрюмов. – Отец твой сильно плох. Ехать надо.
– Батюшка заболел? – раскрыл рот от удивления Иван. – Да он сроду ничем не хворал. Как же так?
– А вот так, годики, годики наши свое берут, – махнул рукой Иван Дмитриевич и вышел.
Как только Иван чуть перекусил, они выехали, несмотря на позднее время и самую отвратительную дорогу, которая только бывает в сибирских краях в это время года. Их вез денщик полковника, такой же, как и он, старый казак с вислыми усами, глубокими морщинами на впалых, слегка смуглых щеках. Сам Угрюмов почти всю дорогу молчал, лишь изредка, вспоминая о чем-то своем, хмыкал, качал головой да вздыхал. Ночевали у знакомых Дмитрия Павловича в небольшой деревушке с десяток домов, стоящей на самом тракте, и, чуть поспав, накормив коней, затемно отправились дальше.
Последние версты перед Тобольском дорога шла низиной по плохо промерзшей глинистой земле. Кони сморились настолько, что едва шли шагом, часто храпя, норовя остановиться.
– Может, Палыч, заночуем прямо в поле? – спросил осторожно кучер. – Не перевернуться бы в темнотище этакой.
– Давай, погоняй, – не согласился Угрюмов. – Авось доберемся.
– Как скажете, ваше благородие, – выказал обиду казак.
Наконец потянуло влагой, сырым речным воздухом, поняли, река близко. И действительно, вскоре подъехали к самой кромке воды, увидели медленно плывущую по течению шугу или, как еще ее называли, сало, рыхлую, снегообразную массу, еще не ставшую льдом, но уже покрывшую, сковавшую всю поверхность реки, от края до края, своими малыми чешуйками.
– Да-а-а… Палыч, приехали мы, однако, – вытер мокрые от влаги усища казак. – Поди, и паро́́м не ходит. Не видно чего-то.
Начали кричать паромщиков, но голоса их вязли в сыром воздухе и вряд ли долетали до противоположного берега.
– Костерок бы запалить, – предложил Зубарев.
– Айда, ищи чего сухого, – согласился Угрюмов.
Втроем они насобирали сухих веток, каких-то обломков от полусгнивших шестов, которыми обычно крепят сети, попалось даже обломанное весло, все пошло на костер. Казак вытащил из-под своего сиденья кусок скрученной в трубку бересты, запалил, сунул в середину кострища, слабый огонек, словно нехотя, пополз по концам веток, затрепетал, затрещала, защелкала с негромким свистом вбирающая в себя пламя древесина.
Иван, шмыгая простуженным носом, смотрел на осторожное, чуткое пламя, подгоняемое чуть ощутимым ветерком, смотрел неотрывно, зачарованно, понимая, что он дома, наконец-то дома, кончились мытарства, странствия, блуждания и, в первую очередь, вспомнил почему-то свою небольшую голубятню на чердаке. Живы ли голуби? Последнее время он почти не занимался ими, мать кормила их, как и остальную скотину, по два раза в день, затаскивая с кряхтением зерно в лукошке по высокой, почти без наклона, лесенке на чердак. Да, именно голуби, как ни странно, более всего связывали Ивана с домом, делали его желанным, родным, близким, притягательным. Почему? Как знать… Прежде всего из-за доверчивости и беззащитности своей. Потому что на землю опускаются они лишь покормиться, на ночевку, а все остальное время могут проводить там, в иссиня-прозрачном небосводе, становясь чуть заметными точками, снова сваливаясь стремительно вниз и, распахнув крылья, вновь и вновь уходя в зенит, в божественную высоту, где нет темных дел и помыслов, а лишь небесная чистота и покой.
Любил он вечером подняться на чердак, сесть на корточки возле сбитой из тонких реек голубятни и слушать, всматриваться в непохожую на человеческую, но в то же время ужасно чем-то напоминающую, чужую жизнь грациозных и независимых существ, мирно гулькающих, о чем-то своем воркующих сизарей и турманов. Нравилось ему наблюдать за самками, высиживающими потомство; беспокойно крутившими головками при его появлении и ни за что на свете, даже под угрозой смерти, не покидающими гнездо.
Он заметно смущался, когда кто-то называл его голубятником, не отвечал на недовольное брюзжание отца, мол, время вышло птиц гонять, перед соседями стыдно, и каждый вечер старался наведаться, заглянуть к своим любимцам, пошептаться с ними, получить порцию любви и доброты и умиротворенным спуститься вниз, незаметно от отца юркнуть в свою комнату. Живы ли сейчас они, его голуби? Ждут ли?
– Кажись, откликнулся кто… – тронул его за плечо полковник. И точно, на противоположном берегу мелькнул огонек фонаря, и чей-то низкий голос едва долетел до них, но что кричали, из-за дальности разобрать было невозможно.
– Полковник Угрюмов едет! – гаркнул Дмитрий Павлович, не особо надеясь, что и его услышат.
– …ать, ать… от, – долетело до них.
– Иван, ты помоложе. Чего орут-то?
– Вроде как матюгаются, – улыбнулся тот.
– А-а-а, это они могут, – сплюнул на стылую землю Угрюмов, – знаю я этих паромных мужиков. Пока им в рыло нагайкой не ткнешь, так и не почешутся. – И он, набрав в грудь побольше воздуха, заорал со страшной силой в голосе самые непотребные ругательства, чего Ивану прежде от крестного никогда слышать не приходилось.
Может, до паромщиков долетели угрозы полковника, а может, они по своей доброй воле или из сострадания решили переправить запоздалых путников на другой берег, но только через четверть часа их возок уже въезжал на шаткий, сооруженный из двух здоровенных лодок-рыбниц, паромчик, а еще через час они добрались до дома Зубаревых.
– Ванечка, живой!!! – первой кинулась к нему на грудь мать, которая тотчас открыла на стук, словно давно поджидала их. – Здравствуй, Димитрий, – кивнула полковнику.
– Как он? – осторожно спросил тот.
– Плохой, шибко плохой. Катерина из Тары приехала, – тут же сообщила мать Ивану о приезде старшей сестры, которая много лет жила с мужем отдельно от них.
– А Степанида как? Ей сообщили?
– Сообщили, сообщили, – горестно кивнула головой Варвара Григорьевна, – да родила она недавно, девочку, а кормилицу не найдут никак, да и сама хворает, весточку с рыбаками прислала.
Вторую свою сестру, среднюю из семейства Зубаревых, Иван не видел лет пять, а то и побольше, с тех пор, как они с мужем уехали в Березов, где тот служил при воеводской канцелярии.
Прошли в дом, стараясь не шуметь, сняли с себя дорожную одежду и присели на лавки, разговаривая шепотом. Варвара Григорьевна рассказала, что отец сильно простыл, когда ездил рассчитывать промысловиков на песках. Лечили, чем могли, по-домашнему, поили сухой малиной, парили в бане, натирали салом. Вроде помогло, но неделю назад слег, и уже не вставал Василий Павлович. Приходил и немец-лекарь, тот самый, что помог Ивану освободиться из острога, но только развел руками, поцокал языком, осмотрев больного, шепнул матери на ухо, мол, помочь не в его силах, и ушел, приняв сунутые в руку деньги.
– Да, а ведь крепкий мужик был, Василий-то, – посетовал Угрюмов. Варвара Григорьевна тихо заплакала, утирая слезы концами платка.
– Антонина где? – спросил Иван про жену.
– Да где ей быть, спит, – как-то неприязненно ответила мать, что не укрылось от Ивана. – Вместе с Катюшей они. Разбудить?
– Буди, буди, – ответил Угрюмов за Ивана, – хоть гляну, что за жену крестник мой выбрал, а то ведь я, шаромыга, и на свадьбе-то не был.
– Ребеночка она скинула, до холодов еще, – шепнула мать на ухо Ивану, проходя мимо.
– Как? – встрепенулся он, но мать уже скрылась за дверью.
– Варя, Варя, – послышался со стороны спальни тихий голос отца. Иван сперва даже не сразу узнал его и лишь по знакомым интонациям понял, что он зовет мать. Кинулся в родительскую спаленку и при свете лампадки увидел исхудавшего, пожелтевшего лицом отца. Он лежал на высоких подушках, выпростав из-под одеяла руки. Чуть улыбнулся, узнав сына.
– Здравствуй, батюшка, – Иван опустился на колени возле него.
– Блудный сын вернулся, – попробовал тот пошутить. – Нашел свое золото? Когда приехал?
– Да вот прямо сейчас… С крестным.
– Значит, и он здесь, – попробовал было сесть Зубарев-старший, – тогда дела мои совсем плохи. А думал, выкарабкаюсь. Димитрий, он зря сроду шага не ступит. Коль приехал – помирать придется.
– Вы еще крепкий, поправитесь, – взял отца за руку Иван. – И раньше, случалось, хворали… И все ничего. Бог даст…
– Вот-вот. Бог дал жизнь, а я ее всю и прожил, чуть осталось, – и Василий Павлович тяжело закашлялся, схватился за грудь.
В комнату вбежала Варвара Григорьевна, неся в руках кружку с отваром.
– Выпей, Васенька, – протянула ему кружку, – не говори много, трудно тебе.
– Оставь, мать. Надобно мне перед смертью Ивану кое-что сказать, а то… Кто ему тут без меня подскажет…
– Не надо, – в голос повторили мать и сын, но Василий Павлович лишь махнул рукой и тихо попросил: – За священником послать бы… Худо мне, совсем худо, горит внутри все. Пошли кого, Варь. – Та торопливо кинулась на кухню, причитая на ходу и прижимая к глазам концы платка. Иван увидел, как в спальню заглянули по очереди Антонина и Катерина, но махнул им, чтоб не заходили.
– Чего сказать хотели, батюшка? – спросил отца.
– Много чего сказать мне надо, Ванятка, да, видать, коль при жизни не успел, то сейчас поздно будет. Ты, знаешь чего, лавку нашу торговую не продавай никому пока… Время нынче такое, что хорошей цены не дадут, а себе в убыток, за полцены, зачем продавать?
– Я и не собирался, – не выпуская руки отца из своей, ответил Иван.
– Золото свое забудь. Слышишь, чего говорю?
– Слышу, батюшка, слышу, – потупился Иван и хоть имел на этот счет свое мнение, но спорить не стал, понимал, не время.
– Ох, грехи мои тяжкие, – снова вздохнул Зубарев-старший, – жалко мне тебя, заклюют худые людишки, ой, заклюют и насмеются еще…
– Не посмеют, не дамся! Я им всем покажу еще! – Иван забылся, что он находится возле больного, почти умирающего отца, и волна несогласия с ним, таившаяся давно, долго, вдруг неожиданно прорвалась наружу. Но и Василий Павлович, несмотря на малые свои силы, не хотел уступить.
– Дурашка, вот дурашка, – тихо заговорил он с укоризною, глядя на сына, – все не веришь… Из Москвы чего привез? Шиш с маслом?
– А вот и нет. – Иван торопливо полез за пазуху, нащупал там сенатскую бумагу, вытащил и протянул отцу. – Дали мне разрешение на поиск руды в башкирской земле. Видишь?
– Пустое все, – слабо отмахнулся Василий Павлович и снова закашлял, – бумага, она бумага и есть… Я те сколь хошь таких напишу. Прибыли от нее никакой не будет…
– Будет, батюшка, еще как будет, вот те крест, – истово перекрестился Иван на икону, – найду то золото.
Тут Зубарев-старший собрал все силы и сел на кровати.
– Подай сюда образ, – приказал он.
– Зачем? – не понял Иван.
– Подай мне образ! Кому говорю. – Было видно, как тяжело дается ему разговор, но он держался и тянул руку в сторону иконы, висевшей на противоположной стене. – Клясться станешь мне на образе, что дурь свою из башки выбросишь и забудешь про свои рудники и прииски.
На шум вбежала Варвара Григорьевна, вслед за ней шагнул в спальню и полковник Угрюмов, с удивлением глядя на отца и сына, показалась в дверном проеме прижавшая руки к груди Антонина.
– Ляг, Васенька, ляг, – бросилась Варвара Григорьевна к постели, – чего расшумелся, послали за батюшкой уже, Катенька сама пошла. Ложись, миленький.
– Не лягу! – закатил глаза под лоб Зубарев-старший. – Пущай он мне перед смертью слово даст, последнюю волю мою исполнит, про прииски свои забыть… – И не договорив, он упал на подушки и потерял сознание.
– Иди, Иван, иди, – чуть ли не силой вытолкнула Варвара Григорьевна сына из спальни, – а ты, Димитрий, помоги мне его уложить поудобней. – Ишь, расходился, Аника-воин, – покачала она маленькой головой, подхватив мужа за плечи и подтягивая его вверх.
Иван, весь бледный, продолжая держать сенатскую бумагу в руках, вышел в небольшой коридорчик, соединяющий меж собой жилые комнаты. Тут, возле большой, обитой железом печи, стояла растерянная Антонина, потянулась к нему, шагнула навстречу и заплакала, припав к груди.
– Ты хоть чего ревешь? – раздраженно отодвинул ее от себя Иван. – Али виновата в чем?
– Прости меня, Вань, ребеночка нашего не сберегла, прощения мне нет за это никакого, – сквозь слезы проговорила она.
– Твоей вины в том нет, – вздохнул Иван и легонько провел ладонью по ее мокрой щеке. – На исповеди была? Вот и ладно, – успокоил, как мог, жену и, приобняв за плечи, повел на кухню, куда скоро пришли мать и его крестный. – Как он там? – спросил, кивнув в сторону спальни.
– Плох, – покрутил седой головой Угрюмов, – долго не протянет.
А мать, настрадавшись за последние дни, при появлении в доме мужчин, ощутив поддержку, вдруг успокоилась, слезы перестали течь непрерывным потоком по ее лицу, и она села в теплый угол возле печки, где и любила обычно сидеть зимними вечерами, когда все расходились по своим комнатам, и неожиданно проговорила:
– Зима, видать, нынче студеная будет, по всем приметам выходит.
Хлопнула входная дверь, и послышалось тихое покашливание незнакомого мужчины. Иван выглянул в прихожую, увидел местного священника, отца Порфирия, который нынче венчал их с Тоней, за ним стояла Катя, держала в руках какой-то узелок. Иван вернулся на кухню, взял с полки новую свечу, зажег ее от стоящей на столе и, ни к кому не обращаясь, сказал:
– На чердак схожу, – и ушел, а вслед за ним уплыла и длинная тень его коренастой, плотно сбитой фигуры.
– К голубям своим пошел, – вздохнула мать.
2
Отец умер через день, в пять часов утра. Тихо и мирно, не приходя в себя. Ивану так и не удалось продолжить начатый с ним разговор. Хотя… отец и так успел высказать свое предсмертное желание, чтоб сын бросил искать эти прииски, занялся, как и он, торговым делом.
Стоял хмурый декабрьский день, когда траурная процессия длинной цепью вышла со двора Зубаревых. Четверо парней несли гроб на руках, впереди шли женщины из соседок и раскидывали через каждые два-три шага мохнатые лапы елочек. Иван с матерью и сестрой Катериной шли позади гроба, сосредоточенно глядя себе под ноги. Варвара Григорьевна так и не выпускала из рук концы своего платка, отирая ими беспрестанно льющиеся слезы, и что-то неслышно шептала. На похороны приехал и Андрей Андреевич Карамышев, правда, без жены, оставив ее при хозяйстве в деревне. Он поддерживал под руку Антонину, которой, как казалось Ивану, труднее всего далась эта смерть. Братья Корнильевы шли в один ряд, сняв с головы богатые шапки, и торжественно несли их перед собой, уже одним этим показывая всю значимость и важность свою.
Михаил Григорьевич накануне намекнул Ивану, что он вкладывал деньги вместе с его отцом на закупку партии сукна. Продавать должен был Василий Павлович Зубарев в своей лавке и все расчеты вел сам. Теперь трудно было разобрать, где чей товар, и Михаил Григорьевич предложил Ивану доторговать сукном, а уж потом поделить выручку. Иван согласился. Если бы Корнильев предложил купить или даже забрать отцовскую лавку, он пошел бы и на это. Нужны были деньги на новую экспедицию к башкирцам, да еще и старые, привезенные им ранее образцы руд нужно было выплавить, узнать, на что они годятся, а для этого требовался мастер-рудознатец, который задаром работать на него не станет.
Процессия меж тем дошла до ворот Богоявленской церкви, навстречу вышел пожилой диакон и торопливо раскрыл обе половины тяжелых кованых дверей.
Пока шло отпевание, Иван несколько раз выводил мать на улицу, давая подышать ей свежим воздухом. К храму все подходил и подходил окрестный народ, женщины осторожно целовали Варвару Григорьевну во влажную щеку, мужчины кланялись Ивану и, сняв шапки, входили внутрь. К концу службы собрался почти весь приход, желая проводить в последний путь всем известного купца и соседа Василия Павловича Зубарева.
До подъема на гору гроб несли на руках, а там положили на сани, застеленные широким бухарским ковром, привезенным все теми же Корнильевыми. Когда лошадь поднялась почти до половины взвоза, то неожиданно навстречу похоронной процессии вылетел из-за поворота небольшой возок, которым управлял Василий Пименов. Был он без шапки, в тулупе нараспашку, и, похоже, уже с утра успел где-то хорошо принять.
– А я уже почти к самому кладбищу сгонял! – почти с радостью закричал он.
– Ишь ты, надрался уже, – неодобрительно проговорил Федор Корнильев.
– Перекладывайте гроб ко мне на санки, – неожиданно предложил вдруг Пименов. – Я своего дружка милого рысью домчу.
– Да он что совсем пьян? – послышались голоса из толпы. К Пименову, важно ступая, подошел Михаил Корнильев и что-то долго втолковывал ему. Тот не соглашался, не желал уступать дороги, а потом вдруг неожиданно заплакал, заревел как-то басом и крикнул, размахивая кулаками:
– Он меня, покойничек-то, при жизни ох как шибко обидел! Да я мужик простой, зла долго не держу. Чего отец заварил его, то сынку его расхлебывать придется. Дочку-то мою соломенной вдовой оставил!
Ваську Пименова в конце концов отвели в сторону, процессия тронулась дальше, а он еще долго всхлипывал и кричал что-то вслед, выкидывая вверх то одну, то другую руку. Иван покосился на Антонину, она была словно в забытье, и, казалось, не обратила никакого внимания на непредвиденную остановку. Зато Андрей Андреевич Карамышев несколько раз глянул на Ивана и, повернувшись, что-то спросил у Федора Корнильева. Тот на ухо ответил ему, и на этом все вроде как и закончилось.
На самом подъеме, на крыльце губернаторского дома стоял с обнаженной головой сам Алексей Михайлович Сухарев. Он поклонился процессии, но не подошел, а чуть выждав, когда она пройдет мимо него, вернулся обратно в дом.
– Надо же, сам губернатор проводить вышел, – пронесся шепоток по толпе.
У кладбищенских ворот стояло десятка два озябших нищих и убогих, которые, завидя еще издали гроб, опустились на колени, закрестились, закланялись, протянули заскорузлые ладони, прося подаяние. Катерина подошла к ним, раздала мелкую монету, приговаривая перед каждым: «Помяните раба божьего Василия…»
После поминок, когда гости разошлись, остались лишь все свои, кровники, Михаил Григорьевич Корнильев, сидевший под образами, на хозяйском месте, слева от Ивана, привстал и торжественно проговорил:
– Ну, пусть земля дяде Василию пухом будет, а нам о своих мирских делах подумать надо.
– Пойду я, наверное, Миша? – робко спросила Варвара Григорьевна.
– Поди, поди, а то испереживалась, намаялась за день. – Вслед за Варварой Григорьевной ушли Катерина и Антонина, бросив на Ивана вопросительный взгляд. А Михаил Григорьевич, чуть пригубив из чарки, обратился к братьям: – Как дальше жить станем? По любви или по разумению?
– Ты у нас, Мишенька, самый старший, а значит, и самый умный, – ехидно проговорил со своего места Василий Яковлевич Корнильев, – мы до сей поры по твоему разумению жили, да, верно, и далее так придется…
– Брось дурить, Васька, – зыркнул в его сторону Михаил, да и остальные братья неодобрительно глянули на младшего, но промолчали, скрыв усмешку.
– Ты, Вася, все наперед старшего норовишь, да только проку с того никакого. Чуть чего, к нам или за деньгами, или за товаром бежишь.
– А к кому же еще, как не к братьям, мне идти? – огрызнулся Василий Яковлевич.
– Хватит, – прихлопнул по столу ладошкой Михаил. – Грызться нам меж собой не пристало. Тут надо решить дело, как с капиталом покойного дяди Василия обойтись.
– Не понял… Это кто решать будет? Как с деньгами отца поступить? – вытянул шею в его сторону Иван. – Вы, что ли, решать собрались?
– А то кто ж?! – спокойно ответил Михаил. – Или мы не одна семья, а ты нам не брат?
– Брат-то брат, да отцы у нас разные, а значится, и карману общему не бывать. Я уж сам как-нибудь своим скудным умишком соображу, куда эти деньги вложить…
– Знаем мы тебя, Иван, сызнова кинешься руду искать или еще куда ухлопаешь отцовы денежки, – поддержал Михаила Иван Яковлевич Корнильев.
– Не ваше дело! – подскочил на лавке Зубарев. – Пошутили, и будя. Спасибо, что пришли отца проводить, а теперь ступайте по домам. Устал я, еще с дороги в себя не пришел, потом поговорим…
– Негоже, брат, так гостей выпроваживать, – подал голос Федор Корнильев, – мы к тебе как к родному, а ты…
– Были бы чужие, и вовсе говорить не стал бы, – перебил его Иван Зубарев. – Коль посидеть еще хотите, оставайтесь, а я к себе пошел, жену полгода не видел.
– Жена подождет, – сдвинул брови и положил руку на плечо Ивану Михаил Корнильев. – Ты скажи мне лучше, что тебе про опекунский совет известно?
– А зачем мне знать о нем? – скинул руку брата с плеча Иван и пошел было к двери.
– Тогда сейчас послушай, – продолжил спокойно Михаил. – Коль не угомонишься да делом заниматься не станешь, то мы над тобой опекунство-то учиним…
– Что?! – двинулся на него Иван.
Все замерли. Лишь Андрей Андреевич Карамышев вскочил со своего места и встал между Иваном и Михаилом.
– Подумай, что говоришь, Михаил Яковлевич. Где это видано, чтоб над двоюродным братом опеку учинять? Он что, полоумный? Или годами не вышел? Шутишь, поди…
– Да уж какие тут шутки, – криво усмехнулся Михаил Яковлевич. – Его не останови, так он все отцово наследство по ветру пустит.
– А наследство его, ему и владеть, – погрозил пальцем Карамышев. – Я твой интерес, Михаил, хорошо понимаю, поскольку Ивану тестем довожусь, то и у меня свой интерес в этом деле имеется. Сам завтра же в опекунский совет пойду и обскажу все, как есть. Я в городе человек известный, послушают.
– Не становись поперек дороги, выродок татарский, – попытался схватить Карамышева за горло Михаил, но тот отскочил в сторону и зло засмеялся:
– Татарский, говоришь, выродок? А сами вы, Корнильевы, каковские будете? Дед-то ваш не из калмыков ли?
– Да вы чего, в самом деле? – поднялся с лавки Федор Корнильев. – Нашли время, когда спор устраивать. Поминки как-никак.
– Да и о чем спорим? О каких деньгах? – хихикнул, хитро прищурившись, Василий Корнильев. – Ты вот меня давеча, Мишенька, упрекал, мол, я к тебе не один раз хаживал денег призанять. А того не знаешь, что покойник, дядя Василий, сам Илье Первухину больше сотни рублей должен.
– Как сто рублей? – изумился Михаил. – Какие сто рублей? Да когда он успел? Почему о том мне ничего неизвестно?
– Ты уж покойника о том спрашивай, – все так же щуря свои голубые глазки, отвечал ему Василий. – Зато мне известно, что не только Илюхе Первушину задолжал он, а еще кой-кому возвращать деньги придется.
– А ведь Васька правду говорит, – подал голос молчавший до сих пор Алексей Яковлевич Корнильев, второй по возрасту после Михаила. – Коль возьмем над Иваном опеку, то и долг его на нас ляжет.
В комнате на некоторое время воцарилось молчание, и лишь слышно было, как посапывал в своем углу князь Иван Пелымский, быстро захмелевший и уснувший в самом начале поминок. Иван зло обвел двоюродных братьев глазами и, ничего не сказав, вышел вон, те, в свою очередь, переглянулись и пошли в прихожую одеваться, так окончательно ничего не решив.
Когда Иван поднялся со свечой в руке в свою спальню, то Антонина уже спала, не сняв с себя черного платья, в котором была на похоронах. Иван поднял свечу повыше над ней и некоторое время всматривался в спокойное лицо жены, затем чуть тронул за руку, и она моментально проснулась, приподнялась на кровати.
– Ты, Вань? – спросила. – Все ушли? Пойду помогу матери со стола убрать…
– Погоди, успеется. Катерина уберет. А я вот что спросить тебя хотел: к родителям поедешь, коль я дом продам?
– Как к родителям? – встрепенулась она, провела тонкой ладошкой по лицу, словно не понимая, пригрезилось ей во сне или все происходит на самом деле.
– А так, – пожал плечами Иван, – еще какое-то время в городе побуду да и обратно к башкирцам поеду серебряную руду дальше искать, негоже на половине дело бросать, от своего не отступлюсь.
– А я? – с жалостью проговорила Антонина. – Я куда?
– Потому и спрашиваю. Сейчас с отцом поедешь или погодишь, пока здесь буду.
– А мать куда пойдет?
– То не твоего ума дело. Катерина к себе возьмет. Или Степаниду попрошу, там видно будет. – Антонина всхлипнула, закрыла лицо руками и прошептала:
– Вань, неужели ты готов всех нас на эти проклятые рудники променять?
Иван помолчал, прошелся по комнате и потом, резко остановившись, заговорил:
– Когда в Москве был, с одним человеком познакомился, в сыске служит. Не столько служит, как добрых людей обирает, даром что государев человек. А ты хочешь, чтоб и я в лавке сидел, да по четвертачку, по полушке с каждого в свой карман клал? Чем же я от него отличаться буду? Нет, не бывать тому: или пан, или пропал. И ты меня не разжалобишь! Коль найду рудники, кинусь государыне в ноги, пожалует она меня дворянством, вот тогда совсем иная жизнь начнется, а так… Нет, не могу этак дальше жить!
Антонина, пока Иван говорил, все испуганно смотрела на него, хлопала густыми длинными ресницами и не понимала, шутит ли он, пытаясь обидеть, испытать ее, или действительно так думает. Ей о многом хотелось поговорить с мужем, выплакаться о потерянном дитяте, почувствовать на себе ласки Ивана, но он словно ничего не видел перед собой и говорил, говорил лишь о том, как разыщет руду, построит там заводик, выйдет в большие люди. Потом, не простившись, ушел в родительскую комнату, и она не видела его больше до следующего дня.
А на другой день, ближе к обеду, во двор к Зубаревым потянулись мужики из купцов и мещан, у которых Василий Павлович некогда занимал деньги. У кого-то были на руках при себе его расписки, но многие давали взаймы под честное слово. Иван с тестем принимали их на крыльце, не приглашая в дом, ссылаясь на то, что больна мать, старались побыстрее выпроводить, просили заходить попозже, когда управятся с делами.
– Я почти тыщу рублей по распискам насчитал, – сокрушено сообщил, пожевав сухими губами, Андрей Андреевич Карамышев, когда они остались одни.
– Где же я столько денег найду? – развел руками Иван. – Если даже и дом, и лавку, и все товары продать, вряд ли столько наберется. Разве что деревеньку заодно заложить?
– Про нее и забудь! – сердито сверкнул глазами Карамышев. – Она на мне записана, и продать ее тебе ни за что не дам!
– Никак про уговор с отцом уже и забыли? – спросил Иван.
– А какой уговор? – недоуменно развел руками Карамышев. – Может, ты, зятек, чего забыл?
– Да вы… да ты… – задохнулся Иван, – сговорились, что ли, все супротив меня? Не бывать по-вашему, все одно, как лето придет, на рудники поеду.
Через два дня Иван Васильевич Зубарев добился приема у губернатора Сухарева и выложил перед ним выхлопотанную в Сенате бумагу с разрешением на поиск руды в башкирских землях.
– Чего от меня-то хочешь? – недовольно спросил Сухарев. – Зимой собрался ехать? Поезжай, держать не стану. Только мне уже донесли про долги отца твоего, смотри, коль не разочтешься со всеми, за долги в острог упеку и не погляжу, что у тебя сенатская бумага на руках.
– Да не о том речь, ваше высокопревосходительство, разберусь с должниками. Все продам, кафтан с себя сниму, разочтусь. Мне бы сейчас человека найти, который в рудном деле чего понимал.
– Так ты и впрямь руду нашел, или только дым в глаза пускаешь?
– Стал бы я попусту в Москву ездить да этакие деньжищи тратить, коль серебра не нашел бы. Есть оно, серебро, мастер нужен, плавку сделать.
– Есть, говоришь, – чуть смягчился губернатор, – а мой в том какой интерес?
– А бумага из Сената? – удивленно воззрился на него Зубарев.
– В той бумаге про меня ничего не написано. – Сухарев еще раз взял и поднес близко к глазам уже изрядно засаленную, согнутую во многих местах грамоту и, пошевелив губами, прочел: «Дается Ивану Васильеву сыну Зубареву на поиск руд в землях башкирских». – Видишь, про тебя писано, а про меня и слова не сказано.
– Как руду найду, могу и вас, высокопревосходительство, в компаньоны вписать. Только сделайте милость, укажите человека, который сведущ был бы в литейном деле да в рудознатстве понятие имел.
– Есть у меня такой человек на твое счастье, да слова к делу не пришьешь, пиши расписку, что четверть, нет, треть от найденного тобой причитается тобольскому губернатору Алексею Михайловичу Сухареву.
– Третья часть? – удивленно поднял брови Иван. – Я буду их искать-сыскивать, руды те, а вы, в кабинете сидючи, этакий прибыток себе в карман положите, пальцем не шевельнув?! Не по-божески оно выходит, ваше высокопревосходительство.
– Зато по-людски, – рассмеялся Сухарев. – Пиши расписку, иначе не видать тебе мастера, как своих ушей.
Иван, чуть подумав, поглядел внимательно в непроницаемые глаза губернатора и, махнув рукой, взял со стола перо, обмакнул его в чернильницу и, придвинув к себе поданный Сухаревым большой лист александрийской бумаги, четко вывел на ней: «За сим свидетельствую, быть одной третьей от дохода найденных мной серебряных руд отданными в пользу тобольского губернатора Алексея Михайлова сына Сухарева, коль он мне повсеместно в предприятии моем помощь оказывать станет». Затем размашисто расписался и, издали помахивая листом, презрительно скривясь, спросил:
– Теперь довольны, ваше высокопревосходительство? Все по-вашему? Сказывайте, где мне того мастера сыскать.
– Дай-ка прочесть вначале, чего ты тут понаписал, – взял Сухарев в руки расписку, – а то, может, нацарапал там непонятно что.
– Я свое слово завсегда держу. Теперь ваша очередь, скажите про мастера, и задерживать вас не стану.
– Вот сукин сын, – побагровел Сухарев. – Играть вздумал! Дай, кому говорю!
– Сперва ваше слово, потом моя бумага, – и не думал сдаваться Зубарев.
– Пусть будет по-твоему, – согласился губернатор. – Если что не так написал, я тебя и в Москве, и в Петербурге сыщу, не обрадуешься. Найдешь в казенной палате форлейфера Тимофея Леврина, что с Колыванских заводов по казенной надобности до нас прибыл. Скажи ему, что мной послан. А уж дальше сам с ним дело веди.
Иван молча положил перед Сухаревым свою расписку и, не поклонившись, вышел. Прямо из губернаторского дома он направился в сторону казенной управы, где без труда нашел Тимофея Леврина. Тот оказался подвижным человеком невысокого росточка, черноглазым, с кудрявыми вьющимися по-цыгански волосами. Когда Иван объяснил ему причину своего визита, Леврин весело рассмеялся и спросил:
– А как же ты, братец, руду свою плавить собираешься?
– В печи, – растерянно ответил Иван.
– В русской, поди? – еще громче захохотал Леврин.
– А в какой надо? У меня другой нет.
Отсмеявшись, Леврин терпеливо объяснил, что печь для выплавки руды требуется особая, какие бывают на рудоплавильных заводах, а без таковой печи и думать нечего пытаться расплавить руду. Иван озадаченно почесал в голове и спросил:
– А там, на заводах, печи люди делают?
– Знамо дело, люди. И горшки не боги обжигают.
– Так, может, попробуем и мы такую в Тобольске выложить? Сам-то сможешь?
– Почему не смочь, смогу, коль помощников ко мне приставишь и материал нужный весь достанешь.
– По рукам! – протянул Иван ему свою твердую ладошку. – Если скажешь, что птичье молоко требуется, то и его сыщу.
3
Тимофей Леврин оказался необычайно веселым и общительным мужиком. Он так и сыпал поговорками, присказками, разными историями. Ивану, привыкшему иметь дело с осмотрительными и чаще всего молчаливыми купцами, поначалу претила веселость горного мастера, но уже через день привык и воспринимал как должное шутливый тон своего нового знакомца.
– Ты, братец мой, не в бровь, а в глаз попал, на меня угодивши. Иной бы с тобой и говорить не захотел, отправил бы прочь, как путника в ночь. Зато я тебе сгожусь да про ту руду доподлинно все обскажу, ты уж мне поверь, не подведу. Для начала покажи, что за камешки от башкирцев привез, может, то булыжники обыкновенные, глянуть требуется.
Иван повел его к себе домой, вытащил из кладовой привезенные с Урала образцы руды, вывалил из сундука, где они хранились, на стол.
– Как определить, есть ли в них серебро? А может, и золото окажется? – с надеждой спросил он Леврина.
– Маленький – мал, большой – велик, а средний бы и в дело пошел, да никто не нашел, – неопределенно высказался Леврин, неторопливо и осторожно перебирая камни, прикидывая их вес на руке. Некоторые он даже нюхал, поднося вплотную к лицу, наконец насмешливо спросил Ивана: – Чего мало привез?
– Знаешь, как их тащить-то на себе несподручно? Мы прошлой осенью по горам лазили, так едва живы сами остались. Хорошо, хоть вот это привезли, – кивнул Иван на камни, – а ты «мало привез»! Скажешь тоже…
– Кучился, мучился, а что тащил, все обронил, – звонко рассмеялся Тимофей, посверкивая крепкими белыми зубами. – Ты, Вань, угомонись, не ершись. Я те правду сказываю, не обессудь. Мало породы. Ее бы пудов десять взять, чтоб плавку провести как надо. Пойдет, конечно, и это, но сразу говорю – о точном результате не скажу.
Они легко перешли на «ты», поскольку были почти одногодки и что-то неуловимое делало их похожими, может быть, интерес к трудному делу рудознатства или редкая беззаботность и легкое отношение к жизни. Леврин был родом с Алтая и там с малолетства имел дело с горными мастерами, видел, как строят печи для плавки, подбирают породу для испытаний, готовят шихту. Правда, ходил пока в помощниках мастера, дальше того не пошел, но выбора у Ивана не было, других знатоков рудного дела в Тобольске не найти. Слава богу, что и такого отыскал, можно сказать, подфартило ему с Левриным.
– Мне хоть бы знать: есть серебро в этих камнях хоть самую малость, а потом я тебе их привезу, сколь требуется. Надо десять подвод – будет десять! – разошелся Иван. – Мне чего, мне из самого Сената бумагу дали, а надо, так и до императрицы дойду! Ты меня еще не знаешь! Я ни перед чем не остановлюсь, – гордо выпячивал он грудь перед тем.
– Кабы на Тарасовой голове да капуста росла, так был бы огород, а не плешь. Ты, браток, скажи лучше, как мне сейчас из этой малости серебро извлечь, коль оно есть там? А кабы да кабы на другой раз оставь.
– Чего надо, чтоб серебро выплавить?
– Много чего. Прежде всего печь нужна, а ее возле дома, на улице, не выстроишь, плавильня требуется. Во-вторых, кирпич особый нужен, который бы жар выдержал, не развалился. Опять же струмент должен быть разный, присадки всякие. Тут работы не на один день. Так-то, браток, серый лапоток.
Иван терпеливо слушал и прикидывал про себя, где и что можно найти для плавки. Он чувствовал, Леврин больше стращал его, чтоб цену за работу поднять. Те же кузнецы варят и плавят железо и не хнычут о всяких особых приспособлениях, инструментах. Но отступать он не хотел, а потому пообещал уже через неделю достать все необходимое, а под плавильню приспособить собственный каретный сарай, освободив его от саней и колясок и выложив внутри печь, какую Тимофей покажет.
– Ладно, ты, как погляжу, парень ухватистый, – сказал на прощание Леврин, – авось да и сладим дело. А знаешь, чего жена мужу сказала, когда он лошадь продал, ей ожерелье купил, а ее заместо кобылы и впряг дрова возить из лесу?
– Нет, не знаю, – заранее улыбаясь, ответил Иван.
– Та жена и говорит соседке: «Не то досадно, что воз велик наклал, а то досадно, что сам сверху сидит». Гляди, как бы и тебе потом, как той бабе, не запричитать. Не передумаешь?
– Нет! – упрямо тряхнул головой Иван.
Вечером, когда за ужином собрались все Зубаревы и Иванов тесть, Карамышев, мать осторожно спросила:
– Как дальше жить станем, Вань?
– А как ране жили, то и дальше так же пойдем, – беспечно ответил Иван, но весь напрягся, предчувствуя начало серьезного разговора. Он покосился на Андрея Андреевича, у которого выразительно двигался вверх-вниз кадык, когда он подносил очередную ложку супа ко рту. Несколько раз осторожно стрельнули глазами на Ивана и Катерина с Антониной, но тоже молча продолжали есть, не вступая в разговор.
– Ты бы, Ванюша, хоть бы сказал, что будешь с лавкой делать, с товарами отцовыми, – мать всхлипнула. – Прости меня, Господи, грешницу великую, но отец последнее время, перед смертью своей, когда ты в Москве-то был, очень переживал, как ты тут один останешься. Из-за того, почитай, и умереть спокойно не мог. Вчерась, слыхала я, с Корнильевыми поспорил. Они же тебе добра желают…
– Ага, пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву, – не вытерпел Иван, скрипнув зубами. – Или ты их, сродственников своих, худо знаешь? Да они друг у дружки готовы последний кусок вырвать. А меня собрались и вовсе под опеку брать. Вы, поди, все и слышали, – обратился он к Карамышеву.
– Слышал, – согласился тот, проглатывая суп, – да только кое в чем я на их стороне. Они люди хоть и своекорыстные, но тебе, Ваня, верно указали, нельзя отцовское дело на ветер в распыл полный пускать. Остепенись, пока не поздно.
– Во, – вздохнул Иван, – всем я поперек дороги. Все за меня решили, как я жить должен, чем заниматься. А меня вы спросили?! – с силой ударил он ложкой по столу так, что кошка, сидевшая на коленях у Катерины, соскочила и бросилась прочь из комнаты.
– Чего разбушевался, Иван? – спросила его сестра, оправляя платье. – Слушай старших да на ус мотай…
– А мне он вчера сказал, чтоб с вами, батюшка, ехала, – заплакала Антонина, – мол, дом продавать будет…
– Дом? Продавать? – всплеснула руками Варвара Григорьевна и чуть привстала со своего места. – Шутишь, Иван? А я на старости лет куды денусь? В богадельню идти прикажешь?
– Правду вчерась Васька Пименов сказал: одну девку соломенной вдовой оставил, а теперь и законную жену свою из дому гонишь, – покачал головой Карамышев. – Прав Михаил Яковлевич, когда говорил, что под опеку тебя взять требуется. Точно говорю, все, что отец копил, по ветру пустишь, как есть, пустишь.
Иван, набычась, переводя взгляд с одного из говорящих на другого, молчал. Он и сам переживал, сердце сжималось, когда думал, как мать со всеми пожитками отправится к Катерине, в Тару, коль та еще согласится принять ее. Но иного выхода у него просто не было.
– Маму, поди, ко мне сбагришь? – сестра словно угадала его мысли. – Сами живем, как на постоялом дворе, мужа собираются на линию, в крепость, на службу перевести.
– Ничего, Катенька, – негромко запричитала Варвара Григорьевна, – я в уголке помещусь, дадите мне какую ни есть подстилку, и лягу. Может, сундук у вас для меня найдется. Ох, Васенька-а-а… – затянула она во весь голос, поворотясь к окну, словно покойный муж мог увидеть ее, – знал бы ты, что на старости лет мне родный сынок уготовил, не оставил бы меня одну. Васенька! Голубчик ты мой милый! Три десятка лет с тобой прожили, и кто знал, кто думал, где мне последние годки провести придется! Не лежать мне в земле рядом с тобой…
– Хватит! – вскочил, не выдержав, Иван. – Никто вас, мама, не гонит. Живите. Все одно дом за долги заберут. А мне, не ровен час, придется в долговой тюрьме сидеть. Тогда как?
– Да что ты такое говоришь? – Мать перестала плакать и внимательно посмотрела на сына. – Почему тебя в тюрьму заберут? После отца вон сколь всего-то осталось…
– А про то вы, мама, не знали, что долгов после батюшки почти на тыщу рублей осталось? Мы давеча с Андреем Андреевичем прикинули, как есть, тыща выходит. А товары еще он брал на пару с Михаилом, за них отдавать надобно. Приказчику платить, подати разные. За дом наш больших денег нынче никто не даст, а взаймы брать тем более не у кого. Моя бы воля, так живите здесь, сколь требуется, да, видать, не судьба…
– А Михаил что сказал? Поможет?
– Ага, догонит и еще добавит. Михаил твой под опеку меня взять и хотел, а как про долги узнал, то передумал.
– Чего же батюшка не говорил нам о том? – спросила Катерина.
– И сказал бы, так что с того? – начал говорить более спокойно Иван.
– То-то он последнее время все невеселый ходил, – опять всхлипнула мать. – Когда же он успел таких долгов наделать?
– Наделаешь тут… – Отодвинул от себя пустую тарелку Карамышев. – Со мной власти вон как поступили: был дом и не стало. Спасибо вам, что приютили.
– А вы, Андрей Андреевич, про деревеньку скажите, которую отец на вас переписал. Расскажите, каков уговор был промеж вас, – направил на него указательный палец Иван.
– Чего деревенька? – опустил Карамышев глаза в стол. – Продал мне ее Василий Павлович, и все тут. У меня на то и купчая имеется. Моя деревенька.
– Где же тогда деньги, что вы ему уплатили? – горячился Иван. – Скажите, чем вы ему плату внесли: серебром или бумагами какими?
– Не твоего ума дело, чем я отцу твоему платил. А куды деньги те делись, то мне неизвестно. Может, ты их в Москве и спустил.
– Ладно, пусть мое слово за мной останется, – со злостью выдохнул Иван, – забирайте Тоньку с собой, а ужо потом поговорим, поговорим…
– А ты меня не стращай, видали мы таких! – взвился неожиданно Карамышев, и его тощее тело изогнулось, словно гусиная шея. – Собирайся, Тонюшка, завтра же и поедем. Пущай они тут остаются, – и он поднялся из-за стола. – Спасибо за хлеб-соль, хоть тем пока не корите. Пошли, дочь.
– Чего вы ссоритесь? Ну, чего ссоритесь? – поднялась вслед за ним мать. – Чайку-то не попили, Андрей Андреевич, сейчас кликну, чтоб несли.
– Не нужен мне ваш чай, свой дома попью, – сердито отозвался Карамышев.
Антонина поднялась вслед за отцом и беспомощно смотрела то на него, то на мужа, не зная, как поступить. Встала из-за стола и Катерина, со слезой в голосе заговорила:
– Что же ты, Вань, делаешь? И мать, и жену из дома гонишь? Одумайся, пока не поздно.
Иван и сам понял, что наговорил лишку, но остановиться не мог, в нем проснулась неожиданно ярость на все и вся, и он, заскрипев зубами, выдохнул:
– Да я бы рад по-доброму. А как? И дом, и лавку все одно за долги возьмут, сам я до лета подожду и сызнова на Урал поеду. А вас куда?
– Что же теперь станется с нами? – вновь горестно запричитала мать. – Теперь только в богадельню одна дорога и осталась. – Она обняла Катерину, и обе заплакали, вторя друг другу.
Растерялся и Карамышев, увидя происходящее. Он подошел к Ивану и примирительно похлопал по плечу, тихо сказал:
– Слышь, Иван, не нужна мне эта деревенька, твоя она. Только куда я-то пойду, если и ее за долги заберут? А Тоне где жить? Ты у нас что ветер в поле, – сегодня здесь, завтра там. А семья? Семья как? О них думаешь?
– Как же, думает он, – всхлипнула за остальными женщинами Антонина, закрывая лицо руками. – Зачем меня замуж взял? Чтоб насмеяться?
– Да помолчи ты, – пришикнул на нее отец, – без ваших бабьих глупостей разберемся. Веди их на кухню, Варвара Григорьевна, – попросил он хозяйку, – нам с Иваном поговорить надо.
Когда они остались одни, Карамышев несколько раз прошелся по комнате, убрал с капающей свечи воск, провел зачем-то пальцем по стене, оклеенной по-новомодному голубой тонкой материей с вытканными на ней цветами и узорами, и тяжело вздохнув, уселся напротив Ивана.
– Ну, зятек, коль случилось нам в родстве быть, то давай вместе и думу думать, как жить дальше станем. Мой тебе совет: бросай все, забирай мать, Тоньку, и поехали вместе в Помигалово. Там не пропадем. Мы со старухой пол-лета в ней прожили, обустроились, как могли, и для вас дело сыщется.
– Как это все бросить? – удивленно глянул на него Зубарев.
– Как? Как? А вот так – поехали, и все тут, пока в долговую тюрьму не забрали.
– Надо будет, и в деревне сыщут, – упрямо покачал головой Иван, – да и не заяц я какой, чтоб по кустам прятаться. Сегодня с мастером сговорился, руду, что с Урала привез, плавить станем. А вдруг да в ней серебро станется? Тогда что?
– Правильно мне твой отец говорил: и старого не сбережешь, и нового не наживешь. Эк, куда загнул! Рудники открывать! Опомнись, Иван. Да знаешь ли ты, каков капитал под это дело нужен?
– И что с того? – не сдавался Зубарев. – Найду деньги!
Карамышев надолго замолчал, пожевал тонкие бескровные губы, сосредоточено разглядывая противоположную от него стену, словно там было написано что-то важное. А потом так же задумчиво спросил:
– Значит, Ванюша, разбогатеть решил? Добытчиком стать? Жалко мне тебя, ой, жалко! Да ладно. Бог не выдаст, свинья не съест, авось да придумаем что-нибудь. Знаешь что, сходил бы ты к владыке…
– Исповедоваться, что ли? – ехидно спросил Иван.
– Для твоего дела не только исповедоваться, но и пост великий весь год держать не мешало бы. Владыка, он человек многомудрый, глядишь, чего и присоветует.
– Э-э-э… захаживал я к губернатору нашему, и знаете, что он мне присоветовал?
– Сам губернатор? – вытянул тонкую шею Карамышев.
– Сам, сам, – кивнул головой Иван, – кабальную расписку взял с меня на то серебро, которое я только найти пытаюсь.
– Хорош гусь, ничего не скажешь, – улыбнулся Андрей Андреевич и опять аккуратно, двумя пальцами, снял нагар со свечи, размял мягкий комочек воска, поднес его к носу, чуть подержал и положил на чашку подсвечника. – Они с нашим братом чего хотят, то и творят, и никакой управы супротив их не сыщешь. Да владыка Сильвестр иной человек, он не только о своей выгоде думает. Так и быть, поедем к нему вместе. Он до конца дней в должниках у меня останется, поскольку из-за него, не иначе, татары мои дом запалили. Я так понимаю: ему на весь приход, на всю Сибирскую епархию серебра ой сколько нужно! А коль ты пообещаешь ему с приисков своих долю дать, то он не только советом, но и делом поможет.
– А поверит он мне, что я вправду серебро найду? – спросил Зубарев.
– На слово нынче мало кто верит, но коль ты из руды своей хоть маленькую толику серебра выплавишь да владыке предъявишь, тогда иное дело.
– Когда то еще будет, – покачал головой Иван, – бабушка надвое сказала, окажется ли серебро в руде моей…
– А мы так дело повернем, – хитро подмигнул ему Карамышев, – что серебро непременно в твоей руде найдем.
Иван прищурился и долго выразительно смотрел на тестя, пытаясь понять, куда тот клонит, но тот не пожелал объяснить значения своих слов, а потому на том свой разговор и закончили, условившись, что после плавки руды непременно наведаются к владыке Сильвестру.
Более недели ушло у Зубарева на то, чтоб найти по кузницам нужный кирпич, инструмент, присадки, привезти все это в собственный двор, очистить каретный сарай и начать выкладывать там плавильную печь, несмотря на лютые морозы, что так некстати как раз нагрянули к тому времени.
Карамышев помогал ему, чем мог: ездил с поручениями, встречал каждый день приходивших с напоминанием об уплате долга купцов и прочих людей, которым задолжал покойный Василий Павлович Зубарев. По городу пополз слух, будто бы Иван нашел близ Тобольска золотую жилу и теперь втихомолку от властей строит у себя дома специальное приспособление для чеканки золотых монет. Возле их ворот стали подолгу задерживаться какие-то подозрительные люди, чем вызывали огромное неудовольствие старого цепного пса Полкана, который, чуя даже через забор незнакомцев, хрипло лаял, рвался с цепи и тем самым будоражил весь дом.
Катерина, которая собралась было ехать к себе домой, в Тару, неожиданно подзадержалась, непрестанно выглядывала во двор, когда Иван с тестем сгружали с саней привезенные ими мешки и кули, необходимые для постройки печи. Антонина несколько раз пыталась заговорить с мужем, интересуясь, что такое он затевает, но он лишь отмалчивался или отшучивался, не желая говорить с ней о задуманном.
Кончилось все тем, что в канун отцовых сороковин к ним неожиданно заявился городской полицмейстер Балабанов, а с ним еще и частный пристав. Они, войдя в дом, стащили с головы казенные шапки, почти одновременно перекрестились на образа, и полицмейстер спросил вышедшую им навстречу Варвару Григорьевну:
– Хозяин-то дома?
– Это вы Ивана? – удивленно спросила мать, поскольку впервые услыхала, как сына назвали хозяином.
– А то кого же? – кивнул Балабанов. – Он теперь, поди, хозяин заместо Василия Павловича?
– Он, он, – засуетилась мать. – Кому ж еще быть-то? Да вы проходите, чего в сенцах разговаривать.
– Нам бы самого хозяина, Ивана Васильевича, – подал голос пристав.
– А он тут, во дворе, строит чего-то все. Вы бы Василия Павловича помянули, завтра сорок ден будет. Прошли в дом, по стаканчику выпили бы…
– В другой раз, хозяюшка, в другой раз, – отказался Балабанов. И они оба вышли во двор.
– Когда ж «в другой раз»? – удивленно развела руками Варвара Григорьевна. – Других сороковин уже не будет…
Балабанов с приставом нашли Ивана в каретном сарае, где были еще Карамышев и Тимофей Леврин. Два мужика, перепачканные глиной, выкладывали из кирпича большую объемистую печь невиданной конструкции. В углу теплился камелек, сложенный на скорую руку для обогрева сарая, и нещадно дымивший. В воздухе пахло угаром, стены прокоптились сажей, и Балабанов, обведя всех округлившимися глазами, даже не поздоровавшись, спросил:
– Это чем таким недозволенным заняты?
– Добрый день, ваше превосходительство, – подошел к нему Иван Зубарев. – Почему так спрашиваете? Разве запрещено законом печь выкладывать?
– Это смотря для чего ее класть вздумали. Если самосидку гнать – арестую. А мне донесли, мил дружок, будто ты собрался золотые монеты чеканить. Так ли то?
Тимофей Леврин, который хоть и не знал, что перед ним находится сам городской полицмейстер, но быстро догадался, с чем тот явился, и не дал Ивану ответить, а тут же нашелся:
– Неужто, ваше превосходительство, сами не видите, каменку для бани строим.
– А ты сам откуль взялся? – ткнул ему пальцем в грудь полицмейстер.
– То мой человек, с деревни привезенный, – шагнул вперед Андрей Андреевич Карамышев.
– А… тогда другое дело, – слегка успокоился Балабанов. – Только одно мне непонятно, вы здесь, что ли, помывочную баню делать собрались?
– Зачем здесь? – встрял Леврин. – Мы печь на катках в нужное место опосля доставим.
Карамышев и Зубарев переглянулась меж собой, ожидая, что скажет на это полицмейстер. Тут пристав увидел лежащие сбоку на лавке кузнечные клещи и прочие приспособления, потрогал их и спросил у Карамышева, приняв его по возрасту за главного:
– А это тоже для банного дела сготовлено?
Карамышев раскрыл было рот, ища, как ответить, но неугомонный Леврин опять выскочил вперед:
– Знает ли, ваше превосходительство, что черт сказал, когда свинью стриг? – И, не дожидаясь ответа, продолжил: – Визгу много, а шерсти мало, только и всего-то. Чем шелудивого брить – не лучше ли опалить?
– Это ты к чему? – провел ладонью по гладкой, как яйцо, голове пристав, и его без того багровые щеки, свисающие почти до ворота, налились кровью.
– Не извольте худого подумать, ваше превосходительство, – ничуть не смутясь, сверкнул зубами Тимофей, и громко захохотал, – у меня у самого дед мой, Егор, весь лысый, а как в баню пойдет, если шапку забудет на башку надеть, то непременно шишку набьет.
– Ты мне это дело брось! А то и моргнуть не успеешь, как в участке окажешься, там тебя и постригут, и побреют, и шишек, коль надо, наставят. Ты мне сказывай подобру, зачем вам щипцы в бане нужны? – сердито пробурчал пристав.
– Вот вы о чем, – невинно уставился своими черными глазами на пристава. – Щипцы зачем? Так то не щипцы, а клещи. – Леврин ухватил их за ручки, подошел к деревянной бадье и, взяв ее за рукоять щипцами, чуть приподнял. – Видите?
– Что? – в голос спросили пристав и Балабанов.
– Бадью щипцами поднять можно.
– Зачем? – спросили те.
– Как зачем? Чтоб не обжечься. Мой дед Егор, который в шишках весь, завсегда так и делал…
– Замолкни, надоел, – щелкнул пальцами Балабанов, – дай нам лучше с Иваном Васильевичем поговорить. Мы ведь с твоим отцом, Иван, неплохо знакомы были, он супротив власти или закону никогда не шел. Потому, когда донесли мне нужные люди, не поверил я, будто ты собрался самовольно золотую монету чеканить. С тем и пришел, чтоб своим глазом осмотреть все, убедиться, правда или нет.
– Брехня это все, ваше превосходительство, – твердо глядя полицмейстеру в глаза, ответствовал Зубарев.
– Народ слушать, развесив уши, и знать не будешь, зима ли, лето ли на дворе, – не преминул вставить Тимофей Леврин, чем вызвал сердитый взгляд в его сторону Балабанова.
– Вы нас давно знать изволите, – вступился за зятя Карамышев. – Разве могло нам такое в голову прийти? Золотые монеты чеканить!
– Хорошо, хорошо, – успокаивающе махнул рукой Балабанов, – не смею больше задерживать… А ты, – нашел глазами Леврина, – лучше мне на дороге не попадайся, а то язычок-то укорочу. – И погрозив ему пальцем, еще раз сердито сверкнул глазами, начальственно нахмурил брови, коротко кивнул массивной головой и, повернувшись на каблуках, вышел.
Пристав оглядел на прощание печь, фыркнул и пошел, оглядываясь назад, вслед за полицмейстером, но ткнулся головой о низкую притолоку сарая, ойкнул, едва не упал, схватился рукой за ушибленное место и, чертыхаясь, выскочил вон.
Когда начальство удалилось, то Зубарев, и Карамышев, и оба мастеровых мужика, что во время разговора стояли насупившись, не проронив ни слова, и громче всех Леврин, захохотали.
– Я ж говорил ему, нельзя в баню с лысой головой ходить, – всплескивая руками, едва выговаривая слова, брызгая слюной, повторял Тимофей, – долго теперь шишку оттирать станет, ко льду прикладывать.
После того, как отвели сорок дней по отцу, Катерина решилась ехать домой и стала сговаривать мать перебираться к ней в Тару. Та ждала, что ей скажет Иван, но он отмалчивался, появлялся дома лишь под вечер, уставший, перемазанный в саже. Немного выждав, Варвара Григорьевна наконец решилась, собрала нехитрые пожитки и ранним утром вместе с дочерью отправилась на свое новое место жительства, проплакав всю последнюю ночь перед отъездом.
Иван, проводив мать, стал еще молчаливее, сильно осунулся лицом и лишь изредка заговаривал с Антониной, на плечи которой легло все домашнее хозяйство. Карамышев о чем-то подолгу шептался с Тимофеем Левриным, но Иван не обращал на то внимания. За две недели плавильную печь полностью выложили, обмазали, и Леврин обещал через день-другой провести пробную плавку уральской руды.
– Только чтоб никого рядом не было, – неожиданно предупредил он Ивана, – дело нешуточное – руду плавить. Тут постороннего быть не должно…
– Какой же я посторонний, – изумился Иван.
Но Тимофей был непреклонен, и Ивану не оставалось ничего другого, как согласиться.
Леврин предупредил, что плавку проведет ночью, дабы избежать появления кого-либо из неожиданных посетителей. Иван ушел в дом, решив, что, может, так будет и лучше, оставив Тимофея колдовать одного в каретном сарае. Спал он плохо и, едва начало светать, кинулся, накинув на плечи легонький полушубок, в сарай. Вбежав туда, застал Леврина спящим на лавке. Осторожно ступая, пробрался к печи и увидел лежащий на закопченных кирпичах небольшой кружок матово поблескивающего металла. Не помня себя, Иван кинулся к нему, схватил в руки, принялся разглядывать, ощупывать, прикидывать на вес, и даже проверил на зуб твердость.
– Зря стараешься, – остановил его проснувшийся Леврин, – серебра там и близко нет.
– А это что?
– Олово, – позевывая, отвечал Тимофей.
– А где же серебро? – Ивану не хотелось верить, что столько сил и затрат пошло впустую.
– То мне неизвестно, – с неизменной улыбочкой отвечал Леврин, продолжая лежать на лавке. – Я той руды с тобой не брал, оказаться бы мне в тех горах, может, и отличил бы, где руда пустая, а где с серебром.
– Может, вместе и поедем, как лета дождемся, – предложил Иван.
– Нет, мне обратно на завод надо. Ты уж сам давай.
– А если опять пустую породу привезу?
– Извини, братец, только не могу. Меня хозяин и так заждался, сызнова врать придется, почему я в Тобольске больше месяца просидел.
– Чего-нибудь придумаешь, – попытался переубедить его Иван.
– Да ты не огорчайся, олово – это тоже хорошо. Могло б и его не оказаться. Значит, серебро где-то рядом лежит.
Отворилась дверь, и вошел Андрей Андреевич Карамышев, потирая рукавицей замерзший с мороза нос.
– Плохо дело? – спросил он, обведя глазами Зубарева и все еще лежащего на лавке Леврина.
– Плохо, – согласился Иван. – Вместо серебра олово выплавилось.
– Неужто все образцы опробовал? – спросил он Тимофея.
– Да нет. Еще остались. Только сумлеваюсь я в них, зря все это.
– Как знать, как знать, – прошелся мелкими шажками вокруг печи Карамышев. – Надо дело до конца доводить. А вдруг да найдешь чего? – И он незаметно подмигнул Тимофею.
– Как хозяин скажет, – блеснув зубами, посмотрел тот на Зубарева и сел на лавке, – наше дело петушиное – прокукарекал, а там – хоть не рассветай.
– Значит, не все образцы в дело пошли, – оживился Иван. – Только я одного не пойму: если, к примеру, в одном из них серебро окажется, то как я потом узнаю, откуда какой камень будет.
– Вот дурья башка! Неужели ты не догадался заметить, где какой камень брал? – всплеснул руками Леврин.
– А кто мне наказывал про то?
– Сам знать должен, – неожиданно насупился Тимофей, – твоя забота со всем этим разбираться. Ты меня для каких дел нанимал? Руду плавить? Я ее выплавил. А сейчас идите отсюда, дайте поспать еще. Так и быть, и остальные образцы сегодня в ночь испробую.
Накануне последней плавки Иван никак не мог заснуть. Ему и верилось, и не верилось, что дело, которое он начал, все-таки удастся. Представлял, как он будет стоять у огромной плавильной печи, из которой летят огненные искры и, падая на землю, превращаться в большие серебряные рубли. Вспомнился ему и Ванька Каин, который, узнав про те рубли, начнет лебезить и заискивать перед ним. Вспомнил и Андрея Гавриловича Кураева, представил, как войдет вместе с ним во дворец, где его будут приветствовать знатные князья и графы, а он небрежно, развязав кожаный кошель, высыплет перед ними на свою ладонь горсть серебра. Незаметно он уснул, а проснулся от того, что его тряс за плечо Андрей Андреевич Карамышев.
– Погляди, Вань! Ты только погляди, – протянул он ему большой и увесистый слиток белого металла. – Серебро!
– Да ну?! – вскочил на ноги Иван и выхватил слиток у тестя из рук, прижал к себе. – Получилось! Серебро! – Он опромью кинулся, ничего не видя перед собой, в каретный сарай, где сидел почему-то скучный Тимофей Леврин.
– А ты чего не рад? – тормошил его Иван. – Все по-моему вышло. Гуляем?!
– Ехать мне надо, деньги бы за работу получить, – не глядя в глаза, проговорил Тимофей.
– Да найду я тебе деньги, не переживай. Только что с тобой случилось, не пойму?
– У него спроси, – кивнул в сторону Карамышева Тимофей.
Когда радостный Иван Зубарев выскочил обратно из каретного сарая, весь сияющий, неся перед собой на руках серебряный слиток, как будто то был не иначе как философский камень, и влетел в дом, то он не мог слышать разговора, что произошел между Карамышевым и Тимофеем Левриным. Тимофей, сокрушенно качая головой, проговорил:
– Эх, Андрей Андреевич, благодаря тебе принял я грех на душу, на обман пошел. От моей и твоей неправды большая беда случиться может.
– Да будет тебе, – поморщился Карамышев, – главное, Иван успокоится, а остальное предоставь мне решать. И чтоб ни гу-гу! Молчок! Понял?
– Как не понять… Всякому грешнику путь вначале широк, а после тесен. Кого бес попутал, того Бог простит…
На другой день Зубарев рассчитал Леврина, и тот, словно побитая собака, уехал на Колыванский завод, так и не объяснив ничего Ивану.
4
Иван согласился с предложением тестя обратиться к митрополиту Сильверсту и поведать ему о своих планах поиска в башкирских землях серебряных руд. К тому же ему просто не терпелось хоть кому-то показать выплавленное на собственном дворе серебро. Завернув серебряный слиток в чистую тряпицу, Зубарев с Карамышевым приоделись и отправились на митрополичий двор в выездных саночках, запряженных бойким Орликом. Правда, жеребчик, после смерти Зубарева-старшего оставшись без хозяйского глаза, сильно сдал, из-под кожи выпирали ребра, и весь он стал какой-то мосластый, свалялась грива, длинный сизый хвост уже не вился на ветру во время бега, но осталась былая стать и красивый ход.
Потому он легко взомчал санки по взвозу и без остановки пошел дальше, выпластывая из-под себя красивые тонкие ноги, посверкивая полумесяцами подков.
Однако ворота при въезде на митрополичий двор оказались закрыты, и на стук вышел заспанный караульный, неохотно сообщил, что владыка уехал в Абалак, и если очень нужно, могут найти его там.
– А когда вернуться обещал? – поинтересовался Иван.
– Нам его преосвященство не докладываются, – ехидно ответил караульный и ушел обратно в теплую будку.
– Что делать станем? – спросил Иван тестя. – Ждать будем?
– Кто его знает, сколь ждать придется… Может, махнем в Абалак? Довезет? – кивнул на Орлика, тяжело поводящего боками.
– Как не довезет, доедем с ветерком. Он у нас конь хоть куда. – Иван похлопал Орлика по крупу, отер рукавицей пот с шеи. – Прокатимся? – Конь встряхнул головой, зазвенел удилами, покосился на молодого хозяина.
Иван вскочил обратно в саночки, развернул жеребчика и звонко щелкнул кожаными, с медными бляшками, вожжами, погнал его в сторону городских ворот, за которыми начинался Иркутский тракт и шла дорога на Абалак. Первую половину пути Орлик шел хорошо, рысью, они даже нагнали и оставили позади несколько крестьянских возов, с запряженными в розвальни мохнатыми заиндевевшими лошадками, укрытыми хозяевами для пущего бережения дерюгами, но уже на подъеме после Иоанновского монастыря он сбавил ход, а потом и совсем перешел на шаг и, наконец, остановился, тяжело поводя боками.
– Но! Но! – закричал Иван и хлестнул жеребчика вожжами, но тот лишь вздрогнул, запрядал ушами и тихо заржал.
– Не бей, – остановил Зубарева тесть, – не поможет. Пристал конек. Давно разминал?
– Да после отца в первый раз и запряг, – смущенно отозвался Иван.
– А кормишь чем?
– Сеном… Чем же еще? На овес денег нет, сами знаете.
– Чего же ты от него хочешь? Ладно, что хоть столько проехали. Поворачивай обратно, а то до ночи не доедем.
– Ничего, сейчас отдохнет малость, и дальше тронемся. Доберемся…
Карамышев понял, спорить бесполезно, замолчал, уткнув худой длинный нос в воротник, насупившись, наблюдал, что станет делать дальше Иван. А тот снял рукавицы, быстро-быстро отер ими спину и бока Орлика и, скинув с себя тулупчик, набросил его на влажную конскую спину.
– Совсем загонял тебя хозяин, – нежно зашептал он, наклонясь к конской морде. – Ты уж прости меня, дурака, хорошо? – Жеребец, не моргая, смотрел на него круглым выпуклым глазом, шумно вдыхая ноздрями морозный стылый воздух.
Иван около четверти часа ходил вокруг коня, отирал пот, о чем-то тихо говорил с ним, пока сам не замерз, не начал дрожать. Лишь тогда снял с него тулупчик, надел на себя и забрался в санки, щелкнул вожжами, и жеребчик пошел сперва тихим шагом, а потом, набрав ход, перешел на обычную рысь и без устали принялся отмеривать версту за верстой.
– Следить надобно за конем, – назидательно проговорил Карамышев, но Иван не ответил, и дальше ехали молча, думая каждый о своем.
Дорога шла полями, огибая, а порой пересекая многочисленные лога, которые, словно многопалая рука огромного существа, впившись в землю, тянулись своими извивами к иртышскому берегу. Под снегом скрывались на дне оврагов замерзшие в эту пору ручьи, чистого вкуса ключи, а то и небольшие вязкие болотца, служившие летом прибежищем миллиардов серых тонконогих комаров, живущих лишь самый теплый сибирский сезон, чтоб набраться человеческой или звериной крови, оплодотвориться, отложить в вязкую землю яйца и уйти, умереть, больше уже никогда не появляться на свет. Сейчас стояла самая благодатная пора, когда не было гнуса, комара, паутов и иной жужжащей и зудящей, поющей на все голоса мелюзги, почти не различимой человеческим глазом. Но в весенние долгие дни и короткие, словно легкий обморок, ночи кружащий в лесных перелесках гнус становится недремлющим хранителем, стражем, оберегающим от недоброго чужака сумрачные чащи в пору рождения и мужания звериного, птичьего и иного лесного потомства. Злобно набрасываются они на всякого, кто позволит себе в тот священный час войти под полог леса, посягнуть на жизнь иного беззащитного существа. Никто из опытных старожителей тех мест без особой на то нужды не решится осквернить в раннюю весеннюю пору цветения заповедные и укромные таежные уголки, помешать появлению на свет нового рода. И передается тот обычай от отца к сыну, продолжая жить бок о бок с иным, но столь близким человеку миром тайги. Иначе… быть здесь пустыне безжизненной и мертвой.
Зимой, когда снег и лед делали одинаково похожими холмы и леса, скрывали норы, дупла, муравейники, берлоги и звериные лежбища, тем более не было возможности для алчного постороннего человека вторгнуться в лесной мир и навредить ему, не рискуя при том собственной жизнью. Не всякий способен выбраться обратно из стылого таежного урмана, углубившись в него чуть в сторону от проезжей дороги. Бог столь мудро обустроил мир, разведя, обособив мир человека от мира зверей, что не перестаешь удивляться мудрости и любви Создателя ко всему сущему.
К Абалакскому монастырю подъехали совсем уже в потемках. Окончательно уставший, выбившийся из сил Орлик медленно переставлял ноги и, дойдя до ворот обители, ткнулся лбом в ворота и так замер. Долго стучали, дожидаясь, пока заспанный монах вышел к ним и на вопрос о владыке согласно кивнул головой, мол, здесь, да только отдыхает.
– По какому делу пожаловали? Может, весть какая из Петербурга? – выпытывал он, пытаясь узнать о цели их приезда.
– Владыке о том самолично доложим, – постукивая зубами от холода, ответил Карамышев, давая понять, что с простым служкой говорить не станет.
– Может, разбудить владыку? – засуетился монах. – Он так и повелел, коль из Петербургу кто прискачет… Давно, видать, ждет.
– Да не из столицы мы, свои, тобольские люди, – успокоил его Карамышев, – только ты это, христовенький, определи-ка нас на ночлег да вели щей горячих или чего иного подать. Озябли вконец, сил нет никаких.
Их проводили в глубину монастырского двора, где стояла небольшая, об одно окно избушка, которая, судя по всему, служила для приема случайных постояльцев, а потому внутри было не топлено, и служитель едва сумел открыть примерзшую к косяку дверь. Пока Иван и Карамышев озирались внутри сумрачного ночлега, монах успел притащить охапку березовых поленьев и сноровисто растопил небольшую, но оказавшуюся весьма жаркой печурку, а вскоре принес и ужин. Иван попросил его позаботиться об Орлике, поставить в монастырскую конюшню, дать корм, напоить.
– Непременно все исполню, – легко согласился тот, – владыка велел всех гостей монастырских привечать как должно, по-христиански. – Ночуйте с Богом и ни о чем не беспокойтесь.
Разбудил их негромкий, но явственно слышный колокольный перезвон, и вскоре зашел вчерашний монах, сообщив им, что владыка примет их сразу после службы, а сейчас приглашает пройти в храм на заутреню.
Ивана поразило внутреннее убранство храма своей сдержанностью и обилием старых, потемневших от времени икон. Над царскими вратами иконостаса помещалась главная икона монастыря – Чудотворная икона Божией Матери, на которой была изображена сама Богородица с Христом во чреве и предстоящими Николаем Чудотворцем и Марией Египетской. Иван слышал, что именно в таком виде Богородица являлась несколько раз одной абалакской жительнице, которая поведала обо всем духовным властям, а через какое-то время местный иконописец написал образ Божией Матери. Икона эта известна в Тобольске и по всей Сибири тем, что приносит излечение болящим и немощным. Чудотворную каждое лето приносят в Тобольск с крестным ходом и оставляют на какой-то срок в городе, перенося из храма в храм. В это время в Тобольск съезжается множество паломников со всех концов Сибири, а иные едут на поклонение к Чудотворной даже из-за Урала, прослышав о многочисленных чудесах исцеления болящих.
Иван помнил, как мать с отцом брали его вместе с сестрами, еще детьми, на встречу с Чудотворной, одевались в лучшие одежды, и в доме сразу начинало пахнуть праздником, пеклись блины и куличи, все улыбались, радовались, отец почти на неделю закрывал лавку, ездил по родне и знакомым с поздравлениями. Потом в какой-то момент все изменилось: повыходили замуж сестры, Василий Павлович год от года мрачнел, это сейчас Иван понимал, уже в то время дела у отца шли плохо. То по молодости думал, посердится родитель, и все пройдет, успокоится. Нет, не успокоилось, не утихло, а ушел из дома праздник, радости сменились заботами, каждодневными хлопотами, обыденной суетой. Может потому и хотелось Ивану вырваться из этого заскорузлого торгового скучного мира, что желалось видеть, пусть не каждый день, праздник, радость, веселье настоящее, а не подменное, приходящее во время пьяных гулянок и застолий. Видел по братьям своим двоюродным, по Корнильевым, как все глубже и глубже увязали те в делах, в скукотище от каждодневного щелканья костяшек на счетах, позволяющих увидеть, что убыло и сколько прибыло. И не замечают они при том, что их самих за теми кулями, мешками, сундуками, корзинами и не видно… Когда Иван вспоминал о своих двоюродных братьях-купцах, коих почитали и побаивались все в городе, то первое, что вставало у него перед глазами, – это низкий почерневший, давно не беленный от скупости и нехватки времени потолок лавки, где те проводили в подсчетах все дни и лучшие свои годы. Только лишь в престольные праздники, влекомые на службу в храм женами, родней, знакомыми, с неохотой прекращали торговлю, вешали пудовые замки на лавки и амбары, словно улитка с раковиной, расставаясь с милой обителью на незначительный срок.
Вся жизнь, весь уклад в корнильевских семьях были подчинены одному-единственному правилу: день прошел зря, ежели хоть пятачок, полушка не звякнули в кошеле, прибавившись к прочим. Умом Иван понимал своих родичей и, упаси Бог, никогда не решился бы высказать им свое отношение вслух, но сердцем, душой ему был противен тот мир непрестанного и каждодневного корпения, просиживания над приходно-расходными книгами, старания разбогатеть даже за счет беды близкого человека, лишь бы соблюсти собственную выгоду.
Абалакская чудотворная икона Божией Матери, перед которой он сейчас стоял, звала, манила в иной мир – чистый и бесхитростный. Ее руки, воздетые к небу, как бы говорили о существовании иного бытия, где нет места обману, извечной заботе о пропитании. Чудотворная призывала к радости, празднику души, отказу от бренности. И низкий сводчатый потолок храма, освещаемый неровным светом десятка свечей, говорил о тяжести земных забот, давящих грузом, не пускающих туда вверх, к небесам. И все святые, писанные на больших, почти в рост человека, досках, подчеркивали, напоминали своей позой, поворотом головы, взглядом, что любой человек на грешной земле находится на ней словно на раскаленной сковороде и пройдет миг, как он воспарит, поднимется к небесам, к чистому небу, мало что успев оставить после себя, разве что короткую память, добрую или злую, в зависимости от понимания собственного предназначения.
– Спишь, что ли? – тронул его за рукав Карамышев.
– А что? – вздрогнул Иван, посмотрел вокруг. Служба заканчивалась, монахи и прихожане уже подходили к кресту, который держал собственноручно владыка Сильвестр, ласково улыбаясь каждому. Иван с Карамышевым оказались последними при крестоцеловании и, приложившись к распятию, пошли к выходу, где их уже поджидал все тот же монах, тихо сообщивший, чтоб шли следом за ним.
Приемная комната митрополита оказалась в длину не более пяти шагов, с небольшими оконцами и низким потолком. Вся противоположная от входа стена ее была увешана иконами, а длинный стол на резных точеных ножках завален книгами и бумагами. Ивану не приходилось прежде встречаться с владыкой, но он слышал от многих, что тот слыл большим книжником, собирал старые грамоты и рукописи, и даже сам написал несколько книг, а потому он немного робел и понятия не имел, о чем станет вести разговор с митрополитом. Оставалось надеяться на тестя, который, наоборот, держался подчеркнуто независимо и все вытягивал вперед острый, успевший покрыться за ночь щетиной, подбородок.
Владыка неожиданно для них вошел через боковую небольшую дверцу, которую Иван не заметил, низко нагнув голову, а когда распрямился, пристально глянул на них, то показался вблизи еще выше ростом и необычайно худым, с бледным лицом, глубоко посаженными черными проницательными глазами. Иван и Андрей Андреевич шагнули под благословление и поспешили сесть на обыкновенную деревенского вида лавку, стоящую подле стены. Сам владыка опустился в простое деревянное кресло и, облокотясь на стол, изучающе посмотрел на них, чуть кашлянув, спросил глухим надтреснутым голосом:
– Что привело вас ко мне? Слушаю.
– Владыке, верно, известно, как пострадал я от рук неверных…
– Слышал, слышал, – коротко кивнул тот, пристально вглядываясь при этом в Ивана.
– Теперь принужден жительствовать у зятя моего, Ивана Зубарева, – как-то по-книжному продолжил Карамышев, – в деревеньке, неподалеку от Тюмени, именуемой Помигаловой… – Владыка молчал, ожидая, когда тот перейдет к сути дела. – А тут свояк мой Богу душу отдал. – Андрей Андреевич никак не мог нащупать нить разговора. Иван даже усмехнулся про себя, радуясь растерянности всегда излишне самоуверенного тестя. – Да после себя долгов наоставлял, – продолжал тот, – а потому, ваше высокопреосвященство, имеем дерзость припасть к стопам вашим со смиренной просьбой, благословите начатое нами дело, – закончил он и замолчал, так ничего толком и не изложив.
– Благословить доброе начинание всегда рады, – вновь кашлянув, проговорил владыка, – только непонятно, о каком деле речь ведете.
– О серебряных приисках, – заявил Карамышев.
В комнате установилось недолгое молчание, и слышалось лишь прерывистое дыхание Карамышева да сопение Ивана, который уже и не рад был, отправившись на прием к митрополиту. Вряд ли Карамышев сумеет выпросить у него денег, а скорее кончится все тем, что владыка, как и губернатор, попросит свою долю от не найденного еще серебра.
– И где таковые есть? – наконец спросил митрополит, оглаживая длинную, почти совсем седую бороду тонкими, чуть желтоватыми в свете ранних солнечных лучиков, пробивающихся сквозь замерзшие стекла, пальцами. – Что-то ранее мне не приходилось о таковых слышать.
– Иван, покажи слиток, – кивнул зятю Карамышев. Тот вытащил из-за пазухи сверток, развернул, выложил на стол перед владыкой, который приподнял его, прикинул на ладони, положил обратно и спросил:
– Так где те прииски находятся?
– На Урале, – подал наконец голос Иван, – в башкирских землях.
– Далековато… И много ли там руды будет?
– Пока не знаю, – честно признался Иван, – это пробная плавка из образцов, что мной привезены на удачу.
– Неплохая удача, – чуть усмехнулся владыка. – Власти в известность поставлены?
– В Сенате бумага мной на то получена, – опять полез за пазуху Иван, спеша достать заветную бумагу, с которой не расставался с самого момента ее получения.
– Не нужно, верю на слово, – поднял руку митрополит Сильвестр. – Что от меня лично или паствы моей требуется? Сразу предупреждаю, оказать денежную помощь не смогу. Дать своих людей на работы тем более. Да и не дело церкви рудознатством заниматься.
– Но ведь утварь церковная, оклады к иконам, кресты, чаши причащальные делаются именно из серебра, – наконец вышел на нужную стезю Карамышев.
– И что с того? Прикажете нам и винокуренные заводы открывать, коль святое причастие вином церковным производится? Бумажные фабрики ставить, потому что записи церковные ведем? Нет, милостивые государи, не ждите от меня помощи. Дело церкви – молитва, выполнение святых таинств, обращение с наставлениями к прихожанам, взращивание непрестанное доброго стада. Известно ли вам, сколь много храмов возводится по всей сибирской епархии? Но тогда всех священнослужителей и монашествующих, по вашим рассуждениям, требуется привлечь для тех работ. Кто же взамен их служить в храмах станет? Нет, не дело говорите, – и он хотел было подняться из-за стола, чтоб закончить бесполезный разговор. Но тут Карамышев, обретя наконец извечную уверенность, страстно заговорил, спеша привести собственные доводы.
– Погодите, погодите, владыка, но ведь вы покупаете и материалы, и все, что необходимо вам. Так? – Владыка коротко кивнул в ответ. – А почему бы вам не купить заранее то серебро, что будет добыто на приисках? Тем более вы уже имели возможность убедиться в ревностном отношении моем к делам православной церкви. Помните, как я исполнил вашу просьбу, когда дело коснулось строительства храма на моем подворье? И пострадал за то…
– Все в руках Божиих, – перекрестился владыка, – и каждый послушный и верующий человек поступил бы точно так же на вашем месте. Во имя укрепления православной церкви обратился я тогда со своей просьбой и, уверен, всякое доброе дело зачтется человеку, верящему в Бога, если не на этом, то на том свете, когда предстанете вы на суд Божий.
– А не могли бы вы, ваше высокопреосвященство, написать прошение на имя императрицы, дабы она взяла под свое высокое покровительство наше скромное предприятие?
У Ивана даже дыхание перехватило, когда он услышал подобное предложение своего тестя. Удивило оно и владыку, который ответил не сразу, а долго и внимательно рассматривал Карамышева, потом взглянул вновь на серебряный слиток и опять сухо кашлянул.
– Признаться, не вижу к тому особых причин, – наконец ответил он. – Даже если бы я и согласился на подобный шаг, то представьте себе, как будет истолкована подобная просьба? По своему положению, несомненно, могу обращаться в Святейший синод, и то лишь касательно дел моей епархии. Почему бы вам не попросить об этом губернатора?
– Но мы приехали именно с этой просьбой к вам, владыка, – упорно стоял на своем Карамышев.
– Знаете, после недавних событий, когда по ревностному моему служению, был заложен храм во имя Воскресения Господня, участником чего были и вы, мне сообщили о письме местного муллы к самой императрице о притеснении татарской части населения. Насколько мне известно, дело пока не получило ход, но вполне может случиться, что очень скоро меня переведут с Тобольской епархии, и тогда… мое обращение к императрице может только повредить вам.
– Понятно, – вставая, проговорил Карамышев, – значит, зря мы по морозу за столь верст коня гнали. Пошли, Иван…
– Да погодите вы, – неожиданно остановил их митрополит Сильвестр, – не отобедали еще. Не в моих правилах отпускать людей в дорогу голодными. К тому же мне на самом дело не совсем ловко перед вами, поскольку пусть косвенно, но являюсь виновником постигшего вас несчастья. Разрешите подарить вам на память образ Абалакской Чудотворной иконы Божией Матери, выполненный одним из наших иконописцев, – с этими словами владыка взял с небольшой деревянной полки образок, являющийся точной копией с Чудотворной, и протянул ее Карамышеву. – Благослови вас Господь. – Карамышев с поклоном принял подарок, но не проронил ни слова. – Что же вам подарить, молодой человек? – задумался чуть владыка. – Грамоте обучены? – спросил он Ивана. Тот согласно кивнул. – Тогда не обессудьте, но хочу сделать вам не совсем обычный подарок. – С этими словами он взял со стола тонюсенькую книжицу и, раскрыв ее на передней странице, показал рукописный текст с выведенными киноварью заглавными буквами, – то не церковная книга, надеюсь, вы таковые имеете, но подобную вы вряд ли где встретите. Это собрание разных каверз и редких сочинений, писанных неизвестными авторами не только в нынешнем, но и прошлом веке, еще до царствования царя Петра Алексеевича. Мне их передал знакомый архимандрит, выписав из собрания Хотынского монастыря, а мой писец переписал уже набело. Разрешите, я прочту некоторые из них, чтоб вы поняли, о чем идет речь, – с этими словами владыка взял очки в металлической оправе, водрузил их себе на нос и принялся читать: – Челобитная к судье, господину моему судье-свинье бьет челом и плачетца, за печь прячетца, с поля вышел, из лесу выполз, из болота выбрел, а неведомо кто. Жалоба нам, господам, на такова же человека, каков ты сам, ни ниже, ни выше, в той же образ нос, на рожу сполз, глаза нависли, во лбу звезда. Борода у нево в три волоска, широка да окладиста… – Владыка неожиданно остановился, широко улыбнулся и перелистнул страницу.
Иван, плохо понимая, зачем митрополит читает им этот малопонятный текст, переглянулся с тестем, но тот лишь оттопырил нижнюю губу и округлил глаза, дав понять, что и сам теряется в догадках.
– Тут дальше не совсем приличествующие случаю слова приводятся, опустим, а вот это интересно, послушайте: «Лечебник на иноземцев. Когда у кого заболит сердце и отяготеет утроба, тому взять мостового белого стуку 16 золотников, мелкого вешнего топу 13 золотников, светлого тележного скрипу 16 золотников, а приняв, потеть три дня на морозе нагому, покрывшись от солнечного жара неводными и мережными крыльями в однорядь, а выпотев, утереться дубовым четвертным платом…» А? Каково? Может, и не совсем по чину мне подобные вещи читать да еще и рассказывать о них мирянам, но удержаться не могу. Сильно написано, а сказано и того лучше. Про наш народ знаете что иноземцы разные говорят? Мол, варвары мы, веру некрепкую имеем, едва ли не идолам поклоняемся! – Владыка неожиданно воодушевился, глаза его засветились внутренним огнем, тонкие пальцы сжались. – А наш народ все понимает и веру имеет крепкую. Кто, как не русский человек, заселил почти всю Сибирь?! И что здесь нашел? Именно идолопоклонство и нашел, богоотступное магометанство, а сейчас уже, куда ни глянь, стоят православные храмы. – Владыка не на шутку разошелся, увлекся, может даже забыл, кто и зачем перед ним находится, и без удержу сыпал словами, доказывая силу и живучесть православной веры. Судя по всему, он вел давний спор с кем-то, а Иван и Карамышев оказались лишь случайными слушателями. Наконец, устав, митрополит остановился, ненадолго прикрыл глаза, приходя в себя, и тихо закончил: – Простите, коль чего не так сказал. Рад бы помочь, да сами видите… не в тот час пожаловали. Спаси, Господи, – перекрестил их на прощание.
Когда Иван с Карамышевым отобедали в монастырской трапезной, вышли из ворот, где стоял отдохнувший и накормленный Орлик, то услышали чей-то голос, окликнувший их:
– Погодите, мужики, сказать чего-то хочу, – спешил к ним все тот же монах, встретивший их вчера. – Случайно узнал, по какому делу вы приезжали к владыке, – с ходу заговорил он, переводя дыхание. Зубарев переглянулся с Андреем Андреевичем, сетуя на то, как быстро их дело стало известно многий.
– И что с того, что узнал, – резко оборвал монаха Карамышев, – то наше дело, до посторонних ушей нежелательно. Забудь, о чем слышал. Понял?
– Погодите, – остановил его Зубарев, – может, чего путное скажет.
– Дождешься от ихнего брата путного чего, – садясь в саночки, проворчал Карамышев, но больше не перебивал монаха.
– Мое дело – сторона, – смутился тот, – могу и не говорить. Я к вам с помощью, по-доброму, а вы… – И он повернулся, собираясь вернуться обратно в монастырь.
– Нет уж, – поймал его за рукав Иван, – коль начал говорить, продолжай. Только не тяни, а то у нас путь длинный, до города добраться надо бы засветло.
– Я чего хотел, – нерешительно начал монах, которому, как определил Иван, было не более тридцати лет, – сам-то я с Урала, да вот грамоте выучился, и владыка в монастырь определил. А родители у меня там, на Урале, и жительствуют. Брат Максим рудознатством занимается. Коль вы бы его разыскали, то очень он вам пригодиться мог… И все… – развел он руками.
– Где найти твоего брата? – поинтересовался Иван. Монах быстро объяснил, как добраться до места, где он раньше жил, и найти брата. На том и расстались, поблагодарив на прощание монаха, который долго смотрел им вслед от высокой монастырской стены, пока они не скрылись за поворотом.
5
На обратном пути пришлось сделать остановку близ Ивановского монастыря. Орлик брал с ходу хорошо, но через две-три версты уставал, переходил с рыси на шаг. К обеду добрались домой, где старый дядька Михей, живший еще заместо сторожа при Зубареве-старшем, сообщил, что за Иваном приходил стряпчий из суда и велел тотчас явиться, как только вернется обратно.
– Худо дело, – согласился Карамышев, – видать, ждать купцам надоело и решили через суд долги свои вернуть.
– Чего хоть делать? – сокрушенно спросил Иван. – Деньги нужны.
– Нужны. Попробуй к Михаилу съездить, расскажи про суд, авось да расщедрился.
– Вряд ли. Поехидничает, только и всего.
– За спрос денег не берут, поезжай, – взял под уздцы Орлика Карамышев и развернул обратно от ворот, где они беседовали, не въезжая во двор.
Иван не стал возражать и медленно поехал по улице, решив заглянуть в лавку к Михаилу Корнильеву, где он скорее всего мог находиться в это время. Но как только он вывернул на базарную площадь, то первый, кого увидел, был Васька Пименов, стоящий в распахнутом, как обычно, легком полушубке возле запряженного в кошеву Валета и о чем-то горячо спорящий с двумя мужиками. Иван постарался незаметно проехать мимо, памятуя о том, что кричал Васька ему совсем недавно на отцовых похоронах, а сам даже и на поминки не явился. Но тот, как назло, повернул голову, заприметил Ивана и бросился к нему наперерез, напрочь забыв о своих прежних собеседниках.
– Стой, Ванька, – заорал он, размахивая на ходу руками, – разговор есть.
Ивану ничего другого не оставалось, как направить Орлика к краю проезжей дороги и остановиться.
– День добрый, дядя Вась, – по старой детской привычке назвал он Пименова «дядей». – Чего не заходите? На поминки ждали вас, а вы…
– Напился я в тот день, Ванюшка, прости старого дурня. Да и не хотел на людях слезы свои показывать, – неожиданно всхлипнул он и утерся рукавом, – любил я отца твоего, добрый мужик был. А что у вас с Наташкой моей не сладилось, то ваше дело, не в обиде я. Сейчас-то куда собрался? В лавку отцову?
– Да нет, там корнильевский человек сейчас сидит, товар у них общий с отцом оказался.
– Те своего не упустят, знаю я их, – закрутил головой Пименов, и до Ивана долетел смачный запашок перегара. Василий был верен себе, и редкий день появлялся трезвым в людном месте. – Да черт с ними, с Корнильевыми этими, айда лучше до меня, посидим, выпьем. А?
– Не могу, дядь Вась, мне завтра велено в суд явиться.
– А чего тебе, честному человеку, в суде делать? – насторожился Пименов, посерьезнев.
– По отцовым долгам, видать…
– Вон оно что… Слышал, будто ты серебро на Урале нашел?
– От кого слышали? – спросил Иван, хоть и понимал, не скажет Пименов.
– А какая разница, – беззаботно махнул тот рукой и подмигнул Ивану, – слухом земля полнится, на то человеку и язык дан, чтоб разговор вести. Так, значит, нашел серебро?
– Рано говорить, – осторожно отозвался Иван, – образцы только привез.
– И правильно делаешь, что съедешь с Тобольска на прииски. Паршивый город, и люди паршивые. Только каждый о своем кармане и думает, никто друг дружке помочь не желает. Зря мы с тобой не породнились, а то бы вместе на прииски те отправились. Твоя голова да мой капитал, и дело бы заладилось, глядишь. Я ведь нынче разбогател, слышь, Ванька! Хороший куш взял на соли. Сперва скупил всю соль в округе, да и своих людей поставил на заставах, чтоб ежели кто соль повезет, то быстрехонько мне докладывали, а я и ее скупал, не давал до города дойти. Потом пождал месяц, когда старые запасы у всех выйдут, попьянствовал малость, но при том зорко следил, не дай бог, кто заявится в город с обозом без моего ведома, – он громко хохотнул, широко открыв мокрый рот, хлопнул Ивана по плечу и продолжал: – Вот когда народ из лавки в лавку ходить начал, соль искать, то я по тройной, супротив старой, цене и выкинул чуть. За ней, за солью моей, и мужики и бабы едва не в драку кинулись, берут. Ну, я подержал цену недельку, берут, чтоб мне провалиться на этом месте! В драку лезут за солью моей! Решетников Фома разнюхал-таки, к губернатору кинулся, жалиться, значит. Ну, пришлось ему уступить пять пудов по старой цене. И веришь, нет, но слух пошел по городу, будто киргизы захватили те солончаки, где соль всегда брали, и соль к весне совсем на вес золота будет, хватает народ по несколько пудов каждый, переплачивают, но берут. Все мои запасы разобрали за месяц с небольшим. Так что знай, – похлопал он себя по боку, – с прибытком я нонче, а потому гуляю. – Иван уже начал жалеть, что остановился для разговора со словоохотливым Пименовым, и решил распрощаться.
– Поеду я, дядь Вась, – шагнул он в сторону саночек, – ты уж извини.
– Постой, – не пустил тот его, – а может, тебе деньжат занять? А? Бери, я сегодня добрый…
– А сколько можно? – растерялся Иван.
– А сколь надо? – вопросом на вопрос ответил Пименов. – Сотню? Две?
– Тысячу… – выдохнул Иван и внутренне сжался, ожидая отказ.
– Тысячу? – переспросил тот и запустил пятерню под шапку, чуть подумал, а потом скинул шапку на снег, притопнул ногой, заявил: – Пусть будет по-твоему! Тыщу, так тыщу! Только не забывай, до конца дней помни, кто тебе в тяжелый час руку протянул. Понял?
– Понял, дядь Вась, понял… – Иван не заметил, как жгучие слезы выступили у него в уголках глаз и внутри разлилось тепло, словно после стопки выпитой водки.
– Поехали, что ли? – отвел вдруг глаза в сторону Пименов. – А то передумаю, откажу, а денежки промотаю! А? Едем?
– Едем, едем, – засуетился Иван и полез в санки, подождал, пока Пименов дойдет до своей кошевы и выправит с торговых рядов на Воскресенскую улицу.
Когда вошли в дом, то первый, кого увидел Иван, была Наталья, выглянувшая в прихожую и широко улыбавшаяся отцу. Узнав Ивана, не то удивилась, не то испугалась и тут же нырнула обратно в горницу.
– Чего прячешься? – зычно засмеялся Пименов. – Выходи, поздоровкайся с гостем дорогим, – но с кухни к ним вышла жена Василия Пименова и строго зыркнула на мужа, недовольно проворчала:
– Расшумелся тут… Здравствуй, Иван, проходи с миром, а моего горлопана не слушай шибко. Он поорет и перестанет, успокоится.
– Спасибо, мать, на добром слове, – чмокнул жену в щеку Пименов и, бесцеремонно схватив Ивана за руку, потащил в горницу, на ходу громко крикнув: – Водки нам, квасу, да сала порежьте на закуску. И чтоб быстро! – В горнице усадил Ивана на небольшой низенький диванчик, которого, насколько Иван помнил, ранее в их доме не было, сам же остался на ногах и принялся расхаживать из угла в угол, потирая при этом красные с мороза руки. – Вот ведь, кузькина мать, какие дела творятся на белом свете! Кто бы подумал, что я, Васька Пименов, да такую деньгу заграбастаю?!
Иван сидел на диванчике, куда его усадил Лимонов, беспомощно выставив перед собой ноги, обутые в стоптанные, в двух местах подшитые сапоги, в которых ездил и на Урал и в Петербург, другие завести было все как-то недосуг, носил по привычке то, что родители давали. А вот сейчас, оставшись один, да еще в чужом доме, рядом с бывшей невестой неожиданно почувствовал себя не то что не в своей тарелке, а почти что голым, и неожиданно начал густо краснеть. Ему было стыдно перед этими людьми, которые не только простили его за расстроившуюся свадьбу дочери, но и предлагали деньги, ничего не прося взамен, а по широте души своей, из вечного русского желания помочь кому-нибудь, подсобить, подставить плечо, отдать, если есть, последнее и даже извиниться при том, мол, больше-то нет… И не ставить себе того в особую заслугу или честь привычное дело помощи близкому, а то и совсем чужому человеку. И при всей бескорыстности и открытости души русского человека одновременно живет в ней извечное желание обставить, обмишурить, перехитрить ближнего, да еще и похвастать перед всеми потом, пощеголять, выставя себя этаким умником-хитрецом, не видеть в том особого греха и даже не пытаться раскаяться в содеянном.
Разве не так поступил Василий Пименов, скупив всю соль в городе, заставя платить за нее втридорога? Не обман ли то? Не грех? Но скажи ему сейчас о том, намекни самую малостью, и взовьется, взалкает, разбушуется, не поверит, и на всю оставшуюся жизнь станешь ему наипервейшим врагом, и что потом ни делай, ни говори, не заслужишь прощения вовек.
А Пименов, довольный собой, барышом и тем, что сын его покойного друга сидит здесь, сейчас перед ним и в его силах ему помочь, выручить, спасти от долговой тюрьмы, гоголем прохаживался, даже чуть пританцовывая по горнице, и все говорил, говорил, рассказывал, как он ловко скупил соль, угадал момент, выждал, да и слух про киргизов помог, все в руку, все за него, за Ваську Пименова, а теперь… можно загулять хоть на полгода, хоть на цельный год, а то и на всю оставшуюся жизнь.
– Слышь, Иван, – обратился он к Зубареву, – а может, в Ирбит, махнем на ярмарку? Гульнем, пошумим, покутим? Едем? Сегодня в ночь и махнем, на почтовых, и через пару дней, глядишь, там будем. В нашем Тобольске, одно название – гу-бер-ня, – Василий нарочно растянул слово, презрительно сквася губы и выкатив глаза, – то заутреня, то вечерня, а потолковать ладом и не с кем, дыра! Едем, брат, на ярмарку?! Дуся, Наталья, – зычно закричал он, – собирайте мне в дорогу, мы с Иваном на Ирбит погнали, прямо сейчас!
– Дядь Вась, не смогу я с вами, – робко заметил Иван, – дел много…
– Пождут дела, – небрежно махнул он рукой, – какие могут быть дела, когда ты сейчас станешь чуть не самым богатым человеком во всей округе? Забыл, зачем ко мне приехали? Счас я, счас, принесу деньги-то, чтоб не подумал, будто я брехун какой, – и он исчез, выскочив в соседнюю комнату, но вскоре вернулся оттуда, неся на вытянутых руках перед собой пухлый кошель, увесистый на вид. – Держи! – брякнул его Ивану на колени. – Дома сочтешь, и сам не знаю, сколь там есть. Тебе должно хватить.
– А вам останется чего? – смущенно заметил Иван, не в силах отвести глаз от денег, показавшихся ему тяжеленными. Столь огромной суммы он никогда и в глаза не видел, а уж тем более в руках не держал.
– За меня, паря, не боись, себя не обделю, – хохотнул Пименов, – на мою долю хватит.
– Может, я хоть расписку напишу? – предложил Иван.
– На хрена мне твоя расписка? Чего я с ней делать стану? Разбогатеешь на своих приисках и сполна отдашь. Ты ведь, чай, зубаревской породы, не обманешь. Думаешь, почему тебе даю? Мог бы и кому другому, желающих до хрена найдется, а ведь тебе, именно тебе, Зубареву, даю. Да потому что мы с твоим батюшкой всегда один перед другим нос задирали, казали, кто больше другого стоит. А вышло-таки по-моему! Чуешь, чего сказываю? Коль ко мне его сын пришел за вспомоществлением, то значит я жизнь свою прожил не зря, обошел на вороных дружка, тезку своего, Василия. Вечная ему память, и пусть земля пухом будет, – перекрестился Пименов на образа.
В комнату вошла его жена, неся на медном подносе два пузатых стаканчика синего стекла и на тарелке мелко порезанные огурцы, на другой – сало, на третьей – грибки горкой.
– Зачем опять огурцы нарезала? – заворчал Пименов. – Знаешь ведь, не люблю…
– Одни выпивать станете или нас с дочкой пригласите? – не отвечая на придирки мужа, спросила хозяйка.
– Да уж как-нибудь без вас справимся, – отмахнулся Пименов. – Слышала? Мы с Иваном в Ирбит едем?
– Я не могу, – твердо повторил Иван.
– А я сказал – можешь! – брякнул по столу кулаком Пименов.
– Василий, если ты и дальше будешь так шуметь, то может, вам обоим лучше в кабак пойти? – спросила его жена и, повернувшись, вышла. На Пименова ее слова подействовали, как ни странно, успокаивающе, он сел на лавку, стоящую возле стола, поманил к себе Ивана. Тот, продолжая держать в руках тяжелый кошель, подошел к столу и сел с краю.
– Ты чего словно не родной? – ткнул его в бок кулаком Пименов. – Положи деньги на стол, не украду, не боись.
– Совсем и не боюсь. – Иван положил кошель на уголок стола.
– Давай выпьем, – налил Пименов в стаканы, – да помянем раба божьего Василия, отца твоего, – предложил он, подавая один из стаканов Ивану. – Пей, пей, – проследил, чтоб Зубарев выпил до дна. – Прости, Господи, грехи ему, – и ловко выплеснул содержимое себе в рот.
Пока они выпивали, Пименов не переставая говорил, вспоминал, как они с Зубаревым-старшим ездили в Березов, раз даже чуть не замерзли по дороге да наткнулись на остяков, отогрелись. У Ивана как-то потеплело в груди, стало радостней, и он время от времени кидал осторожные взгляды на кошель, ловя себя на мысли, как ему хочется остаться одному, подержать деньги в руках. Пименов заметил это и проговорил небрежно:
– Я тебе, Вань, знаешь, чего скажу? Ты гляди, за деньги душу не променяй, а то оглянуться не успеешь, как только они одни для тебя наиглавными самыми станут, про людей забудешь, а они, деньги проклятущие, всю душу-то тебе и выжгут, спалят. Я хоть мужик не больно верующий, в церкву, сам знаешь, не часто хожу, но тут моя вера крепкая: нельзя деньгам волю давать, чтоб они над тобой верх забрали. Понял?
– Ага, – кивнул головой Иван и снова против своей силы глянул на проклятый кошель.
Потом все как-то смешалось у него в голове, и, когда на другой день он пытался восстановить происходящее, вспоминал лишь пьяную болтовню Василия Пименова, как несколько раз в горницу заходила хозяйка, приносила новый графинчик, внимательно смотрела на него, Ивана, и вновь выходила. Потом Пименов уснул прямо за столом, но и в полусне пытался еще что-то сказать, объяснить, требовал запрягать, чтоб ехать на ярмарку, в Ирбит. Тогда Иван встал и пошел в прихожую, но непонятным образом оказался в комнате, где сидела за вышивкой Наталья. Тут память совсем отказывалась служить ему, и вспоминались лишь смеющиеся Натальины глаза, яркие губы, все та же непослушная прядка волос, выбивающаяся из-под платка. Ее, эту прядку, Иван непослушными руками несколько раз пытался накрутить на свой палец, уложить на место. Наталья сердилась, хлопала его по руке, но не прогоняла. Тогда он настолько расхрабрился, что предложил ей поехать в Петербург. Наталья хохотала, отталкивая его от себя, грозила, что расскажет все отцу, и тут в комнату заглянула мать. Она увела Ивана обратно в горницу, где все на том же диванчике лежал уже разутый хозяин, громко похрапывая. Она налила Зубареву большую кружку холодного кваса и проводила до дверей. Дальнейшее, как он добирался в своих санках до дому, Иван помнил и вовсе смутно. Антонина спала, а Карамышев у свечи читал книжицу, подаренную накануне митрополитом Сильвестром. Он как будто и не заметил или не придал значения, что Иван вернулся не совсем трезвым, и стал зачитывать ему что-то смешное.
Но когда Зубарев кинул на стол тяжело звякнувший кошель, тесть встрепенулся.
– Откуда? – спросил он, настороженно глядя на Ивана. – Неужто Михаил Яковлевич расщедрился? – Но Иван ничего не стал ему объяснять, прошел в свою комнату и завалился спать. Сегодня он со стыдом вспоминал то, что наговорил вчера Наталье, и хотелось побыстрее уехать из города, остаться одному и гнать по заснеженной дороге так, чтоб только комья снега летели из-под копыт Орлика да ветер трепал волосы, чуть не срывая с головы шапку. Но в глазах вновь и вновь вставала русая Натальина прядь, и она словно держала его, привязывала к себе, не давала навсегда уехать из города.
Вместе с Карамышевым они решили, что разочтутся с наиболее навязчивыми просителями, которые чуть ли ни каждый день приходили требовать возвращения долга, а потом, через два-три дня, оставив старого деда Михея сторожить дом, уедут из города и до весны поживут в Помигаловой деревеньке, где вряд ли кто-то сумеет найти Ивана. Оставалось только неясным: сообщать ли об этом губернатору Сухареву. Он наверняка уже знает, возможно, и митрополит ему сообщил, что Иван выплавил у себя дома серебро из руды с Урала. Как он поведет себя при этом, предвидеть было трудно. Вероятнее всего, попытается найти Зубарева, направит на розыски полицию, а чем это закончится, опять же предвидеть невозможно, но вряд ли чем-то добрым. Потому тесть посоветовал Ивану не искушать судьбу, а наведаться в губернаторский дом и сообщить Сухареву, мол, уезжает по срочным делам, а как вернется, тут же явится на глаза к его высокопревосходительству.
Алексей Михайлович Сухарев встретил Ивана чуть ли не радостно, быстренько выпроводив из кабинета каких-то офицеров, окинувших Ивана вопрошающими взглядами.
– Рассказывай, голубчик, что там у тебя получилось, – поинтересовался он, усаживая Зубарева перед собой.
– А чего говорить, – небрежно пожал тот плечами, – выплавили серебро из руды. Не обманул Тимоха Леврин, настоящим мастером оказался.
– Про расписочку не забыл? – осторожно напомнил Алексей Михайлович.
– Как же, забудешь тут, – усмехнулся Зубарев. – Только, ваше высокопревосходительство, коль вы взялись в долю со мной те прииски разрабатывать, то и помощь ваша хотя бы на первое время требуется.
– О какой помощи речь ведешь? – привстал со своего кресла губернатор.
– Да хотя бы пару человек солдат мне для охраны выделите.
– Солдат? – переспросил Сухарев. – Солдат, это можно… Только на кой они тебе сдались? Денег у тебя все одно не имеется, а людей смешить, по городу под охраной разгуливать, зачем оно?
– Так они мне для поездки на Урал нужны, к башкирцам. Там без охраны и сгинуть можно.
– Хорошо, – чуть подумав, согласился тот, – будь по-твоему. Отпишу полковнику Ольховскому, чтоб выделил тебе на месяц пару своих солдат.
– И чтоб при конях, – добавил Зубарев.
– Поди, еще и довольствие на них потребуешь?
– А как же… Святым духом они, что ли, питаться будут?
Сухарев собственноручно написал на небольшом листке бумаги записку полковнику и подал Ивану. Тот, даже не поблагодарив, а как само собой разумеющееся, взял ее, бегло прочел и спросил твердо, глядя в глаза губернатору:
– Еще одно дело до вас имеется… Как рудники те найдем, то пробы с них желательно в Петербурге делать, в Берг-коллегии. Заведено так. Дело-то не шуточное…
– Это точно, – покрутил головой Сухарев. – Только чего от меня хочешь, никак не пойму? Чтоб я сам в Петербург те образцы повез?
– Зачем, то мое дело свезти их. А от вас потребуется письмо в Берг-коллегию направить, чтоб дозволили мои пробы к испытанию принять.
– Ишь куда ты, голубчик, взлететь собрался, – желчно усмехнулся губернатор, – то мне не по чину будет, моего письма там даже никто и читать не станет. Ты еще императрице на прием напросись.
– Надо будет, и напрошусь, – ничуть не смущаясь, ответил Зубарев и, не простившись, вышел, оставив губернатора своим ответом в полном недоумении.
Но выехать пришлось не через два дня, как они думали с тестем изначально, а сразу на следующую ночь, поскольку все, кому задолжал в свое время Зубарев-старшый, проведав, что у сына его появились вдруг неожиданно деньги, ринулись к нему на двор, требуя немедленной уплаты. Иван успел разыскать полковника Ольховского, вручил ему записку от губернатора, которую тот прочел и пообещал направить с Иваном на Урал двух солдат, когда потребуется. Договорились, что Иван будет ждать их в Тюмени в первую неделю после Пасхи на постоялом дворе. И ночью, наняв знакомого ямщика из Бронной слободы, Иван вместе с тестем и Антониной тайно выехали из города.
Остаток зимы и раннюю весну он жил в Помигаловой, не находя себе применения. Пробовал писать прошение в Берг-коллегию с просьбой о помощи в изысканиях, но, перечитав, рвал бумагу в клочки, не желая даже отправлять.
Как только обмяк снег, появились проталины на бугорках возле изб, прилетели черные грачи, хозяйственно осматривая крестьянские поля и опушки леса, Иван начал готовиться к поездке. Он часто выходил за деревенскую околицу, всматривался в уходящую за перелесок дорогу, которая вела к почтовому тракту, и чего-то ждал, подолгу оставаясь в полном одиночестве, чем вызывал недоуменные взгляды местных крестьян.