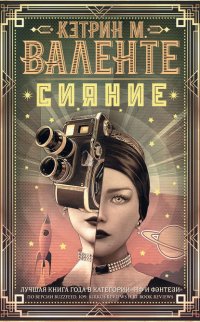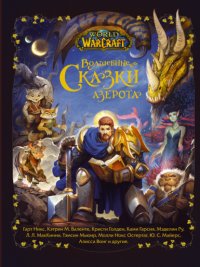Читать онлайн Бессмертный бесплатно
- Все книги автора: Кэтрин М. Валенте
Catherynne M. Valente
DEATHLESS
© 2011 by Catherynne M. Valente
© Владимир Беленкович, перевод, 2017
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Часть 1. Длинный узкий дом
- И ты придешь под черной епанчою,
- С зеленоватой страшною свечою,
- И не откроешь предо мной лица…
- Но мне недолго мучиться загадкой:
- Чья там рука под белою перчаткой
- И кто прислал ночного пришлеца?
Анна Ахматова
Глава 1. Три жениха пришли на Гороховую
В этом городе у моря, что когда-то называли Санкт-Петербургом, потом Петроградом, потом Ленинградом, а потом, много позже, снова Санкт-Петербургом, на длинной узкой улице стоял длинный узкий дом. У длинного узкого окна сидела девочка в бледно-голубом платье и бледно-зеленых шлепанцах, поджидая птицу, которая женится на ней.
Любую другую девочку за такие мысли заперли бы в комнате до тех пор, пока она не выкинет эти бредни из головы, но Марья Моревна видала из окошка мужей всех своих сестер, перед тем как они стучались в большую дверь вишневого дерева. Так что собственная судьба была для нее такой же ясной, как луна на небе.
Первый пришел, когда Марье было только шесть, а ее сестра Ольга к тому времени уже выросла высокой и прекрасной девушкой с золотистыми волосами, перевязанными сзади, как осенний сноп сена. День был влажный и серебристый, а длинные тонкие облака терлись о крышу ее дома и свертывались в аккуратные самокрутки. С верхнего этажа Марья видела, как птицы собираются в кронах дубов и ловко хватают на лету первые крохотные капли дождя. Все крылатые создания знают, что эти первые – самые сладкие, лопаются в клюве, словно виноградинки. Она рассмеялась, глядя, как грачи бьются из-за капель дождя, и вдруг – вся стая повернулась в ее сторону, глядя острыми, как иголки, глазами. Один из них, упитанный черный молодец, опасно наклонился на зеленой ветке и, не отводя взгляда от Марьиного окошка, вдруг свалился – бум, трах! – и грянулся оземь, но не разбился, а отскочил от земли, распрямился и оказался пригожим молодым человеком с большим горбатым носом, в красивой черной форме со сверкающими, как капли дождя, пуговицами.
Молодой человек постучал в большую дверь вишневого дерева. Мать Марьи Моревны, открыв дверь, смутилась под его взглядом.
– Я пришел за девушкой в окне, – сказал он отрывистым, но приятным голосом. – Я лейтенант Грач из личной гвардии царя. У меня много прекрасных домов с закромами, полными зерна, еще больше тучных полей, а нарядов у меня столько, что ей за всю жизнь не сносить, даже если будет менять их по три раза на дню каждый день до конца своей жизни.
– Должно быть, ты говоришь об Ольге, – сказала мать Марьи, взволнованно коснувшись рукой шеи. – Она самая старшая и самая красивая из моих дочерей.
И вот привели Ольгу, она и вправду сидела у окна, но на первом этаже, что смотрело не на улицу, а в сад, полный опавших яблок. Она наполнилась видом прекрасного юноши в красивой черной форме, как мех вином, и целомудренно расцеловала его в обе щеки. Они вместе пошли вдоль по Гороховой, и он купил ей золотую шляпку с длинными черными перьями, заткнутыми за ленту.
Вечером, когда они вернулись, лейтенант Грач посмотрел в малиновые небеса и вздохнул:
– Это не та девушка из окошка. Но я буду любить ее так, будто это она, потому что знаю теперь, что девушка в окошке не для меня.
Так вот Ольга благополучно отправилась в поместье лейтенанта Грача, откуда писала сестрам домой длинные письма, в которых из глаголов строились за́мки, а падежи расцветали, как ухоженные розы.
Второй жених пришел, когда Марье было девять. Ее сестра Татьяна была девушкой хитрой и рыжей, как лисица, с серыми глазами, от которых не могла укрыться ни одна сто́ящая вещь. Марья Моревна сидела у окна, вышивая подол крестильной рубашки для второго сына Ольги. Стояла весна, утренний дождь умыл их длинную узкую улицу, и она засверкала мокрыми розовыми лепестками. С верхнего этажа Марья смотрела, как птицы снова собираются на большом дубе и ловко хватают клювами промокшие и набухшие соцветия вишни. Все крылатые создания знают, что эти – самые вкусные из всех соцветий, просто тают в клюве, как пирожные. Она рассмеялась, глядя, как зуйки дерутся из-за цветов, и вдруг вся стая повернулась в ее сторону, глядя острыми, как кончик ножа, глазами. Один из них, упитанный коричневый молодец, опасно наклонился на зеленой ветке и, не отводя взгляда от Марьиного окошка, вдруг свалился и – бум, трах! – грянулся оземь, но не разбился, а отскочил, распрямился и обернулся пригожим молодым человеком с приятным округлым ртом. Пуговицы его красивой коричневой формы с длинным белым шарфом сверкали на солнце.
Молодой человек постучал в большую дверь вишневого дерева, и мать Марьи Моревны, открыв дверь, улыбнулась ему.
– Я лейтенант Зуёк из Белой гвардии, – сказал он, поскольку времена уже изменились. – Я пришел за девушкой из окошка. У меня много прекрасных домов с садами, полными плодов, много прекрасных полей, полных червяков, а драгоценностей у меня больше, чем она сможет сносить, даже если будет менять кольца по три раза на дню каждый день до конца своей жизни.
– Ты, должно быть, говоришь о Татьяне, – сказала мать Марьи Моревны, прижимая руку к груди. – Она – вторая моя дочь, и теперь она самая красивая.
И вот к нему вышла Татьяна, она и вправду сидела у окна, но на первом этаже, что смотрело не на улицу, а в сад, полный яблонь в цвету. Она, как шелковый воздушный шар, наполнилась сияющим видом прекрасного молодого человека в красивой коричневой форме и поцеловала его – совсем не целомудренно, прямо в губы. Они пошли вдоль по Гороховой улице, и он купил ей белую шляпу с длинными перьями цвета каштана, заткнутыми за ленту.
Вечером, когда они вернулись, лейтенант Зуёк посмотрел в бирюзовые небеса и вздохнул:
– Это не та девушка в окошке. Но я буду любить ее, будто это она, потому что знаю теперь, что девушка в окошке не для меня.
И вот Татьяна счастливо убыла в имение лейтенанта Зуйка, откуда писала сестрам домой сложные письма, в которых глаголы ее танцевали квадратом, а падежи расстилались, как столы, накрытые для пира.
Третий муж пришел, когда Марье было 12. Ее третья сестра Анна превратилась в стройную и нежную, как олененок, девушку, которая краснела быстрее, чем пролетает тень. Марья Моревна сидела у своего окна, вышивая воротничок нарядного платья для первой дочери Татьяны. Стояла зима, и снег на Гороховой улице ложился высокими и круглыми, как замерзшие курганы, сугробами. С верхнего этажа Марья смотрела, как птицы снова собираются на большом дубе, ловко щелкают клювами украденные у белок последние осенние орехи, что спрятаны в трещинах коры. Всякое крылатое существо знает, что из всех орехов они – самые горькие, горше вкуса прошлых невзгод, что надолго остаются на языке. Она рассмеялась, глядя, как жуланы ссорятся из-за желудей, как вдруг вся стая повернулась в ее сторону, глядя глазами острыми, как наконечник штыка. Один из них, статный серый молодец с красной отметиной на боку, перегнулся опасно на ветке, покрытой зеленой корой, и, не отводя взгляда от окна Марьи, вдруг свалился и – бум, трах! – грянулся оземь, но не разбился, а отскочил, распрямился и обернулся пригожим молодым человеком с узкими, по-озорному умными глазами, в красивой серой форме, с длинным красным шарфом и пуговицами, сверкающими, как уличные фонари.
Молодой человек постучал в большую вишневую дверь, и мать Марьи Моревны, открыв дверь, нахмурилась под его взглядом.
– Я лейтенант Красной армии Жулан, – сказал он, – ведь мир изменился настолько, что принялся воевать сам с собой, не в силах решить, как он хочет выглядеть. Я пришел за девушкой в окошке. У меня много прекрасных домов, которые принадлежат мне и моим товарищам, много прекрасных рек, полных рыбы, которые принадлежат всякому, у кого есть сеть, и у меня есть больше добрых книг, чем она сможет прочитать, даже если будет читать по три книги в день каждый день до конца своей жизни.
– Ты, должно быть, имеешь в виду Анну, – сказала мать Марьи, крепко подбоченившись. – Она моя третья дочь, и теперь она самая прекрасная.
И вот к нему вышла Анна, она и вправду сидела у окна на первом этаже, и смотрело оно в сад, полный голых веток, а не на улицу. Она, словно ведро водой, наполнилась милым видом своего прекрасного жениха в приятной серой форме и, ужасно стесняясь, позволила ему поцеловать руку. Они пошли вдоль по улице, которую по-новому называли Комиссарской, и он купил ей простую зеленую кепку с красной звездой на околыше.
Вечером, когда они вернулись, лейтенант Жулан посмотрел в черные небеса и вздохнул:
– Это не та девушка в окошке, но я буду любить ее так, будто это она, потому что теперь я знаю, что девушка в окошке не для меня.
И вот Анна послушно убыла в имение лейтенанта Жулана и писала домой сестрам письма с правильными словами, в которых глаголы были справедливо распределены между существительными, а падежи не просили больше, чем им требовалось.
Глава 2. Красный галстук
В этом городе у моря, который теперь уже называли Петроградом и никак иначе, и даже под страхом наказания не вспоминали, что когда-то он был Санкт-Петербургом, в том длинном узком доме на длинной узкой улице Марья Моревна сидела у окна и вязала жакетик для первого сына Анны. Ей исполнилось пятнадцать лет, пятнадцать дней и пятнадцать часов, она была четвертой дочерью и по возрасту и по красоте. Она терпеливо ждала, когда птицы соберутся в летних деревьях, ждала, когда они устроят драку из-за спелых алых вишен, а одна из них перегнется вперед с ветки, да так далеко, что… – но птицы все не прилетали, и она уже начала беспокоиться.
Она перестала заплетать свои длинные черные волосы в косу. Она бродила по дощатым полам дома на Гороховой улице босой, чтобы сберечь свои единственные башмаки для длинной дороги в школу. Марья, словно дитя вдовой матери, что снова вышла замуж, никак не могла запомнить новое имя для улицы, которую все свое детство она знала как Гороховую. Теперь в доме жили и другие семьи, поскольку ни одна крыша над головой, тем более такая прекрасная, как эта, не должна больше эгоистично принадлежать только одной семье.
Это неприлично, согласился отец Марьи.
Так, конечно, будет лучше, кивнула мать Марьи.
Двенадцать матерей и двенадцать отцов, каждые с четырьмя детьми, были упакованы в длинный узкий дом со старыми серебряно-синими портьерами, развешанными по центру каждой комнаты, чтобы получился лабиринт из двенадцати столовых, двенадцати гостиных, двенадцати спален. Можно сказать – да так оно и было, – что у Марьи появилось двенадцать матерей и двенадцать отцов, как и у всех детей в этом длинном узком доме. И все матери Марьи смеялись над ней, считая ее бестолковой. Всех отцов беспокоили ее буйные распущенные волосы. Все их дети воровали ее бисквиты с общего стола. Они не любили ее, а она не любила их. Они жили в ее доме, с ее мебелью, и, хотя делиться считалось добрым делом, ее пустой желудок не ходил на уличные демонстрации и не понимал своего патриотического долга. Если они считают ее бестолковой, если считают, что она немного не в себе, пускай, только бы оставили в покое. Марья не была бестолковой – она просто думала.
Требуется немало времени, чтобы обдумать такую странность, как эти птицы. Нельзя ни с того ни с сего довериться путанице и неразберихе, того пуще – хитрым трюкам памяти. Итак, стало ясно, что никакой жулан уже не придет и не заберет ее из перенаселенного дома; не уведет от непрерывного шума и стряпни всех этих Бодниексов, всех этих Дьяченок, колотящих что-то на лестнице; не поможет ее волосам, все больше редеющим и секущимся, пока за общим столом прибывает едоков; не избавит от потного товарища Пьяковского, который постоянно на нее таращится. Так вот Марья отрядила свой разум решать другую задачу – разбираться в этой истории. Неважно, чем она была занята: подметала двор, или делала уроки по истории, или помогала одной из матерей сшить рубашку, – сердце ее стучало наперегонки с птичьей загадкой, пытаясь убежать от нее в такое место, где все могло бы опять обрести смысл.
Марья приколола свое детство булавкой, как бабочку. Она рассматривала его так, как математик рассматривает уравнение. Дано: мир так устроен, что птицы могут превращаться в женихов в мгновение ока, и никто об этом никогда не говорит. Какие следуют из этого выводы? Что все уже об этом знают и только мне одной это странно? Или наоборот, только я вижу, как это происходит, а все остальные даже не подозревают, что мир таков? Поскольку ни ее мать, ни ее отец, ни Светлана Тихоновна, ни Елена Григорьевна никогда не упоминали, что их мужья тоже когда-то были птицами, Марья отвергла первое заключение. Однако второе вело к еще более затруднительным и огорчительным догадкам.
Первое предположение: возможно, никто не должен видеть, как выглядит муж, пока он не приведет себя в более или менее надлежащий вид. Возможно, страна женихов – это такое странное место, в котором полно не только птиц, но также летучих мышей, ящериц, медведей, червей и другой живности, которые только и ждут, чтобы свалиться откуда-нибудь – и прямиком под венец. Возможно, Марья нарушила какое-то правило и посетила эту страну без надлежаще выправленных документов? Все ли женихи таковы? Марья вздрогнула. И ее отец такой же? А товарищ Пьяковский, что не сводит с нее волчьих глаз? А с их женами что? А она сама тоже превратится в кого-то еще, когда выйдет замуж, так же, как птицы, которые обращаются в статных молодых людей?
Второе предположение: какими бы ни были законы мира, определенно лучше ведать о таких чудесах, чем не ведать о них. Марья чувствовала, что владеет каким-то секретом, очень важным, и если она о нем позаботится, то секрет тоже позаботится о ней. Она увидела мир обнаженным, застала его врасплох. Ее сестер спасли и увезли из города – так часто вызволяют от напастей прекрасных девушек, – но сами они не знали, что это за мужья у них на самом деле. Они не понимали чего-то жизненно важного. Марья прекрасно видела, что с их замужеством что-то не так, и себе она такого не желала. Она решила, что не хочет оставаться в неведении. У меня все выйдет лучше, чем у сестер. Если явится птица или другой зверь из этой жуткой страны, где растут женихи, я увижу его без обличья, прежде чем соглашусь влюбиться. Вот так Марья и догадалась, что любви можно придать требуемый облик, что любовь – это соглашение, договор между двумя сторонами, который они вправе по желанию подписать или нет.
Когда Марья снова увидит что-то необычное, она будет готова. Она будет умной. Она не позволит ему командовать или дурачить себя. Она сама будет дурачить, если иначе нельзя.
Однако уже давно она не видела ничего, кроме приближения зимы, или пререканий из-за хлеба, или собственных рук, что становились все тоньше. Марья старалась не доходить до третьего предположения, но в глубине души оно все равно сидело, пока, наконец, невозможно стало его не замечать. Птицы не прилетали за ней потому, что она не так хороша, как сестры. Четвертая по красоте, слишком занятая своими мыслями, чтобы отбирать у маленьких отвратительных близнецов хлеб, украденный ими с подлым хихиканьем. За ней не пришли именно потому, что она увидела их без маскарадных костюмов. Возможно, замужество и должно быть таким странным, а она теперь порченый товар только потому, что подсматривала, когда не следовало. И все равно она не жалела. Если мир делится на тех, кто видит, и тех, кто не видит, думала Марья, я всегда предпочту видеть.
Однако думами сыт не будешь. Одна, брошенная птицами, Марья Моревна плакала по своим сестрам, по своему пустому желудку, по переполненному дому, стонущему по ночам, как роженица в схватках, что пытается принести в мир одновременно двенадцать детей.
* * *
Только однажды Марья Моревна попыталась поделиться своим секретом. Если считалось неправильным единолично владеть домом, то единолично владеть знанием тоже неправильно. Тогда она была моложе, всего тринадцать лет, – как раз после зуйков и жуланов. Именно в тринадцать лет Марья Моревна научилась хранить секреты и поняла, что секреты очень ревнивы и не терпят панибратства.
В те дни Марья Моревна, как все дети, ходила в школу с красным галстуком, повязанным вокруг шеи. Она любила свой галстук – посреди ужасного дома, посеревшего от того, что столько людей в нем непрерывно стирали белье, потели, варили картошку, посреди всего этого галстук ее был ярким и роскошным – он был знаком ее принадлежности. Он выделял ее преданность и честность как члена комитета юных пролетариев. Он означал, что она была одной из лучших в школе, одной из детей революции. Она вместе с одноклассниками раздавала листовки или цветы на углу улицы, и взрослые всегда улыбались, видя, как она хороша в своем галстуке.
Кроме галстука утешали Марью в юности книги. Поэтому она любила уроки, где обсуждали их и описанные там чудеса. Единственная радость от двенадцати семей в одном доме в том, что каждая привезла с собой хотя бы один чемодан книг, и эти новые книжки с их прекрасным содержимым полагалось делить на всех. Увидев однажды мир без покровов, Марья Моревна стала одержима невероятной жаждой знаний, эта жажда гнала ее вперед по длинным узким улицам Петрограда, она хотела знать все. Особенно Марья Моревна любила потрясающего Александра Сергеевича Пушкина, который писал об уже знакомом ей обнаженном мире, в котором случается что угодно, и девочка должна быть готова к чему угодно, например, птица снова может грянуться оземь на обочине улицы. Когда она читала строчки великого поэта, она шептала себе самой – да, все это правда, потому что я видела это собственными глазами. Или – нет, не так творится волшебство. Она примеряла Пушкина к птицам, к себе и верила, что Пушкин хоть и умер, бедняга, но он на ее стороне и готов встать с ней плечом к плечу.
В то утро Марья, тринадцати лет от роду, читала Пушкина по дороге в школу, бредя по бесконечным мощенным булыжником улицам, ловко уворачиваясь от мужчин в длинных черных пальто, женщин в тяжелых башмаках и мальчишек-газетчиков со впалыми щеками. Она очень хорошо научилась прятать лицо в книжку, не спотыкаясь и не сбиваясь с пути. Книжка еще и от ветра защищала. Медь строчек Пушкина отдавалась в ее сердце тепло, ярко и почти так же сладко, как хлеб:
- Царевна там в темнице тужит,
- А серый волк ей верно служит.
- Там ступа с Бабою-ягой
- Идет, бредет сама собой.
- Там царь Кощей над златом чахнет…
Да, думала Марья, не замечая, что запах дыма от костров и старого снега окутывает ее длинные черные волосы. Волшебство – оно такое, оно тебя истощает. Как ухватит тебя за ухо, настоящий мир становится все тише и тише, пока ты почти не перестанешь его слышать.
Заручившись поддержкой товарища Пушкина, который определенно ее понимал, Марья нарушила свое обычное молчание в классе. Их учительница – молодая и симпатичная женщина с нервными голубыми глазами – обсуждала с классом достоинства немолодой и несимпатичной жены товарища Ленина – товарища Крупской. Марья вдруг заговорила, сама того не ожидая:
– Я вот думаю, какой птицей был товарищ Ленин, пока он не обратился в Ленина. Мне интересно, может, товарищ Крупская видела, как он упал с дерева. Может, она сказала, это прекрасный ястреб и я позволю ему вонзить когти в мое сердце. Наверняка он был ястребом, который охотится и глотает все, что поймает.
Все дети уставились на Марью. Она покраснела, поняв, что сказала все вслух. Она занервничала и ухватилась за галстук, будто он мог уберечь ее от взглядов.
– Ну, вы знаете, – запнулась она, но не смогла объяснить, что именно все должны были знать.
Не могла заставить себя сказать: «Я как-то видела птицу, что обратилась человеком и женилась на моей сестре, и это ранило мое сердце настолько, что я уже не могла думать ни о чем другом. Если бы вы такое увидели, о чем бы вы думали? Не о стирке же, и не о погоде, и не о том, как ладят ваши отец и мать, и не о Ленине с Крупской».
После школы ее ждали – стайка одноклассников с сердитыми лицами и прищуренными глазами. Одна из них – высокая светлая девочка, которую Марья считала самой красивой, – подошла и залепила ей пощечину.
– Ты ненормальная, – прошипела она. – Как ты смеешь говорить о товарище Ленине так, будто он животное.
Затем все по очереди давали ей пощечины, дергали за платье, тянули за волосы. Они ничего не говорили: они делали все так торжественно и строго, будто это был трибунал. Когда Марья с окровавленной щекой заплакала и упала на колени, красивая светлая девочка дернула ее за подбородок и сорвала с шеи галстук.
– Нет, – выдохнула Марья. Она бросилась за галстуком, но не смогла дотянуться.
– Ты не наша, – презрительно усмехнулась девочка. – Зачем революции ненормальные девочки? Иди домой, в поместье, к своим буржуазным родителям.
– Пожалуйста, – заплакала Марья Моревна. – Это мой галстук, мой, это единственное, чем я не должна делиться. Пожалуйста, пожалуйста, я буду молчать. Я буду сидеть тихо-тихо. Никогда не скажу ни слова. Отдайте его мне, он мой.
Светлая девочка фыркнула:
– Он принадлежит народу. А народ – это мы, а не ты.
Она осталась одна, без галстука, с разбитым носом, сотрясаясь от рыданий, со жгучим чувством стыда, словно ее ошпарили. Отправляясь на ужин, они по очереди плевали на нее. Некоторые называли ее буржуйкой, некоторые еще хуже – кулаком и шлюхой, хотя она не могла быть всем этим одновременно. Это было неважно. Она была некто, но не часть народа. Во всяком случае, не для прежних друзей. Последний из них, мальчик в очках, в особенно ярком галстуке на шее, вырвал из ее рук Пушкина и забросил книгу далеко в сугроб.
* * *
После этого Марья Моревна поняла, что она и ее секрет принадлежат только друг другу. Они скреплены кровавой клятвой. Держись меня и следуй за мной, сказал ее секрет, потому что я твой муж и могу тебя уничтожить.
Глава 3. Домовой комитет
Марья заметила это раньше других, потому что все время расхаживала по дому. Ходила когда думала, ходила когда читала, и когда говорила – тоже ходила. Ее тело не терпело неподвижности, вечно не хотело быть спокойным и размеренным. Потому-то она в совершенстве изучила протяженность верхних этажей своего дома, хотя пространство, которое можно было считать своим, уменьшилось. Всего месяц назад только пять шагов отделяли серебристо-синюю занавеску от золотисто-зеленой, за которой начинались владения семьи Дьяченок с четырьмя сыновьями – все белобрысые, как кора березы. Как вдруг, без какого-либо объявления или сбора подписей двенадцати жильцов, пять шагов обратились в семь.
Она тщательно посчитала шаги: один раз в шлепанцах, второй – без. Она продолжала счет в течение двенадцати дней и ночей, так что близнецы Абрамовы начали стучать в потолок метлами и горшками и вопить, требуя покоя, а старая Елена Григорьевна уже дважды грозила на нее донести. На двенадцатую ночь, когда Марья Моревна уже достигла полпути между синим и зеленым, отмерив по полу четыре шага, и широко, как солдат на параде, занесла ногу для следующего, она услышала чье-то еще, кроме собственного, дыхание, такое тихое, что ей пришлось вытянуть и навести уши, чтобы услышать – совсем крошечный звук, шипение крана сквозь шум грозы. Она взглянула вниз, и ее черные волосы рассыпались по плечам, как любопытная тень. Вот тогда Марья первый раз в жизни увидела домового, и мир снова преобразился.
У ее ног стоял человечек, замерший, как и она, посередине шага. Нога его неловко застыла в воздухе, а рука не закончила комический, как на параде, мах вверх. У него были длинные тонкие волосы и длинные тонкие усы, разделенные посередине, заброшенные за плечи и подвязанные опрятными красными ленточками к волосам. Белая борода, хотя и очень пыльная, не выглядела запущенной: скорее серая пыль украшала ее. Поверх рабочей рубахи цвета цемента на нем был толстый красный жилет, который казался сделанным из крошечных черепиц, а брюки перекрещивались черными полосками, словно оконные переплеты. Посередине штанов была прореха, чтобы выпускать наружу длинный тонкий хвост, лысый, как у опоссума.
Марья и домовой надолго замерли, уставившись друг на друга, как дикие животные, что пришли на водопой к одному ручью и оба прикидывали – бежать ли им прятаться друг от друга. Вот оно, подумала Марья, чувствуя, как колотится сердце. Мир опять обнажился, изнанка мира вышла наружу, значит, я не спятила, нет. Надо вести себя умно и не дать ему уйти. Наконец она заговорила:
– Куда ты идешь, товарищ?
– Куда ты идешь товарищ? – повторил он с вызовом. В его огромных глазах горели раскаленные янтарно-золотые угольки.
– Я меряю шагами дом. – Марья опустила ногу, и домовой сделал то же самое, развязно отряхивая жилет.
– А я шел на заседание Домового комитета, поэтому нарядился в эти изумительные одежды. Мне показалось, что сыграли вечернюю зорю, так что я спешил стать в строй, пока мне не объявили выговор.
Марью подмывало дернуть домового за усы или ущипнуть за щечки. Она хотела заключить его в объятия и попросить забрать ее в ту страну, откуда он появился, где никто не будет бить ее по щекам только за то, что она что-то знает, где достаточно хлеба и водки, от которых так круглился его животик. Неужели это и есть ее муж, что явился за ней без всякого битья об пол и преображения в добра молодца… Но непохоже, что маленький человечек пришел по этому делу. Марья сделала строгое лицо, хотя сердце ее колотилось вразнобой с дыханием.
– Ты прав, – сказала она наконец тоном, казавшимся ей достаточно назидательным. – И тебе следует немедленно отвести меня к твоему начальству, поскольку я обнаружила несообразности в содержании дома.
Домовой отдал честь, и глаза его загорелись от восторга:
– Отлично! Все домовые дела должны быть немедленно вынесены на комитет! Пошли! Мы составим и подадим рапорт! Внесем официальную жалобу! – Голос домового поднимался выше и выше, как у закипающего чайника, пока не превратился в почти исступленный писк: – Следуй за мной! Товарищ Чайник поведет тебя!
Марье казалось, что она знает свой дом на Гороховой улице. В конце концов, она прожила здесь всю свою жизнь. Она выхлебала 3070 мисок супа на кухне с полом из черных плиток. Она съела 2325 рыбин за столом вишневого дерева с тремя сучками в центре. Она видела 5475 снов в своей кроватке с красным одеялом. Она жила в доме, и дом принадлежал ей. Однако товарищ Чайник повел ее через серебряно-синюю завесу, мимо золотисто-зеленой, вниз по ступенькам, расшатанным детской беготней. Он вел ее крадучись, на цыпочках, вокруг гостиной с обоями в розочках (теперь она стала комнатой Малашенок, захламленной зеркалами, губной помадой, расческами, трофеями Светланы Тихоновны, завоеванными, когда она блистала красотой на сценах Киева), сквозь рваную простыню, которую Бодниексы повесили на кухне, чтобы дать своим четырем дочерям подобие уединения. Хотя на самом деле девочкам даже повезло, что их разместили на кухне, где пыхтела теплая железная печурка, так что все им завидовали.
Чайник перебирался через тела спящих сестер Бодниекс. Все четыре свернулись клубочками на двух матрасах, брошенных на пол посреди огарков свечей, блюдец, башмаков и тряпья. Младшая из сестер и во сне не выпускала из рук самое дорогое, что у них было, – десятилетней давности журнал мод из Лондона. Их длинные густые волосы цвета спелого хлеба перепутались между собой, раскинувшись по простыням. Домовой останавливался на плечах у каждой из девочек, чтобы легонько расцеловать их в ушки. Марья Моревна, затаив дыхание, переступила через каждую из них, потом через их мать с туго заплетенной и уложенной даже на ночь косой и, наконец, через их отца, отдыхавшего на почетном месте у большой теплой печи, приглушенно мерцающей румяными угольками. Чайник втиснулся в щель за печкой, начал толкать, и печь со скрипом отошла от стены. Отец Бодниексов забормотал во сне, но не проснулся. Чайник налег снова – маленький домовой оказался сильным, как ослик. Печь подвинулась еще немного вперед. Мама Бодниекс вздыхала во сне о давно ушедших днях, о ягодах рябины в ее волосах и о сладких сливках на столе. Чайник оскалил желтые зубы и продолжал толкать изо всех сил, чтобы Марья тоже могла протиснуться между печью и стеной: она же была много больше него, а бедному бесу нечасто приходилось втискивать кого-то кроме себя. Четверо дочерей перевернулись во сне, одна за другой, будто волна прокатилась по песку.
За плитой обнаружилась изящная изукрашенная дверца с заостренной кверху аркой, покрытая резьбой в виде цветов из райского сада с головками, обрамленными полированной медью. Любому чайнику она казалась высоким порталом храма, а Марье едва доставала до колена. Чайник легонько постучал: три раза, потом два, потом снова три. Скрипнув, дверь приоткрылась.
– Товарищ Чайник, – зашептала Марья, – я слишком большая, я ни за что не пролезу.
– Мы все должны затянуть пояса, – прошипел домовой и дернул за поясок ее ночной рубашки.
Марья закружилась веретеном. У нее было странное чувство, будто огромная рука давит на макушку, ребра сжимало так, будто Чайник пытался зашнуровать ее в один из старых корсетов матери. Когда он отпустил поясок, Марья снова примерилась к резной двери. Она уменьшилась настолько, что с трудом, но могла протиснуться, если хорошенько согнуться. Марья с трудом удерживалась, чтобы не расхохотаться, – волшебство, как у Пушкина, настоящее волшебство, и все это происходит с ней!
– Твои кости так упрямы, – фыркнул Чайник, – будто ты совсем не хочешь ужаться! Ну зачем тебе быть такой большой, бесстыжая?
– Иначе я никогда бы не дотянулась до книжной полки, – запротестовала она.
Домовой пожал плечами, будто хотел сказать: «О чем эти девочки и весь их большой народ думает – загадочно и непостижимо».
Он повел Марью через сырой коридор, минуя трижды обитую стену, через каменистый лаз с кусочками червей и корнями травы, торчащими из глинистых стен. Наконец все это сменилось дощатым полом и необычными обоями: десятки и сотни партийных листовок лепились прямо к земляным стенам, скрепляя грязь и камни.
– Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей! – кричал с листовки серьезный мужчина, потрясая кулаком.
– Опасайтесь меньшевиков, эсеров-соглашателей и царских генералов! Попы и помещики наступают на пятки! – предупреждал ребенок, окруженный солдатами с грозными лицами.
– Покончим с кухонным рабством! Требуем новой жизни при социализме! – провозглашала женщина в красной косынке, вооруженная метлой.
– Выбирайте РАБОЧИХ в Советы! Не выбирайте колдунов и богачей! – предупреждала группа молодых выборщиков в белых одеждах.
Марья касалась бумажных лиц девочек с розовыми щечками. Все общество должно преобразоваться в коллектив рабочих! – говорили они ей.
Коридор сменился просторной комнатой с высокими березовыми стропилами, весело горящим очагом, половичками на полу и диковинным хламом, наваленным в каждом углу. Там были тяжелые, в золотой оправе, зеркала; полированные серебряные дверные ручки; фарфоровые тарелки с ободками из крошечных фиалок; медные чайники; садовые ножницы; мягкие подушки с гусиным пухом; изумрудные смокинги и огромная коллекция курительных трубок; изящные табакерки с эмалевыми крышками; тяжелые серебряные щетки для волос из щетины кабана и расчески с крохотными самоцветами, вделанными в каждый зуб; граммофон с огромным золотистым раструбом; набор для крокета с разноцветными шарами; веер из черного кружева на длинном синем шнуре. Все эти причудливые сокровища окружали большой стол, за которым сидели двенадцать маленьких людей – все, как Чайник, в красных жилетах и с раздвоенными усами, только некоторые с черными волосами, некоторые – со светлыми, а некоторые – вообще женщины, хотя тоже с мягкими длинными усами, но без бороды.
– Товарищ Чайник! Зачем ты привел эту верзилу с собой? Ей полагается мирно почивать в постельке и видеть во сне клубнику и стирку! – прокричал один из домовых с огромной золотой медалью на груди – хотя, приглядевшись, Марья поняла, что это всего лишь корпус карманных часов, изображающий медаль за храбрость.
– Председатель Веник! – ответил провожатый Марьи оскорбленным тоном. – Она пришла с докладом! Я бы не стал лишать комитет возможности заслушать прелестные свидетельские показания, чтобы сделать очаровательные выводы для проведения в жизнь политики слаще, чем овсяное печенье.
Все за столом с облегчением выдохнули и энергично покивали друг другу.
Одна домовая подняла руку и получила слово от председателя Веника.
– Я – товарищ Звонок, – сказала она ломким звенящим голосом, потянув за светлый ус. – Я официально приглашаю верзилу в качестве эмиссара от Верхнего Дома представить доклад.
– Верно, верно, – загалдели комитетчики, стуча костяшками пальцев по столу.
Марья все еще возвышалась над большинством из них. Сидя за столом, они доходили ей до талии, и ей показалось, что было бы правильно сесть на пол, чтобы не смущать их своим ростом.
– Сначала я должна признаться, – сказала она, внезапно смутившись, – что раньше не верила в домовых.
В ответ на это легло каменное молчание.
Марья поспешила восполнить промах, чтобы предстать мудрой и образованной, чтобы ее не выгнали едва нога переступила порог. Щека ее покраснела в том месте, куда годы тому назад ее ударила девочка.
– В смысле я верила, что домовые могут где-то существовать – все что угодно может существовать. Но мое образование было… довольно ограниченным, и я не понимала, что появление птиц, которые могут обращаться в женихов, означает наличие домовых и некой дверцы за печкой.
– Кто, по-твоему, – кашлянула Звонок, – разбил твою любимую чайную чашку прошлой осенью? Ту, что с вишенкой на ручке?
– Я неосторожно оставила окно открытым, товарищ Звонок, и ветер сдул ее.
– Неверно! Я разбила ее, потому что ты не оставила мне ни сливок, ни печенья, а когда твои старые башмаки износились, ты их сожгла в печи, вместо того чтобы отдать мне!
– Верно, верно! – снова взорвался стол одобрительно. – Хорошо сказано!
– Я так сожалею…
– И твоя чашка тоже.
– Товарищ, я не понимаю. Я читала книжки и слушала рассказы бабушки, как любая девочка. Я точно знаю, что в каждом доме должен быть только один домовой. Как так получилось, что у вас целый комитет домашних духов?
Председатель Веник расправил на груди бороду и отряхнул жилет:
– До того как появилась Партия, в каждом доме была только одна семья. Теперь мы все должны настроиться на более правильный образ мыслей, дитя. Я пришел с Абрамовыми, когда Белая гвардия выгнала их из Одессы. Что мне было делать? Бросить близнецов только потому, что наш дом сгорел? У них такие милые пухлые щечки – они так выросли! Я спас зеркало из коридора и табакерку Марины Николаевны, – и он показал на кучи вещей вокруг.
Поднялся другой домовой, с бородой как щетка трубочиста:
– Я пришел с Афанасьевыми из Москвы. Старый папа Коля был меньшевик, и его имущество конфисковали – сам виноват, слишком много болтал. Но они отдавали мне чудесные старые башмаки каждое Рождество, а его жена была даже партийной – ничего не скажешь. Так что я стащил ее веер, прежде чем они двинулись в Петроград на крыше вагона.
Чайник похлопал Марью по руке:
– А я присматривал за девочками Бодниексов в Севастополе. Они все были прекрасны в младенчестве и всегда оставляли мне соленые сушки после ужина. Это же не их вина, что не было работы. Этим девочкам было нечего есть – ни репы, ни хлеба, ни селедки. Они думали, что в Петрограде хотя бы селедка будет. Я захватил их тарелки, я тоже надеялся. Но вот мы здесь и – ха! – нет селедки!
– Я был бы рад остаться в Киеве, – запыхтел старый морщинистый домовой с посиневшей от возраста кожей, – но эта чертова Светлана Тихоновна знала старые обычаи. Она пошла на грядку с тыквой, надев свои лучшие ботинки со шнуровкой на приятных каблучках, выложила большой круг сыра и завопила: «Дедушка домовой! Не оставайся тут, иди с нами!» Старая кляча!
За столом поднялся ропот, многие кивали и даже утирали сочувственную слезу. Один за другим все двенадцать домовых рассказали свои истории – об утраченном состоянии Дьяченок; о трагедии с детьми Пьяковских, которые потеряли старших братьев на войне; о позоре Семеновых.
– Ты должна понять, наконец, – проскрипел председатель Веник, – что коммунальная квартира требует коммунальных домовых, а коммунальным домовым нужен комитет. Мы рады исполнить свою роль! Это новый мир, и мы не хотим остаться в стороне.
– Само собой, я здесь с тех пор, когда ты еще была ребенком, даже раньше, – сказала товарищ Звонок. – Этот дом – мой суженый, и мы вместе греемся у печки. И птиц я тоже видела, – добавила она с лукавым выражением на круглом лице.
Марья вздрогнула. За всю свою жизнь она еще не встретила никого, кто был бы свидетелем обольщения ее сестер.
– Начинай свой доклад! – прокричал председатель Веник. – Мы не можем всю ночь предаваться воспоминаниям.
Марья собралась. Она пыталась успокоить стук своего сердечка. У них, конечно, были забавные усы и очень красивые жилеты, но, когда они говорили, были видны их длинные желтые зубы – у кого острые, а у кого зазубренные.
– Я… я хочу доложить, что исследовала… предмет очень тщательно, и я думаю, я даже уверена… я определенно думаю, что, без всяких сомнений, дом стал, по крайней мере, на два шага больше, чем он был несколько месяцев назад, а может, и еще больше. Я не могу обследовать комнату Дьяченок, соседнюю с нашей.
– Да уж конечно, не можешь, – проревела домовая с лоснящимися каштановыми усами, завитыми крошечной плойкой. – Это тебя не касается.
Председатель Веник утихомирил домовую Дьяченок.
– И это все, верзила? Ты думаешь, есть что-то такое, чего мы не знаем об этом доме? Ты самонадеянно выросла до такой величины, но не позаботилась раздобыть побольше мозгов для такого тела. – Он с гордостью потер свою медаль. – Это мы расширяем дом. Мы провели совещание по итогам полугодия и решили, что революция требует от нас большего, чем проказы вроде битья чашек. Если в доме столько хозяев, дом должен быть достаточно вместителен.
Чайник хлопнул в ладоши.
– От каждого по способностям, каждому по потребностям! – радостно провозгласил он.
– Хорошо сказано, товарищ! У нас есть способности, которые мы эгоистично накопили, не понимая, что обязаны ими Народу, что мы стали ленивыми буржуазными декадентами, погрязшими в роскоши домов, мы забыли о Великом Долге и Высоких Идеях! – застучал по столу своим красным кулачком председатель Веник. – Довольно! Домовые принадлежат Партии!
– Однако же, – запротестовала Марья, – если вы расширяете дом, то соседние дома разрушатся.
– Дитя мое, – сказала товарищ Звонок, – мы не архитекторы. Мы – бесы. Мы – гоблины. Если бы мы не умели немного расширить дом изнутри без того, чтобы он вспучился снаружи, мы бы не стоили облезлого хвоста. В конце концов, мы столетиями устраиваем себе жилища внутри стен.
– Мы вскроем этажи, как развязывают пачку газет – хлоп! – и они вырвались на свободу! Дом на Гороховой станет секретной страной посреди Санкт-Петербурга! Люди будут выращивать репу на кухне, сажать пшеницу на потолке, а у нас будет столько печенья на столе, что мы все округлимся и будем не ходить, а кататься! – буйно размечтался домовой Пьяковских.
Тишина над столом застыла, как лед на пруду.
– Это улица Дзержинского, товарищ Баня, – тихо произнес председатель. – Это Петроград.
– О… Конечно, – пристыженно сел на место Баня. Лицо его покраснело, а сам он начал дрожать.
– О, не беспокойтесь, – вскричала Марья в отчаянной попытке выручить бедное создание из неловкой ситуации. – Я и сама никогда не помню, как правильно!
– Это наш долг – помнить, – холодно заметил Чайник в сторону.
– Ты не должна никому говорить о том, что мы сделали, – прервал ее председатель. – Ты понимаешь? Стоит нам донести на тебя в Домовой комитет, в другой комитет, тот, что в Большом Доме, и тебя укатают быстрее, чем сможешь рот раскрыть.
– Ни за что, обещаю, – поспешно ответила Марья. – Хотя доносить на людей не следует. Это не по-соседски, и вообще было бы ужасно с вашей стороны.
Председатель Веник ухмыльнулся, показав свои желтые, зазубренные, как у волчьего капкана, зубы.
– Пойми нас правильно. Мы все очень сладкие, когда ты нас умаслишь кремом, печеньем, башмаками, но ты же нам ничего не принесла, так что и мы тебе ничего не должны. Партия – это чудесное, замечательное изобретение, и она научила нас разным чудесным и замечательным вещам, но главное – тому, что мы можем создать больше проблем с меньшими усилиями, написав донос, а не вечно бить чашки.
Марья задрожала. В животе у нее похолодело.
– Но у домового не примут донос…
– А кто тут домовой? – засмеялся товарищ Баня, тоже оскалив зубы. – Я – Екатерина Пьяковская.
– А я – Петр Абрамов, – усмехнулся председатель Веник.
– А я – Гордей Бодниекс, – ухмыльнулся Чайник.
– Ручку нам приходиться держать вдвоем, но мы справляемся, – хихикнул домовой Малашенок.
Теперь над ней смеялись все домовые, сверкая желтыми зубами в свете канделябров. Марья Моревна закрыла лицо руками.
– Хватит уже, Веник, – отрезала Звонок. – Храпун ты запечный! Не пугайте ее, она моя, так что заткните поддувала! – Ее усы тряслись от гнева. Она покинула свое место, чтобы погладить Марью по подолу ночной сорочки: – Ну-ну, дорогая Маша, – запричитала она, называя ее ласково, по-домашнему. – Хочешь, я склею твою чашку. Тебе станет лучше от этого?
Председатель Веник, перегнувшись через стол, ухмылялся все шире и шире, пока уголки его рта не встретились где-то за ушами.
– Ну, погоди, – прошипел он. – Погоди. Папа Кощей едет, едет, едет, по холмам, по долам, на красном коне, с колокольчиками на шпорах и с обручальным кольцом в кармане, и он знает твое имя, Марья Моревна.
Марья не смогла сдержаться и завизжала. Усы домовых будто ветром сдуло. Звонок взвилась на него:
– Веничек, жопа твоя ежовая. Ты куда проговорился! Стоило ради этого пугать бедную девочку?
– Звоня, да я для того и живу, чтобы пугать бедных девочек! Их слезы для меня – как свежие, еще теплые булочки, обмазанные вишневым вареньем. Конечно, оно того стоило.
– Вот посмотрим, когда Папа приедет, – предупредила товарищ Звонок.
Домовые слегка отпрянули от Веника, будто предполагая, что он обратится в пепел прямо у них на глазах.
– Вы все видели, – продребезжала Баня, накручивая усы, стараясь загладить свой промах. – Это не я сказала, это Веник!
– Зафиксировано в протоколе, – мрачно сказала Звонок.
– Я не понимаю, – сказала Марья сквозь слезы, текущие по щекам. – Откуда вы знаете мое имя?
– Не беспокойся об этом, дорогая, – радостно ответила Звонок. – Уже поздно, и тебе пора в постель, не правда ли?
Пальцы рук и ног у Марьи онемели. Она позволила увести себя от гогочущего комитета, дрожа, будто ее поливают из ведра ледяной невской водой. Домовая тащила ее мимо угрюмого Ленина, требовательно вопрошающего: ТЫ записался добровольцем на передовую? Марья на мгновение запаниковала – что, если она не станет снова большой и застрянет здесь навсегда с гоблинами и хмурым бумажным Лениным, глядящим со стены? Внезапно ей очень захотелось снова увидеть переднюю сторону печки и свою постель.
– О чем он говорил? Кто такой Кощей? – тихо спросила она.
– Знаешь, Маша, ты была очень неосторожна. Я стараюсь присматривать за тобой, хотя ты ни разу не оставила мне ни башмаков, ни сливок, и я начинаю думать, что это испытание для моей щедрой души, но ты просто притягиваешь к себе внимание.
– Ничего подобного! Я сижу так тихо, что абрамовские близнецы даже споткнулись об меня на прошлой неделе. – После случая с галстуком она очень старалась, чтобы ее никто не замечал.
– Марья Моревна! Ты вообще ничего не понимаешь? Девушки должны очень, очень стараться думать только о лентах, журналах и обручальных кольцах. Они должны чисто вымести свое сердце от всего, кроме поцелуев, театра и танцев. Они не должны читать Пушкина, не должны говорить умно и глядеть хитро, бродить по дому босиком с распущенными волосами, в противном случае они привлекают внимание! Сиди дома за-мужем, как за каменной стеной! Но теперь уже слишком поздно! Глупое дитя, мы с домом так старались воспитывать тебя как положено!
– Да кто он? – взмолилась Марья, хотя имя это она точно раньше слышала, ну правда же? Имя, зацепившись за что-то в глубине разума, притягивало ее к себе.
Звонок в ответ побелела от страха и гнева и не произнесла ни слова. Когда они проходили через обсыпанную мукой дверь обратно в щель за печкой, она снова дернула за Марьин пояс. Марья завертелась, как веретено, и опять испытала странное чувство, будто огромная рука тянет ее за макушку, а кости хрустят и вытягиваются. Перестав вертеться, она оказалась перед печкой, в своем прежнем виде. Она даже была разочарована, ну самую малость. Все закончилось. Закончилось что-то невероятное, и длилось оно совсем недолго. Без всяких сложностей она снова стала большой, и как долго ей теперь ждать, чтобы снова увидеть краешек обнаженного мира?
– Смотри, – прошептала Звонок, – это все, что я могу для тебя сделать. – Маленькая домовая полезла в красный жилет и вытащила серебряную щетку, которую Марья видела среди прочего хлама в комнате комитета. – Это щетка Светланы Тихоновны. Ты знала, что в молодости она была балериной? Товарищ Столик вечно над ней насмехается, но, когда она засыпает, приходит, чтобы завить ее волосы, и укладывается спать у нее под ухом. Он говорит, что она пахнет Киевом.
– Он разве не знает, что ты взял ее щетку?
– Я буду лупить его по пяткам до тех пор, пока он не признает, что щетка твоя. Но Светлане ты ее не показывай – она захочет вернуть ее.
– У меня вообще-то уже есть щетка для волос, – возразила Марья.
Звонок моргнула. Сначала одним глазом, потом другим. Она закрыла ладонью левый глаз и сплюнула:
– Тебе нужна именно эта.
С этим домовая подпрыгнула на одной ножке, обернулась три раза вокруг себя и исчезла.
Глава 4. Лихо никогда не спит
В городе у моря, который, конечно, никогда не называли так буржуазно, как Санкт-Петербург, на длинной узкой улице стоял длинный узкий дом. У длинного узкого окна сидела молодая девушка в голубом платье и бледно-зеленых шлепанцах, наблюдая, как в дом напротив въезжает новая соседка. Старуха в черном вязаном платье, очень высокая и худая, с такой длинной и узкой талией, что Марья могла бы обхватить ее двумя ладонями, тащила за собой чемодан. Пальцы старухи были поразительно длинными, нос острым и бугристым, а седые волосы были стянуты в тугой пучок на затылке. При ходьбе она хромала и горбилась, но Марья подозревала, что только для того, чтобы скрывать свой рост.
– Это товарищ Лихо, – сказала одна из двенадцати матерей, штопая ветхий чулок. – Бездетная вдова. Говорит, что готова нас всех обстирывать, старая бедолага. Я думаю, будет хорошо, если ты заглянешь к ней после школы. Она могла бы с тобой позаниматься, присмотреть за тобой, пока я на фабрике.
Марье эта идея совсем не понравилась. В классе она могла предаваться собственным мыслям, и никто ее не беспокоил – учителя ее больше не вызывали. С репетитором нельзя было избежать вопросов. Она нахмурилась, глядя на сгорбленную вдову Лихо. Старая карга остановилась и посмотрела на окно, быстро и резко повернув голову, совсем как те птицы. Огромные черные глаза вдовы Лихо будто обвисли и обмякли, съехав на скулы. Взгляд ее стал колючим и кусачим. Вишневые деревья усеяли черное платье Лихо лепестками. Глядела она сердито.
– Не надо бояться старушек, – увещевала другая из матерей Марьи. Так совпало, что эта мать действительно ее родила. Марья знала, что не должна выказывать ей особое расположение, но руки ее матери так истончали, а кожа так обветрилась, что Марье хотелось взять ее ладони в свои, чтобы они согрелись и порозовели. – Ты тоже однажды состаришься, знаешь ли.
Вдова Лихо продолжала смотреть на окно Марьи. Медленно, словно лед тает на тарелке, она улыбнулась.
* * *
От домовых Марья больше ничего не слышала. Однако она заботливо выставила свои любимые черные, с изящной черной лентой башмаки, засунув в каждый по печенью. Все мои красивые вещи принадлежат дому, а значит – все равно что Народу. Она аккуратно пристроила их в изножье кровати. К тому же мне некуда надевать вещи, в которых я буду выглядеть как девочка из богатой семьи. Когда она проснулась утром, ботинки исчезли.
На их месте оказалась неумело склеенная чайная чашка с вишенками на ручке. Когда она взялась за нее, ручка отвалилась.
Каждый вечер она расчесывала волосы щеткой Светланы Тихоновны. Волосы ее сухо шуршали прядью о прядь, уже не такие мягкие и блестящие, как были, но выпадать еще не начали. Ничего примечательного не происходило. Возможно, Звонок просто имела в виду, что собственный деревянный гребень Марьи уже совсем износился. Я же не виновата, что волосы мои настолько спутались, что выломали два зуба из гребня, фыркнула она. Марье очень хотелось отправить послание Нижнему Дому. По ночам она шептала в печные трубы: Мне все здесь опостылело. Пожалуйста, заберите меня отсюда, позвольте стать кем-то еще, кроме Марьи, кем-то волшебным, возможно даже с круглым животом. Напугайте меня, доведите до слез, только приходите снова.
* * *
Несмотря на все мольбы Марьи не заставлять ее, все двенадцать матерей настаивали на том, чтобы она ходила к Лихо каждый день после уроков. И отнеси ей вкусных булочек. Она старая и сама не может стоять в очереди в булочную.
* * *
Марья застыла перед соседской дверью. Пальцы ног в изношенных башмаках скрючились и посинели, в желудке сосало. Она хотела вернуться домой. Ей надо было сунуться за печку и попросить Звонок или Чайника пойти с ней. Они бы не пошли – они же никогда не отвечают на ее перестуки, – но она чувствовала бы себя лучше. Ей не нужен ни домашний учитель, ни пригляд за ней. Она хорошо знала алгебру, историю и могла наизусть прочитать пару сотен строчек из Пушкина.
Вдова Лихо открыла дверь и уставилась на Марью как стервятник на ветку боярышника. Марья не удивилась бы, если бы старуха заклекотала или закричала, как стервятник. Она была настолько велика, что не смогла бы пройти в дверь, не поклонившись притолоке. Вдова упиралась в створ двери длинными руками с острыми жемчужными ногтями без малейшей желтизны или других признаков старости. На самом деле, хотя морщинистое лицо ее было изрядно увядшим, руки оставались молодыми, упругими, способными запросто умыкнуть девочку с улицы.
Вдова Лихо ничего не сказала. Она повернулась и медленно пошла по коридору, волоча за собой подол платья – будто черное пятно. Она откинула занавеску, что отделяла ее комнату от других семей, и Марья пробралась за ней вслед, стараясь быть незаметной и надеясь, что старая ведьма задремлет, пока Марья будет ей читать, и можно будет потихоньку уйти. Она выложила вчерашний хлебный паек, завернутый в вощеную коричневую бумагу, на маленький медный столик с херувимами, облепившими его ножки. Вдова Лихо не притронулась к еде. Она просто смотрела на Марью, слегка наклонив голову. Она сложила руки на коленях. Руки были такими длинными, что кончики средних пальцев одной руки дотягивались до середины предплечья другой.
– Моя мать сказала, что вы можете со мной позаниматься, но, если вы устали, я могу вам почитать до вечера. Или сделать вам чаю, если захотите, – от страха Марья заикалась.
Лихо растянула бледные губы в подобии улыбки. Казалось, что далось ей это непросто.
– Я никогда не сплю, – сказала она.
Марья вздрогнула. Голос вдовы был низким и грубым, будто черными каблуками скребут по камню.
– Ну тогда у вас много свободного времени, я полагаю.
– Уроки. – Ее голос снова потащился по комнате.
– Вы не обязаны меня учить.
– Напротив, давать уроки – моя специальность. – Она наклонила голову в другую сторону. – Начнем с истории?
Старуха повернулась, при этом ее кости заскрипели и защелкали. Она вытащила с полки большую черную книгу.
Книга была так широка, что полированные мерцающие края переплета свешивались по обе стороны сомкнутых ног вдовы Лихо. Она протянула книгу Марье.
– Читай, – пробурчала она. – Голос у меня тот, что давеча.
– Вы хотели сказать – не тот, что давеча?
Лихо снова улыбнулась – той же самой пустой холодной улыбкой, – будто вспомнила что-то забавное, что случилось сотню лет тому назад.
Марья была рада не смотреть на нее. Она открыла тяжелую черную книгу и начала читать:
Последствия Великой Войны были самые разные. Во-первых, прилежные ученики должны знать, что, когда мир был молод, были известны только семь вещей: вода, жизнь, смерть, соль, ночь, птицы и длительность часа. У каждой из этих вещей были Царь или Царица, а главными среди них были Царь Смерти и Царь Жизни.
Марья Моревна подняла голову от книги.
– Товарищ Лихо. Это же не история Великой Войны, – сказала она неуверенно. – Это не тот учебник, по которому учат в школе.
Вдова гыкнула, и звук при этом был такой, будто тяжелый камень свалился в пустой колодец.
– Читай, дитя.
Черная книга в руках Марьи задрожала. Она никогда еще не видела такой прекрасной, тяжелой и богато изукрашенной книги, но выглядела она не так дружелюбно, как книги в комнате ее матери или в чемоданах у Светланы Тихоновны и Елены Григорьевны.
– Миру все дается очень трудно, – читала Марья Моревна.
Только спустя вечность он овладел солнцем, землей, сахаром, длительностью года и людьми. Цари и Царицы удалились в заснеженные горы. Они оставались подальше друг от друга из семейного уважения, их не интересовали все эти новые вещи, наверняка созданные по прихоти моды.
Но Царь Смерти и Царь Жизни ужасно боялись друг друга, поскольку смерть окружена душами и никогда не чувствует себя одинокой, а Царь Жизни спрятал свою смерть – как самый глубокий секрет, на самой секретной глубине. Царица Соли не смогла их помирить, хотя они и были братьями, а Царица Воды не смогла найти море такой ширины, что разделило бы их.
Прошло много времени – дольше, чем надо звездам, чтобы перевести дух. Царь Смерти был так любим своими приближенными душами, что надулся от гордости. Он убрал себя в оникс, агат и красный камень и выдал каждой душе, что сгинула в долгой и безвкусной истории мира, и сосульки штыков, и ядра из костей, и коней из сыпучего пепла с красными искрами глаз и ушей. Вся эта великая армия с саванами вместо флагов и звоном двенадцати мечей, связанных вместе, отправилась по глубокому снегу в одинокое владение Царя Жизни.
Марья сглотнула. Ей казалось, что она не может дышать.
– Товарищ Лихо, Великая Война началась потому, что застрелили эрцгерцога Фердинанда, и Запад ногами растоптал бы благородные славянские народы в пыль, если бы мы не вмешались.
Лихо спрятала усмешку.
– Ты очень умное дитя, – сказала она.
– Да нет, вовсе нет, все это знают.
– Если ты такая умная, что все знаешь, зачем же меня позвали?
Марья выпрямилась на стуле. Черная книга опасно соскользнула с ее коленей вперед, но она не потянулась, чтобы поймать ее.
– Я? Я вас не звала! Вы вдова! Вам выделили это жилье!
– Твои волосы такие длинные и аккуратные, – вздохнула Лихо, будто Марья и не говорила ничего. Дыхание ее трещало, как игральные кости в стаканчике. – Как тебе удается с ними справляться?
– Я… У меня есть серебряная щетка. До меня она принадлежала одной балерине…
– Да-а-а-а-а-а, – старуха тянула и тянула это слово, пока его конец не хлопнул, как лопнувшая веревка. – Светлана Тихоновна. Я ее помню. Она была так прекрасна, ты даже не представляешь. Волосы ее были цвета зимней воды, а кости были такими хрупкими! Груди почти совсем не было. Когда она танцевала, мужчины руки на себя накладывали, зная, что никогда уже не увидят такой красы. У нее было четыре любовника в Киеве, один богаче другого, но сердце ее было таким холодным, что она могла бы держать лед во рту, и он никогда бы не растаял. Мы все у нее могли бы поучиться. И вот однажды, под Новый год, ее второй любовник, что держал косметическую фабрику и китобойную флотилию, которая собирала серую амбру для духов и помад, таких алых, что от них в глазах шли красные пятна, подарил ей серебряную щетку из щетины кабана. Кто знает, где он ее добыл! Может, купил у лоточницы, тощей и горбатой, в черном платье, толкающей свою тележку по дороге, обсаженной лиственницами. Светлана любила эту щетку, о, как она ее любила! Чем дольше она расчесывала свои волосы, тем ужасней и прекрасней она становилась. Так что она позволяла своему любовнику расчесывать ее белокурые волосы снова и снова, и я слышала звуки трущихся прядей аж по другую сторону снега. Я приходила немедля, с такими, как она, не мешкают. А когда она танцевала для царевен, ленты на ее туфлях немного ослабли – на бесконечную малость, – но она упала и раздробила пятку. Ну да, не повезло! Она была беременной, и, хотя лед не таял у нее во рту, она поторопилась выйти замуж за первого же каменщика, которому дела не было до балета, и завела четырех детей, которые порушили ее красоту. А потом ее дом сгорел во время зачистки. Ужасно, что это случилось с таким безупречным созданием, но ша! Такова жизнь, не правда ли?
Марья хотела бежать прочь из дома, но не могла тронуться с места. Горло ее пересохло.
– Кто вы такая? – прошептала она.
– Скажи мое имя, дочка, ты знаешь, кто я.
– Вдова Лихо.
– А как меня зовут, Марья Моревна? – пророкотала старуха, и от ее черного голоса окна прогнулись, а книжные полки задрожали. Марья, трясясь от страха, вжалась в обивку стула.
– Вдова Лихо! Товарищ Лихо! Товарищ… О! О! Лихо! Беда!
Старая женщина наклонилась вперед.
– Да-а-а-а-а, – протянула она снова, растягивая голос, как темный клей. – И у тебя моя щетка. Ты меня призвала.
– Нет… я не хотела!
– Намерение ничтожно, – пролаяла Лихо.
Внезапно она встала так быстро, как не смогла бы и молодая девушка. Она возвышалась как башня, но низкий потолок вынудил ее немного согнуться в поясе, хотя спина оставалась прямой, без всякого горба. Она нависла над Машей, огромные черные глаза искрились фиолетовым:
– Да ты меня не бойся, Марья Моревна!
Голос ее стал звучным, свистящим, дыхание ходило туда-сюда. Она взяла лицо Марьи в свои неимоверно длинные руки:
– Я не могу тебя тронуть. Ты не про меня. На тебя уже выписаны бумаги, шелка и свечи выданы. Все знают, что надо дать тебе дорогу, но ты позвала, и я пришла. Я здесь, чтобы обучить тебя, подготовить. Лучше нет учителя в нужде, чем несчастье, так что я тебе сильно пригожусь, обещаю. Держи свой хлеб. Иди домой. Погладь матушку по руке, поцелуй батюшку в щеку. Пей из своей сломанной чашки. – Лихо ухмыльнулась. – Не забывай расчесывать свои чудесные черные волосы. И приходи ко мне, когда солнце на закате. Приходи и будь моей ученицей, моей зверушкой, моей дочерью.
Марья бросилась вон из комнаты. Она бежала по коридору, задыхаясь и плача, с сердцем, спрятанным в клетке ребер, обдирая руку об стену, прочь, на длинную узкую улицу. Книгу она так и прижимала к груди.
* * *
Каждый вечер, пока солнце роняло капли красного воска в Неву, вдова Лихо стояла перед домом на улице Дзержинского и смотрела на окно Марьи. Горб ее вернулся – она снова выглядела как обычная старая женщина, но сторожила окно, словно седовласая ворона, и неизменно улыбалась, молчаливая и совершенно неподвижная.
Марья не стала читать книгу, а спрятала ее под кроватью. Она зажмуривалась крепко, до боли в бровях, и декламировала Пушкина, пока не заснет. На краю ее сна, на грани припоминания, сидело, притаившись, выжидая, черное имя: Там царь Кощей над златом чахнет.
* * *
Тем временем весна стала летом, и собственная мать Марьи: не та, что укладывала ее в постель по вторникам и четвергам, не та, что готовила ей ужин по пятницам и средам, но та, что носила ее под сердцем девять месяцев, – начала посещать вдову Лихо – от стыда, что ее дочь оказалась такой грубой и невнимательной. Марья умоляла ее не делать этого, но каждый вечер, когда мать Марьи возвращалась со смены, две женщины садились пить чай с вареньем из вишни со своего дерева. И хотя мать Марьи никогда не была неуклюжей или неосторожной, она начала спотыкаться на лестнице, сажать занозы под ногти, потеряла левую туфлю. Работать на оружейной фабрике она стала хуже, бракованные пули на конвейере ускользали от ее пальцев и она уже дважды получала выговор.
Марья думала, что знает, почему это происходит, но всякий раз, когда ей казалось, что она набралась смелости, чтобы еще раз поговорить со вдовой, страшная картина нависшей старухи наполняла ее сердце ужасом, кожа леденела. Неужели все волшебство должно быть таким ужасным? Ей больше нравился мир, в котором показывали пригожих на вид птиц и красных молодцев. Лихо – это уже слишком; рассудок Марьи не мог коснуться даже краешка этой черноты. Тело ее сжималось и отказывалось повиноваться воле, несмотря на жалость к матери, выглядевшей каждый день такой усталой. Когда однажды она собрала все свое мужество и добралась до самой двери, в тот момент, когда пальцы коснулись дверной ручки, ее вдруг начало рвать с такой силой, что в желудке не осталось ничего полезного, что она ела и хотела бы сохранить. Это колдовство или я просто слабая, глупая и трусливая девочка? Марья не знала ответа на этот вопрос, не могла знать, и, немея от стыда, убрала за собой с половика. Потом, в июне, мать Марьи оступилась на выбоине тротуара и сломала ногу. Пока она поправлялась в большом высоком доме (который постепенно становился все больше и выше), спертый воздух собрался в ее легких и она начала отхаркивать пыль, издавая по ночам ужасные раздирающие звуки. Страх Марьи, словно лихорадка, прорвался наружу.
* * *
– Я здесь! – кричала Марья Моревна внутрь странно пустого дома вдовы Лихо. Ни одна другая семья не вышла поздороваться или посоветовать ей заткнуться Христа ради. – Ты слышишь меня? Я пришла! Я принесла твою книгу! Оставь мою мать в покое!
Лихо тихо ступила в коридор и повернула голову в сторону, чтобы увидеть Марью, не поворачивая свое длинное черное тело.
– Я ничегошеньки твоей матери не сделала, дитя. Она такая приятная дама, вечерами приносила старухе чай с конфетам! Какой стыд, что дочка ее столь невоспитанная.
– Лихо, я тебя знаю! Это из-за тебя она сломала ногу, из-за тебя она кашляет, это будет из-за тебя, если она потеряет работу на фабрике! – Марью трясло – ей казалось, что ее снова может вырвать. Желая, чтобы тело ей подчинялось, она яростно прикусила губу изнутри.
Лихо раскинула длинные белые руки:
– Я то, что я есть, Марья Моревна. Ты же не сердишься на печку за то, что она греет дом. Ее для того и сложили.
– Ну вот, я пришла. Оставь ее в покое.
– Как мило, что ты пришла проведать свою старую бабушку, малышка, но в этом нет нужды. Слишком поздно, время ушло.
– Слишком поздно для чего? Что происходит? Почему домовые знают мое имя? Умоляю, скажи!
Лихо хрипло рассмеялась. Ее смех отразился от люстры в гостиной, лампочки задрожали.
– Когда мир был молод, он знал только семь вещей. Одна из них была длительность часа. Какая жалость, что малышка Марья этого не знает. У тебя был час на то, чтобы учиться у меня на коленях, а час, если я захочу, будет таким же длинным, как целая весна. Но час уже пробил. Он приходит, а я ухожу. Мы стараемся держаться подальше друг от друга. Семейные сборища бывают такими неловкими.
У Марьи заходил ум за разум. Щеки ее горели. Черная книга нагрелась в руках.
– Ты – Царица Длины Часа.
– Беда полностью полагается на точно выбранное время, – ухмыльнулась Лихо.
– Кто приходит? – взмолилась Марья Моревна. Царь из поэмы? Но это же просто сказка – так и домовые были из сказки, а вот же. У нее все это в голове не укладывалось. Она не понимала чего-то крайне важного и ненавидела себя за это. Когда она знала что-то, а другие нет, было лучше.
– Скажи мне! – пробовала Марья скомандовать Лихо, девочка уже рычала и едва не выпрыгивала из башмаков.
Но Лихо только задрожала, сложила туловище, как чемодан, а чернота ее платья превратилась в черную шкуру высокой гончей, с ребрами, утянутыми в темное брюхо. Она пролаяла всего раз, но так громко, что Марья закрыла уши руками. После этого гончая исчезла с оглушительным треском.
Глава 5. Кому водить
В городе у моря на длинной узкой улице стоял длинный узкий дом, а у длинного узкого окна сидела в рабочей одежде Марья Моревна и рыдала. Она уже не глядела на деревья, как летом, когда они шумели листвой. Зимняя луна заглядывала в окно и серебряной рукой гладила ее по голове. Ей исполнилось шестнадцать лет, а тень семнадцатого тяжело нависала над каждой ее слезой. Достаточно взрослая, чтобы после школы идти на работу, достаточно взрослая, чтобы уставать от мизинцев до пяток, достаточно взрослая, чтобы знать, что что-то безвозвратно прошло мимо нее.
Если бы она выглянула из окна, то увидела бы большую старую седую сову, опустившуюся на ветку дуба. Она бы увидела, как сова опасно наклоняется вперед на этой черно-зеленой ветке и, не отрывая взгляда от окна, камнем – бум, трах! – падает на обочину. Она бы увидела, как птица отскакивает от земли, расправляется и обращается в пригожего молодого человека в красивом черном пальто, с темными густыми кудрями с проседью, с полуулыбкой на устах, будто в ожидании чего-то ужасно приятного.
Но Марья Моревна ничего этого не видела. Она только услышала стук в большую дверь вишневого дерева и поспешила ее открыть, прежде чем проснется мать. Она стояла в своем фабричном комбинезоне, с лицом, обескровленным лунным светом, а мужчина смотрел на нее сверху вниз, потому что был довольно высок. Медленно, не отрывая взгляда от ее глаз, мужчина в черном пальто встал перед ней на одно колено.
– Меня зовут товарищ Кощей, фамилия моя Бессмертный, – сказал он низким рокочущим голосом, – и я пришел за девушкой в окошке.
Дом на улице Дзержинского накренился и затаил дыхание. В углах за печкой домовые ждали, что Марья ответит. Она тоже не дышала. Ее грудь была готова взорваться, но она не могла выпустить воздух. Что может случиться, если она выдохнет? Ей хотелось сразу многого: убежать, закричать, сжаться и отползти, броситься к нему на шею и прошептать: «Наконец-то, наконец-то, я уже думала, ты никогда не придешь»; умолять его оставить ее в покое, по-девичьи лишиться чувств и тем самым разрешить затруднение. Сердце ее трепетало, билось отрывисто и горячо, не в лад и невпопад. Он взял ее за руку, а она смотрела сверху вниз на снег, приставший к его брюкам, в его огромные глаза, такие черные, такие беспощадные, такие коварные и такие старые. Хотя сам он был не стар. Взрослее ее, но она готова была на спор съесть занавеску, если на вид ему больше двадцати. Ресницы были длинными и бархатными, как у девушки, а волосы развевались на ветру, как шерсть дикого пса. Марья нечасто находила мужчин прекрасными – в том смысле, в каком были прекрасны для нее сестры Бодниекс, или какой она сама надеялась стать однажды.
– Пригласи меня в дом, Маша, – мягко сказал товарищ Кощей. Улица упивалась его голосом, топила звуки в снегу, слизывала их.
Марья помотала головой, хотя и сама не знала, почему. Она хотела, чтобы он вошел. Но все это было неправильно – он не должен был называть ее домашним именем, не должен был вот так вставать на колено. Она должна была увидеть, как он кидается с дерева, она должна была быть умнее, наблюдательнее. Она должна была видеть, кем он был раньше, – все должно было быть не так. То, как близко он к ней подобрался, было слишком знакомо и немного распутно. Она уже понимала, что он не поведет ее на прогулку по улице Дзержинского и не купит ей шляпу. Она не была полна его видом – не так, как были полны ее сестры: как шелковые воздушные шары, как меха для вина. Вместо этого было такое ощущение, что он приземлился прямо внутрь нее, как падает черный камень. Она вовсе не чувствовала, что будет безопасно поцеловать его в щеку. Марья Моревна снова потрясла головой: Нет, все не так, я не видела, как ты сбрасываешь обличье, я ничего не знаю, я не чувствую себя в безопасности. Только не ты, чье имя знают все мои ночные кошмары.
– Тогда собирай вещи и пойдем со мной, – сказал Кощей невозмутимо. Его глаза сверкали на холоде, как сверкают далекие звезды в морозную ночь. Сердце Марьи остановилось. Собирай вещи и пошли – так говорят, когда приходят за тобой, потому что ты плохая, потому что ты не заслуживаешь права носить красный галстук. Может быть, он совсем не такой, как мужья ее сестер.
Глядя на товарища Бессмертного, она почувствовала очарование и в то же время тошноту – вот как на нее подействовало волшебство. Темные, но яркие, мягкие, но четко прочерченные губы выделялись на его лице. Глядя на него, она чувствовала, что совсем не может видеть его целиком, а видит только то, что делало его непохожим на мужчину, – красоту лица и вкрадчивые манеры. Да, он пугал ее. Дом вокруг нее тоже ворочался во сне, несомненно видя это самое существо, которое домовые называли Папой, и боялись что вот он придет, помахивая ремнем. И все же он казался ей знакомым, частью самой себя, похожим на нее даже формой губ и загибом ресниц. Если бы она часами вязала не жакетик для сына Анны, а возлюбленного для себя, то из-под ее спиц вышел бы как раз этот самый человек, что преклонил перед ней колено, с точно такими призрачными блестками серебра в волосах. Она раньше и не знала, что хочет вот этого всего – что предпочитает темные волосы и немного жестокое выражение лица, что хочет именно высокого и будет в восторге, когда он преклонит колено. Все мечтания, что она накопила за свою юную жизнь, сплавились внутри нее в единое целое, и Кощей Бессмертный с ресницами, припорошенными снегом, стал этим совершенством.
Марья содрогнулась и, даже не думая о том, что делает, отняла свою руку у мужчины в красивом черном пальто и удалилась в дом. Он пришел за ней – подобру ли, нет ли, выбора у нее не было. Когда за тобой приходят, однажды предупредила ее мать, ты должна идти. Тебя не спросят, хочешь ты этого или не хочешь.
Она вытащила из чулана чемодан. Это был не ее чемодан – возможно, вот он, первый невинный грех в ее жизни. Собирать было особо нечего – несколько платьев, рабочая одежда, серая фуражка. Марья помедлила, зависнув зачем-то над чемоданом, будто сама собиралась в него забраться. Наконец, она зажмурилась и очень осторожно положила под одежду большую черную книгу Лихо. Замочки, приглушенно клацнув, закрылись. Внезапно на крышке чемодана объявилась домовая Звонок. Ее новенькие начищенные башмаки сияли, а усы были красиво нафабрены.
– Я не поеду с тобой, – угрюмо сказала домовая. – Ты должна понимать. Я замужем за домом, а не за тобой. Даже если бы ты вышла в поле, предложила мне бальные туфельки и позвала с собой, я все равно бы не пошла.
Марья кивнула. Сказать что-то прямо сейчас казалось непосильным трудом. Но, по крайней мере, Звонок хотя бы знала этого человека, по крайней мере, он был всего лишь верховным правителем домовых и, возможно, кем-то еще, а не офицером, который пришел, чтобы увести ее в небытие.
– С матерями-то хотя бы попрощаешься?
Марья потрясла головой. Что им сказать? Как она все это объяснит? Она даже себе ничего не может объяснить. Мама, я всю свою жизнь ждала, что со мной что-то случится, и теперь, когда это случилось, я ухожу, даже несмотря на то, что все это как-то неправильно, а я так хотела, чтобы у меня все вышло лучше, чем у сестер.
– Какую ужасную девочку я воспитала! Хотя, если не спрашиваешь разрешения, то и отказать тебе не могут. Это рассуждая по-нашему. – Домовая поманила Марью наклониться, чтобы они могли говорить лицом к лицу, как равные. – Но если не твоя мать, кто еще тебе скажет, что делать в первую брачную ночь? Кто сплетет тебе венок невесты?
Откуда-то из глубины своего тела Марья Моревна вытащила ответ.
– Я не собираюсь выходить замуж, – прошептала она.
– Ну уж нет, девочка, легко сказать, да не так просто сделать – удержать дом, когда волк придет бить хвостом по траве. Послушай, Маша, послушай старый Звоночек, который тебя знает. Домовые, бывало, женились, – и так, и сяк, и этак, совсем как мальчики и девочки. Уколи палец иглой, пролей кровь на свой порог – будет не так больно и приснятся дочки. Мужчины же не чувствуют ничего такого, что приходится нам переносить. Ты должна освободить в себе место для него, это как в доме, только в теле. Но смотри, чтобы остались комнаты для себя, и запри их покрепче. И если не хочешь забрюхатеть… хотя, – Звонок сморщила приплюснутый нос, – я не думаю, что у тебя будет такая же забота, как у нас у всех. Бессмертный не может играть в наши маленькие генеалогические игры. Просто запомни, что единственный вопрос в доме – кто будет водить? Остальное – только пляски вокруг главного, которому старательно не смотришь в глаза.
Звонок потрепала Марью Моревну по щеке своей маленькой ручкой:
– Ах! Сердце мое! Я предупреждала, когда ты читала Пушкина! Я бы выбрала тебе другого мужа, правда, если бы выбор был за мной. Я бы ожидала лучшей доли для моей Маши, чем ее грудь у него во рту, и он будто младенец высасывает ее милый голос, ее милые причуды, понемногу, пока она не пересохнет и не загремит, как погремушка. Но я-то знаю, что он тебе уже нравится. Даже несмотря на то, что мы показали свои зубки и дали понять, что думаем о его распутных намерениях. Это не твоя вина. Он оборачивается приятным, чтобы нравиться девушкам. Но если уж тебе так хочется быть умной, будь ей. Будь храброй. Будь готова ко всему и стреляй без промаха.
Товарищ Звонок пожала плечами и вздохнула, со свистом втягивая воздух.
– Но это я от жадности! Мне надо научиться расставаться с лучшим, что есть в моем доме.
Существо вскочило на ноги и крепко поцеловало Марью в кончик носа. Шаркающими кривыми ногами домовая исполнила несколько па и постучала пальцем по собственному носу.
– Кому водить, – прошипела Звонок и исчезла.
Марья моргнула. Слезы катились из ее глаз как твердые бусинки. Ее ноги, вопреки голове, стремились выпрямиться и повести ее к двери, к товарищу Бессмертному, который все еще стоял на колене на холоде, словно рыцарь. Она никогда не будет водить, знала Марья. Никого и ничего.
* * *
Марья Моревна выбежала на Дзержинскую улицу, которая раньше была Комиссарской, а до этого Гороховой. Ее длинные черные волосы были распущены, щеки горели, дыхание облачком зависало в воздухе. Снег хрустел под ботинками. Товарищ Бессмертный улыбнулся ей, не разжимая губ. Птицы не причинили вреда моим сестрам, сказала Марья своему скачущему галопом сердцу. Он – не птица, ответило сердце. Ты была неосторожна, ты всего не видела?
Он придерживал открытую дверцу длинной черной машины – гладкой, с изящными обводами, такие Марья видела только пролетающими мимо, всегда под ропот соседей, не одобряющих порочных нэпманов. Машина рычала и чихала, мрачно помаргивая красными глазка́ми выхлопных труб. Марья с облегчением нырнула в машину, радостная от того, что она сделала – наконец оказалась внутри волшебства, вместо того чтобы смотреть на него из окна. Теперь не надо ждать, когда что-то черное приедет за ней, – оно уже здесь, и очень неплохо выглядит, и желает ее. После того как дверца захлопнется, она уже не сможет передумать – а! вот и захлопнулась, теперь ничего не воротишь. Она содрогнулась на заднем сиденье. В машине было холодно, как в лесу, а она забыла свою теплую меховую шапку.
Марья вздрогнула, когда товарищ Кощей скользнул на сиденье вслед за ней. Машина без водителя взревела и помчалась по улице с воем и визгливым ржанием. Кощей повернулся, схватил Марью за подбородок и поцеловал ее – не в щеку, не целомудренно и не порочно, а жадно, жестким, холодным, колким, опытным ртом. Он пил ее дыхание в этом поцелуе. Марья чувствовала, что он мог бы проглотить ее целиком.
Глава 6. Обольщение Марьи Моревны
Черная машина знала лес не хуже дикого кабана. Она обнюхивала бледные, как кости, березы и гудела низким стонущим клаксоном, будто призывая звериную братию выйти из сосновой тени. От этого звука Марью Моревну кидало в дрожь, и Кощей прижимал ее еще крепче, сплетая руки Марьи со своими.
– Я тебя укрою, – сказал он тихо и сладко, слаще черного чая, – укрою и согрею. – Но его собственная кожа покрылась инеем, а ногти отливали голубым жемчугом.
– Товарищ, – сказала Марья, – ты еще холоднее, чем я сама. Ты меня совсем заморозишь.
Кощей изучающе посмотрел на нее, будто тепла страстно желают только диковинные зверушки. Его темные глаза покровительственно оглядывали ее лицо, но он все не отпускал ее. Как бы то ни было, но холод от его тела только усиливался, пока Марья не почувствовала, будто прирастает к ледяной колонне, распустившей мерзлые щупальца, чтобы охватить ее целиком и обратить в лед.
В ту первую ночь черная машина, наконец, захрипела, сплюнула, победно закашлялась, и вот они выехали на поляну вокруг избушки с румяными окошками, которые светили в ясную прозрачную ночь, с карнизами, что кивали из-под свежей соломенной крыши, и с гостеприимно приоткрытой дверью. Крестьянская изба, будьте уверены, не высокая и узкая, как ее дом, а, словно бабушка, приземистая и добрая, с пыхтящей коричневой трубой. Кощей помог дрожащей Марье выбраться из машины и любовно хлопнул по капоту, после чего автомобиль игриво подпрыгнул и умчался в темноту.
В доме все было готово к ужину. Крепкий деревянный стол, озаренный свечами, был уставлен яствами: хлеб и соленья, копченая рыба, пельмени, маринованная свекла и золотистая каша, грибы и говяжий язык, стопка блинов с икрой и сметаной. Холодная водка в запотевшем хрустальном графине. В горшке над очагом булькало гусиное жаркое.
Марья хотела бы сохранить хорошие манеры, но такое количество еды ослепило ее. Она набросилась на хлеб и рыбу, как дикарь.
– Подожди, волчица, – сказал Кощей, держа ее за руку. – Маленькая дикая волчица! Пожалуй к моему столу, стряхни снег с волос. Никто у тебя не заберет эту пищу.
Марья начала было извиняться, объясняя, как мало еды в Петрограде, и что ее желудок сжался в кулак, удерживая только пустоту.
– Товарищ, я так голодна…
– Сегодня тебе нет нужды говорить, Марья Моревна. Это время придет, и я буду внимать твоим словам как завороженный. А пока, пожалуйста, послушай меня и делай, как я скажу. Я знаю, это будет непросто для тебя – я бы тебя и не выбрал, если бы тебе было легко слушаться и помалкивать! Но мы собираемся вместе сделать что-то необычное. Знаешь ли ты, что именно? Я тебе скажу, чтобы потом ты не могла говорить, что я тебя обманул. Мы возьмем твою волю и вынем ее из твоих челюстей – именно здесь воля живет – и скатаем ее двумя руками, как комочек теста. Мы будем катать и сжимать ее, пока она не станет совсем маленькой. Такой маленькой, что войдет в ушко иголки, что спрятана в яйце, что сидит внутри курицы, что спрятана внутри гуся, что спрятан внутри оленя. Когда мы закончим, ты отдашь свою волю мне, чтобы я сберег ее для тебя же. Я умею это делать очень хорошо. Можно сказать, что я просто мастер в этом деле. Ты, напротив, – Кощей налил ей водки, – в этом новичок, даже хуже, и, как всякий новичок, ты должна проглотить свою гордость. – Кощей поднял рюмку.
Марья подняла свою, но медленно, неуверенно. Рука ее немного дрожала. Она не любила, когда ей приказывают. Она хотела сказать сотню, тысячу разных мыслей. Она хотела наброситься на него и потребовать все объяснить: Лихо, домовых, птиц, всю ее жизнь. Я должна знать, обязана, или ты просто будешь помыкать мной до конца дней, потому что ты знаешь, а я – нет. Но он только улыбнулся ей, ободряюще, доброжелательно, безмятежный, как икона.
– За жизнь, – сказал он и выпил свою водку до дна одним глотком. – Так, сначала попробуй икру, я настаиваю. Я знаю, что ты хотела бы приберечь ее напоследок, чтобы растянуть удовольствие, ведь ты давно ничего такого не пробовала. Если я и могу научить тебя чему-то, так это получать удовольствие от всего, хотеть всего отведать – самые роскошные вещи в первую очередь, они все для тебя. Ты же прочитала своего Пушкина – что старина Александр говорит обо мне? Там царь Кощей над златом чахнет. Тьфу! Этому парню, кстати, постричься бы. Но, конечно, Марья Моревна, я действительно любуюсь своими сокровищами! Одно из них – это сверкающий, словно груда ониксов, приплод осетра, другое – это сосуды с водкой, мерцающие, будто бриллианты, а еще сочная и красная, как гранат, свекла, а еще прекрасные девы из Петрограда, сидящие в моем доме, молчаливые, как золото, потому что я попросил их помолчать, а такое молчание слаще всего. И я действительно чахну в темноте над моим богатством, моим невероятным благословением.
Прекрасные девы? Марья не пропустила множественное число. Есть еще и другие? Вопросы толклись у нее на языке, но она усмирила их и сохранила спокойствие. Если я так сделаю, то, вероятно, заслужу свои ответы.
Кощей отхватил от каравая толстый ломоть хлеба. Корочка захрустела под ножом, и кусок упал на стол, влажный и тяжелый, как чернозем. Он одним движением лезвия намазал ломоть холодным соленым маслом, потом покрыл масло икрой – мазок из черных шариков по бледному золоту масла. Он протянул ей хлеб, и она застенчиво хотела взять его, но Кощей не дал хлеб в руки. Так что Марья Моревна молча сидела, а Кощей кормил ее хлебом с маслом и икрой. Вкус взрывался у нее во рту соленым морем. Слезы текли по щекам. Ее пустой желудок запел от изобилия. Внезапно молчание обернулось облегчением, не надо было поддерживать разговор, ее тело до изнеможения поглощало соленый деликатес на тяжелом хлебе.
– А теперь свекла, волчица. Посмотри на нее сначала, какая она кровавая, какая алая, какой след оставляет за собой, будто раненая. Отпей водки и закуси соленьями, почувствуй, как водка смешивается с рассолом на языке. Это прекрасно. Это очень по-зимнему, когда все соленья хранятся за стеклом. В этой смеси ты можешь почувствовать вкус лета, сваренного и просоленного, высушенного, упакованного с приправами, чтобы оно могло возродиться на этом столе, в этом месте, в этом снегу. Теперь ложку каши, чтобы успокоить распаленное нёбо. – Он засунул серебряную ложку ей в рот, придержав подбородок большим пальцем. Марье казалось, что она никогда еще раньше не ела, вообще не задумывалась о том, что ест. Это ей нравилось больше, чем твердое угловатое волшебство Лихо. Это волшебство наполняло ее, причиняя боль переполненному животу. – Когда будешь есть коровий язык, подумай секунду о том, как это странно и свято, поглощать язык другого. Украсть у другого способность говорить, мычать на луну, звать теленка. Чтобы заслужить такую еду, ты должна говорить только очень умные и мудрые слова, иначе твой язык также окажется на тарелке у богача. Конечно, богатых партия извела, но сегодня ты узнаешь от меня еще одну вещь, и вот что это: городская нечисть может собираться в комитеты и делить одну картофелину на всех, но сильные и жестокие все еще сидят наверху, пьют водку, носят черные меха, хлебают борщ из бадьи, как кровь. Дети могут протирать носки, добродетельно маршируя на парадах, но Папа никогда не останется без вина на ужин. Так что лучше быть сильным и жестоким, чем честным. По крайней мере питание лучше. А мораль зависит от состояния твоего желудка, а не от состояния твоего народа.
Так час за часом длился ужин Марьи Моревны. Свет очага слепил ее, наваристый бульон жаркого пьянил ее, а низкий безжалостный голос Кощея, голос, подобный сладкому черному чаю, вздымался и опускался, словно напевная баллада, убаюкивая ее, поглаживая и потягивая. Разум ее вовсю бормотал, раз уж рот был занят, – что же за птица скрывается под твоим обличьем? Ты правда Папа домовых? Брат Лихо? Меня не обманешь, будто Бессмертный – твоя фамилия! Лихо меня уже научила, что не стоит думать, будто имена – это только имена и ничего не значат! Кощей Бессмертный, значит вечный, – это ты и есть, больше некому. И что же это все значит для меня теперь? Что ты со мной сделаешь?
Но ничего из этого она не сказала вслух. Усыпляющее, простое удовольствие от того, что тебя кормят, разговаривают с тобой, не ожидая ответа, переполняло ее. Она ощущала себя хищным лесным зверем – поистине волчицей, которую взяли в дом, расчесали, приласкали, накормили, пока не пришла пора ей уснуть у очага, будто это само собой разумелось. Она посмотрела в круглое окошко избушки, и в сонной сытой теплоте ей показалось, что она видит не длинный автомобиль, припаркованный снаружи, а огромную черную лошадь, что наклонилась над корытом с рдеющими красными углями и задумчиво их пережевывает. От бархатной морды летели искры.
Наконец Кощей положил на язык Марьи ложку вишневого варенья и велел ей прихлебывать чай через ягодную массу. Когда она сделала первый глоток, он поцеловал ее, и рты их наполнились теплом чая и сладостью вишни, и Марья Моревна заснула в его руках, с губами, все еще прижатыми к его губам.
* * *
Глубокой ночью она вмиг проснулась от нестерпимой рези в животе и метнулась на двор, чтобы исторгнуть на мерзлую землю весь свой замечательный ужин. Кощей, холодный и бесчувственный, даже не проснулся. Она старалась не шуметь, чтобы он не узнал, что она не сберегла угощение, которое он так любовно для нее приготовил. Я не виновата, подумала она в ярости, не в состоянии проговорить это даже сейчас, когда он спал. Желудок, привыкший к черствому пайковому хлебу и селедке, не может вынести всей этой роскоши.
Марья Моревна посмотрела вверх. Огромная черная лошадь спокойно наблюдала за ней светящимися в темноте глазами. Рот ее наполнился густым кислым чувством стыда. Тихо, как вор, она прокралась обратно в избушку.
* * *
Так они и странствовали через тридесять царств, тридевять государств, через весь мир – от Петрограда до столицы Кощея. Лощеная машина без водителя, которой, казалось, не нужны были ни бензин, ни карты, несла их через дикие дремучие леса и старые снежные костяные горы. Внутри автомобиля царил полночный холод, как бы ярко ни светило снаружи солнце. Зубы Марьи ныли от тряски. И каждый вечер, без осечки, они находили радостно светящуюся избушку в лиственном лесу или посреди остроконечных елей. Каждый вечер стол накрывался яствами все более изысканными, по мере того как они продвигались на восток, а снег становился все глубже. Запеченные лебеди, вареники со сладкой свининой и яблоками, моченые арбузы, пирожки да булочки с кремом. Каждый вечер Кощей просил ее не разговаривать и кормил изящными движениями длинных рук. Каждый вечер она пробиралась в лес и снова исторгала все обратно, напрягая мышцы живота, уставшие от еды и рвоты, еды и рвоты.
– Виноградники, что дали нам это вино, поставляют его и на стол товарища Сталина, – сказал он однажды ночью с хитрой усмешкой. – Ты запомнишь, что я говорил о детях и Папах и о том, кто ест последним. – Кощей отведал вина и состроил гримасу: – Слишком сладкое. Товарищ Сталин боится горечи, вкус у него, как у избалованной принцессы. Я обожаю горечь, спасибо моему опыту. Это привилегия того, кто действительно живет. Ты тоже должна научиться предпочитать горечь. В конце концов, когда все остальное пройдет, горечи останется в избытке.
Марья Моревна подумала, что как-то это неправильно. Но влажное мясо лебедя и водка, такая чистая, что казалась на вкус холодной водой, закручивали ее все быстрее и быстрее, и чем быстрее она крутилась в его руках, тем больше смысла было в том, что он говорил. А поскольку ее тело не могло удержать обильную пищу, она чувствовала себя все более изголодавшейся всякий раз, когда он поднимал ложку с печеной картошкой к ее рту.
Он клал ей на язык мед, грушевое варенье и коричневый мокрый сахар. Она глотала горячий чай. И он целовал ее снова и снова, деля с ней сладость и жар. Каждую ночь у избушки странная лошадь рылась носом в корыте с углями, наблюдая за ее тайной тошнотой не моргнув глазом. Только теперь шкура ее была красного цвета, а грива – как огонь. И всякий раз, когда Марья вставала со своей мягкой пуховой перины, автомобиль уже ждал ее в тумане, попыхивая выхлопной трубой, тоже больше не черный, а алый, как свекла, как кровь.
Но Марья была всего лишь девушкой, юной и хрупкой, и постоянные переходы из промерзлой машины к потрескивающему очагу стали ее изматывать. Она начала кашлять, сначала немного, потом глубоко и резко. Ее настолько одолели лихорадка и слабость, что теперь она не могла съесть даже маленькую куропатку в карамели или кусочек кекса с абрикосовым джемом. Ей приходилось выталкивать ложку изо рта или выблевывать содержимое желудка прямо на тонкие шерстяные ковры.
Марья лежала на полу у огня в последней веселой и послушной избушке, подтянув колени к груди, одновременно обливаясь потом и дрожа. Если бы даже она захотела говорить, то не смогла бы. Глаза ее остекленели, комната плавала перед ней. Кощей взглянул на нее сверху вниз. На волосах его таял снег.
– Бедная волчица, – вздохнул он. – Я так торопился доставить тебя домой. Я был слишком нетерпелив, а ты – всего лишь человеческое существо. Тебе надо научиться поспевать за мной.
Кощей Бессмертный опустился около нее на колени и расстегнул ее рабочую рубаху. Даже в лихорадке Марья навсегда запомнила, как тряслись его пальцы, когда он раскрывал и совлекал ее одежды, пока она не осталась лежать у очага совсем обнаженной, пытаясь закрыть грудь ладонями. Но Кощей перевернул ее на живот, и Марья услышала звяканье стаканов. Она улыбнулась в роскошную шкуру, брошенную на пол. Ее мать делала с ней то же самое, когда Марья была совсем маленькая. Банки. Она чувствовала невероятно знакомые прикосновения – Кощей разложил на ее спине монеты и зажег спички на них, после этого он накрыл горящие спички водочными стопками так, чтобы ее плоть присасывалась пустотой. Предполагалось, что они вытянут ее лихорадку, высосут болезнь из ее груди. Когда она была совсем маленькая – еще до птиц, до войны, до улицы Дзержинского, – мать ставила ей банки, когда она болела. Скоро Кощей расставил на ней столько стаканов, что когда она шевелилась, то звенела стеклом по стеклу, как рождественский колокольчик. Она представляла себя большим зверем, который валит лес одним ударом лапы. Жар придавал этим образам убедительность, они пылали, кричали, играли перед ее глазами, как настоящие. Она стонала. На этот раз Кощей не говорил ничего, не читал ей нотаций или инструкций. Он только мурлыкал с ней, гладил волосы, звал ее волчицей, медвежкой, кошечкой.
На следующую ночь машина привезла их на отдых не в деревенскую избушку, а в баню. Еды там не было. На зеленом мраморном столике ожидала черная банка и тщательно сложенная кучка длинных льняных бинтов. Бутылка водки все же была. Кощей снова раздел Марью и усадил ее на деревянную колоду. Он растирал ее кожу длинными тонкими пальцами, которые оказались совсем не ледяными, а горячими. Он расчесал ее волосы сотней взмахов щетки. С каждым взмахом сухие, ломкие, поломанные пряди становились снова мягкими и блестящими, будто никогда она не испытывала нужды в молоке и яйцах, из-за которой волосы ее потускнели и истончали. Марья почти заснула сидя, убаюканная расчесыванием и его грустными припевками про серого волчка и беззаботную девочку. Когда ее волосы засияли, он искусно убрал их в косу и уложил Марью на топчан.
Затем Кощей обмотал ее льняными бинтами так, что не осталось видно кожи. Когда он открыл черную банку, в бедный истерзанный нос Марьи ударил щекочущий резкий запах горчицы. О, как же она этого боялась, когда была маленькой. Она скрывала любую простуду или насморк от матери, поскольку после разоблачения тут же появлялись горчичники, которые пахли жжением и тошнотой. Марья представляла, что, если у ада есть запах, он пахнет горчичниками. Кощей намазал повязки горчицей. Глаза Марьи резало, они слезились, кожа покрылась потом, и в бреду она звала свою мать, Звонок, Татьяну, Ольгу и Анну, свой красный галстук и бедную Светлану Тихоновну, и наконец, совсем тихо – Кощея. Заслышав свое имя, он снял горчичники и стал баюкать ее в объятиях.
– Пей, Маруся, – ворковал он, как мать, и подносил стакан к ее губам. – Твоим легким нужна водка. – Она послушно пила, кашляла и снова пила.
Он поднял ее на руки и понес в баню. Называл ее своей волчицей, львицей, натирал ей спину крупной солью, пока она не покраснела, а потом опустил в горячую лохань. Он подносил к ее носу горсть горячей воды и заставлял вдыхать. Она давилась ею, брызгала, но все равно вдыхала – настолько она привыкла к его голосу. Наконец, Кощей поставил ее и взял в руки березовый веник. Марья подивилась, как перехватило его дыхание, когда он приложился веником к ее коже, сначала осторожно, потом сильнее, потом остановился, чтобы натереть ее маслом и снова стегал ее. Сначала она съежилась, но под последними ударами Марья Моревна уже сама выгибала спину навстречу венику, будто сам лес вел ее тело к излечению.
Наконец, горячая, распаренная, горящая Марья позволила Кощею отвести ее к дровяной печи, где он постлал ей постель у теплых кирпичей. Она заснула и видела во сне модный журнал из Лондона, которым так дорожили сестры Бодниекс. Журнал во сне вырос до размеров музейной залы. Она бродила между страницами, маленькая и напуганная, среди прекрасных высоких женщин в хрустящих платьях и шляпах с перьями.
Одна из них повернулась к Марье. Она носила на голове ярко-синий тюрбан и обмахивалась золотым веером.
– В этом сезоне все девушки носят свою смерть, – сказала модель высокомерно. – Это именно то, что нужно простой деревенской девке, чтобы разбогатеть.
Женщина указала на свой тюрбан. В его складках угнездилось белое блестящее куриное яйцо.
* * *
Когда Марья проснулась, красной машины уже не было, вместо нее навстречу катилась сверкающая белая, с крыльями, изогнутыми с лебединой грацией. Марье было гораздо лучше, хотя голова еще болела, а спина пульсировала в тех местах, где оставил след березовый веник. Ее кожа излучала тепло, и она благодарно привалилась к Кощею, пока мимо них неслись ледяные горбы гор, будто покрытые коркой запекшейся соли в ожидании весны.
В эту ночь, их последнюю ночь, машина пробилась по каменистой заснеженной дороге к очередной избушке с резными обледеневшими карнизами, с толстой красной дверью. Кощей поднял ее на руки и понес. Марья сонно подняла голову и через его плечо увидела, как белая машина проложила колею в снегу, ударилась о ледяной нарост и обратилась огромным бледным конем с гривой, крутящейся на ветру. Конь радостно заржал и потрусил прочь в поисках ужина. Хотя бы обращение машины я увидела, подумала она сонно. По крайней мере я все еще вижу обнаженный мир, даже если он показывает мне пока только коленку или запястье, да и то мельком. Она стала привыкать к тишине, и тишина привыкла к ней. И поскольку она расслабилась до полной немоты и почти перестала об этом думать, поскольку она была теплой, рассеянной и едва ли вообще бодрствовала, Марья Моревна совершила оплошность.
– Марья, мы почти приехали, совсем рядом граница моей страны. Я тебя вылечу прежде, чем мы окунемся в тамошние заботы.
– Я правда чувствую себя много лучше, – заверила она его прежде, чем сама поняла, что сказала это вслух.
Глаза Кощея потемнели, как две потушенные лампы. Он опустил ее – не так бережно, как обычно.
– Я просил тебя не говорить, Маша, – сказал он. Голос его скрутило, как канат. Марья, потрясенная, замолчала.
На столе дымился простой ужин: ботвинья, хлеб, кабачковая икра, куриное заливное с застывшими в нем кусочками мяса. Нежная щадящая пища для ее измученного тела. Марья все еще не могла много есть.
– Это наша последняя ночь вдвоем, – сказал Кощей. – Завтра ты будешь вся в моих родственниках, слугах, в самых разных неотложных заботах. Мне будет не хватать нашего личного времени, скрытого от общего внимания. Но в замужестве всегда так. Половина супружества приходится на тех, кому нет места в нашей постели. Я знаю, что ты гадаешь, как там у твоих сестер с их прекрасными птицами-мужьями, в добром ли они здравии, не хворают ли, так ли далеко и быстро они путешествовали. Эти лейтенанты были моими братьями, товарищами, и, хотя им пока не требовалось мчаться так быстро и не с такой роскошью они путешествовали, у них тоже были свои вечера с борщом, водкой и березовыми вениками. Это брачный танец, знакомый всем птицам. Я тогда хотел, чтобы ты выглянула из окошка, Маша! Я для тебя обратился прекрасной совой. Я так сильно ударился оземь. Только чтобы тебя потешить, чтобы все случилось именно так, как ты желала. Так сильно я хотел тебе угодить. Но, ша! Ты пропустила этот момент. Возможно, если бы ты меня увидела в том облике, все было бы по-другому. Возможно, ты бы велела мне молчать. Это был мой риск. Признаюсь, это возбуждало меня – возможность быть пойманным. Но нет, я сохранил все свои секреты в итоге. Что упало, то пропало. Так что я буду с тобой жесток, Марья Моревна. Ты дышать не сможешь, как я буду жесток. Но ты понимаешь, не правда ли? Ты достаточно умна. Я существо требовательное. Я эгоистичен, жесток и крайне неразумен. Но я – к твоим услугам. Когда ты будешь голодна, я накормлю тебя. Когда ты заболеешь, я буду за тобой ухаживать. Я приползу к твоим ногам, потому что до твоей любви, до твоих поцелуев я был испорчен. Только для тебя я буду слабым.
Так Марья лежала на топчане у печи, с обнаженной спиной, рубиново-красной в свете огня. Как фокусник, Кощей вытащил яйцо из-за уха – только не куриное яйцо. Это было черное яйцо, оправленное серебром, усыпанное холодными бриллиантами. Марья улыбнулась, потому что ее отец однажды так сделал, когда она не могла заснуть, – прокатил яйцо по всему ее телу, чтобы вобрать все кошмары в желток, прочь от ее сердца.
– Ты пока еще не понимаешь этого. Еще не время. Ты не готова. Ты все еще не обтесалась для моего подарка. Но это наша последняя ночь, и я должен вынуть все твои страхи, кошмары и ужасы городской пролетарской девочки. Тебе понадобится это место для новых страхов. Я всю тебя обновлю, ты будешь моей революцией – не красной, и не белой, а черной.
Кощей Бессмертный прокатил яйцо по коже Марьи. Она чувствовала похрустывание хрупкой оболочки, как оно катится по ее косточкам, царапая кожу бриллиантами.
Когда с этим было покончено, он подтянул ее повыше и снова прижал к себе в поцелуе. Его рот был холоден, и они не обменивались грушевым или вишневым вареньем в поцелуе. Тем не менее Марья Моревна чувствовала сладость и в его пустом поцелуе.
Внезапно сладость улетучилась, а губу пронзила боль – Кощей укусил ее. От боли она вытаращилась на него и поднесла руку ко рту. На пальцах осталась кровь. Губы Кощея тоже были в крови. Глаза его мерцали и искрились.
– Когда я говорю тебе что-то делать, ты должна слушаться. Хочешь ты этого или нет. Это воля в твоих стиснутых зубах и яйцо на твоей спине.
Марья затаилась, в глазах ее все плыло, губы горячо пульсировали в местах, прокушенных его острыми зубами. Она чувствовала, будто балансирует на кончике иглы, – если я позволю ему это сделать со мной, что еще я ему позволю?
Все что угодно.
Кощей Бессмертный вытер алую кровь с ее губ. Он взглянул на свой палец со следами крови Марьи. Не отрывая взгляда от ее глаз, он поднял руку ко рту и попробовал кровь на вкус, нерешительно, будто ожидая, что она его остановит.
Но Марья Моревна затаила дыхание и не издала ни звука.
Часть 2. Будь готова ко всему и стреляй без промаха
Анна Ахматова
- Смерти нет – это всем известно,
- Повторять это стало пресно
Глава 7. Царство Жизни
Где страна, которой правит Царь Жизни? Когда мир был молодым, семь царей и цариц поделили его между собой. Царь Птиц выбрал воздух, облака и ветры. Царица Соли выбрала города с их суетой и бездумной толкотней. Царь Воды выбрал моря и озера, заливы и океаны. Царица Ночи выбрала все темные и укромные места, все пороги и тени. Царица Длины Часа выбрала себе во владение печаль и несчастье, так что, где страдание – там ее власть. Делить то, что осталось, пришлось Царю Жизни и Царю Смерти. Какое-то время им нравилось спорить за каждое дерево, каждый камень, каждый ручеек, молотя друг друга почем зря: Смерть – той косой, которой косит все живое, а Жизнь – тем молотом, которым строит все полезные и приятные вещи – заборы, церкви, самогонные аппараты. Однако Жизнь и Смерть – это брат и сестра, и честолюбия у них в точности поровну.
Их раздор вскоре охватил целые города, реки (которые справедливо не принадлежали никому, хотя держаться стороной – нелучшая защита), края и берега, пока эта битва не поглотила весь мир. Как только в каком-то городе заведется добрый кирпичный амбар да полкочана капусты, так тут же появится Смерть под белыми знаменами и опустошит это место одним махом. Как только деревня опустеет от войны, как от чумы, улицы покроются черепами на пиках, а кровь отравит колодцы, так тут же в полных мусором канавах пробьются зеленые ростки и последняя из женщин понесет во чреве. Не могло быть между ними согласия.
Наконец, когда каждую пядь земли поделили и еще подробили, сами песок и глина не смогли этого терпеть. Горы отдали свое железо и медь, а Царица Соли потихоньку научила людей своим секретным приемам, ибо из всех братьев и сестер Царица Соли лучше всех знала плоды культуры – те, что сделаны, а не рождены. Полезли ткацкие станки и кузницы, плуги и моторы, печи, шприцы, отделы очистки, поезда и крепкие башмаки. Так праздновал победу Царь Жизни, и детей рожали одного за другим.
Однако и Царь Смерти не лыком шит. Скоро станки стали откусывать ткачам пальцы, дым печей забивал глотку, а большие машины выплевывали взрывчатку, шлемы, пулеметы да солдатские башмаки. Скоро городские реквизировали зерно у деревенских, спрятали его в больших хранилищах, а сами спорили до хрипоты, как его поделить, пока зерно плесневело, и писали длинные книги о справедливости содеянного, а медью венчанная Смерть, обутая в железо, плясала между ними.
Прилежному ученику да простится уверенность в том, что Царь Смерти – злой, а Царь Жизни – добрый. По правде говоря, добра уж нет нигде. Жизнь хитра и неразборчива, она подлая, волчья, суровая. Сама себе служит, на все готовая. Смерть, конечно, тоже – костлявая, одержима во веки веков заговорами, но все же и милосердная, и благодатная, и нежная. В своих владениях Смерть может быть доброй. Но конца их спорам не будет никогда, пока вообще все не кончится.
Так где же та страна Царя Смерти? Где владения Царя Жизни? Найти их нелегко, однако же каждый день мы ступаем по ним сотню раз и более. Каждая пядь земли поделена между ними до бесконечности, до мельчайшей меры, да и того мельче. Даже крупинки соли воюют меж собой. Даже атомы душат друг друга во сне. Чтобы достичь Царства Жизни, что невозможно близко и безнадежно далеко, нельзя пожелать попасть туда. Вам следует приближаться к нему украдкой, сторонкой. Лучше всего быть болезным, в лихорадке, в бреду. В разгуле слабости, когда восстает истребляемая плоть, горячая, мокрая, алая, легче всего опрокинуться в это искомое царство.
Конечно, так же легко тем же манером достичь страны Царя Смерти.
Путешествия без опасностей не бывает.
Леший Землеед подозрительно таращился в огромную черную книгу. Корявой мшистой рукой он потряс ее, держа за угол. С березового свода на страницу слетело несколько листьев. Солнечный свет прохладным ясным золотом лился сквозь белые ветви. Угольно-черный корешок увесистого тома поблескивал, отражая лучи мягкого осеннего света. В задумчивости Леший хорошенько пожевал обложку. Наморщил нос картошкой. Землеед походил на плод страстной любви между особенно уродливым приземистым дубом и булыжником, как единственное их дитя, при родах которого немало пострадали оба родителя. Брови его из двух пучков омелы шевелились.
– Почему она читает этот нонсенс. Картинок нет. Скучища.
Берданка Наганя закатила глаза. На самом деле – один глаз, поскольку второй глаз у нее – не столько глаз, сколько торчащий из черепа оптический прицел, сделанный из кости и прозрачного ногтя большого пальца. Кроме того, она носила половинку очков, прикрывающую нормальный глаз, потому что без прицела или чего-то такого она чувствовала себя неприлично голой. Тщательно отполированная ореховая кожа беса блестела. В некоторых местах проступали почерневшие металлические сухожилия: на локтях, на щеке, в подколенных ямках.
– Ты что, не слушал? Лихо ей дала книгу, – нарочито фыркнула Наганя. Она вынула серый носовой платок и вытерла каплю машинного масла, скопившуюся в носу. – Хотя я этого и не одобряю. Истории – это средство угнетения. Авторов историй следует расстреливать на месте.
Землеед фыркнул в ответ.
– Что еще за Царь Жизни? Отродясь не видал его.
– А ты как думаешь, каменная башка? Его ж не просто так Бессмертным зовут. – Наганя мимолетно заглянула в книгу, щелкая языком. От этого получался жуткий механический звук, будто взводили и спускали курок. – Хотя ты прав. Скушная. Затянутая. Удивляюсь, как ты ее вообще можешь читать.
– Не есть же ее! Черт! А давай раздерем ее да закопаем. Хорошая подкормка для дерева будет, а? – Землеед сплюнул комок золотой жевательной смолы на одеяло для пикника.
Наганя скорчила гримасу.
– Почему царевна позволяет тебе за ней таскаться – для меня просто загадка. Ты же отвратительный. Но если хочешь драть ее вещи – милости прошу. Выпотрошить что-нибудь всегда интересно. Например, лешего, чтобы узнать, что у него внутри. Грязь да палки, наверное?
– Руки прочь, ружейная нечисть. Что внутри – то мое!
– Собственность – это воровство, – отрезала Наганя, пощелкивая щечками. – Поэтому, даже сидя тут, ты крадешь у Народа, Земеля! Бандит! Караул!
Землеед снова сплюнул.
– Ну, Земеля, – захныкала она. – Мне скучно! Давай я тебя опять буду допрашивать? Будет весело! Обещаю, что на этот раз не стану сниматься с предохранителя.
Леший заскрежетал каменными зубами с налетом грязи:
– Нагаша, почему тебе всегда скучно, когда я рядом? Поскучай с кем-нибудь еще!
Из зарослей ежевики выскочили две лошади с распластавшимися на их спинах всадницами. Впереди – черный конь под зеленым финифтевым седлом. На нем с пронзительным хохотом скакала молодая женщина с щедрой россыпью гранатов и грубого янтаря в распущенных темных волосах. Ее красный охотничий плащ парусом реял за спиной. Она умело лавировала между бледными, точно кости, стволами берез, подныривая под тяжелые ветви в желтых листьях и тонкие коричневые плети кустарника в рубиновых ягодах. Позади скакала белая кобыла с сидящей в седле боком бледной дамой, такой же неистовой и стремительной, как и черная всадница, но с лебедиными перьями, вплетенными в облако снежно-белых волос. От топота летящих в галопе копыт поднимались вихри опавших оранжевых листьев.
– Куда она улетела? Туда? – сверкая глазами прокричала Марья Моревна, поводьями заворачивая нетерпеливую лошадь по кругу.
– Кто? – пролаял леший.
– Моя жар-птица! Земеля, опять у тебя уши мхом заросли!
– Опоздали вы, – вздохнула Наганя. – Она тут еще час назад просвистела. Опалила мне волосы, да и обед наш, считай, весь сгорел. – Темные мокрые волосы Нагани блестели от ружейного масла и пахли керосином.
– Ну что ж, – сказала Мадам Лебедева, легко спрыгивая с лошади и поправляя свою элегантную шляпу, на которой еще оставалось несколько лебединых перьев. На шее мерцала жемчужная камея с ее собственным идеальным профилем. – Что касается меня, то я бы отдохнула и выпила чашку чая. Жар-птицы такая неуступчивая дичь. Вот она вся в огне хвостового оперения и красных когтей, а вот от нее остались только пепел и потертости на заднице у охотников. – Она привязала свою кобылу к лиственнице и присела на слегка влажную подстилку для пикника, стряхивая невидимую пыль с белых бриджей и куртки.
Марья прислонила охотничье ружье к огненному осеннему клену и тоже рухнула на подстилку. Она порывисто – с лешим иначе невозможно – обняла Земелю и запечатлела поцелуй на дубовой коре его щеки. Охота разгоняла ее кровь и разжигала аппетит – она вся дрожала от возбуждения.
– Что у нас поесть? – радостно спросила Марья, перекидывая изукрашенные самоцветами волосы через плечо. На ней был изящный черный костюм, похожий и на униформу, и на охотничий наряд.
– Подгорелые тосты, сожженные пирожки, лук маринованный, но тоже горелый. Боюсь, что и чай теперь тоже изрядно подкопченный, – вздохнула берданка.
– Вас ни на минуту нельзя оставить. – нахмурилась мадам Лебедева.
– А на три часа не хочешь, мавка, – проворчал Землеед, почесывая колени. – И она опять меня допрашивала. Смотри! – Он показал руки с аккуратными пулевыми отверстиями на каждой ладони. – Говорит, что это расплата за кумовство.
– Ну, ты должен признать, что ошиваешься под каблуком у фаворитки Царя, – улыбнулась мадам Лебедева.
– А ты нет, что ли? А где твоя расплата, а?
– Я стараюсь не оставаться с ревнивой Нагашей наедине, – фыркнула в ответ мавка: – Так проще всего избежать допросов, мне кажется.
– Ну все, мир, – захохотала Марья Моревна, поднимая руки. На каждом пальце сияло серебряное кольцо, украшенное неограненными рубинами и малахитом. – Если вы все не будете себя хорошо вести, я не стану вам больше рассказывать историй о Петрограде.
Прозрачный глаз Нагани заполнился черными масляными слезами.
– О, Маша, это нечестно! Как же я буду дальше защищать интересы партии в тылу, если ты не будешь учить меня про Маркса и Папу Ленина?
Земеля оскалился дыркой в каменном подбородке на месте рта:
– Кто такой Папа Ленин? Тьфу! У Землееда один Папа – папа Кощей. Ему не нужен противный лысый Папа Ленин!
Лицо Марьи Моревны просветлело и тут же потемнело. Она покрутила кольца на пальцах. Когда она думала о Кощее, кровь ее вскипала и леденела одновременно.
– Ну, думаю, на этом и порешим, Зёма. Нагаша?
Наганя драматически вздохнула.
– Я должна лично побывать в Петрограде! – заскулила она. – Что толку от ружейного беса здесь, где из развлечений для меня только обычная охота. Как я жажду настоящего применения – охотиться на врагов народа и делать в них дырки.
Мадам Лебедева зевнула и вытянула длинные руки. Ее красота казалась невероятно хрупкой, как у птицы, угловатой, практически бесцветной, не считая темных бездонных глаз.
– Когда он на тебе женится, Машенька? Как это должно быть утомительно, так долго ждать!
– Да я не знаю, лебедь моя любимая. Он так занят на войне, видишь ли. Все дни и ночи в Черносвяте, корпит над бумагами, занимается перемещением войск. Не самое лучшее время для свадьбы. – Марья и правда устала ждать. Она щурилась на холодное солнце и думала, что хорошо бы уже стать Царицей, чтобы наверняка, чтобы знать, что не придется возвращаться домой, где у нее не было ни лошади, ни жар-птицы, ни таких друзей.
– Может, он тебя разлюбил, – пожала плечами Наганя с набитым пирожками ртом.
– Беличья какашка! У раздавленной улитки больше разумения, чем у тебя, – прорычал Землеед. – Папа не может ни на ком жениться. Не раньше, чем она разрешит. Не раньше, чем Бабушка придет.
– Хорошо, чтобы она уже решила что-нибудь! – вздохнула мадам Лебедева. Она отщипнула кусочек горелого лука. – Я хочу написать заявление на дачу для волшебников этим летом. Там такая конкуренция, а я не могу сосредоточиться на моем заявлении, потому что меня до смерти беспокоит Машино приданое. Вступительные сочинения такие ужасные, дорогая.
Наганя хихикнула:
– Какое приданое у девочки из Петрограда? Конский навоз да полведра невской воды на стирку?
– Я уверена, что это не твоя забота, нечисть, – прорычала Лебедева. – Оставь это нам, у кого есть хоть толика утонченности.
– Будто ведьма-мавка в чем-то понимает, кроме как в щипцах для кудрей да гадании на чашке с мочой.
Наганя прищурила глаз под моноклем и сплюнула. Аккуратная пулька вылетела из ее рта и продырявила лебединые перья мадам Лебедевой, сорвав шляпу прочь с ее головы. Та взвизгнула от возмущения, тряхнув обожженными кончиками холодных как лед волос. Мадам потянулась за шляпой.
– Ты – животное! Марья! Накажи ее! Ты только утром взяла с нее клятву больше ни в кого не стрелять, полюбуйся, как она тебя слушается.
Марья Моревна приняла очень серьезный вид. Пальцем в самоцветах она поманила берданку к себе:
– Нагаша, ты знаешь, что должна мне повиноваться.
Наганя примолкла. Руки ее задрожали, в щеке нервно защелкали железки. Внезапно рука Марьи взметнулась, зажав рот и нос Нагани. Вторая рука прихватила затылок берданки. Грудь Нагани вздымалась, она пыталась вдохнуть, но Марья не отпускала. Она придавила беса к земле. Недрогнувшей рукой сжимая лицо, запрыгнула на нее сверху, еще сильнее пригвоздив к лесной подстилке. Сердце Марьи колотилось от возбуждения. Нежданно-непрошено вспомнились книга стихов, выброшенная в сугроб, и красный галстук, разодранный пополам.
Она навалилась еще сильнее. В глазах Нагани медленно скопились и потекли вниз по костяшкам Марьиной руки черные масляные слезы. Нагаша корчилась, вертелась и, наконец, затихла под ней. Марья ухмыльнулась. Ее косы разметались по ореховым рукам подруги. Наконец она отпустила Наганю. Чертовка хватала воздух и плевалась, хрипя, негодуя и утирая слезы.
– Пусть это будет тебе уроком, – сказала Марья Моревна весело. – Следи за своим курком в приличной компании! Когда я тебе говорю что-то сделать, просто выполняй.
Возможно, такой Царица и должна быть – прекрасная холодная дева в снегу, глядящая неприступно сверху вниз на этих несчастных, думала Марья, успокаивая дыхание и сердце. В последнее время она начала ощущать в себе эту холодность, которой боялась, но в то же время и радовалась, чувствуя как делается сильнее. Наганя села, вся дрожа. Она судорожно дышала, жалобно шмыгала и утирала нос.
– О, Нагаша! – воскликнула Марья, внезапно ощутив вовсе не холод, а смущение. Наверное, она слишком увлеклась, но бесы не слушали никого, кто не мог устроить им хорошую выволочку. Хорошая Царица должна говорить на языке своих подданных, в конце концов. – Не горюй! Я найду тебе хорошую русалку, чтобы выволочь ее из озера среди ночи и выкачать из нее информацию. Ну не славно ли это будет?
Утешенная Наганя слегка улыбнулась. Ореховый румянец вернулся на ее щеки, и Марья поняла, что той нравится, когда ее наказывают, только если несильно. Она повернулась к лешему:
– А теперь, Земеля, – о, отдай мне эту книгу! Ты ее уже всю обкусал! Земеля, что это за Бабушка, про которую ты толковал? Я думала, что уже всех здесь повидала.
В эту минуту в лесу эхом отозвался звонкий ликующий крик. Облака прочертило рыжее пламя, но так высоко, что снизу оно казалось едва ли больше искорки огненной пыли. Прежде чем Наганя успела вскрикнуть, Марья схватила ружье и выстрелила.
С небес с треском свалилась жар-птица, рассыпая обжигающие искры.
* * *
– Почему они называют это место Островом Буяном? – поинтересовалась Марья, когда они вчетвером шагали обратно по Скороходной дороге. Впереди них солнце садилось за городом, озаряя светом теплые белые купола, вырезанные из гладкой сияющей кости. Первый снежок блестел на дороге, обещая приход доброй зимы. – Это же вообще не остров, насколько я знаю.
– Был когда-то, – сказал Землеед, который был намного старше всех. – Неукротимое соленое море. Что там твой Байкал! Лужа! В старину наше море было с кулаками!
– Меня все еще изумляет, – сказала мадам Лебедева голосом настолько музыкальным, что даже ее лошадь старалась ступать легче, – что лешие вообще научились говорить. Как это получилось, я все гадаю. Может, одинокий ежик долбил камень, пока тот не начал издавать звуки?
– Лешие научились от деревьев, которые пели песни, что выучили от птиц, которые научились у червяков, а те – от земли, а земля – от алмазов. Породистые – это про нас сказано.
– Ну, я уверена, что ты был худшим учеником, Земеля. Твой словарный запас не больше чем у саламандры. В любом случае, дорогая Маша, Остров Буян действительно был когда-то островом в огромном море, где в золотистых волнах плавали рыбы размером с парусник. Какие песни они пели, эти рыбы, на утренней заре! Будь у тебя хоть сотня балалаек и тысяча гуслей, ты не смогла бы сложить песню, равную хотя бы худшей из тех песен.
– И что случилось? – допытывалась Марья Моревна, тронув вперед черного коня, за которым волочилась серебряная сеть. Из нее в разные стороны торчали огненные перья, выжигая землю, которой касались.
Мадам Лебедева вздохнула:
– А что случается со всем хорошим? Вий сожрал. Сначала все рыбины всплыли кверху брюхом, одна за другой, а каждое брюхо само как остров. Потом волны занялись и выгорели до самого морского дна. Огонь опалил звезды, и – раз! – все исчезло. Пар и дым. Все без остатка ухнуло в сундуки к Царю Смерти. Могу побиться об заклад, что в его царстве все еще плещется призрачное море, в котором плавают призрачные рыбы и поют песни, правда, в другой тональности и с другими словами. А в нашей стране, если пойти далеко-далеко, можно увидеть, как огромные кости торчат из земли, что раньше была морским дном. Горы ребер и долины, полные челюстей.
Марья ехала молча. Всякий раз, когда она узнавала что-то новое из длинной истории Кощеева царства и о войне с Царем Смерти, она начинала чуть яростнее любить Буян и чуть больше бояться войны.
– Не пойти ли нам ночью грибов пособирать? – осторожно спросила Наганя, все еще сконфуженная и взволнованная наказанием. – Сегодня луна будет огромная, как бычий глаз. А мне лисичек что-то захотелось.
Пестрая компания прошествовала через городские ворота с частоколом из роскошных лосиных рогов, каждый отросток которых был украшен оскаленным черепом. Марье больше не казалось, что это мрачно, и она не вздрагивала всякий раз, когда проходила под взглядами пустых глазниц. Сейчас ей даже казалось, что черепа ей улыбаются, как бы говоря: мы, некогда живые, все еще можем любить тебя, защищать тебя, хранить тебя от невзгод и опасностей. Ничто никогда не умирает насовсем.
Как только ворота за ними закрылись, окна домов и лавок внутри ограды зарделись уютным пламенем очагов. Впереди простирался Черносвят с черными башнями и сверкающими красными дверями. Это было так похоже на Московский Кремль, что Марья часто думала, будто они братья, разделенные в детстве и росшие врозь, каждый на своей стороне мира. Кощей жил в самой большой башне с куполом, усыпанным гранатами. Большинство же обитателей Черносвята жили в других местах, в крепостях поменьше, в часовенках и клетях. Город рос с годами, как дерево, как дом на Гороховой улице, она же улица Дзержинского. Старые и новые имена кружились в Марьиной голове, сливаясь и разливаясь снова до тех пор, пока она не забывала, какое было раньше.
По широкой равнине от черного Кремля ручейками разбегалось множество домов, трапезных, избушек и гостиных дворов. Марья теперь почти не замечала, что все эти дома и постройки выкроены из шкур экзотических и знакомых ей животных, крыши покрыты длинными волнистыми волосам, а карнизы убраны золотистыми косами. Горячая красная кровь била из фонтанов и стекала в стеклянные бассейны, приятно журча в лучах послеполуденного солнца. От бассейнов валил густой пар, и случайный ворон залетал отхлебнуть из чаши. Когда-то Марья даже закричала, увидев, как кровавый фонтан забил в полдень по расписанию. Когда-то ей было дурно от вида часовни, на стене которой волоски встают под ветром, как на коже. Однако фонтан пристыдили, с часовней ее познакомили – ту звали Авдотья, – и это сейчас казалось Марье нормальным и даже приятным, ведь все они – просто живые вещи Страны Жизни, где даже фонтан дышит и наполняется жизненными соками. Тем более что все это было уже так давно, как сон о другой жизни.
– Мне кажется, что для грибов я слишком устала, – ответила она наконец. – Я лучше пойду к Кощею, узнаю, не нужна ли я ему. Но, – добавила она великодушно, – ты можешь спать со мной этой ночью, если хочешь, и съесть пирожок с сахарной глазурью.
Что ей больше нравилось: наказывать или награждать, – Марья не могла сказать. Все в Буяне обладало своей прелестью, если научиться ее находить.
Берданка просияла и заплясала по длинной мощеной дороге. Землеед стукнул по земле мохнатым кулаком, проворчал: «Кумовство!» и сплюнул.
Глава 8. Ложись со мной
В самом дальнем, самом тайном зале замка Черносвят, чьи костяные купола сияют тут и там серебряными маковками и стальными крестами, на троне из оникса и кости сидел Кощей Бессмертный. Глаза его, красные, натруженные, слипались – то ли от плача, то ли от работы, то ли от того и другого. Перед ним на огромном столе, сделанном из лопатки невероятно огромного кита, лежали разбросанные карты и планы, письма и документы, курьерские пакеты и фотографии, наброски и открытые книги, перевернутые заломленными корешками вверх.
Вошла Марья Моревна в охотничьем костюме, уже наполовину расстегнутом – так жарко натоплено в комнатах. Часто казалось, что темные стены Черносвята дышат, и дыхание их могло быть либо невыносимо жарким, либо безжалостно холодным. Марья никогда не знала, чего от них ожидать. Молча она обошла вокруг длинного стола и уронила на него золотое перышко. Оно лениво спланировало и легло на приказ о реквизиции. Перо больше не горело, а только светилось приглушенным янтарным светом.
– Я бы предпочел поймать ее живой, волчица, – сказал Кощей не поднимая глаз.
Марья пожала плечами:
– Она только что умерла – не то от пули, не то от истощения в погоне.
Кощей оторвался от бумаг и притянул ее к себе, чтобы, наклонившись, поцеловать в ключицу.
– Я, конечно, горжусь тобой, моя любимая погубительница. Но ты должна понимать, что только что добавила жар-птицу к кавалерии Вия. Теперь она, темная, несгораемая, несет на костяных крыльях пилотов-призраков, вооруженных до зубов.
Марья Моревна закрыла глаза, упиваясь прикосновением губ к ее коже, точно так, как когда-то давным-давно упивалась краюхой черного хлеба, намазанного икрой.
– Она прятала кладку яиц, – вздохнула она, когда Кощей схватил ее за волосы и склонил голову набок, чтобы добраться до бледной непокрытой шеи. – Скоро у нас должно быть достаточно жар-птиц, чтобы тащить осадную башню, и еще парочка останется, чтобы разжечь очаг, когда вернемся. – Она чувствовала, как от навалившейся тяжести холодеет и пробуждается ее кожа. Она улыбнулась в его темную перчатку. – Кстати, был такой обычай, когда поклонника отправляли за пером жар-птицы, чтобы он подтвердил свои достоинства как жениха.
– Я знаю все твои достоинства.
Марья ничего не ответила. Она не спешила выйти замуж, как ее сестры, которые стремились к замужеству как к награде в конце длинной и трудной игры. Однако она чувствовала, что, пока Кощей целует ее – целует, но не женится, – она остается в Буяне ребенком, избалованной царевной, но не Царицей, не местной. Человечьей зверушкой. Не о кольце на пальце она заботилась – он уже надарил ей десятки колец с темными и яркими самоцветами, – но навсегда оставаться принцессой не хотела.
Кощей взял нож, которым он открывал курьерские печати, и посмотрел на нее изучающе. Потянувшись, срезал пуговицы с ее охотничьего костюма.
– Если будешь так кромсать прямо на мне, одежды не останется, – выдохнула Марья Моревна.
Он положил большую руку на ее голову, от чего самоцветы в волосах клацнули друг о друга. Другой рукой он срезал юбку с ее наряда – одним движением, будто очистил красное-прекрасное яблоко. Его прикосновения обжигали холодом. Как обычно, она сначала чувствовала кости под кожей его пальцев и бедер. Затем мускулы его напряглись, кожа стала теплой, наполненной и живой. Как и всегда, обнимать ее начинал скелет, но затем, спохватившись, скелет становился мужчиной. Она сама это поняла или он ей объяснил? Быть бессмертным означает иметь дело со смертью каждое мгновение. Неумирание не происходит само собой, как дыхание, это постоянное напряжение – все равно, что балансировать со стаканом на голове. И каждый день Царь Жизни боролся внутри своего тела, чтобы держать смерть в узде, как наказанную собаку.
Кощей вонзил ногти в поясницу Марьи: выступили крошечные капли крови. Марья легко вскрикнула, дыша мелко и часто. Он поднес большой палец к губам и слизнул пятнышко ее крови. По его вечно впалым щекам пробежали тени, он смотрел на нее голодными глазами. Но ее это больше не пугало. Ее любовник часто выглядел оголодавшим, загнанным. Она могла прогнать этот вид поцелуями и часто делала это, пока его лицо не разглаживалось, становясь ангельским, мягким и гладким. Всякий может сделать это для своего любимого человека, если день был долгим и трудным, без надежды на утешение. Сейчас она ничего такого не думала, целуя его живым. Все в этом месте было мертвенно-бледным, но живым, и, когда он любил ее и одновременно причинял боль, она тоже жила, выше и труднее, чем могла себе когда-либо представить. Да, думала она, такова уж природа волшебства, когда до этого доходит. Как фонтаны крови, как дома со стенами из кожи и крышей из волос, Кощей давно уже стал своим, домашним. Поэтому Марья улыбалась, когда он кусал ее плечи, чувствуя, как под кожей расцветают невидимые синяки. Завтра я буду носить их как медали, подумала она, когда он подсадил ее на мешанину полевых карт и чертежей.
– Кощей, – прошептала она в завитки темных волос на шее. – Где ты прячешь свою смерть?
Кощей Бессмертный обхватил ногами Марьи свою талию и вонзился в нее всей тяжестью лет. Он стонал у нее на груди. Дух захватывало от того, каким младенцем становился Царь Жизни, когда нуждался в ней. Власть над ним, которую он же ей и дал. Кому водить – вот и все.
– Скажи мне, – шептала она, тоже желая этого. В последнее время она хотела многого, практически всего, чего касалась.
– Молчи, моя Далила! – Он яростно толкал бедрами, вминая свои кости в ее мягкий живот.
– Я от тебя ничего не прячу. Я дружу с твоими друзьями, я ем, что ты ешь, я учу тебя диалектике! Если ты не берешь меня в жены, хотя бы доверься мне!
Кощей зажмурился. Он содрогался от силы своего секрета, своего оргазма, своего желания. Он сжимал ее крепче и крепче, и Марья подумала, что лицо его округлилось и помолодело, будто впитало ее молодость.
– Я держу ее в стеклянном сундуке, – выдохнул он наконец, грубо толкнув ее обратно на стопки прогнозов перемещения войск, намотав на кулаки бесконечные ее волосы. – Охраняют его четыре собаки: волчица вроде тебя, голодная гончая, заносчивая болонка и толстая овчарка. Их имена начинаются с одной буквы, которую знаю только я. – Он закрыл глаза, прижавшись к ее щеке, а она выгнулась к нему навстречу натянутым луком. – И только тот, кто знает их имена, может добраться до сундука, где я прячу свою смерть.
Кощей закричал, будто умирая. Он навалился на свою любимую, грудь его содрогалась. Марья держала его как ребенка, как собственное дитя. От нее не ускользнуло, что разговор о его смерти глубоко волнует Кощея, будто приближение к ней, будто само слово искрит электричеством в его мозгу.
– Мы победим, Кощей? – прошептала она. Внезапно комната похолодела и на высоких окнах выступил иней. – Мы победим в этой войне?
– Война не для победы, Маша, – вздохнул Кощей, глядя через ее плечо на пути поставок и стратегии охвата. – Она для выживания.
* * *
Той ночью берданка Наганя свернулась калачиком, привалившись к Марье в ее отдельной спальне, обитой винно-красным бархатом и шелком. Жить в этой маленькой комнате – все равно, что жить внутри сердца. Ей так нравилось, а мадам Лебедеву доводило до головной боли. Еще Марье нравилось быть одной, среди своих вещей. Обе девушки утопали в подушках на огромной кровати с уходящими в потолок четырьмя столбами по углам. Всегда теплая на ощупь Наганя вздыхала в полумраке, и Марья Моревна крепко ее прижимала, чтобы Нагаша знала, что она больше не сердится на нее. Да и не сердилась никогда.
– Завтра, – сказала Наганя, – было бы чудесно выйти на центральную площадь и вместе пострелять на дальность, а потом пойти и посмотреть, кого мы подстрелили! Я однажды играла в эту игру с мальчиком, и он подстрелил лягушку, прямо в горло. И случилось что-то очень странное и мерзкое. Лягушка превратилась в девушку и начала плакать, вся грязная и совсем голая. – Наганя сделала паузу, чтобы Марья могла оценить картину. – Когда они женились, на ней было зеленое платье, а какой свадебный каравай она испекла – ни с чем не сравнить. Корочка пропитана медом и сахаром и украшена карамельками из черники. Когда объявляли о женитьбе, она тоже плакала. Такие же слезы проливала, что и в тот день, когда жених ее подстрелил. Может, она и не хотела за него идти, хотя кто бы отказался выйти за такого меткого стрелка? Не могу в такое поверить. Наверное, она плакала по каким-то своим земноводным причинам. А потом, когда они танцевали, ее платье загорелось, и такая поднялась суматоха, но это уж к делу не относится.
– Если мы будем стрелять в городе, то можем подстрелить того, кто не играет в нашу игру, – сонно проговорила Марья. Ее поясница все еще приятно горела от ногтей Кощея.
Берданка взбила подушку ореховым кулаком:
– Так в этом же вся радость! Ну хорошо, если ты такая нежная, можем пойти в лес. Кроме белок, наверное, никого не добудем, и они-то в девушек никогда не превратятся.
– Ну хорошо, Наша. Если я подстрелю лягушку, уступлю ее тебе.
Бесенок прижался к ней еще теснее:
– Ты меня еще любишь, Машенька?
– Конечно, Нашенька. Если наказала, еще не значит, что не люблю. Наоборот. Наказываешь только тех, кого и правда любишь.
Наганя от счастья щелкнула своими железками.
В темноте Марья открыла глаза и уставилась в резной потолок, на котором был изображен огромный пупырчатый змей, окруженный боярами.
– Я тебе рассказывала, как Кощей меня первый раз наказал?
– Кощей тебя наказывал?
– Да, конечно, много раз. В первый раз – потому что он попросил меня не говорить, а я все равно заговорила. Всего-то – сказала, что мне уже лучше. Но это не из-за того, что именно сказала, а из-за того, что нарушила слово. Даже если ты думаешь, что это было жестоко с его стороны – запретить мне говорить, – я же дала слово.
Наганя беспокойно поежилась. Хотя наказание было давным-давно, она все еще беспокоилась за подругу.
– Так что, когда мы приехали в Буян, он сначала не взял меня с собой в Черносвят, не накормил ужином, не познакомил с симпатичными берданочками с именами, похожими на мое. Он оставил меня на конюшне присматривать за его лошадью, потому что я нарушила обещание.
– Ну ты хотя бы дышать могла, я надеюсь, – не смогла не уколоть ее Наганя – такая уж у нее была натура.
– Есть вещи похуже, чем не дышать, – тихо молвила Марья. – Когда ты так далеко от дома, напугана, все время болеешь, ни с кем тут не знакома, скучаешь по матери и по своему старому дому и даже не знаешь, женятся на тебе или убьют, оставить тебя такую одну на конюшне и словечка не молвить – это очень плохо. Но я все равно взяла в руки лопату, такую огромную, что только совок у нее был в половину моего роста. Я вычистила лошадиное стойло, а грязи от этого животного, поверь мне, – и навоз, и выхлоп, и сломанные глушители! Через какое-то время я уже почти не плакала, но руки мои болели, как перед смертью. Я вычистила его шкуру и намазала ее маслом, а он все фыркал да посверкивал глазами. Он был светло-буланым, как во время моей болезни.
«Почему ты все время вот так меняешь масть? – спросила я, не ожидая ответа. – Трудно же подобрать правильное масло».
А он в ответ заржал:
«Это не я привез тебя из Петрограда, это была моя сестра, Полночная Кляча. Потом ты ехала на моем брате, его зовут Полуденный Прилив, он алый, как утренняя заря. Мы с тобой только что встретились. Я – Закатный Мерин, и всякий, кто хочет сюда попасть, должен проехаться на каждом из нас. Меня зовут Волчья Ягода».