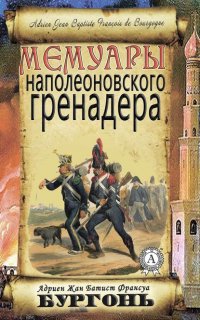
Читать онлайн Мемуары наполеоновского гренадера бесплатно
- Все книги автора: Адриен Жан Батист Франсуа Бургонь
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Перевод «Мемуаров» Адриена Бургоня на русский сделан по изданию:
Memoirs of Sergeant Bourgogne.1812–1813 / Compiled from the Original MS, by Paul Cottin; illustrated. – New York: Doubleday amp; McClure Company, 1899. – 356 рр.
На русский язык в полном объёме это произведение переводится впервые.
При работе над переводом на русский язык использовались следующие издания: частичный русский перевод (Пожар Москвы и отступление французов.1812 год: Воспоминания сержанта Бургоня (Memoires du sergent Bourgogne) / Пер. с фр. Л. Г. – СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1898. – 286 с.) и оригинальный французский текст (Memoires du sergent Bourgogne (1812–1813) / Publies d'apres le manuscript original par Paul Cottin et Maurice Henault.– 6e ed.– Paris: Librairie Hachette et Cie, 1910.– 355pp.)
Перевод любых мемуаров – довольно сложная стилистическая проблема. Особенно, если их автор не профессиональный писатель, а обычный человек среднего класса и среднего уровня образования, именно таким был Адриен Бургонь. Он сам определил цель написания своих мемуаров и, руководствуясь ею, пишет простым, понятным языком, хотя не лишённым неуклюжестей и литературных огрехов. В его воспоминаниях много юмора, много драматических и трагических сцен и диалогов и, благодаря живому языку и искренности автора, читатель легко может представить себе и его самого, его друзей и тех, с кем ему приходилось встречаться. Поэтому переводчик стремился сохранить эту манеру автора и передать её средствами русского языка.
Для удобства читателя все примечания сделаны в виде постраничных сносок, благо, их оказалось немного. Отмечены такие категории, как собственные и географические названия и малопонятные места, требующие пояснений.
Следует отметить, что американский переводчик весьма точно, практически слово в слово перевёл на английский французский текст, однако, весьма небрежно обошёлся с переводом мер длины. Таким образом, лье превратились в лиги, шаги – в ярды, и т. п. Поскольку в данном контексте меры длины – одна из важнейших составляющих, все они приведены по французскому оригиналу. То же самое относится и к некоторым именам собственным – все они транслитерированы на русский по французскому тексту.
Кроме того, было обнаружено множество мелких опечаток – все они исправлены и особого комментария не требуют но, самые любопытные из них переводчик счёл нужным прокомментировать также в постраничных сносках.
Виктор Пахомов.
ПРЕДИСЛОВИЕ К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ 1899 Г.
Адриен Жан – Батист Франсуа Бургонь родился в семье торговца тканями в Конде – на – Шельде (Северный департамент). 12-го ноября 1805 года ему исполнилось двадцать лет. В те времена военная карьера и слава были главной и единственной мечтой молодёжи. Чтобы осуществить эту мечту, отец Бургоня способствовал его поступлению в корпус велитов Гвардии, где необходимым условием был фиксированный доход курсанта.
Изначально велитами назывались легковооружённые римские солдаты, в задачи которых входило начинать битву и разведка (velitare). В год XII-й, когда революция подошла к концу, два корпуса велитов – по 800 человек в каждом, стали гренадерами и конными гренадерами Консульской Гвардии.
В мирное время каждый кавалерийский полк располагал эскадроном велитов, состоявшим из двух рот по 125 человек в каждой, а при каждом пехотном полку состоял батальон велитов, состоящий из двух рот по сто пятьдесят человек в каждой. Форма велитов, была такая же, как и у тех частей войск, к которым они причислялись.
На велитов обучали сначала в Сен-Жермен-Ан-Лэ, а затем в Экуане и в Фонтенбло. Бургонь посещал классы арифметики, грамоты, рисования, гимнастики, учреждённые с целью довершить военное образование этих будущих офицеров, поскольку через несколько лет наиболее способные получали звание су – лейтенанта.
Через несколько месяцев Бургонь вместе с товарищами отправился в поход; началась кампания 1806 года. Сначала он попал в Польшу, где был произведён в капралы. Два года спустя он участвовал в битве при Эслинге, где был дважды ранен.[1] С 1809 по 1811 г. он сражался в Австрии, в Испании, в Португалии. 1812 год застал его в Вильно, где Император сосредоточил свою гвардию перед выступлением против России. Бургоня произвели в сержанты. Он много путешествовал. Он побывал в разных странах, вёл дневник и делал записи обо всем, что видел.
Какой это был бы клад для истории армии, эпохи Первой Империи, если бы он действительно оставил полные свои воспоминания! Ведь даже фрагмент или часть его дневника вызывает огромное желание прочитать весь.
Воспоминания Де Сегюра о Русской кампании в комплиментах не нуждаются. Но, тем не менее, этот поход, так сказать, не пережит им самим, и не мог быть пережит. Состоя при генеральном штабе, Де Сегюр сам не испытал тех страданий, которые выпадали на долю солдат и офицеров армии – и о которых мы хотим знать как можно больше.
Этими подробностями и интересны мемуары Бургоня – этот человек умел видеть и рассказать об увиденном. В этом отношении он не уступает капитану Куанье, записки которого издал Лоредан Ларше. «Тетради» Куанье, сделавшиеся классическими в своём роде, открыли собой новую серию военных мемуаров, принадлежащих обычным людям. Точное описание их впечатлений, вероятно, будет ценным и интересным.
Нам нет необходимости особо подчёркивать драматизм картин, описанных Бургонем. Мы можем лишь отметить описание оргии в церкви в Смоленске, кладбища устланного множеством обледеневших трупов, через которые несчастный шагает, пробираясь к храму, привлекаемый звуками музыки, которую он принимает за небесную, между тем как её производят пьяные люди на полусгоревшем органе, готовом рухнуть в любую секунду. Это, действительно, невозможно забыть.
Ценность этих воспоминаний и в знакомстве с психологией солдата, удручённого невзгодами – это поистине ужасающая драма голода. Бургоня нельзя упрекнуть в бессердечности: проявления эгоизма настолько противны его натуре, что вслед за ними немедленно следуют угрызения совести. По мере сил он помогает своим товарищам, спасает погибающих. Ужасы, совершающиеся на его глазах, трогают его до глубины души: он видел, как солдаты обирают падающих, но ещё живых товарищей, как другие (хорваты) вытаскивают из пламени человеческие трупы и пожирают их. Он видел, как, за недостатком перевозочных средств, войска покидали раненых, простиравших с мольбою руки, волочась по снегу, обагрённому их кровью, между тем как их товарищи безмолвно проходили мимо, размышляя о том, что их ожидает такая же участь. На берегу Немана Бургонь, напрасно просил проходивших мимо солдат, помочь ему. Один только старый гренадер подходит к нему.
«Мне нечего вам протянуть!» – говорит он, показывая кисти рук, лишённые пальцев.
Когда войска входят в города, где рассчитывают найти конец своим страданиям, в их сердцах, под влиянием надежды, разгорается чувство милосердия. Языки развязываются, люди начинают осведомляться о товарищах, самых слабых несут на скрещённых ружьях. Бургонь видел солдат, много лье тащивших на плечах своих раненых офицеров. Не забудем и тех гессенцев, которые охраняли своего молодого принца от 28-градусного мороза,[2] простояв целую ночь, сплотившись вокруг его тела.
Между тем утомление, лихорадка, морозы, плохо залеченные раны, истощение – всего этого оказалось более чем достаточно до того, чтобы сержант отстал от полка и заблудился, как многие другие.
Он бредёт медленно и мучительно в полном одиночестве, часто увязая в снегу по плечи, считая себя счастливчиком, когда удаётся ускользнуть от казаков или найти надёжное место, чтобы спрятаться. Наконец, он находит путь своей колонны по трупам, разбросанным вдоль дороги.
В кромешной тьме ночи он попал на место сражения и, спотыкаясь о трупы, нашёл того, кто слабо кричал: «Помогите!» Он искал и нашёл старого друга, гренадера Пикара, опытного старого солдата и доброго малого, природная жизнерадостность которого, помогает ему преодолеть любые невзгоды.
Услышав, однако, от русского офицера, что Император и его Гвардия захвачены в плен, Пикар, которого внезапно охватил безумный порыв, выхватил оружие и крикнул: «Vive l'Empereur!» – как на параде.
Этот факт является самым примечательным – солдат, несмотря на все его страдания, никогда не обвинял единственную причину его несчастий. Он сохранял верность и преданность, будучи в убеждении, что Наполеон знает, как спасти армию и отплатить. Это была религия солдат. Пикар, как и все старые солдаты Императора, думал, что когда они с ним, все хорошо, всегда с ними удача что, с Императором ничего нет невозможного. До определённого момента Бургонь разделял эту точку зрения. И все же, когда они вернулись во Францию, его полк сократился до 26 человек!
Их кумир всегда глубоко трогает их. Когда Пикар увидел его перед переправой через Березину, он прослезился и воскликнул: «Наш Император идёт пешком! Он – этот великий человек, которым все мы так гордимся!»
Наконец в марте 1813-го года Бургонь вернулся к себе на родину, получил звание су-лейтенанта 145-го пехотного полка и вместе с полком отправился в Пруссию. Раненый в сражении при Дессау (12 окт. 1813 г.) он попал в плен.
Свои часы досуга в плену он провёл в приведении в порядок своих недавних переживаний и делал заметки. Они, как и письма, написанные им своей матери, впоследствии образуют «Мемуары». Кроме того, он говорил о прошлом со старыми товарищами, список которых он приводит, и которые добавили свои воспоминания к его воспоминаниям.
При первом возвращении Бурбонов[3] он подал в отставку под предлогом оказания помощи родителям в поддержания многочисленной семьи. Вскоре после этого он женился.
Его семейная жизнь тоже подчас была нелёгкой: Бургонь это почувствовал после смерти жены, оставившей на его руках двух дочерей. Он женился вторично[4] и от второго брака имел ещё двоих детей.
Занявшись сперва торговлей мануфактурными товарами, как и отец, он, однако, скоро бросил свой магазин и занялся промышленным производством, но прогорел. Его скромный образ жизни и оптимизм помогли ему вынести эти невзгоды, не помешавшие дать приличное воспитание своим дочерям. Он боготворил их и сумел привить им любовь к искусству, которым сам страстно увлекался: одна посвятила себя музыки, другая – живописи. Обладая приятным голосом, он часто пел в конце семейных трапез, по тогдашнему обычаю, теперь совершенно исчезнувшему. В своей квартире он собрал неплохую коллекцию картин, редкостей, сувениров и многие приходили на неё смотреть.
Во время каждой поездки в Париж, он никогда не забывал посетить своих старых товарищей в Доме Инвалидов. В родном городе он ежедневно виделся с несколькими из них в кофейне и там они беседовали о своих походах. Ежегодно они отмечали званым обедом годовщину вступления французов в Москву и по очереди пили из чаши, привезённой из Кремля: солдаты Старой Гвардии возводили прошлое в какой-то культ.
С наступлением событий 1830 года и возвратом трёхцветного знамени[5] он решил опять поступить на службу. Семья его пользовалась некоторым влиянием в Конде, где брат его работал врачом.[6]
Депутат от Валансьена, Ватимениль, бывший министр Людовика XVIII и Карла X, не преминул поддержать храброго воина, участвовавшего в 9-ти походах, трижды раненого и не пользовавшегося никакими милостями от предыдущего правительства. Как законную награду он просил назначения Бургоня на должность плац-коменданта, в то время вакантную в Конде. Письмо к маршалу Сульту, тогдашнему военному министру, было скреплено подписями двух других депутатов Северного департамента, Бригода и Мореля. Ответа всё не было, и две недели спустя г-н Ватимениль возобновил своё ходатайство.
«Это назначение, – писал он, – было бы весьма полезным не только в военном отношении, но и в политическом. В одном лье от Конде находится замок Эрмитаж, принадлежащий герцогу Де Круа, и там собирается кружок недовольных. Я далёк от подозрений, что они замышляют что-либо дурное! Но всё-таки осторожность требует, чтобы укреплённый пост, так близко лежащий от этого замка и на самой границе, был вверен надёжному офицеру. Я отвечаю за энергичность г-на Бургоня…» Если же нельзя назначить Бургоня на эту должность, он, во всяком случае, требовал для своего протеже ордена Почётного легиона.
Между тем о Бургоне совсем забыли в министерстве и не признавали за ним никаких заслуг. Ватимениль вынужден был составить послужной список Бургоня, который и послал туда 24-го сентября. Два месяца спустя, 10-го ноября, бывший велит, наконец, был назначен плац – адъютантом, но не в Конде, а в Бресте. Для Бургоня это было неудобно, слишком далеко, но пришлось принять место, чтобы так сказать вдеть ногу в стремя. Затем крест, полученный им 21 марта 1831 года, утешил его и дал силу потерпеть ещё, если и не забыть свою родину. Вскоре опять было предпринято ходатайство о получении места плац-адъютанта в Валансьене. Бургонь не забыл упомянуть при этом о своём звании избирателя, в то время очень важном. Наконец мечта его осуществилась 25 июля 1832 года, и до сих пор в Валансьене не забыли оказанных им услуг, в особенности во время революции 1848 года. В отставку он вышел в 1853 г. с пенсией в 1,200 франков.[7]
Бургонь умер в возрасте 80-ти лет, 15-го апреля 1867 года, двумя годами позже знаменитого Куанье, которому было 90. Суровые испытания, через которые прошли эти люди, не оказали влияния на длительность их жизни. Они оказались исключительно сильны, чтобы выдержать их. К несчастью последние дни Бургоня были омрачены физическими страданиями, но, ни хорошее настроение, ни оптимистический его характер не пострадали. Мадам Буссье, одна из его племянниц, пришла к нему после смерти второй жены, чтобы заботиться о нем и своей добротой и лаской сделать для него все возможное.
Здесь мы публикуем два его портрета. Одним из них является факсимиле по рисунку Альфонса Шиго – это Бургонь в профиль, одетый в обычную одежду, после ухода со службы. Другой – ранняя литография, показывает его в возрасте сорока пяти лет, суровым и официальным, с жёстким взглядом, олицетворением командира. Мы знаем, однако, что его природная доброта показывает нам правоту утверждения поэта:
- «Garde-toi, tant que tu vivra,
- De juger les gens sur la mine!»
«Пока живете, остерегайтесь судить о людях по их внешности». Жан Лафонтен (перевод мой. – В.П.)
Добавим, что в молодости он слыл красивым солдатом, его рост и военная выправка впечатляли.[8] Мы не делали никаких изменений в тексте, лишь исправили ошибки правописания и сделали незначительные сокращения. Меньше щепетильности было проявлено в тексте (L`Écho de-la-Frontiere') – которая в 1857 году опубликовала часть мемуаров Бургоня. Исправления были такие тщательные, что весь неповторимый дух оригинала пропал.
Коллекция L`Écho de-la Frontière очень редкая. Один экземпляр, я знаю, хранится в Библиотеке в Валансьене. Отдельное издание мемуаров Бургоня мы нашли только двух экземплярах, один в Национальной библиотеке, другой в библиотеке барона Оливье де Ваттвилль (Watteville). Они содержат только часть текста, опубликованного в газете, и заканчиваются на стр. 176 настоящего издания. В L'Écho-de-la Frontière объем текста 286 стр. Поэтому мы дополнили эти мемуары до объёма неопубликованных работ для их публикации в 1896 году в Nouvelle Revue Rétrospective.[9]
Мы очень благодарны Морису Эно, хранителю документов в Валансьене за помощь в поисках рукописи, в настоящее время хранящейся в Городской библиотеке. Он сделал гораздо больше, скопировав её собственноручно, все 616 страниц, тем самым обеспечив точность копии.
Мы также выражаем нашу благодарность г-ну Огюсту Молинье (M. Auguste Molinier) за оригинальную идею опубликовать рукопись для Nouvelle Revue Rétrospective и г-ну Эд. Мартелю (M. Ed. Martel) за помощь в контактах с семьёй Бургоня в Валансьене и Конде. Мы должны также упомянуть племянников нашего героя: г-на доктора Бургоня (M. le Docteur Bourgogne), г-на Амадея Бургоня (M. Amadee Bourgogne), г-на Лорио (M. Loriaux) – его бывшего лэндлорда и г-на Поля Мармотто (M. Paul Marmottau), которые оказали нам ценную помощь в нашей работе.
ПОЛ КОТТЕН.
13 декабря 1896 г.
ГЛАВА I
ОТ АЛМЕЙДЫ ДО МОСКВЫ
Это было в марте месяце 1812 года, в то время мы воевали против английской армии под командованием Веллингтона, у Алмейды, в Португалии, и там получили приказ идти в Россию.
Мы пересекли Испанию, каждый день, был отмечен боями, иногда по два в день и, таким образом, пришли в Байонну, первый город на территории Франции.
После выхода из города мы прошли ещё столько же и прибыли в Париж, где рассчитывали остаться и отдохнуть, но спустя сорок восемь часов Император устроил смотр и решил, что мы не нуждаемся в отдыхе. Мы зашагали по улицам. Затем мы свернули налево на улицу Сен-Мартин, пересекли Ла-Вилле и увидели несколько сотен повозок и других транспортных средств, ожидающих нас; мы остановились. Нам приказали сесть по четыре человека в каждую повозку, взмах кнута – и мы уже в Мо. Оттуда дальше к Рейну в фурах, мы ехали день и ночь.
Мы останавливались в Майнце, перешли Рейн, потом пешком через Великое герцогство Франкфуртское,[10] Франконию, Саксонию, Пруссию и Польшу. Мы пересекли Вислу у Мариенвердера,[11] вступили в Померанию, и утром 25-го июня – был солнечный день (а вовсе не плохая погода, как утверждал Де Сегюр), мы пересекли Неман на наших понтонах, и вошли в Литву, первую провинцию России.
На следующий день мы оставили нашу первую позицию и без особых приключений шли до 29-го июня, но в ночь с 29-го на 30-е услышали страшный грохот – гром, сопровождаемый яростным ветром. Огромные тучи проносились над нашими головами. Буря продолжалась более двух часов, но лишь за несколько минут она потушила наши костры, разрушила палатки, разбросала уложенное оружие. Мы растерялись и не знали куда бежать. Я побежал в деревню, где размещался штаб – только свет молний освещал мой путь – вдруг, при одной из вспышек мне показалась, что я вижу дорогу, но это, к сожалению, оказался огромный овраг, наполнившийся водой от дождя до уровня земли. Думая, что под ногами твёрдая земля, я шагнул и погрузился в воду. Я поплыл к другому берегу и, наконец, добрался до деревни. Я вошёл в первый попавшийся дом и оказался в комнате, заполненной, примерно, двадцатью мужчинами – офицерами и прислугой – все спали. Занял скамью рядом с большой тёплой печью, разделся, отжал воду из рубашки и другой одежды, развесил, чтобы она высохла, и свернулся калачиком на скамейке; когда рассвело, я оделся и покинул дом, чтобы проверить своё оружие и ранец, которые нашёл, валявшимися в грязи.
30-е июня. Ласковое солнце все высушило, и в тот же день мы достигли Вильно,[12] столицы Литвы, куда с частью своей Гвардии накануне прибыл Император.
Там я получил письмо от моей матери, внутри письма было вложено ещё одно, адресованное Констану – Главному Камердинеру Императора, он родом из Перювельза,[13] из Бельгии. Это письмо было от его матери, она была знакома с моей. Я отправился к резиденции Императора, чтобы доставить письмо, но встретил только Рустана, Императорского мамлюка,[14] который сказал мне, что Констан уехал с Его Величеством. Он предложил мне подождать его возвращения, но, поскольку я был на дежурстве, я не мог так поступить. Я отдал ему письмо и решил вернуться, чтобы увидеть Констана потом. Но на следующий день, 16-го июля, мы покинули город в десять часов вечера в направлении Борисова, а 27-го находились уже недалеко от Витебска, где столкнулись с русскими. Мы заняли позицию на возвышенности над городом. Противник занял холмы справа и слева.
Кавалерия под командованием Мюрата, уже произвела несколько атак. Мы увидели 200 вольтижёров 9-го полка – они находились слишком далеко, и их атаковала русская кавалерия. Если бы помощь не пришла быстро, наши люди погибли бы, так как река и глубокие овраги делали доступ к ним очень сложным. Но ими командовали доблестные офицеры, которые поклялись, как истинные мужчины, что покончат с собой, но не потеряют честь. Вольтижёры построились в каре под непрерывным огнём неприятеля, но их нервы не дрогнули. Они были полностью окружены, полк улан, и другие тщетно пытались прорваться к ним, и вскоре вокруг них вырос огромный вал из убитых и раненых людей и лошадей. Этот вал оказался непреодолимым препятствием для русских, которые в ужасе бежали в беспорядке, под радостные крики всей нашей армии.
Наши люди вернулись спокойно, как победители, которые не впервые встречаются с врагом лицом к лицу. Император сразу послал за отличившимися в бою и наградил их орденом Почётного легиона. С противоположной высоты русские тоже видели бой и бегство своей конницы.
После этого боя мы устроили наши бивуаки, и сразу после этого я нанёс визит двенадцати молодым людям, землякам из Конде – десятерым барабанщикам, их тамбурмажору и капралу-вольтижёру. Все они были при оружии. Я сказал им, сколько радости мне доставляет видеть их и выразил сожаление, что мне нечего им предложить. Тамбурмажор сказал: «Mon pays, мы пришли сюда не за этим, но прошу вас пойти с нами и разделить с нами то, что у нас есть – вино, водку, и другие вкусные вещи. Мы захватили их вчера вечером у русского генерала. Это небольшая повозка с кухней и всем необходимым для неё. Мы определили все это в нашу полевую кухню Флоренсии, нашей маркитантке. Она – прелестная испанка. Возможно, она станет моей женой: я защищаю её – с честью, могу вам сказать».
Сказав это, он стукнул рукоятью своей длинной сабли: «Она хорошая женщина: спросите любого – никто не смеет оспорить. Она была кумиром для сержанта, который должен был на ней жениться, но погиб от руки испанца из Бильбао и ей пришлось искать кого-нибудь другого, кто бы мог о ней позаботиться. Все, тогда, mon pays, решено – вы идёте с нами. Где есть место для троих, найдётся место и для четвёртого. Ну, вперёд! Марш!»
И мы отправились в расположение нашего корпуса, сформированного для авангарда.
Таким образом, мы добрались до лагеря уроженцев Конде. Нас было четверо: драгуны Миле, мой земляк из Конде и Фламан из Перювельза, унтер-офицер моего полка Гранжье и я. Мы уселись в тележке маркитантки. Она, действительно, была очень красивая испанка, и была невероятно рада видеть нас, поскольку мы недавно вернулись из её страны и могли неплохо говорить на её языке – а драгун Фламан лучше всех – так мы просидели всю ночь, пили вино русского генерала и говорили о нашей стране.
Все закончилось, когда раздался грохот пушечных выстрелов. Мы разошлись по своим местам, надеясь встретиться вновь.
Бедные мальчики, я не мог даже подумать, что через несколько дней одиннадцатеро из них погибнет.
28-е июля. Мы ожидали битвы, но русская армия отступила, и в тот день мы вошли в Витебск, где остановились на две недели. Наш полк занял одно из предместий города.
Меня поселили у еврея, у которого была красивая жена и две очаровательные дочери с прекрасными округлыми лицами. В доме имелись небольшой чан для изготовления пива, ячмень и ручная мельница, но не было хмеля. Я дал еврею двенадцать франков, чтобы он купил его и, опасаясь, что он не вернётся, мы держали Рашель, его жену, и двух его дочерей в качестве заложников. Однако, спустя сутки, Яков, еврей, вернулся с хмелем. Пивоваром нашей компании был Фламан, он сварил нам пять бочек отменного пива.
13-го августа, когда мы покидали город, оставалось ещё две бочки пива; мы поручили их Матушке Дюбуа, маркитантке. Её осенила блестящая идея ехать позади и выгодно зарабатывать на продаже пива людям, которые шли за нами, поскольку в такую изнуряющую жару мы были на волосок от смерти от жажды.
Рано утром 16-го августа мы были недалеко от Смоленска. Враг снова отступил, и мы заняли позиции на «Священном поле», как называют его местные жители. Этот город окружён очень крепкими стенами, укреплёнными старыми башнями, часть из них построена из дерева. Борисфен (Днепр) протекает через город. Осада началась, стену проломили очень быстро, но 17-го утром, при подготовке к захвату, к нашему удивлению, мы обнаружили, что город покинут. Русские отступили, но разрушили мост, и с господствующей над городом возвышенности осыпали нас бомбами и гранатами.
В течение этого дня осады я с одним из моих друзей, был на заставе, откуда батареи обстреливали город. Маршал Даву командовал этой позицией. Узнав, что мы из Гвардии, он пришёл к нам и спросил, где Императорская Гвардия. И добавил, что русские вышли из города и наступают в нашем направлении. Он немедленно приказал батальону лёгкой пехоты захватить передовые позиции, выразив это в такой команде: «Если враг сделает, хоть шаг вперёд, отправьте его обратно».
Вспоминаю старого офицера этого батальона, который шёл вперёд и пел песню Роланда:
- «Combien sont-ils? Combien sont-ils?
- C’est le cri du soldat sans gloire!»
- «Сколько их? Сколько их?
- Это крик солдата без славы!»[15]
(перевод мой. – В.П.)
Пять минут спустя батальон пошёл в штыковую атаку и заставил русских вновь войти в город.
На обратном пути в лагерь, нас чуть не убило гранатой, другая упала на сарай, в котором жил маршал Мортье, и подожгла его. Среди солдат, носивших воду для тушения огня, я узнал моего земляка, он служил в Молодой Гвардии.[16]
Кроме того, я посетил кафедральный собор в Смоленске, там приютилось множество жителей – их дома уничтожили артиллерия и пожары.
21-го августа числа мы выступили, и в тот же день пересекли равнину у Валутино, где два дня назад произошла страшная битва, и был убит храбрый генерал Гюден.
Мы продолжали двигаться вперёд и форсированным маршем прибыли в город Дорогобуж. Ушли мы оттуда 24-го августа и гнали русских до самой Вязьмы, которая уже горела. Там мы нашли водку и немного еды. В Гжатск[17] мы вошли 1-го сентября; там оставались до 4-го, снова пошли вперёд и 5-го сентября снова встретили русскую армию. 61-й полк получил приказ захватить первый редут.
6-го сентября мы готовились к генеральному сражению, которое состоялось на следующий день – одни чистили ружья и другое оружие, другие меняли белье на случай ранения, кто-то составлял завещание, а самые беззаботные пели или просто спали. Вся Императорская Гвардия получила приказ явиться в полной форме.
7-го сентября, в пять часов утра мы уже стояли с оружием в руках. Проехал Император, осматривая наш строй, он был верхом на коне уже более получаса.
Битва началась в семь часов. Я не могу описать её в деталях, но все обрадовались, услышав рёв артиллерии, пребывая в полной уверенности, что на этот раз русские не сбегут, и что мы встретимся лицом к лицу с ними. Накануне вечером и часть ночи шёл небольшой дождь, но в этот великий день погода была великолепная. Эта, как и все наши великие битвы, была выиграна артиллерией, сделавшей 120 000 залпов. Русские потеряли, по крайней мере, 50 000 человек убитыми и ранеными. Наши потери составили 17 000 человек, 43 генерала выбыли из строя, восемь из которых, насколько я знаю, были убиты. Это были: Монбран, Юар, Коленкур (брат обер-шталмейстера Императора), Компар, Мэзон, Плозонн, Лепель и Анабер. Последний был полковником полка пеших егерей Гвардии. Каждую минуту отправлялось сообщение Императору: «Сир, такой-то и такой-то генерал убит или ранен», и его место тут же заполнялось. Таким образом, полковник Анабер стал генералом. Я очень хорошо это помню, потому, что я стоял недалеко от Императора тогда. Император сказал: «Полковник, я вас произвожу в генералы, возглавьте головную дивизию, стоящую перед редутом и возьмите его!»
Генерал галопом ускакал со своим адъютантом. Четверть часа спустя адъютант вернулся и доложил Императору, что редут взят, но генерал ранен. Восемь дней спустя он умер, как и многие другие. Я слышал, что русские потеряли пятьдесят генералов, либо убитыми, либо ранеными. В течение всего сражения мы оставались в резерве, стоя позади дивизии под командованием генерала Фриана:[18] ядра дождём падали в наши ряды и вокруг Императора.
Бой завершился к концу дня, мы оставались здесь до утра, и весь следующий день (8-го сентября). Я провёл этот день на поле – печальное и ужасное зрелище. Со мной был Гранжье, мы дошли до оврага, позиции, которая во время сражения несколько раз переходила из рук в руки. Мюрат приказал поставить там палатки. В тот момент он руководил своим собственной хирургом, который проводил ампутацию ног двух артиллеристов русской Гвардии. Когда операция подошла к концу, он велел дать каждому из них по бокалу вина. Потом он прогуливался по краю оврага, осматривая окаймлённую лесом равнину, открывавшуюся на противоположной стороне. Там, в день сражения, он сделал больше, чем смог бы сделать один человек, московиты глотали пыль, а он и его кавалерия рубили отступающего противника. Он был великолепен – выделявшийся среди других своей отвагой, хладнокровием и прекрасной формой, отдававший приказы своим подчинённым, или же осыпавший градом сабельных ударов сражавшихся с ним противников. Его легко узнавали по его головному убору с белым султаном и по развевающемуся плащу.
Утром 9-го сентября мы пошли дальше и в тот же день достигли Можайска. Русский арьергард занял возвышенность на противоположной стороне города, прямо напротив нас. Рота вольтижёров и гренадеров и ещё более сотни солдат из 33-го полка – части авангарда – бесстрашно взошли на гору. Часть армии, все ещё находящаяся в городе была поражена, наблюдая, как несколько эскадронов кирасир и казаков выдвинулись и окружили вольтижёров и гренадеров. Но те, как будто заранее зная об этом, спокойно сгруппировались, построились повзводно, потом в каре и дали залп со всех четырёх сторон по окружившим их русским.
Мы считали их погибшими, учитывая расстояние, разделявшее нас, и понимали, что помощь невозможна. Русский старший офицер подошёл к ним и предложил сдаться. Командир убил его выстрелом в упор. Увидев это, неприятельская кавалерия в ужасе бежала и оставила наших воинов хозяевами на поле боя.[19]
10-го сентября мы преследовали врага до самого вечера, а когда остановились, я был назначен в патруль охраны замка, где поселился Император. Я как раз расставлял своих людей вдоль дороги, ведущей к замку, когда мимо нас, ведя нагруженную лошадь, прошёл польский слуга, хозяин которого был тогда в Императорском штабе. Лошадь была уставшая и измученная. Она упала и отказалась встать. Слуга взял багаж и понёс сам. Едва он ушёл, как наши голодные солдаты убили лошадь. Всю ночь мы пировали, а мяса хватило ещё и на следующий день.
Вскоре прошёл Император в сопровождении Мюрата и одного из членов Государственного Совета. Они шли в сторону главной дороги. Я и мои подчинённые взяли на караул. Император остановился перед нами и лошадью, заблокировавшей дорогу. Он спросил меня, ели ли мы.
Я ответил: «Да».
Он улыбнулся и сказал: «Терпение! Через четыре дня мы будем в Москве, где вы будете отдыхать и хорошо питаться – однако, на худой конец, и лошадь хорошо».
Его предсказание сбылось, в течение четырёх дней после мы прибыли в этот город.
На следующий день (11-го сентября) и позже, была прекрасная погода. 13-го сентября мы спали возле красивого монастыря и нескольких других прекрасных зданий. Было ясно, что столица близко.
14-го сентября мы выступили очень рано. Прошли мимо оврага, где русские начали делать редуты для защиты, и сразу после этого очутились в большом лесу из берёз и сосен, где обнаружили прекрасную дорогу. Теперь до Москвы было уже совсем недалеко.
В тот день я шёл впереди, в авангарде из пятнадцати человек. Через час колонна остановилась, и я увидел солдата с левой рукой на перевязи. Он стоял, опираясь на своё ружье и, казалось, ждал кого-то. Я сразу узнал в нем одного из моих земляков из Конде, с которыми встречался в Витебске. Он стоял там, в надежде увидеть меня. Я подошёл к нему и спросил про его друзей. «Им хорошо, – ответил он, ударив о землю прикладом ружья, – они все умерли на поле чести, как говорится, и были похоронены в большом редуте. Их разорвало картечью». «Ах, сержант, – продолжал он, – никогда не забуду эту битву – настоящая бойня!»
– А вы? – спросил я, – что с вами?
– Ах, это! Пустяк, пуля попала между локтем и плечом. Присядем на минутку, и давайте поговорим о наших бедных товарищах и молодой испанке, нашей маркитантке.
Вот что он мне рассказал:
– Мы бились с семи утра, и тут ранило генерала Кампана, нашего командира. Офицер, занявший его место, был также ранен, а потом и третий. Пришёл четвёртый. Из Гвардии. Тут же, приняв командование, он приказал барабанщикам бить сигнал к атаке. Вот как наш полк (61-й) был уничтожен картечью, вот как погибли наши друзья, редут взят, а генерал ранен. Это был генерал Анабер. Во время боя я получил пулю в руку, но тогда не заметил этого.
Вскоре моя рана так разболелась, что я пошёл к врачам, чтобы извлечь пулю. Я прошёл совсем немного и встретил молодую испанку, нашу маркитантку: она плакала. Ей сказали, что почти все барабанщики полка убиты или ранены. Она сказала, что хочет увидеть их, чтобы помочь им, чем может. И потому, несмотря на сильную боль в руке, я решил сопровождать её. Мы пошли туда, где было больше всего раненых: одни шли, страдая, медленно и с трудом, других несли на носилках.
Дойдя до большого редута, места этой бойни, она зарыдала. Но, увидев разбитые полковые барабаны, засыпанные землёй, просто обезумела. «Вот, друг мой, здесь! – воскликнула она, – они здесь!» Да, это были они, с переломанными руками и ногами, тела, разорванные картечью. Обезумев от горя, она ходила от одного к другому, нежно разговаривая с ними, но никто из них не слышал её. Некоторые, однако, до сих пор подавали признаки жизни – тамбурмажор, которого она называла отцом. Она остановилась возле него, стала на колени и приподняла его голову, чтобы дать ему немного коньяка. Именно в этот момент, желая вернуть себе редут, русские пошли в атаку, и снова началась стрельба. Вдруг испанка закричала от боли – пуля попала ей в левую руку, раздробила ей большой палец и вошла в плечо умирающего, которого она поддерживала. Она потеряла сознание. Я попытался поднять её и отнести к обозу и врачам. Но только с одной здоровой рукой у меня не хватало достаточно сил. К счастью мимо пробегал кирасир. Он ни о чем не спросил, сказал только: «Быстрее, надо спешить – это опасное место». И, правда, вокруг нас свистели пули. Без всяких церемоний он поднял молодую испанку и понёс, как ребёнка. Она по-прежнему была без сознания. Через 10 минут, мы были в лесочке, где находились палатки медицинской службы гвардейской артиллерии. Здесь Флоренция пришла в себя.
Ларрей, Императорский хирург, ампутировал ей большой палец и очень ловко извлёк пулю из моей руки, так что я снова чувствую себя хорошо.
Вот что я узнал от Дюмона из Конде, капрала – вольтижёра 61-го полка. Я взял с него обещание встретиться со мной в Москве, если мы там остановимся, но я больше никогда ничего о нем не слышал.
Так погибло двенадцать молодых людей из Конде в знаменитом сражении под Москвой 7-го сентября 1812года.
Конец небольшого обзора о нашем марше из Португалии в Москву.
Бургонь,[20]
Экс-гренадер Императорской Гвардии, кавалер ордена Почётного легиона.
ГЛАВА II
ПОЖАР МОСКВЫ
14-го сентября, примерно в час дня, пройдя через большой лес, мы увидали вдали возвышенность, и через полчаса достигли её. Авангард, уже взобравшийся на холм, махал руками знаки отставшим, крича им: «Москва! Москва!» Действительно, впереди показался огромный город – в нем мы рассчитывали отдохнуть от утомительного похода, так как мы, Императорская Гвардия, прошли, по сути, без отдыха более 1200 лье.[21]
Это был прекрасный, по-летнему тёплый день: солнце играло на куполах, колокольнях, позолоченном убранстве дворцов. Многие, виденные мною столицы, Париж, Берлин, Варшава, Вена и Мадрид, произвели на меня впечатление заурядное, здесь же другое дело: в этом зрелище, для меня, как и для всех других, заключалось что-то магическое.
Забылось всё – опасности, труды, усталость, лишения, и думалось только об удовольствии вступить в Москву, устроиться на удобных квартирах на зиму и заняться победами другого рода – таков уж характер французского воина: от сражения к любви, от любви к сражению. Тем временем, пока мы любовались городом, пришло распоряжение одеться в парадную форму.
В этот день я был в авангарде ещё с пятнадцатью товарищами и мне поручили стеречь нескольких офицеров, попавших в плен после Великой битвы под Москвой. Многие из них говорили по-французски. Среди них, между прочим, и православный поп, вероятно полковой священник, также очень хорошо говоривший по-французски; он казался более печальным и озабоченным, чем все его товарищи по несчастью. Я заметил, как и многие другие, что когда мы взобрались на холм, все пленные склонили головы и несколько раз набожно осенили себя крестным знамением. Я подошёл к священнику и осведомился, что это значит.
– Сударь, отвечал он, – гора, на которой мы находимся, называется «Поклонной» и всякий добрый москвич, при виде святынь города, обязан здесь перекреститься.
Через минуту мы уже спускались с горы, а ещё через четверть часа очутились у ворот города.
Император уже находился там со своим генеральным штабом. Мы сделали привал; тем временем я заметил, что под самым городом, по левой руке раскинулось обширное кладбище. Немного погодя, маршал Дюрок, незадолго перед тем вступивший в город, вернулся и представился Императору вместе с несколькими жителями, говорившими по-французски. Император обратился к ним с вопросами; затем маршал доложил Императору, что в Кремле собралось множество вооружённых людей – большей частью преступников, выпущенных из тюрем, и что они стреляют в кавалерию Мюрата, составлявшую авангард. Несмотря на многократные требования, они отказывались отпереть ворота.
– Эти негодяи пьяны, – добавил маршал, – и не хотят прислушаться к голосу разума.
– Пусть выбьют ворота пушками! – отвечал Император, – и выгонят оттуда всех, кто там есть.
Так и сделали – король Мюрат взял на себя эту обязанность: два пушечных выстрела – и весь этот сброд разбежался. Потом король Мюрат двинулся дальше по городу, преследуя русский арьергард.
Послышался барабанный бой, затем раздалась команда: «Garde а vous!» То был сигнал вступления в город. В половине четвёртого пополудни мы вступили колонной, построенной повзводно. Авангард, в состав которого входил и я, состоял из тридцати человек, командовал им Серрарис, лейтенант нашей роты.
Только мы вошли в предместье, как увидали идущих на нас тех самых негодяев, которых выгнали из Кремля: у всех были злобные лица и вооружены они были ружьями, пиками и вилами. Едва мы перешли через мост, отделявший предместье от города, как из-под моста выскочил какой-то субъект и направился навстречу войскам: одетый в овчинный полушубок, стянутый ремнём, с развевающимися, длинными, седыми, до плеч волосами, густая белая борода спускалась по пояс. Он вооружился трёхзубыми вилами и был похож на Нептуна, вышедшего из моря. Он гордо двинулся на тамбурмажора, видя, что тот в парадном мундире, в галунах, он, вероятно, принял его за генерала. Он нанёс ему удар своими вилами, но тамбурмажор успел уклониться и, вырвав у него оружие, взял его за плечи и столкнул с моста в воду. «Нептун» скрылся в воде и уже не появлялся, его унесло течением, больше мы его и не видали.
Мы встретили несколько других того же рода, которые стреляли в нас. Были даже такие, у которых не было ничего, кроме кремневых мушкетов, и если они никого не ранили, то у них просто вырывали мушкеты и разбивали, а их самих прогоняли ударами прикладов наших ружей. Некоторые из этих видов оружия были взяты из арсенала в Кремле; мушкеты с кремневыми замками, конечно, были оттуда.
Позже мы узнали, что кое-кто из этих негодяев пытался зарезать одного из офицеров штаба Мюрата.
Пройдя мост, мы продолжали путь по широкой прекрасной улице. Нас удивило, что не видно было ни души, даже ни одной женщины и некому было слушать нашу музыку, игравшую: «Победа за нами!» Мы не знали, чему приписать такое полное безлюдье. Мы воображали, что жители, не смея показываться, смотрели на нас сквозь щёлки оконных ставень. Кое-где мы видели только лакеев в ливреях, да несколько русских солдат.
Через час мы очутились перед внешней линией укреплений Кремля. Но нас заставили круто повернуть налево, и мы пошли по улице ещё лучше и шире первой: она вела нас на Губернаторскую площадь.[22] В ту минуту, как остановилась колонна, мы увидали трёх дам, выглядывавших из окна нижнего этажа. Я очутился на тротуаре, вблизи одной из этих дам; она подала мне кусок хлеба, чёрного, как уголь, и перемешанного с мякиной. Я поблагодарил её и в свою очередь подал ей кусок белого хлеба, который мне дала Матушка Дюбуа, маркитантка нашего полка. Дама покраснела, а я засмеялся; тогда она, не знаю зачем, тронула меня за рукав, и я продолжал путь.
Наконец мы пришли на Губернаторскую площадь и расположились напротив дворца Ростопчина, губернатора города, того самого, который распорядился поджечь его. Нам объявили, что весь нашему полку приказано патрулировать город, и что никто ни под каким видом не смеет отлучаться. Но, несмотря на это, через полчаса вся площадь заполнилось всякими товарами, было все, чего только душе угодно: вина разных сортов вина, водка, варенье, громадное количество сладких пирогов, муки, но хлеба не было. Мы входили в дома рядом с площадью, чтобы попросить еды и питья, но, поскольку хозяев не было, сами брали все, что нам хотелось.
Мы расположили наш пост у главных ворот дворца, справа имелась комната, довольно обширная, чтобы хватило места для караула и нескольких пленных русских офицеров, захваченных в городе. Ранее захваченных русских офицеров по приказу командования, оставили у входа в город.
Дворец губернатора довольно велик и построен полностью в европейском стиле. В вестибюле начинаются две прекраснейших лестницы, они сходятся в бельэтаже, где имеется большой зал, с овальным столом посредине, в дальнем углу висит большая картина, изображающая русского царя Александра на коне. Позади дворца обширный двор, окружённый зданиями, предназначенными для прислуги.
Час спустя после нашего прибытия начался пожар. Справа от нас показался густой дым, потом взвился вихрь пламени; никто, однако не знал, где это происходит. Вскоре нам сообщили, что горят базар и кварталы купцов. «Это, наверное, мародёры,[23] – говорили нам, – те, кто по неосторожности подожгли лавки в поисках продовольствия».
Многие, не участвовавшие в этой кампании, говорят, что пожар Москвы был погибелью для армии. А я, как и многие другие, полагаю, что русские могли бы и не поджигать город, а просто увезти с собой, или уничтожить всё продовольствие и опустошить всю местность на десять лье в окружности. Это было бы совсем не трудно, – и тогда нам через пару недель поневоле пришлось бы убраться. После пожара всё ещё оставалось достаточно домов, в которых можно было поселить всю армию и, даже если допустить, что все дома сгорели – тогда остались бы подвалы. В семь часов загорелось за губернаторским домом: наш полковник пришёл к нам в караулку и приказал немедленно выслать патруль в 15 человек, в том числе и меня. Командиром назначили Серрариса. Мы двинулись в сторону пожара, но едва прошли триста шагов, как справа раздались выстрелы. В первую минуту мы не придали этому значения, всё ещё думая, что это просто пьяные солдаты. Но шагов через пятьдесят из какого-то тупика опять раздаются выстрелы, направленные прямо в нас. В ту же минуту один из солдат вскрикнул – его ранило. Пуля попала ему в ногу, но рана была не опасна, и не мешала идти. Тотчас решено было вернуться, но едва мы повернулись, как ещё два выстрела из того же закоулка заставили нас изменить свои планы. Решив поближе рассмотреть, в чём дело, мы подошли к дому, откуда стреляли, выломали ворота и очутились лицом к лицу с девятью дюжими молодцами, вооружёнными пиками и ружьями – они стояли, перекрыв нам вход внутрь.
Тотчас завязался бой, довольно неравный, так как нас было девятнадцать человек против девяти, но думая, что их там больше, мы сразу уложили на месте первых троих. Одному капралу пика попала между кожаной амуницией и одеждой, не почувствовав раны, он ухватился за пику своего противника, несравненно более сильного, а поскольку у капрала только одна рука была свободна, ведь в другой было ружье, он с силой был отброшен к двери подвала, но пики из руки не выпустил. Ещё один русский упал, сражённый штыком. Офицер своей саблей ударил по руке русского, чтобы заставить его отпустить пику, но тот не уступил, а потому его просто застрелили пулей в бок и отправили в царство теней. Тем временем я с пятью солдатами держал оставшихся четверых (трое сбежали), так плотно прижав их к стене, что они не могли пустить в дело свои пики: при малейшей такой попытке мы бы тут же проткнули их штыками. Они продолжали биться голыми кулаками, просто из бравады. Эти несчастные были пьяны – напившись водки, которую они нашли в огромном количестве, они просто обезумели. Наконец, чтобы закончить все это, мы вынуждены были убить их.
Мы поспешили в дом, в одной из комнат мы застали двоих или троих из сбежавших: увидев нас, они были так напуганы, что не успели схватить своё оружие, и спрыгнули с балкона.
Поскольку мы отыскали всего двоих, а ружей было три, мы продолжили искать третьего и нашли его под кроватью; он вышел к нам добровольно, крича «Bojo! Bojo!» что означает: «Боже! Боже!» Мы не причинили ему никакого вреда, а просто арестовали, чтобы использовать в качестве проводника. Внешне он выглядел, как и все другие, отвратительно и безобразно – уголовник, собственно. На нём был тулуп, подпоясанный ремнём. Мы вышли из дома. На улице мы увидали тех двоих уголовников, которые выскочили из окна: один умер, разбив себе голову о мостовую, другой сломал обе ноги.
Мы оставили их, а сами решили вернуться на Губернаторскую площадь. Но каково было наше изумление, когда мы увидали, что это невозможно, настолько распространился пожар! Пламя справа и слева образовало сплошную стену, дул ветер и некоторые крыши стали проваливаться. Пришлось искать другую дорогу. К несчастью, мы не сумели найти способ общаться с нашим проводником, он, казалось, был более похож на медведя, чем на человека.
Пройдя шагов двести, мы увидели по правую руку какую-то улицу, но прежде чем пойти по ней, мы из любопытства пожелали осмотреть дом, откуда эти бандиты стреляли в нас. Мы пропустили вперёд нашего пленного и сами шли за ним, но вдруг раздались крики, и откуда-то выскочило несколько человек с зажжёнными факелами в руках. Войдя на большой двор, мы убедились, что место, где мы находимся, не простой дом, а великолепный дворец. Мы оставили у ворот двух часовых, приказав им предупредить нас в случае нападения. Мы зажгли свечи и вошли. Никогда в жизни я не видел такой дорогой и красивой мебели, а особенно такой коллекции картин фламандской и итальянской школы. Среди всей этой роскоши наше внимание привлёк большой ларец, наполненный необыкновенной красоты оружием. Я взял себе пару кавалерийских пистолетов, инкрустированных жемчугом и драгоценными камнями, и ещё устройство для испытания силы пороха.
Уже более часа мы бродили по этим огромным, роскошным комнатам, как над нашими головами прогремел сильный взрыв. Это сильно потрясло нас – мы думали, что будем заживо погребены под развалинами дворца. Мы осторожно спустились вниз и удивились, не застав наших двух часовых. После долгих поисков мы нашли их на улице. Они сказали нам, что, услышав взрыв, быстро убежали, думая, что сейчас дворец рухнет на них. Перед окончательным уходом мы захотели узнать причину нашего ужаса. В большой столовой обрушился потолок, хрустальная люстра разлетелась вдребезги. В печи оказалась спрятанная бомба. Русские рассудили, что для того, чтобы уничтожить нас, все средства хороши.
Мы все ещё оставались во дворце, когда раздался крик: «Пожар!» Это кричали наши часовые, заметившие пламя. Из многих мест повалили клубы густого дыма, сначала чёрного, потом багрового, и в один миг всё здание охватил огонь. Через четверть часа крыша, сделанная из окрашенного и лакированного железа, рухнула с грохотом, а с ней и большая часть здания.
Немного попетляв, мы вышли на довольно широкую и длинную улицу, справа и слева вдоль неё возвышались великолепные дворцы. Скорее всего, она должна была вывести нас на площадь, но проводник каторжник ничего не мог сказать нам. Он оказался полезен нам лишь тем, что иногда нёс нашего раненого товарища, идти которому становилось все трудней. Мы встречали людей с длинными бородами и зловещими лицами, при свете факелов, которые они несли в руках, они казались ещё страшнее, мы их не задерживали.
Далее мы встретили егерей Гвардии и от них узнали, что это сами русские поджигают город и что встреченным нами людям поручено выполнять этот замысел. Вскоре после этого нас удивили трое русских, поджигавших православную церковь. Заметив нас, двое побросали свои факелы и убежали; мы подошли к третьему – тот не бросил факела, а, напротив, старался сделать своё дело, но удар прикладом в затылок покарал его за упрямство.
Затем мы встретили патруль фузилеров – егерей, заблудившихся так же, как и мы. Их командир, сержант, рассказал мне, что они встретили уголовников, поджигавших дома, и что одному из них он принуждён был отсечь кисть руки саблей, чтобы заставить бросить факел, но тот тотчас подхватил факел левой с намерением продолжать – им пришлось убить его.
Потом мы услышали голоса женщин, звавших на помощь по-французски. Мы вошли в дом, откуда слышались крики, думая, что это захваченные русскими маркитантки. Войдя, мы увидали разбросанные в беспорядке разнообразные костюмы, очень дорогие, а навстречу нам вышли две дамы, взволнованные и растрёпанные. С ними был мальчик, лет 12-15-ти. Они умоляли нас оказать им помощь – русские полицейские хотели поджечь их дом и не позволяли забрать свои вещи. Там были плащ Цезаря, шлем Брута, доспехи Жанны д'Арк. Дамы объяснили нам, что они актрисы, француженки, а их мужей насильно принудили служить в русской армии. Мы помешали поджечь дом, забрали с собой русских полицейских (их было четверо), и увели их в свой полк на Губернаторскую площадь. После всех этих неприятных приключений мы вернулись в два часа ночи и с противоположной стороны. Полковник, узнав о нашем возвращении, был недоволен и спросил, где мы пропадали с семи часов вечера вчерашнего дня. Но, увидев наших пленников, нашего раненого товарища, и выслушав наш рассказ о пережитых нами опасностях, он сказал, что рад нашему возвращению и что он очень беспокоился о нас.
Глядя на площадь, где расположился бивуаком наш полк, мне казалось, что я на собрании всех народов мира, – наши солдаты оделись кто калмыком, кто китайцем, кто казаком, кто татарином, персом или турком, а многие щеголяли в дорогих мехах. Некоторые даже нарядились в придворные костюмы, нацепили шпаги, со сверкающими, как алмазы, стальными рукоятками. Вдобавок, вся площадь была усеяна лакомствами, каких только душе угодно – винами, ликёрами, в большом количестве, было немного свежего мяса, много окороков и крупной рыбы, немного муки, – но хлеба не было.
На другой день после нашего прибытия, 15-го сентября, в 9 часов утра, полк покинул Губернаторскую площадь, чтобы перейти ближе к Кремлю, где разместился Император. Я, с 15-тью товарищами, был оставлен во дворце губернатора.
Около десяти часов я увидал генерала, подъехавшего верхом, кажется, это был генерал Пернетти.[24] Он привёл с собой молодого человека в овчинном тулупе, подпоясанном красным шерстяным поясом. Генерал спросил меня, не я ли начальник поста, и на мой утвердительный ответ сказал:
– Хорошо, заберите этого человека и убейте его штыками, – я застал его с факелом в руках, поджигающим дворец, где я квартирую.
Я тотчас же отрядил четырёх солдат для выполнения приказа генерала. Но французский солдат не способен выполнить такую работу – чётко и хладнокровно. Удары штыка не пробили овчину и, возможно, мы пощадили бы его, учитывая его молодость (более того, он не был похож на преступника), но генерал остался, пока не увидел, как несчастный упал замертво, сражённый пулей в бок. Мы так и оставили его на площади.
Вскоре явился другой субъект, житель Москвы, француз и парижанин по происхождению. Он сообщил, что он владелец общественных бань и просил меня оказать помощь в обеспечении безопасности его заведения. Я дал ему четырёх солдат, но они вскоре вернулись с сообщением, что поздно – бани уже горят.
Несколько часов спустя после ужасной казни, караульные солдаты доложили мне, что какая-то женщина, пришедшая на площадь, бросилась на безжизненное тело несчастного молодого человека. Я пошёл посмотреть, она пыталась объяснить нам, что это её муж или родственник. Она сидела на земле, держа на коленях голову убитого, гладила рукой его лицо, иногда целовала его, но не плакала. Наконец, будучи не в состоянии смотреть на эту душераздирающую сцену, я отвёл её в помещение караула и дал ей рюмку ликёра, которую она жадно выпила. За этой рюмкой – вторую, третью и ещё – она выпила, сколько смогла. Она старалась объяснить нам, останется тут три дня, пока мёртвый не воскреснет, веря, как все русские крестьяне, что в течение дней покойник оживает. В конце концов, она заснула на диване.
В пять часов наша рота вернулась и снова была отряжена в патруль, так что моё дежурство продлилось ещё на сутки. Остальная часть полка занималась тушением пожаров вокруг Кремля. Огонь на время удавалось остановить, но потом он вспыхивал ещё сильнее.
После возвращения роты, капитан разослал патрули в разные кварталы. Один отправился в сторону бань, но тотчас вернулся и сообщил, что сразу же после их прихода крыша бань обрушилась со страшным треском и искры, разлетевшиеся кругом, подожгли соседние здания.
Весь вечер и всю ночь наши патрули приводили русских солдат со всех концов города – пожар заставлял их покидать свои убежища. Среди них было два офицера, один армейский, другой из ополчения, первый беспрекословно позволил себя обезоружить, т. е. отдал свою саблю и попросил только, чтобы ему позволили оставить золотую медаль, висевшую у него на груди. Но второй, совсем ещё молодой человек, имевший при себе кроме сабли пояс с патронами, возражал, и на хорошем французском объяснял нам, что он из ополчения. В конце концов, мы договорились и с ним.
В полночь вспыхнул ещё один пожар недалеко от Кремля, были привлечены свежие силы, чтобы погасить его. Но 16-го сентября, в 3 часа утра он возобновился с новой силой, остановить его не удалось.
В эту ночь, с 15-го на 16-е сентября, я и двое моих друзей, таких же унтер-офицеров, как и я, решили исследовать город и Кремль, о котором мы так много слышали. И вот мы отправились. Для освещения пути факелов не понадобилось, но, собираясь посетить дома и подвалы московских господ, каждый взял собой солдата и свечи.
Мои товарищи уже немного ориентировались в городе, но поскольку каждую минуту дома обрушались, и все вокруг непрерывно менялось, мы скоро безнадёжно заблудились. Пробродив беспомощно некоторое время, мы к счастью встретили еврея, который рвал на себе волосы и бороду, глядя, как горела его синагога, где он состоял раввином. Он говорил по-немецки и поведал нам своё горе: оказывается, он и другие его единоверцы собрали в синагогу всё, что у них было самого ценного, и вот теперь всё погибло. Мы пытались утешить сына Израиля, взяли его за руку и попросили отвести нас в Кремль. Не могу без смеха вспомнить, что в разгар такого бедствия еврей стал спрашивать нас, не имеем ли мы что-нибудь для продажи или обмена. Я действительно думаю, что он задавал нам эти вопросы просто по привычке, поскольку в то время ни о какой торговле и речи быть не могло.
Пройдя несколько кварталов объятым пламенем и, любуясь прекрасными, ещё не тронутыми улицами, мы пришли на маленькую площадь неподалёку от Москвы-реки. Оттуда еврей показал нам башни Кремля, ясно различимы е до мельчайших деталей, как среди бела дня, в свете пожаров. На минуту мы остановились, чтобы осмотреть подвал, из которого только что вышло несколько улан Гвардии. Мы взяли немного вина, сахара и много варенья – всё это мы нагрузили на еврея, теперь уже состоявшего под нашей защитой и покровительством. Уже рассветало, когда мы подошли к внешней линии укреплений Кремля. Мы прошли через ворота из серого камня, увенчанными маленькой колокольней с колоколом в честь св. Николая, чья статуя стояла в нише над входом. Этой статуе святого, высокой, по крайней мере, шесть пье,[25] богато одетой, поклонялся каждый русский, который проезжал мимо, даже осуждённый. Он является главным покровителем России.
Потом мы повернули направо, перешли улицу с большим трудом из-за беспорядка, вызванного огнём, который вспыхнул в разных домах, занимаемых маркитантками Гвардии, и дошли до стены, укреплённой высокими башнями, увенчанными золотыми орлами. Пройдя ещё одни ворота, мы очутились на площади перед дворцом. Со вчерашнего дня там поселился Император, ночь со 14-го на 15-е сентября он провёл в предместье.
В Кремле мы встретили товарищей из 1-го егерского полка, которым тоже поручили патрулирование, и они пригласили нас на завтрак. Нас угостили хорошим мясом и превосходными винами. Еврей, который все ещё сопровождал нас, был вынужден, несмотря на все своё отвращение, завтракать с нами, и есть ветчину. Правда, егеря, у которых имелись серебряные слитки, взятые ими на Монетном дворе, обещали торговать с ним. Эти слитки размерами и формой напоминали маленький кирпич. Около полудня мы всё ещё сидели за столом с нашими друзьями, прислонившись спинами к исполинским пушкам, стоявшим по обе стороны оружейной палаты, как вдруг раздался крик: «К оружию!» Загорелось в Кремле: горящие головни полетели во двор, где находились артиллерийские части Гвардии и их боеприпасы. Кроме того, тут валялось огромное количество брошенной русскими пакли, и часть её уже загорелась. Страх перед взрывом вызвал суматоху, особенно, если учесть присутствие там Императора, который был вынужден покинуть Кремль.
Мы расстались с нашими друзьями, как это бывает, и отправились в свой полк. Нашему проводнику мы объяснили, где он находится, и еврей попытался вести нас кратчайшим путём, но неудачно – огонь перекрыл этот путь. Пришлось ждать, пока не появится проход. Все пылало вокруг Кремля, сильный, неистовый ветер швырял в нас горящие головни. Пришлось спрятаться в подвале, где уже собралось довольно много людей. Мы немного посидели там, а когда вышли, почти сразу повстречали полки Гвардии, идущие в Петровский дворец, куда уже переехал Император. Только 1-й батальон 2-го полка, остался в Кремле. Он охранял дворец от поджога, и 18-го сентября Император снова туда вернулся. Я забыл рассказать, что принц Невшательский, желая взглянуть на пожар, бушевавший вокруг Кремля, поднялся вместе с одним офицером на одну из террас дворца, и их обоих чуть не снесло оттуда страшным ветром.
Ветер и огонь продолжали бушевать, но один проход оставался свободным, те улицы, по которым прошёл Император. Мы пошли этой дорогой и очутились на берегу Москвы-реки. Мы шли вдоль набережной и видели то совершенно нетронутую огнём улицу, то сгоревшую дотла. На той же улице, по которой прошёл Император, многие дома рухнули, и пройти стало невозможно.