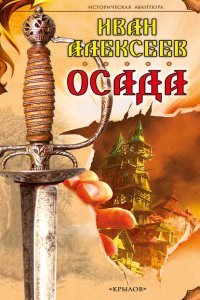Читать онлайн Завтрашний взрыв бесплатно
- Все книги автора: Иван Алексеев
Лес остался позади. По обе стороны дороги, насколько хватало глаз, простирались широкие поля, окаймленные где-то далеко, возле самого горизонта, темно-зелеными гребнями сосняков и дубрав. На такой местности не было надобности высылать вперед боевое охранение, и десяток всадников двигался плотным строем, в колонне по два. Ничто не нарушало царящей под синим безоблачным небом умиротворяющей величественной тишины, словно была вся эта обширная земля пустынна и безлюдна. Впрочем, нет: впереди, верстах в пяти, время от времени вспыхивал яркой точкой под лучами щедрого солнца купол небольшой церквушки. Вскоре показалось и довольно большое село, привольно раскинувшееся на равнине. Дорога пролегала прямо через центр села, деля его надвое.
Скакавший в первой шеренге Разик, чуть прищурившись, некоторое время напряженно вглядывался в видневшуюся впереди околицу и вдруг резко поднял вверх вытянутую руку. Отряд, повинуясь жесту командира, остановился. Лешие сняли с плеч мушкеты, положили их поперек седел.
– Михась, вперед, проверь, что там! – Голос Разика был спокоен и деловит.
Михась, находившийся в первой шеренге, молча кивнул, пришпорил коня и, держа мушкет в одной руке стволом вверх, понесся вскачь к околице села. Село было отгорожено от прилегавших к нему полей невысоким плетнем, служившим препятствием для деревенской живности, но вряд ли представлявшим серьезную преграду для более-менее опытного всадника. Дорогу перегораживала воротина из жердей. Сейчас воротина была затворена, более того, дополнительно завалена бревнами и подперта несколькими опрокинутыми на бок телегами, а из-за плетня торчали пики, косы, вилы и прочие орудия народных ополченцев, занявших оборону на окраине родного села.
Михась осадил коня на расстоянии ружейного выстрела от импровизированной линии обороны, чтобы невзначай не схлопотать в грудь пулю из самопала, которые наверняка имелись у местных охотников или же у так называемых боевых холопов, ходивших со своим господином в боярское ополчение. Он закинул мушкет за спину, снял с головы берет, широко и нарочито медленно перекрестился на купол церкви, крикнул звонко и чуть озабоченно:
– Эй, православные! Своих не поубивайте ненароком! Мы – поморские дружинники, отступаем с Засечной черты!
Через перегораживающую дорогу баррикаду ловко перебрался кряжистый ладный мужик, действительно державший в руках видавшую виды пищаль с дымящимся фитилем, не спеша двинулся навстречу дружиннику. Мужик глядел на Михася настороженно, готовый в случае чего немедленно открыть пальбу. Дружинник соскочил с коня, повторил успокаивающе:
– Свои, братец, свои! Поморы боярина Ропши.
– Поморы? – мужик, наконец, опустил пищаль, кивнул приветливо: – Слыхал про таких. По осени ваша дружина вместе с другими полками через наше село шла. В Ливонию, вестимо, на большую войну. А теперь видишь как: большая война и к нам пожаловала. Ну, зови своих. Дорогу-то вам отворить?
– Да не надо. – Михась сделал знак десятку. – Попроси, вон, людей справа от плетня отодвинуться в сторону, да вглубь отойти. Мы вскачь перемахнем.
Мужик крикнул односельчанам, те отошли от плетня, и вновь севший в седло Михась, а за ним и весь десяток, легко и изящно перескочили этот невысокий барьер. Бойцы спешились, с благодарностью испили из ковшей поднесенной колодезной воды.
– Ну, что скажете дружинники? – спросил все тот же мужик, очевидно, бывший предводителем ополчения. – Далеко ли враг?
– По нашим расчетам, примерно полдня пути им до вашего села. – Разик, как старший по званию, естественно, взял переговоры на себя. – Мы вместе с пограничниками да ополченцами хотя и не смогли на Засечной черте басурман удержать, но острастку все же дали им крепкую. Теперь они идут помедленнее, чем вначале рассчитывали, осторожничают. Да мы еще по дороге несколько ложных засек соорудили на скорую руку.
Разик не стал говорить, что первую из таких засек лешие заминировали, чтобы на следующих напуганные головные дозоры ордынцев задерживались как можно дольше, поджидая турецких розмыслов-саперов.
– Вот оно как! – с суровой задумчивостью покачал головой мужик. – Хорошо, значит, что мы всех своих женок, детишек да стариков вчера собрали, да вместе с пожитками отправили по большому шляху в Москву. Как думаешь, дружинник, сколько времени нам нужно тут против басурман выстоять, чтобы они их потом догнать не смогли?
– Вы здесь не продержитесь и получаса, даже если я со своим отрядом буду помогать. Посмотри сам. – Разик широким жестом обвел окрестные поля. – Ордынская конница нас здесь просто обойдет с флангов, то бишь слева и справа, да хлынет дальше по шляху беспрепятственно. А против нас выставит отряд, который, убедившись, что жители успели уйти со всем добром и поживиться тут нечем, зажгут село со всех сторон огненными стрелами. И когда мы, спасаясь от огня, в чисто поле кинемся, начнут нас с седел стрелами бить, саблями рубить, да заарканивать.
Мужик несколько минут молчал, напряженно обдумывая сказанное, затем спросил с горечью:
– Так что ж ты нам посоветуешь, помор?
– Лошади, телеги еще в селе есть?
– Найдутся. Оставили, чтобы после битвы раненых вывезти.
– Грузи ополчение на телеги, да мчитесь вдогон своим семьям во всю прыть. Как догоните, сразу заворачивайте их со шляха на любой проселок, и чем неприметнее – тем лучше. Да от перекрестка на полверсты следы не забудьте замести. Попытайтесь достигнуть любого леса погуще, да в нем и укройтесь. Там, в лесу, и вставайте в оборону на засеке. Да засеку стройте не на опушке, а в глубине, чтобы со стороны в глаза не бросалась. А иначе по шляху вам от орды не уйти, настигнут не сегодня-завтра и…, – Разик лишь махнул рукой.
– Спасибо, помор! А ты с нами не поскачешь?
– Нет, нам – в Серпухов, к большому войску. Мы скоро тоже со шляха-то свернем, да по полям срежем, напрямки.
– Ну, коли так, прощай! Удачи тебе и твоим дружинникам!
– И вам счастливо, братцы!
И вновь маленький отряд леших широким галопом понесся по Муравскому шляху, время от времени нагоняя толпы беженцев и предупреждая их о близкой уже смертельной опасности. Через два десятка верст лешие покинули шлях и по неприметному проселку двинулись на Серпухов, вблизи которого должны были сосредотачиваться для решительной битвы русские полки.
Орда катилась по Руси, как река в половодье, неотвратимо и страшно. То тут, то там она натыкалась на небольшие очаги сопротивления, обходила их или задавливала своей массой, и вновь продолжала двигаться туда, где сверкала золотом сотен церковных куполов гордая Москва – стольный град самого обширного государства Европы, средоточие несметных богатств. Даже Рязань и другие порубежные города, испокон веков бывшие первоочередной целью набегов, сейчас не привлекали хана Девлет-Гирея, которого хитроумные турецкие советники нацеливали прямо на русскую столицу. Советники эти свое дело знали. Еще бы! Именно благодаря их многоходовым комбинациям в прошлом году был введен в заблуждение царь Иван Васильевич, казнивший или сославший лучших своих воевод и старшин пограничных станиц за якобы ложные слухи о готовящемся крымском набеге, и снявший войска с южных рубежей. И даже сейчас эти советники продолжали свою сугубо секретную работу, направленную на то, чтобы обеспечить захват русской столицы. Турецкие, саперы, полководцы, имевшие опыт штурма крепостей – все они, разумеется, присутствовали в ханском войске. Но не менее важным фактором, призванным обеспечить успех вторжения, являлась подрывная работа бойцов невидимого фронта – «рыцарей плаща и кинжала». Кто ж из грамотных и понимающих в ратном деле людей – а турецкие военспецы были именно такими – не знал, что последний успешный захват Москвы ордынцами под предводительством хана Тохтамыша состоялся двести лет назад, причем успех был достигнут не в результате штурма, а благодаря предательству князей суздальских, открывших орде кремлевские ворота. Предатели, разумеется, были, есть и будут в любой стране, а уж тем более в такой, в которой собственный государь воюет со своим народом, порождая непрерывными жестокостями не только страх, но и ненависть. Вот и шла с ордынским войском некая таинственная, непонятно чем занимающаяся группа людей, лица которых были всегда скрыты под чалмами да колпаками, замаскированы усами и бородами различных фасонов. По одежде этих людей, которую они, к тому же, часто меняли, невозможно было определить их национальную принадлежность. Впрочем, особо разглядывать сию странную группу досужему наблюдателю было попросту невозможно: жили они в отдельном шатре, охраняемом двойным кольцом янычаров, а на походе двигались в отдельных кибитках, также за широкими спинами лучших султанских бойцов.
Таинственные эти личности время от времени незаметно исчезали из лагеря или из походной колонны и также незаметно возвращались. Пока их деятельность, о сути которой толком не знал даже сам хан Девлет-Гирей, приносила свои плоды: ордынское войско сравнительно быстро прошло Засечную черту, хотя и получило при этом болезненные удары от жалкой кучки отчаянных русских ополченцев, посмевших нагло бросить вызов тысячекратно превосходившему их по численности противнику. И теперь, ловко обойдя все порубежные города, возле которых их могли задержать более-менее крупные гарнизоны, крымцы, в отличие от всех предыдущих набегов, неслись по новой, ранее нехоженой ими дороге, прямо к русской столице. И были у них хорошие проводники.
Но хан, целенаправленно ведя орду к Москве, не мог, да и не хотел слишком долго оставлять своих доблестных воинов без законной добычи. Основная цель любого набега – это грабеж и убийство. Именно за эти высшие радости и готовы были рисковать жизнями обитатели бесплодных степей, где никакой производительный труд не способен принести мало-мальски приличного дохода. И хан по ходу движения непрерывно направлял во все стороны небольшие летучие отряды, с целью грабежа близлежащих сел и городков. Состав этих отрядов непрерывно менялся, чтобы как можно больше воинов смогли заняться любимым делом и поднять тем самым свой боевой дух перед решающей битвой.
Три сотни всадников на низкорослых конях столпились на развилке. Поднятая ими во время скачки пыль еще не осела и окутывала остановившийся отряд серым плотным облаком. Возглавлявший отряд мурза в задумчивости поворачивал голову влево и вправо, поочередно рассматривая каждую из дорог, выбирая, куда повернуть жаждущих крови и добычи воинов. На нем был довольно дорогой, покрытый серебряной насечкой панцирь, на голове красовался железный шлем с забралом, то ли генуэзский, то ли испанский. Трое помощников мурзы, предводительствовавшие входившими в отряд сотнями, имели доспехи попроще: кольчуги да открытые круглые шлемы. Рядовые ордынцы были в своей обычной одежде: овчинных безрукавках, вывернутых мехом наружу, да в косматых шапках, волчьих или лисьих. За спиной каждого висел саадак, то есть чехол для лука, сдвоенный с колчаном для стрел. В снаряжение и вооружение всадников также входили небольшие круглые щиты, у начальства – железные, с украшениями, у остальных – кожаные или деревянные, копья с крючьями, сабли и, конечно же, волосяные арканы.
Мурза перестал вертеть головой, сунул руку за ошейник панциря, достал амулеты, висевшие у него на груди на шелковой тесьме, принялся прикладывать их к щекам и ко лбу. Он сопровождал эти жесты загадочным невнятным бормотанием. Закончив процедуру гадания, на которую его подчиненные взирали с почтительным восхищением, мурза решительно указал нагайкой на левую дорогу, ведущую к недалекому лесу. Повинуясь жесту мудрого повелителя, по этой дороге тут же помчался вскачь головной дозор, а за ним с некоторым интервалом двинулся и весь отряд. Разумеется, мурза, отправленный ханом в свободный поиск и уже с раннего утра рыскавший по незнакомой местности, сделал правильный выбор: та дорога, что вела направо, шла через равнину, на которой не было видно никаких признаков населенного пункта, то есть какой-либо объект грабежа напрочь отсутствовал. А вот в лесу вполне могла скрываться русская деревенька. Так что скептики, не верившие в действенность амулетов, если бы таковые и нашлись поблизости, были бы вскоре посрамлены.
Головной дозор мчался по незнакомой дороге, полагаясь не только на милость богов, покровительствовавших отважным воинам. Высокая скорость движения давала степным всадникам некоторое тактическое преимущество: либо они проскочат засаду, притаившуюся в лесу и не дадут противнику возможности выстрелить прицельно, либо смогут с ходу перескочить небольшой завал, сделанный поперек дороги, опять-таки избежав прицельного огня. Низкорослые кони хорошо прыгали в длину, но барьеры брали неохотно. На коротком галопе они могли и «закинуться» перед препятствием, а на полном скаку им придется волей-неволей, не останавливаясь, перемахивать через завал.
Расчет ордынцев на быстроту и внезапность себя оправдал. Пройдя плавный поворот и вылетев на длинный прямой отрезок дороги, воины увидели в двухстах шагах перед собой телегу, запряженную тройкой лошадей. Телега была доверху навалена разнообразной поклажей, в которой опытный глаз безошибочно мог распознать самую желанную добычу: багаж беженца, состоявший, естественно, из наиболее ценных вещей. Возница, сидевший на облучке, конечно же, услышал стук копыт мчавшейся ему навстречу коницы и имел некоторое время, чтобы скрыться, прежде чем всадники увидят его. Но, вместо того, чтобы бросить телегу и спасаться бегством в лесу, он, то ли растерявшись от неожиданности, то ли не в силах расстаться со своим добром, попытался развернуться на узкой дороге и умчаться от надвигающейся опасности. Естественно, этот маневр горе-вознице не удался. Ордынцы налетели, как ураган. Просвистел в воздухе длинный аркан, и петля захлестнулась на плечах сидевшего на облучке телеги человека, сдернула его наземь.
Доблестные воины мгновенно спешились, вернее, спикировали на телегу, как коршуны на тушканчика, и принялись набивать свои седельные сумки всем, что попадало под руку. Впрочем, один из ордынцев бросился не на поклажу, а на ее бывшего хозяина, прижал его голову коленом к земле, накрепко связал руки арканом. Захваченный раб также представлял значительную материальную ценность. Тем более, что это был не какой-нибудь жалкий немощный старец, а вполне здоровый, крепкий на вид молодой мужик. Его, конечно же, можно будет потом продать с большой выгодой. Да и за захват языка начальник отряда отвалит щедрую награду.
Вскоре из-за поворота показались основные силы во главе с мурзой. Мельком взглянув на пустую телегу и раздувшиеся чересседельные вьюки дозорных, мурза подъехал к стоявшему на обочине воину, державшему пленного на аркане как собаку на поводке. Мурза чуть повернул голову, собираясь подозвать своего нукера, хорошо говорящего по-русски, но тот сам уже спешил к нему, покинув строй остановившегося посреди дороги отряда. Многие ордынцы неплохо знали русский язык, поскольку постоянно общались с русскими рабами, которых каждый год захватывали во время набегов. В некоторых людях природой заложена склонность к изучению чужеземных языков, ну а иных и палкой не заставишь этого делать. Хотя пленных, разумеется, как раз палками и заставляли понимать команды хозяев.
– Спроси у этого презренного мужика, далеко ли расположена его деревня и сколько в ней живет людей, – приказал мурза толмачу-добровольцу.
Толмач, сложив ладони на груди, склонился перед повелителем в знак повиновения, и, тронув поводья, подъехал вплотную к пленному. Для налаживания диалога ордынец, не вынимая ногу из стремени, небрежно пнул мужика в лицо, лениво хлестнул по плечам нагайкой. Тот дернулся, скорчился, попытался уклонить голову от ударов, но начавший допрос воин был опытным специалистом в своем деле, и он сразу понял, что перед ним легкий клиент, который с готовностью выложит любую информацию. Ордынец слегка удивился этому обстоятельству, поскольку большинство русских, даже немощных на вид, вели себя совсем иначе. А этот был молодой и здоровый. Толмач еще раз огрел пленного нагайкой и спросил грозно:
– Кто ты есть таков? Как ты посмел загородить дорогу войску непобедимого хана, который пришел забрать земли у вашего ничтожного трусливого царя?
– Нет, нет! Что ты, что ты, витязь! Я не загораживал, я случайно оказался на пути ваших воинов! – захлебываясь, запричитал мужик. – Я просто ехал… Я простой крестьянин… Я здесь живу!
– Как твое имя? Где твоя деревня?
– Псырем меня кличут, господин. А село-то тут, недалече, за леском, – мужик, забыв, что он связан, попытался было показать рукой, но не смог, и, подобострастно изогнувшись всем телом, вытянув голову, изобразил из себя дорожный указатель.
Ордынец резко дернул мужика за ворот рубахи, в упор уставился ему в глаза страшным немигающим взглядом и задал главный вопрос:
– Богатая ли твоя деревня? Сколько в ней людей?
– Богатая, богатая! – с радостной готовностью затараторил мужик. – Почитай, сотня дворов! Я и сам-то человек не маленький, в подручных у самого видного нашего селянина, Никифора, состоял. Так у него вообще не дом – хоромы, сундуки да закрома полны-полнехоньки! Покуда он жив был, так в соседнем городке еще две лавки держал!
– Так этот достойный человек умер? – возмущенно воскликнул ордынец, словно собираясь обвинить Псыря в смерти богатея и попытке лишить доблестных ханских воинов их законной добычи.
– Умер, – скорбно покачал головой Псырь, не уловивший подтекста, прозвучавшего в вопросе. – Царство ему небесное! Неведомыми злодеями убит.
– А хоромы, а сундуки, добро все где? – свирепо рявкнул толмач, близко к сердцу принявший ухудшение криминогенной обстановки в русских селах.
Глаза Псыря забегали, он на секунду смешался, но затем произнес:
– Так где ж ему быть, витязь, все в целости и сохранности, у вдовы и детишек.
Разумеется, сей достойный друг покойного богатея не стал сообщать проклятым басурманам о том, что вокруг наследства Никифора завязалась жуткая свара, и что прихвостни, много лет ползавшие перед богатеем на брюхе, попытались каждый отхватить по куску у беспомощной вдовы и малолетних сирот. Кстати, добро, которое Псырь вез на телеге в безопасное, по его мнению, место, как раз и являлось частью того самого наследства, которую он обманом и хитростью присвоил себе.
– А войска в деревне есть? Подумай, прежде чем солгать! Живьем шкуру сдерем, а мясо собакам скормим!
– Что ты, благодетель, какие войска? Мужики да бабы, землепашцы мирные, – жалобно заблеял Псырь.
– Якши! Сейчас поведешь нас в свою деревню! – приказал толмач, и, отвернувшись от Псыря, перевел суть беседы мурзе.
Мурза благосклонно кивнул толмачу:
– Скажи этому русичу, что если он будет себя хорошо вести, поможет нам захватить большой полон и богатую добычу в своей деревне, да покажет путь к другим селам и городкам, в которых нет крепкой стражи, то мы не только сохраним ему жизнь, а еще и наградим и возьмем в ханскую службу. Верные люди нам нужны, чтобы помогать нашим баскакам управлять отвоеванными землями. Переведи!
Глядя на лебезящего перед ним и рассыпающегося в благодарностях за предоставленную возможность служить великому хану Псыря, мурза удовлетворенно кивал головой. Он громогласно пообещал толмачу наградить из будущей добычи и его за удачно проведенный допрос, и воина, захватившего столь ценного языка. Затем мурза достал из-под панциря амулеты, приложил их в знак благодарности ко лбу и повелел своему воинству мчаться вперед, в атаку на беззащитное русское село.
Ордынская конница вновь широким наметом понеслась по лесной дороге. Но теперь она двигалась не вслепую. Ее вел проводник, окрыленный перспективой не только спасти свою шкуру ценой предательства, но и возвыситься после скорой неизбежной победы хана над русским царем. Псырь пресмыкался перед кем-нибудь всю свою сознательную жизнь. Он был крепок, статен, и, наверное, даже красив. А вот душонка у него была гниловатая. Крестьянский труд Псырь презирал, а ратного поприща боялся, поэтому выбрал жизненный путь прихвостня сильных мира сего, которые могли бы избавить его от труда и спрятать от войны. В их селе таковым был богатейший мужик по имени Никифор. При нем Псырь и состоял холуем-добровольцем, выполняя разнообразные поручения, в основном наиболее сомнительные и грязные. В своем положении пресмыкающегося Псырь не видел ничего зазорного. Тот же Никифор, гроза односельчан и свирепый тиран собственной семьи, униженно лебезил перед воеводой уездного городка, от которого зависело и благополучие в торговле, и избавление от воинской повинности. Сам воевода ползал на брюхе перед боярами или же царевыми опричниками. В общем, Псырю, по большому счету, было все равно, чей сапог целовать – русский или ордынский. Лишь бы его за это сытно кормили, щедро поили и позволяли властвовать над другими людишками, стоящими в пирамиде из пресмыкающихся ниже его самого.
Лесная дорога вскоре вывела отряд налетчиков на обширное поле, на краю которого располагалось большое село. Степняки на полном скаку привычно развернулись в лаву, обтекая село с двух сторон. И лишь выстроившись широким полумесяцем, повинуясь знаку бунчука своего предводителя, всадники с диким визгом ринулись в атаку.
И само село, и прилегающие к нему огороды и пашни выглядели пустынными. Наработавшиеся с раннего утра земледельцы отдыхали после обеда, сморенные полуденным зноем, намереваясь возобновить свой труд ближе к вечеру, когда станет попрохладнее. Конечно, до селян доходили слухи о возможном набеге, но Засечная черта, на которой русские войска издревле встречали неприятеля, находилась далеко на юге. Да и вести о захвате порубежных городов сюда, под самую Москву, пока не долетали. Вот и спали спокойно крестьяне, защищенные, по их убеждению, близостью своего села к русской столице. Откуда ж им было знать, что войска с Засечной черты сняты еще прошлой осенью, а крымский хан, вопреки обыкновению, презрев все крупные города на юге Руси, прямиком несется на Москву?
Честно заработанный отдых, особенно приятный под теплыми лучами ласкового солнышка, был прерван самым кошмарным образом. Заслышав жуткий, леденящий душу визг невесть откуда взявшихся басурман, сонные, полураздетые люди вскакивали с лавок, сеновалов или просто с зеленой травы, вначале не могли толком сообразить, что же происходит, а затем принимались бестолково метаться в разные стороны, безуспешно пытаясь спрятаться от внезапно обрушившейся на них смертельной опасности.
Ордынцы действовали слаженно и умело, используя столетиями отработанную тактику. Они прочесывали село мелкими группами по три-четыре всадника. Каждая из групп держала зрительную и голосовую связь с двумя соседними, чтобы в случае чего придти друг другу на помощь. Но такие случаи были редкими, поскольку организованного сопротивления налетчики не встречали, а с героями-одиночками, дерзнувшими защищать себя и свои семьи, штурмовые группы расправлялись легко и беспощадно. С поднявшими оружие – вилы, топоры или просто дубины – селянами никогда не вступали в рукопашный бой, а расстреливали прямо с седел. Остальных, испуганных и растерянных, заарканивали, сбивали в стадо, сгоняли к центру села. В большие и богатые дома врывались обычно двумя десятками, там дело частенько доходило и до рукопашной. Но численный перевес был на стороне нападавших, и они умело им пользовались. По мере продвижения от окраины к центру ордынцы жгли дома, чтобы обезопасить себе тыл и чтобы огонь выгнал на улицы всех попытавшихся затаиться и избежать плена. Полон всегда составлял значительную часть добычи ордынцев, поскольку торговля людьми была весьма прибыльным делом.
Свист стрел, предсмертные крики, вопли ужаса и боли, грохот разбиваемых дверей и ставень, треск пламени, дикий торжествующий визг победителей, схвативших очередную жертву – все это сливалось в одну оглушающую адскую симфонию погрома, ласкавшую слух налетевших на Русь из бесплодных степей беспощадных и алчных двуногих хищников. Мурза лично возглавил захват двух наиболее важных стратегических объектов: дома самого богатого селянина Никифора и церкви. Псырь прямой дорогой вывел мурзу с тремя десятками сопровождавших его всадников к подворью своего бывшего господина. Он знал дом Никифора, в котором жил несколько лет, как свои пять пальцев, и уверенно показал своим новым хозяевам все закрома и лабазы. Когда мимо него поволокли на улицу вдову Никифора и его малолетних детей, Псырь равнодушно отвернулся.
Покинув разоренное подворье Никифора, мурза с телохранителями двинулись вслед за Псырем к сельской церкви. В саму церковь Псырь не пошел, остался на паперти, остановленный не отнюдь не укорами совести, которой у него просто не было, а суеверным страхом перед грядущей Божьей карой. Впрочем, ордынцы, сломавшие церковные врата, вовсе не нуждались в чьих-то дополнительных указаниях. Они споро и со знанием дела занялись грабежом, ободрав иконостас, забрав всю ценную церковную утварь и ризы священника.
Добычу сваливали в одну большую кучу на церковной площади под присмотр мурзы и его телохранителей. Туда же сгоняли полон. В полоне были, в основном, женщины и дети. Стариков ордынцы убивали за ненадобностью: все равно долгий путь в Крым они не выдержат, а если все же дойдут каким-то чудом, то кто же потом купит на невольничьем рынке изможденных пожилых рабов? А мужиков ордынцы вынуждены были убивать в бою. Даже окруженные превосходящими силами налетчиков, многие русичи сопротивлялись отчаянно, бились всем, что попадало под руку, а зачастую и голыми руками. Вот только воинского умения им явно не хватало. Работая на полях и огородах день и ночь, не имели они возможности упражняться в ратном деле. Вот и гибли мужики в неравных схватках, или падали на землю, пойманные петлей волосяного аркана, волочились вслед за бешено мчащимися по сельской улице степными всадниками, пока не теряли сознание. Некоторым мужикам, правда, удалось, подхватив на руки детей, проскользнуть сквозь кольцо облавы и убежать в лес. Но таких было совсем немного.
Полон, окруженный плотным кольцом ордынцев, стоял молча. Даже малые дети были не в силах кричать и рыдать. В этом жутком молчании намного сильнее и страшнее отражалось то потрясение, которое они испытали только что, когда на их глазах убивали их родителей, самых любимых, самых добрых и самых сильных людей на земле. Такого просто не могло быть. Их тятя и мама, такие большие и умные, умевшие делать столько всего важного и нужного: и запрягать лошадь, и тесать бревна топором, и косить траву острой косой, и поднимать на своих плечах огромные мешки с зерном, знавшие столько чудесных сказок, были в их понимании бессмертными и всесильными. Может, это был просто страшный сон, и родители, которых они только что видели неподвижно лежавшими на пороге родной избы, в белых рубахах, наискось прочерченных яркими кровавыми полосами сабельных ударов, на самом деле живы? Надо лишь зажмурить покрепче глаза, а потом открыть их, проснуться, позвать маму и тятю, и те подойдут, поцелуют их, успокоят? Детишки жмурились, вновь открывали глаза, но видели все то же: оскаленные конские морды, всадников с раскосыми глазами, нацеливающих луки, церковь с распахнутыми настежь, сорванными с петель вратами, из которых уже потянулся черный дымок.
Ордынцы, занятые под руководством мурзы важнейшим делом – дележом добычи и пленных, не заметили, как стало вечереть. Наверное, если бы они двинулись в обратный путь прямо сейчас и понеслись вскачь, то успели бы до темноты достигнуть основного войска. Однако с ними был полон, который, как ни подгоняй его ударами нагаек и копий, не способен угнаться за лошадьми. Мурза поневоле принял решение переночевать вблизи разоренного села, а с рассветом выступить на соединение с ханом. Понятно, что в самом селе, уже горевшем с двух сторон, степняки не остались. В лес они, тоже не пошли, а встали лагерем в поле за селом, привычно окружив себя кольцом костров, выставив усиленные дозоры, пристально вглядывающиеся в недалекую опушку темного враждебного леса. Нападения со стороны ярко пылающего села ордынцы не опасались. Да и вообще, по большому счету, кого же им опасаться здесь, на опустевшей земле, покинутой войском русского царя, по слухам трусливо укрывшегося за стенами больших городов, расположенных далеко на севере? Ордынцы спали чутко, но спокойно, им не мешал ни треск и гуд недалекого пожара, ни стенания и плач пленников. А на рассвете они благополучно поднялись, выстроились в походную колонну, выслали вперед головной дозор и, гоня перед собой пленных, отправились в обратный путь по уже знакомой им лесной дороге.
Селяне, выскользнувшие разными путями в лес из еще не сомкнувшегося ордынского кольца – десяток мужиков и столько же баб и ребятишек, не сговариваясь, кинулись бежать в одном направлении: по неприметной лесной тропинке, через болото. Тропинка эта, петляя по островкам и кочкам, торчавшим посреди топи, плутая в непролазной чащобе, оканчивалась на небольшой полянке, на которой стоял скит монаха-отшельника, отца Серафима.
В обычное время редко кто из местных жителей осмеливался нарушить уединение отшельника и забрести в скит, намеренно расположенный в глухом месте, в котором было мало дичи, грибов и ягод, и где постороннему человеку было просто нечего делать. Раз в две-три недели к отцу Серафиму приходил из села отрок, приносивший по поручению сельского священника доброхотные даяния от церковной общины. Полгода назад это поручение выполняла семнадцатилетняя сирота, Анюта, привязавшаяся к священнику, как к родному отцу, учившаяся у него грамоте. А затем произошли события, внезапные и печальные…
Вспоминая об этих событиях, отец Серафим вздохнул и скорбно покачал головой. Он поднялся с крылечка, на котором расположился для чтения огромной священной книги в потемневшем от времени переплете из двух покрытых толстой кожей досок, с двумя массивными медными застежками. В единственное оконце жилища отшельника, затянутое бычьим пузырем, солнечный свет почти не проникал, и отец Серафим летом в сухую погоду предпочитал предаваться чтению сидя на ступеньке крохотного крылечка. Встав, монах закрыл книгу, бережно защелкнул хитроумные застежки, взял тяжеленный фолиант в руку и принялся размеренно расхаживать по полянке, погруженный в невеселые думы. Он был высокого роста и, как многие высокие люди, слегка сутуловат. Когда-то отец Серафим был очень силен, да и сейчас, несмотря на то, что его тело было иссушено постом и другими неизбежными лишениями монашеской жизни, он легко, как невесомую безделицу, держал в согнутой руке солидный том весом в добрые полпуда. Голова монаха была опущена, и длинные седые волосы, выбивавшиеся из-под черного клобука, свешивались вниз, закрывали лицо, слегка колыхались в такт шагам.
Отец Серафим размышлял о возможной судьбе Анюты, своей юной воспитанницы, весной ушедшей из родного села в неизвестность, на поиски счастья и любви. Конечно, девушка ушла не одна, а вдвоем с поморским дружинником, Михасем, которого она, раненого после неравной схватки с опричниками, потерявшего сознание, едва живого, случайно нашла в лесу, неподалеку от скита. Вместе с отцом Серафимом девушка выходила дружинника и влюбилась в него без памяти. А вот потом…
Размышления монаха были прерваны странными и тревожными звуками, раздавшимися из леса. Он остановился, прислушался и вскоре явственно различил топот ног, хриплое надсадное дыхание множества бегущих людей и детский плач. Отец Серафим не испугался, не встревожился, не попытался укрыться в своем ските. Он повернулся лицом к тропинке и застыл, смиренно ожидая испытания, ниспосланного ему свыше. Вскоре две дюжины мужиков, баб и детишек выбежали на поляну, кинулись к монаху, окружили его, закричали-запричитали сбивчиво. Многие уже не держались на ногах, они упали на землю и, не в силах кричать, лишь всхлипывали и стонали жалобно.
Отец Серафим стоял в окружении селян, возвышаясь над ними на голову, прямой и строгий в своей черной рясе. Прижимая к груди священную книгу, он слушал их рассказ о нападении ордынцев, спаливших село и забравших огромный полон.
– Дозволь укрыться у тебя, отче, пока беда не минет!
Монах повернулся, и, ни говоря ни слова, направился в скит. Окружавшие его люди поспешно раступились, давая ему дорогу. Отец Серафим вошел в широко распахнутую дверь скита, бережно положил книгу на стол, опустился на колени перед иконами, принялся молиться. Селяне, видевшие через открытую дверь коленопреклоненного монаха, затихли. Многие последовали его примеру, тоже опустились на колени, зашептали молитвы, крестясь на огонек горевшей в ските под иконостасом лампадки, хорошо различимый в темном помещении.
Так прошло довольно много времени. Солнце уже закатилось за вершины окружавших полянку деревьев, и лампадка, освещавшая лики святых, казалось, разгоралась все ярче и ярче. Наконец, монах поднялся с колен, вышел на крыльцо. В его лице что-то неуловимо изменилось, он уже не выглядел смиренным отшельником, и выражение скорби приобрело какой-то иной оттенок. Отец Серафим обвел пристальным взором стоявших перед ним людей, наклонился, поднял какой-то предмет, лежавший под крыльцом. Когда он резко выпрямился, все увидели в его руке топор для колки дров.
– Мужики! – голос отшельника звучал совсем не по-монашески. – Кто на рати бывал?
Невысокий худощавый крестьянин средних лет, отпустив руку стоявшего рядом с ним мальчонки, решительно шагнул вперед, вытянулся по-военному.
– Я!
Рубаха на его плече была разорвана, на сером полотне вокруг небольшой свежей раны, нанесенной, по-видимому, копьем, запеклась кровь.
Монах протянул ему топор.
– Ты – старший. Бери односельчан, ступайте в лес, вырубайте ослопы.
– Что?! – изумленно воскликнуло сразу несколько голосов.
– Дубины готовьте! На рассвете будем полон у басурман отбивать! – рявкнул монах. – Некогда болтать, скоро стемнеет! Выполнять приказ!
Мужики, с готовностью починившись этому человеку, со всех ног кинулись в лес.
Отец Серафим повернулся к оставшимся на поляне перед крыльцом бабам:
– Ведите детишек в избу, растопите печь, сварите кашу на всех. Там на полке просо в мешке. Вода в ручье, – он показал рукой за скит. – Ведерко – вот оно. Да не испугайтесь ненароком: там, в ските, гроб стоит. Это ложе мое отшельническое. Мы его на время боевых действий наружу, под навес, вынесем, чтобы ратников и беженцев в избе разместить. Прости меня, грешного, Господи!
Отец Серафим перекрестился, сошел с крыльца, освобождая проход в скит.
– Ну, что стоите, бабоньки? Знаете, какая присказка у русских ратников имеется? Война войной, а обед – по расписанию. За работу, милые!
Примерно через час из лесу вернулись мужики. Каждый нес на плече здоровенную, почти в человеческий рост березовую дубину-ослоп. Они нестройной толпой остановились перед отцом Серафимом, поджидавшим их посреди поляны.
– Тебя как звать, сыне? – обратился монах к крестьянину, которого он назначил старшим.
– Сидором, отче.
– Ну что ж, Сидор, построй войско в одну шеренгу.
Мужик отошел чуть в сторону от своих товарищей, вытянул левую руку, неуверенно скомандовал:
– В ряд со мной, как рукой указываю, плечом к плечу… становись.
Толкаясь и цепляясь дубинами, крестьяне кое-как выстроились в кривоватую шеренгу. Отец Серафим обошел строй, помог каждому подравняться, затем обратился к ополченцам:
– Сейчас будем учиться держать строй и дружно действовать ослопами против конного и пешего. Времени у нас – до ночи. А поутру, еще затемно, выходим к дороге, по коей погонят полон, нападаем с двух сторон и бьемся, пока пленники по лесу не разбегутся, где их ордынцам не поймать. Затем отходим сами… Если в живых останемся.
Отец Серафим замолчал, прошелся вдоль шеренги, пристально вглядываясь в лица крестьян. Затем отступил на несколько шагов, произнес сурово:
– Православные! Кто сробел – выходи. Бог простит. Лучше сейчас покинуть ополчение, чем потом, в бою, струсить и товарищей подвести.
Все одиннадцать мужиков остались в строю. Их руки, привычные к каждодневному тяжелому труду, неумело, но крепко сжимали белые березовые ослопы. И этих людей всевозможные чиновники, большие и малые начальники, попрятавшиеся сейчас от ордынского нашествия кто куда, презрительно именовали смердами и быдлом! Над ними в обычной жизни издевались все, кому не лень: и купец с толстым кошельком, и разбойник с кистенем, и опричник с острой сабелькой. Отец Серафим широким жестом благословил шеренгу ополченцев, поклонился им до земли. Затем, прошептав одними губами: «Господи, прости меня, грешного!», он решительно шагнул к стоящему правофланговым Сидору, взял из его рук дубину.
– А теперь смотрите, как нужно держать ослоп и как им по всаднику орудовать.
Бабы и детишки, сидевшие на травке перед скитом, в котором топилась печка и варилась каша в большом чугунке, едва сдерживая рыдания, взирали на то, как их отцы и мужья, только что чудом спасшие свои жизни, готовились назавтра вновь идти на смерть.
Серый рассвет занимался над верхушками деревьев, а лесные чащобы, кусты и трава все еще тонули в непроглядном мраке. Но отец Серафим, ходивший этим путем в близлежащий монастырь каждые два-три месяца, уверенно вел ополченцев напрямик к большой дороге, по которой должны были вскоре пройти ордынцы, гнавшие полон из разоренного села.
Отец Серафим обычно ходил намного медленнее, но сейчас он спешил, стремясь достичь удобного для засады участка дороги раньше ордынцев. Монаху приходилось нелегко: ныло плечо, еще в молодости пронзенное немецким кинжалом, болела нога, проткнутая ордынским копьем, болели ребра, сломанные опричниками во время допросов и потом плохо сросшиеся, когда он валялся в сыром застенке и умирал от голода и ран в позорной ссылке. Ему еще повезло: оставшиеся при дворе друзья и родственники, рискуя жизнью, напомнили государю о прежних ратных заслугах ссыльного и выхлопотали разрешение постричься в монахи перед смертью. Но отец Серафим выжил. Он уже несколько лет жил отшельником в лесном ските, куда его направил настоятель монастыря, боявшийся, что государь, как это было уже не раз, внезапно вспомнит о мнимом злодее и повелит казнить, невзирая на монашеский сан. Ведь даже низвергнутого митрополита Филиппа, единственного человека, возвысившего голос против ужасов опричнины, злодей Малюта задушил в монашеской келье.
Но сейчас отец Серафим думал не о своей несправедливо поломанной судьбе. Он уже даже заставил себя невероятным усилием воли не думать о том, что собирается преступить через монашеские заповеди и пролить чью-то кровь. Этот грех ему потом надо будет замаливать всю оставшуюся жизнь. Поэтому отец Серафим просто не имел права погибнуть в битве. И уж тем более он не имел права прятаться за спины вверившихся ему крестьян, из которых только один Сидор имел боевой опыт. Понятно, что в предстоящей схватке основную тяжесть им вдвоем придется брать на себя. Этого отец Серафим и боялся сейчас больше всего. Он боялся не смерти или боли. Монах, несколько лет не державший в руках оружия, волновался, сможет ли он, уже немолодой, израненный, истощенный постом, действовать в бою также умело и эффективно, как прежде. Эх, поесть бы ему мяса парочку недель, да поупражняться хотя бы на чучелах, как это делал весной, на поляне перед скитом, восстанавливая силы, вылеченный им поморский дружинник Михась. Отец Серафим стиснул зубы, распрямил плечи и скомандовал вполголоса идущим за ним ополченцам:
– Шире шаг!
Вот, наконец, и большая дорога. Монах точно вывел свой отряд к тому участку, на котором удобнее всего было расположить засаду. Здесь дорога делала плавный поворот и плохо просматривалась, а значит – плохо простреливалась с обоих концов. Именно здесь и следовало отсекать полон от конвоя. Отец Серафим вышел на дорогу, тонувшую в низко стелившемся предутреннем тумане, приложил ухо к земле. На несколько верст вокруг не раздавалось ни звука, царили тишина и покой. Он поднялся, по-прежнему вполголоса обратился к мужикам:
– Кто из вас лучшие дровосеки? Берите топоры и подрубайте две сосны вот здесь и вон там. Да не до конца рубите, а чтобы упали от легкого толчка, когда орда пойдет и отрезали басурман от пленников. Ясно?
Мужики кивнули, бросились исполнять приказание. Отец Серафим велел Сидору лечь на дорогу и слушать, не приближается ли орда, а сам подошел к одному из ополченцев, самому пожилому на вид.
– Давай-ка мне свой ослоп, сыне. А взамен возьми мой нож поварской. Он хоть и простецкий, да наточен хорошо. Умел я клинки точить когда-то, – грустно усмехнулся монах. – Твоя задача – на пленных путы перерезать. Наверняка они мужиков и парней, что покрепче, на арканах ведут. Так что ты в общую свалку не лезь, пока мы ордынцев бить будем, сразу кидайся в ряды пленников и помогай высвободиться.
Дровосеки едва успели подрубить две сосны, как Сидор, лежавший ухом на земле, поднял руку:
– Слышу конский топот!
– По местам! – скомандовал отец Серафим. – Валим деревья по моему свисту. И бросаемся на басурман с двух сторон, яростно и без страха, с криком, с ревом, ожесточась! Помните как я учил ослопом орудовать: ложный тычок всаднику в лицо и сразу удар нижним концом – по конской морде, и уж потом, с разворота, со всего плеча, верхним концом всаднику по башке! Пусть закрывается, если успеет, хоть щитом, хоть саблей. Вы его все равно вместе с защитой пробьете, мужики… Сидор, бери шестерых, вставай в конце засады, на втором завале. Остальные – со мной, на первый завал. Ну, все вроде. Помогай нам Бог!
Отец Серафим осенил себя широким крестным знамением. Ополченцы последовали его примеру. Затем, разделившись на две группы, одна – под командой монаха, другая – во главе с Сидором, они заняли свои позиции в придорожных кустах.
Примерно через четверть часа послышался нарастающий конский топот. Ордынцы двигались неспешной рысью, поскольку тащили с собой полон… Вскоре из-за поворота показался головной дозор. Мужики при виде врагов, еще вчера спаливших их родное село, убивших на их глазах десятки людей, крепче сжали дубины, подобрались и напряглись, как бывалые бойцы, в ожидании сигнала к атаке. Ненависть к грабителям и убийцам, желание отомстить, с лихвой компенсировали им отсутствие боевого опыта. К тому же они испытывали безграничное доверие к своему военачальнику, отцу Серафиму, твердо уверенные, что устами монаха сам Господь Бог указывает им верный способ для освобождения родных и близких из басурманского плена.
Отец Серафим поднес палец к губам, показывая соратникам, что дозор надобно пропустить беспрепятственно. Такой же знак, наверняка, подал и Сидор находящимся рядом с ним односельчанам. Все вновь замерли в ожидании. И вот показалась голова основной колонны. Еще до того, как враг появился в поле их зрения, притаившиеся в лесу ополченцы явственно расслышали сквозь топот копыт и бряцание амуниции женский и детский плач.
Когда пленные, гонимые в середине ордынской колонны, достигли засады, отец Серафим едва сдержался, чтобы не испустить торжествующий крик. Он не забыл военную науку и все рассчитал правильно: и расстояние между первым и вторым поваленным деревом, которое как раз вмещало все четыре сотни пленных, идущих в шеренгах по трое, и то, что конвой с натянутыми луками пойдет именно справа от пленных, то есть со стороны засады. Конвойных было немного, всего полторы дюжины, почти столько же, сколько ополченцев в засаде. Они держали пленных под прицелом луков, причем целиться справа налево им было удобнее. Для второй же колонны конвойных на узкой дороге просто не было места. Предвидя все эти обстоятельства, отец Серафим и поместил засаду ополченцев именно с одной стороны, на правой обочине. Ополченцы должны были внезапно атаковать малочисленный конвой, пока основные силы ордынского отряда были бы отрезаны от полона поваленными деревьями.
Отшельник дождался нужного момента, и когда первая шеренга пленных очутилась в десятке шагов от второй сосны, свистнул в два пальца. Увы, в последние годы монах лишь молился денно и нощно, и, естественно, не упражнял командный голос и свист. Поэтому вместо заливистой трели получилось лишь слабое шипение. Отец Серафим похолодел от ужаса и непроизвольно принялся шептать молитву, но тут случилось чудо: вместо тихих слов молитвы из его уст вырвался, наконец, громкий пронзительный свист. Вершины двух подрубленных сосен вздрогнули, качнулись под нажимом крепких мужицких рук и рухнули на дорогу, отсекая орду от полона.
– Вперед, братцы! – крикнул отец Серафим ополченцам и, взяв дубину наперевес, ринулся на ближайшего всадника, растерянно поворачивающего к нему желтоватое круглое лицо с реденькими усиками и куцей бороденкой.
– Православные! Бегите в лес! – голос отца Серафима, обращенный к пленникам, вновь гремел раскатисто и громко, как в ту пору, когда молодой воевода поднимал в атаку на защиту земли русской целые полки. Сейчас он вел в бой лишь десяток ополченцев, и в его руках вместо привычного шестопера была простая дубина. Но оружие – это лишь продолжение руки, а руки старого воина не утратили прежнего уменья. Монах развернулся к противнику левым боком, почти полностью закрывшись дубиной от нацеленной стрелы, и сделал ложный выпад в лицо. Ордынец на миг отшатнулся, но этого мига было достаточно, чтобы его конь получил удар по морде концом дубины. Всхрапнув от боли, конь взвился на дыбы, всадник рефлекторно согнулся в седле, пригибаясь к шее взбесившегося скакуна, и тут же белая березовая дубина, описав полукруг, опустилась ему на голову. От такого удара не спас бы даже очень хороший шелом, а на ордынце была лишь простая шапка из волчьего меха.
Всадник рухнул на землю. Отец Серафим повернул голову влево, увидел, что бившийся рядом с ним ополченец замешкался и ордынец вот-вот полоснет его саблей. Монах, не раздумывая, метнул дубину в уже занесшего руку для удара всадника. Тот отпрянул, и ополченец тут же справился с противником сам. Справа от монаха мужики били дубинами споро и ритмично, как цепами на обмолоте. С конвоем было почти покончено, во всяком случае, ордынцы были накрепко связаны боем и забыли о пленных. Отец Серафим прыгнул вперед, подтолкнул руками к противоположной стороне дороги растерянных пленников, еще раз крикнул, чтобы они спасались бегством, и нагнулся, опустившись на одно колено, чтобы поднять с земли саблю, выпавшую из руки поверженного ордынца. Краем глаза монах заметил, как через густую высокую крону упавшей сосны, за которой бестолково метались, сбившись в плотную кучу, и выли на сотню голосов ошарашенные неожиданным нападением степняки, все-таки умудрился перескочить какой-то особо лихой наездник. Прикрывшись щитом и выставив вперед копье, всадник ринулся на монаха. Стрелять ордынец не стал, видимо, боялся задеть своих, все еще бившихся в общей свалке с мужиками. Отец Серафим, стиснув рукоять валявшейся в пыли сабли обратным хватом, не поднимаясь с колена, привычно рубанул клинком коню по передним ногам и тут же, переведя саблю в левую руку, в прямой хват, резко распрямившись во весь рост, выпадом снизу вверх нанес падающему вместе с конем всаднику неожиданный встречный смертельный удар.
Рывками повернувшись влево – вправо, так, что его седая борода и подол рясы метнулись в стороны черным и белым крыльями, монах оглядел поле боя, которое уже покинули пленники, наконец, дружно кинувшиеся в лес, и скомандовал:
– Ополченцы! Отходим!
Он сделал шаг к лесу, вслед за освобожденными ими людьми, и упал во весь рост, словно внезапно споткнувшись обо что-то. Тут же подбежавшие мужики увидели, что из его спины торчит, трепеща серым оперением, ордынская стрела. Поняв, что их товарищи на дороге убиты, степняки принялись осыпать ополченцев стрелами прямо сквозь густые ветви перегородившей дорогу сосны. Подхватив отца Серафима на руки, мужики ринулись в спасительную чащу.
Ополченцы понесли потери: конвоировавшие пленных ордынцы успели зарубить троих, прежде чем сами пали под ударами березовых дубин. У остальных мужиков имелись легкие сабельные ранения на руках и плечах. Но они все же выиграли этот свой первый бой, спасли односельчан из басурманской неволи, которая была не лучше смерти.
Как только ополченцы, бежавшие вглубь леса вслед за женщинами и детьми, отдалились от дороги на безопасное расстояние, они осторожно положили отца Серафима лицом вниз на мягкий мох. Сидор, который, чуть отстав, прикрывал отход товарищей с трофейной ордынской саблей в руке, подбежал к монаху, бросил саблю, упал перед ним на колени, нагнулся, приложил ухо к спине, стараясь не задеть торчащую под левой лопаткой стрелу.
– Дышит. Живой!
Отец Серафим слабо пошевелился, чуть повернул голову, произнес что-то едва слышно. Сидор распластался рядом с ним, почти вплотную приблизив ухо к его устам, чтобы разобрать слова.
– Стрелу… не вытаскивайте… Вырежьте ножом… Рану… травами … от загноения…
– Понял, отче! Все сделаю. Видел, когда в рати был, как стрелы ордынские из ран извлекали, – твердо произнес Сидор, и, привстав на колени, крикнул решительно: – Мужики! У кого нож?
Взяв протянутый ему нож, Сидор скомандовал:
– А теперь держите его покрепче, за руки и за ноги, пока сознание не потеряет. Да голову прижмите, но так, чтоб не задохнулся! – и, увидев, что бабы и детишки, освобожденные из полона и разбежавшиеся по лесу, начинают собираться вокруг них, прикрикнул: – А ну, не толпитесь вокруг, свет не застите! Лучше быстренько разбредитесь, да трав пособирайте, которые раны заживляют да гной вытягивают!
Односельчане беспрекословно и с готовностью кинулись выполнять распоряжения Сидора, обычного мужика, которого еще вчера никто особо не замечал и не слушал.
Сидор перекрестился, прошептал короткую молитву и решительно распорол рясу на спине монаха. Сжав зубы так, что побелели скулы, он принялся кончиком ножа разрезать кожу на спине, чтобы извлечь зазубренный наконечник стрелы. Отец Серафим вскрикнул от боли, забился в руках державших его мужиков, но тут же потерял сознание, затих. Сидор нередко резал всякую живность: кур, гусей, да телят, но живого человека пластал ножом впервые в жизни. Если не считать, конечно, тех троих ордынцев, которых он зарубил своим топором два года назад, когда бился в ополчении на Засечной черте, на берегу Оки, да одного сегодняшнего, которого сперва сбил наземь дубиной, а потом заколол его же собственной саблей. Но рубить врага в бою – это одно, а так вот резать по живому человеку – совсем другое. Впрочем, Сидор был русским крестьянином. Более того, он еще был и русским ратником и действительно видел, как полковые лекари вырезали из его товарищей точно такие же стрелы. Природная смекалка, привычка к любой работе и золотые руки помогли ему справиться со сложнейшей задачей, и вскоре стрела с черным от крови наконечником была извлечена из раны. Сидор вначале хотел, было, отшвырнуть ее в сторону, но потом решил отдать отцу Серафиму, когда тот, даст Бог, выздоровеет.
Сжимая в окровавленных ладонях стрелу и нож, он утер рукавом пот со лба, поднял голову и, обратился к окружавшим его людям:
– Нашли, чем рану прикрыть?
Пожилая крестьянка, известная в их селе, как опытная травница, протянула ему пучок ярко-зеленых стебельков с продолговатыми овальными листиками и широкую полосу тонкого белого полотна, явно отодранного от подола рубахи какой-то молоденькой девицы, любящей красиво наряжаться.
С помощью травницы и еще двух женщин, имевших некоторый опыт врачевания, Сидор перевязал отца Серафима. Тот дышал слабо и неровно. Травница покачала головой:
– Нельзя ему в лесу с нами прятаться. Надобно его к лекарю, в город или в монастырь, причем как можно скорее.
Сидор кивнул:
– Верно. Сейчас соорудим носилки, да и отправимся всем миром в монастырь. Там и отцу Серафиму будет помощь, да и вам, бабоньки, с детишками и стариками – пропитание и защита. А мы с мужиками, коль придется врага отражать, на стены монастырские встанем, или в поле выйдем с ополчением. Наверняка возле монастыря большая рать собирается. Так что давайте, детей малых берите на руки, стариков – под руки, да и двинемся в путь не мешкая, чтобы святого отшельника, который нас всех от басурман спас, как можно скорее доставить под монастырский кров, к ученым монахам-врачевателям.
Лесная тропинка, прежде еле заметная и узкая, постепенно расширилась. Шедшие по ней люди зашагали бодрей и уверенней, поняв, что скоро достигнут цели своего путешествия. И действительно, вскоре над их головами, над кронами сосен поплыл спокойный и величавый звон монастырских колоколов. Все, даже женщины, несшие на руках малых детей, и мужики, державшие на плечах носилки с раненым отцом Серафимом, остановились, высвободили, как смогли, правую руку, перекрестились на невидимые пока церковные купола.
Сидор, шедший во главе односельчан, завершив крестное знамение, надел шапку, вновь взял за рукоять саблю, которую сунул под мышку, и радостно, во весь голос произнес:
– Ну, православные, слава Богу! Видать, под стенами обители неприятеля нет, раз колокола звонят не набатом! Давайте-ка поторопимся, чуть-чуть нам идти осталось.
Они миновали лес, вышли на отрезок большой дороги, упиравшейся в монастырские ворота. Обе створки были распахнуты, в них группами и в одиночку непрерывным потоком входил разнообразный народ, и стар, и млад, и бабы, и мужики, кто с пожитками, кто с пустыми руками. Возле ворот стоял крепкий караул из десятка суровых монахов с ручными пищалями и секирами. На всех входящих грозно и вопрошающе взирали черные зрачки дул двух городовых пушек. Но беженцы шли в ворота мимо пушек и мимо караула без опаски. Они лишь приостанавливались перед входом, чтобы осенить себя крестным знамением и поклониться святой обители. Часовые, окинув вновь прибывших цепкими внимательными взглядами, молча кивали в ответ, и люди шли под защиту монастырских стен, спасаясь от обрушившейся на Русь беды.
Колонна беженцев из разоренного села, впереди которой шел Сидор с ордынской саблей в руке, приблизилась к воротам. Начальник караула, невысокий плечистый монах с черными, как смоль волосами и бородой, взглянув на носилки с отцом Серафимом, понял все без слов и приказал отрывисто одному из своих людей:
– Проводи в лечебницу!
Сидор остановился перед начальником караула, посторонился, пропуская носилки, протянул саблю рукоятью вперед:
– Вот, возьми, отче! Небось, негоже мне в святую обитель с оружием входить.
Начальник караула сурово покачал головой:
– Нет, сыне! Оставь при себе. Сейчас на соборной площади как раз ополчение строится. Ступай туда, вставай в ряды.
Сидор вытянулся по-военному, давая понять, что готов исполнить приказ, вновь взял саблю за рукоять, закинул клинок на плечо, пошел, было, вслед за односельчанами, затем остановился и обернулся к монаху:
– Скажи, отче, а отчего вы, раз ополчение собираете, в набат не бьете?
– Так если бы ты набат услыхал, то вряд ли с беженцами сюда пошел, в лесу бы затаился. Верно? – чуть улыбнулся монах, и сразу стали видны морщинки вокруг воспаленных усталых глаз.
Очевидно, он не спал уже несколько суток.
– Верно! – обрадованно кивнул в ответ Сидор.
– А ополченцы и так к нам со всех сторон непрерывной чередой идут, по зову сердца. Уже давно в палатах и даже кельях места нет, пришлось шатры расставлять вдоль стен, на травке, да шалаши сооружать. Ну, ступай, сыне!
Сидор поспешил войти в ворота и очутился внутри монастырской ограды. Во дворе было многолюдно, как в большой праздник. Но, естественно, никакого праздника не ощущалось. Монастырь скорее напоминал воинский лагерь, каковым он, по сути, и являлся в настоящий момент. В разнообразных направлениях двигались отряды вооруженных людей в рясах, доспехах или простой мужицкой одежде. Придерживая одной рукой сабли, с озабоченным видом сновали порученцы, передавая распоряжения начальства. На обширной, вымощенной камнем площади выстраивались ополченцы, по-видимому, только что прибывшие и еще не распределившиеся по десяткам и сотням. На другом конце площади проводились строевые занятия и вручалось оружие. Женщин, стариков и детей, пришедших в монастырь, сразу же размещали в монастырские помещения или в шатры. Тех из них, кто был способен трудиться, направляли на оборонительные работы на стены, в поварню, на разнос еды и питья.
Явившиеся под предводительством Сидора селяне, оробев в этом многолюдстве и деловой суете, столпились на краю соборной площади, растерянно вертя головами и не зная, что делать дальше. Впрочем, не прошло и пяти минут, как к ним быстрым шагом подошли трое монахов. У одного из них поверх рясы имелась перевязь с саблей, двое других были без оружия. Безоружные монахи повели женщин и детей за собор. Там, на зеленых лужайках, тянувшихся вдоль монастырских стен, по которым в обычное мирное время любила прохаживаться, предаваясь благочестивым размышлениям, монастырская братия, сейчас виднелись белые полотняные крыши походных шатров. Монах с саблей выкликнул мужиков, готовых вступить в ополчение, и сопроводил их в центр площади, туда, где формировались отряды монастырской рати.
Процессом формирования на площади руководил высокий, плотного телосложения человек в одежде монастырского трудника. Его светлые, чуть рыжеватые волосы были по-казацки коротко пострижены в кружок, а длинные усы были закручены, как у лихих донцов или запорожцев.
– Вы что, все из одной деревни? – без лишних предисловий обратился он к подошедшим мужикам.
– Из села мы, – с едва уловимой ноткой гордости в голосе уточнил Сидор.
– Ясно. Ну что ж, будете все служить в одном десятке.
– Так нас же дюжина, – вновь уточнил Сидор.
Мужик стоял вытянувшись по-военному, с саблей на плече, всем своим видом давая понять, что он – бывалый ратник и службу понимает до тонкости.
– Вот и хорошо, – усмехнулся трудник. – Тем более сдюжите. А ты саблю-то где взял, боец?
– У ордынцев, вестимо.
– Когда?
– Нынче утром.
– Молодец! Будешь десятником. Как звать-то тебя, десятник?
– Сидором.
– Запиши в рать десятника Сидора и его ополченцев, – приказал трудник стоявшему за его правым плечом молоденькому послушнику с дощечкой для письма на груди, чернильницей и песочницей на поясе. Тот заскрипел гусиным пером по развернутому на дощечке объемистому свитку. – А как село ваше называется?
Но он не успел услышать ответ Сидора, а, повернув голову влево, к собору, выкрикнул громким голосом: «Рать, смирно!», – и кинулся навстречу вышедшему из распахнувшихся врат настоятелю со свитой.
Настоятель благословил всех находившихся на площади ополченцев, выслушал рапорт подбежавшего к нему трудника, произнес ласково:
– Благодарю, Степа, за усердие и старательность. Рану-то до конца залечил?
– Так точно, отче!
– Вот и слава Богу! Рад слышать, что ты здоров и бодр, и вновь готов послужить отечеству! Но поскольку здесь, как я вижу, у тебя дело уже налажено, поручи дальнейшее отцу Филарету. – Настоятель плавным жестом руки указал на того самого монаха, опоясанного саблей, который помогал формировать десятки из вновь прибывших. – А сам ступай к воротам, да смени там отца Антония, возглавь караул. Отец Антоний, как мне сообщили, уже еле на ногах держится. Неровен час, мимо него незваный гость под видом беженца в монастырь проскользнет. А ты – человек опытный. Так что ступай, сыне!
– Слушаюсь, отче, – почтительно склонился перед настоятелем Степа и, четко по-военному повернувшись через левое плечо, быстрым шагом, почти бегом направился к воротам.
Передав отцу Антонию приказ настоятеля и приняв у него караул у монастырских ворот, Степан вышел на дорогу, отойдя на несколько шагов от своих часовых и пушек. Он встал, широко расставив ноги, привычно положил ладонь на эфес висевшей у него на поясе сабли и вздохнул всей грудью. Впрочем, полный вдох у него опять не получился: застарелая боль, притаившаяся в том месте, где клинок опричника пробил ему грудь, перерубив ребра и прошив легкое, заставила его вздрогнуть всем телом и застыть на несколько мгновений с полуоткрытым ртом. Но Степа тут же пересилил эту боль, задышал осторожно, ровно и спокойно. Он уже два месяца как начал выполнять разнообразные воинские упражнения: рубил саблей и лозу, и чучело из сырой глины, колол пикой, ездил верхом, даже бился два раза на кулаках, правда, вполсилы. Постепенно Степа восстанавливал былое воинское мастерство. Только вот бороться голыми руками грудь в грудь он пока не мог: ребра все еще сильно болели при сдавливании.
Но сейчас от него требовалась не сила мышц, не казацкая удаль, а его немалый опыт московского стражника, привыкшего нести караул на городских заставах и различать в потоке прохожих лихих людей, какое бы обличие они не принимали.
Вдалеке, из-за поворота дороги, выходившей из леса на обширный монастырский луг, вновь появились люди, лошади и телеги. Они целеустремленно двигались к монастырю. Степа постоял еще немного, пристально вглядываясь в приближающуюся колонну, затем развернулся на каблуках и пошел к часовым, чтобы занять свое место в воротах во главе караула.
Людей было не меньше полусотни. Треть из них, видимо, раненые или просто немощные и больные, ехали на четырех телегах. Остальные шли пешком. Степа сразу отметил, что многие шагали споро и размеренно, как ходят бывалые пешцы, то есть пешие ратники. И женщин среди них не было. Впрочем, нет: на одной из телег мелькнул светлый девичий платочек. Наверное, девушка ухаживала за ранеными. В общем, судя по всему, к монастырю направлялся отряд ополченцев, отступавший с боями к столице.
Степа чуть расслабился, готовясь приветствовать приближающихся ратников, но внезапно вновь подобрался, его ладонь непроизвольно крепко сжала эфес. Он и сам не смог бы объяснить детально, почему некоторые люди из этого отряда при ближайшем рассмотрении вызвали у него тревогу и подозрение. Возможно, ему бросилась в глаза их одежда: отнюдь не бедные кафтаны, и явно с чужого плеча… Конечно, они могли купить поношенные вещи на рынке, но ни крестьяне, ни стрельцы не стали бы приобретать такую одежду, слишком уж дорогую и непрактичную. И их манера держаться, и их вооружение – длинные ножи и кистени, засунутые за атласные кушаки, сразу же навели бывалого стражника на вполне определенные размышления. Эти соколики образовывали в хвосте колоны ополченцев единую плотную группу.
Ехавшая впереди колонны телега, поравнявшись с караулом у монастырских ворот, остановилась. С нее поднялся высокий статный молодец в красной шелковой рубахе, какие обычно носили зажиточные купцы. Один рукав рубахи был распорот на плече, под ним виднелась белая холщовая повязка. Голова молодца также была перевязана, его лицо было бледным и осунувшимся от усталости и потери крови.
– Здравствуйте, братия! – приветствовал он Степу и стоявших за ним часовых в монашеских рясах. – Я – Ерема, купец из-под Рязани. Веду свою дружину с Оки-реки, с Засечной черты. Есть среди нас и пограничники из сторожевых станиц, и ополченцы, что примкнули по дороге, да помогли отбиться от преследователей. Хотим у вас передохнуть малость, а затем двинемся дальше, под стены Москвы, для вступления в большое войско и решительной битвы.
– Проходите, братцы! – Степа посторонился, освобождая дорогу.
Но, пропустив мимо себя основную часть ратников, он решительно шагнул навстречу группе вызвавших его подозрение людей, перегородив им путь. Он вытянул вперед руку, этим жестом одновременно и приказывая остановиться, и создавая дистанцию, которая ограждала его от возможной попытки неожиданного нападения.
– А к вам, добры молодцы, у меня особый вопрос имеется. И кто ж вы такие будете?
Остановившийся прямо перед Степой худощавый, но крепкий, довольно молодой человек с аккуратно подстриженной черной бородой, с массивной золотой серьгой в ухе, понимающе усмехнулся:
– Аль не видишь, стражник? – Он сделал многозначительное ударение на последнем слове, явно давая понять собеседнику, что тоже не лыком шит и догадался, с кем имеет дело. – Разбойники мы, с большой дороги.
Степа, не ожидавший столь прямого и откровенного ответа, слегка опешил.
– И почто вы в монастырь заявились, соколики? – немного невпопад озадаченно вымолвил он.
Разбойник с серьгой, очевидно, атаман, усмехнулся, но не злобно и не обидно, а вполне весело, забавляясь, по-видимому, замешательством стражника:
– Грехи замаливать! – Затем, перейдя на серьезный тон, произнес твердо: – Мы тоже люди русские и православные. И басурман поганых, что ни стариков, ни детей не щадят, своими руками хотим с родной земли прогнать. Глядишь, и злодеяния наши прежние нам за то прощены будут!
Атаман скорбно покачал головой, будто в знак глубокой печали о своей пропащей жизни.
Степа молчал и, не двигаясь с места, по-прежнему загораживал разбойникам проход в монастырские ворота. Он прекрасно знал, что склонность к показному благородству и самобичеванию, красивым словам и демонстративным широким жестам – весьма распространенное явление в среде воров и душегубов, с которыми ему приходилось бороться по долгу службы. Стражник также не поверил в искренность слов атамана о сочувствии к несчастным, загубленным басурманами старикам и детям. Он многократно видел своими глазами последствия разбоев, в ходе которых часто были убиты хладнокровно и без разбору и стар, и млад. А скольких таких невинных детей атаман со своей ватагой оставили сиротами?
– Послушай меня, страж монастырский!
Степа не стал, разумеется, оборачиваться на этот раздавшийся за его спиной голос, лишь, чуть сместившись вбок, продолжая контролировать стоящих перед ним молодцов, краем глаза на мгновение взглянул на говорящего. Это был тот самый купец с перевязанной головой, предводитель ополченцев. Он слез с телеги и вернулся к воротам. Обойдя Степана, купец встал перед ним, рядом с атаманом.
– Я тоже, как ты понимаешь, разбойников-то не жалую! Бил их допрежь, и потом, коль даст Бог мне после набега к мирной жизни вернуться, снова бить буду. Но эти люди, – купец положил руку на плечо атамана, – сами в наше ополчение вступили. Да не просто так пришли, а в то время, когда на поляне нас отряд ордынский, троекратно превосходящий по численности, настиг и боем связал. Оторваться мы от врага не могли, ибо раненых с нами, как видишь, почти половина. Заняли мы оборону, телегами загородившись, но силы были слишком уж не равны. Полегли бы мы на той поляне все до единого, но из леса нам на выручку вот эти самые молодцы и выскочили. Бились они геройски, обратили в бегство басурман. Так что решай, достойны ли эти люди русские воевать за Родину, кровью своей искупать прегрешения прежние.
Степа, выслушав речь купца, глубоко задумался на короткое время, затем медленно, словно против воли, сделал шаг в сторону, освобождая ватаге путь:
– Коль так, то проходите, молодцы! А ты, купец, пойди к настоятелю, да повтори ему свой рассказ. Его-то слово и решит все по справедливости да по Божьей заповеди.
Степу сменили лишь на следующее утро. Сдав пост возле монастырских ворот, он прилег поспать в своей келье. Остальные трудники, то есть монастырские работники, выбравшие духовную стезю и собиравшиеся перейти в послушники, а затем – в монахи, жили все вместе в деревянной пристройке, примыкавшей к столярным и шорным мастерским. Однако для Степана, со страшным ранением привезенного в монастырь по личному указанию митрополита Филарета, спасшего его от опричников, было сделано исключение. Степа долгое время лежал без сознания, и, естественно, нуждался в соответствующем уходе и лечении. Потому его и поместили в отдельную келью, хотя раненый стражник не был ни монахом, ни послушником, да и трудником он числился чисто формально, чтобы избежать лишних вопросов со стороны не в меру любопытствующих персон. Когда Степа выздоровел и окреп, его по-прежнему оставили проживать в келье из уважения к памяти митрополита, павшего от руки Малюты Скуратова.
Однако Степану не пришлось поспать и трех часов. Почувствовав, что кто-то трогает его за плечо, Степа вскочил со своего ложа, более широкого и мягкого, чем у настоящей монастырской братии. Перед ним стоял молоденький послушник, тот самый, который помогал ему формировать отряды вновь прибывших ополченцев.
Степа имел немалый боевой опыт, прослужив несколько лет в составе ограниченного контингента казацких войск на южных рубежах России в низовьях Дона. А потом он вернулся в родную Москву, где поступил на службу в городскую стражу. Он прекрасно понимал роль разведки в военном деле и не понаслышке был знаком с коварством турок, не гнушавшихся в своей борьбе с Россией никакими средствами и предпочитавшими воевать с ней чужими руками. Именно потому, что Степа имел навыки и воина, и стражника, то есть в какой-то степени – контрразведчика, настоятель монастыря и поручил ему формирование ополчения, в которое вливалось множество неизвестных людей. Приходилось всерьез опасаться, что предатели, подосланные ордынцами, вернее – турками, будут стремиться проникнуть в крепости и монастыри, и даже в московский Кремль, чтобы провести разведку, или произвести там диверсии и открыть орде ворота, как это не раз уже случалось при набегах степняков на Русь. Разумеется, предатели помогали врагам захватывать крепости и города не только на Руси. Буквально во всех войнах, начиная с древнейших времен, противоборствующие стороны всегда стремились опереться на поддержку отдельных лиц, желавших улучшить свое материальное и социальное положение путем продажи Родины. Разведывательное и диверсионное дело зародились одновременно с военным делом и являлись его неотъемлемыми частями. И чаще всего, по причинам резких национальных различий в облике и языке, в роли разведчиков и диверсантов выступали именно предатели. А внутренняя политика царя Ивана Грозного, без разбору казнившего и правого, и виноватого, уничтожавшего по малейшему навету население целых городов, весьма способствовала тому, что враги Руси сравнительно легко вербовали себе сторонников из числа и бояр, и крестьян, и горожан…
По встревоженному выражению лица послушника, обычно спокойного и сдержанного, Степа сразу понял, что случилось нечто экстраординарное.
– Тебя срочно вызывает отец настоятель! – голос послушника звучал непривычно взволнованно. – Поспеши проследовать за мной!
– Я готов. – Степа по причине военного времени спал в одежде, и ему оставалось лишь обуть сапоги и затянуть пояс с саблей. Быстрым шагом, почти бегом они направились не в дом настоятеля, как первоначально предположил Степан, а почему-то в монастырскую лечебницу. В келье главного лекаря, отца Луки, расположенной рядом с больничными палатами, за обширным столом, обычно заваленным учеными фолиантами и лекарскими инструментами, сидел настоятель, отец Лука и отец Антоний, отвечавший и в мирное, и, естественно, в военное время за безопасность монастыря. Книги и инструменты были сдвинуты на край стола, и на освободившемся пространстве перед монахами одиноко лежал странный предмет. Ответив на приветствие стражника, настоятель кивком головы указал на сей предмет и спросил без каких-либо предисловий:
– Знаешь ли ты, Степа, что это за вещь?
Степа перевел взгляд на стол и, к своему изумлению, увидел, что на нем лежит ручная бомба, именуемая также гранатой. Из чугунного шарообразного тела бомбы, как и положено, торчал фитиль, вернее, его обгорелый остаток. По-видимому, запальное отверстие чем-то засорилось, или же фитиль пришел в негодность от плохого хранения, а потому он не догорел до порохового заряда, и бомба не взорвалась.
– Разумеется, отец настоятель, я знаю, что это такое, – чуть пожал плечами Степан. – Это ручная бомба.
– А почему же она не взорвалась?
Степа перечислил возможные причины отказа запальной системы.
– Значит, Господь Бог нас миловал! – произнес настоятель и осенил себя крестным знамением.
Все монахи последовали его примеру. Степан, разумеется, тоже начал креститься, но тут же до него дошел смысл слов отца настоятеля, и он, едва завершив священный жест, воскликнул:
– Вас!? Так эта бомба должна была взорвать вас?!
Настоятель покачал головой:
– Если ты спрашиваешь, был ли сей смертоубийственный снаряд предназначен для кого-либо из здесь присутствующих, то, скорее всего, нет. Однако нам всем от этого нисколько не легче. Бомбу обнаружили сегодня утром в больничной палате, под ложем одного раненого монаха. – И, остановив жестом руки стражника, с губ которого готово было сорваться недоуменное восклицание, настоятель продолжил: – Потому мы тебя и призвали, Степа, чтобы ты учинил розыск и расследовал сие тревожное происшествие или же преступление, таящее в себе немалую опасность. Приступай немедленно, задавай любые вопросы кому угодно, привлекай к розыску всех, кого считаешь нужным.
– Слушаюсь, отче, – вытянулся Степан, и, обращаясь одновременно к отцу Луке и отцу Антонию, спросил деловито: – Кто отведет меня на место происшествия?
Отец Лука поспешно поднялся:
– Следуй за мной, сыне.
– И еще я хочу немедленно побеседовать с человеком, первым обнаружившим бомбу, – продолжил стражник.
– Он уже там, на месте происшествия. Это наш послушник, ухаживающий за больными.
Степан, простившись с настоятелем по-военному коротким наклоном головы, резко повернулся через левое плечо и вышел из кельи вслед за отцом Лукой. Миновав небольшой коридор, они постучали в массивную двустворчатую дверь. Через некоторое время дверь распахнулась, и, ответив на поклон монаха, исполнявшего обязанности сменного лекаря, Степан вслед за отцом Лукой вошел в лечебницу.
В обширной больничной палате, низкие стрельчатые своды которой поддерживались тремя массивными, но изящными колоннами, стояло полсотни кроватей. Сейчас большая часть из них пустовала. Больных и тяжелораненых было пока немного, а легкораненые отказывались ложиться в лечебницу, предпочитая оставаться в строю или трудиться вместе со всеми на оборонительных работах по укреплению монастыря. Во внешней стене палаты имелось полдюжины узких окон, по сути дела представлявших собой бойницы. Они затворялись створками, в частый свинцовый переплет которых были вставлены ромбики прозрачной слюды. Сейчас по причине теплой сухой погоды все створки были распахнуты.
Отец Лука провел стражника в самый конец палаты, в угол, отделенный от остального помещения белой льняной занавеской. Занавеска была отдернута на треть, за ней виднелась кровать, в изножье которой стояла небольшая скамья. На скамье сидел невысокий худенький послушник, склонивший голову над книгой, лежавшей у него на коленях. При приближении отца Луки и Степана послушник встрепенулся, поспешно, но бережно закрыл книгу, заложил ее резной деревянной закладочкой и, обеими руками прижимая тяжелый фолиант к груди, встал и поклонился.
– Поведай, сыне, во всех подробностях, – обратился к послушнику отец Лука, – как ты сегодня утром обнаружил странный предмет вот здесь, за занавескою, под ложем раненого. Трудник наш, Степан, до поступления в монастырь был московским стражником и в сыскном деле опытен. Посему ему дано поручение отцом настоятелем произвести расследование.
Послушник кивнул, на минуту задумался, затем весьма толково и последовательно рассказал, как на рассвете, сделав раненому перевязку и взяв из-под него судно, пошел выносить старые окровавленные повязки и прочее в отхожее место. Вернувшись, он нагнулся, чтобы поставить вымытое судно под кровать, и тут заметил под ней странный шарообразный предмет. Взяв предмет в руки, послушник, хотя и не сведущий в военном деле, заподозрил неладное и посчитал необходимым поставить в известность о происшествии отца Луку.
Степа, поблагодарил послушника за исчерпывающий рассказ и шагнул за занавеску. Там он увидел то, что и ожидал: натянутое под самым сводом полотно отгораживало также и одно из окон.
Стражник повернулся к юному лекарю:
– Утром, когда ты выходил, окно было открыто?
– Да.
– А остальные окна в палате?
– Тоже были распахнуты.
Степа впервые за много месяцев, прошедших с того дня, когда его почти бездыханное тело подобрал на улице горящей плотницкой слободки митрополит Филипп, ощутил привычный охотничий азарт. Сыскной инстинкт присущ некоторым людям от рождения, он, как и другие глубинные инстинкты, передался к ним не просто от далеких человеческих предков, а от еще более дальних эволюционных предшественников – животных. Степан раскрыл не один десяток всевозможных злодеяний, совершенных во вверенной ему слободке, а перед самым ранением ему удалось распутать сложнейшее преступление – дело рук главаря разбойников всея Москвы Хлопуни вкупе с его дружками-опричниками и продажными тварями из московской стражи…
«Ну что ж, – подумал стражник. – Направления сыска у нас будет два. Первое: бомбу бросили именно в это окно случайно, не целясь в кого-то либо определенного, просто желая запугать защитников монастыря этим жутким злодеянием – убийством раненых и больных. Второе: хотели убить именно этого человека. Ну, насчет окон, в какое бросить бомбу снаружи сподручнее, это мы потом посмотрим. А пока продолжим здесь».
– Кто ж таков этот раненый, лежащий за занавескою? – обратился Степа к отцу Луке.
Главный монастырский лекарь произнес с уважением в голосе, почти торжественно:
– Это монах-отшельник, отец Серафим. Он жил в лесном ските, рядом с селом, на который налетел отряд басурманский. Ордынцы село сожгли, многих селян захватили в полон. Те, что смогли из села вырваться, прибежали в скит, просить укрытия. И отец Серафим сподвиг мужиков с одними дубинами напасть на басурман и полон отбить, и сам их подвиг возглавил. Да вот только ранен был в бою. Спасенные отцом Серафимом селяне на руках принесли его в монастырь. Он пока еще в сознание так и не пришел.
– Это уж не то ли село, из которого к нам в ополчение Сидор с дюжиной мужиков поступил?
– Да, сыне, это оно и есть.
– Понятно. А не приходил ли кто вчера отца Серафима навещать? – на сей раз вопрос стражника был адресован послушнику.
Юный лекарь ответил не задумываясь:
– Приходили. Этот самый Сидор и навещал. С ним трое мужиков, односельчан, и пожилая женщина, травница. Она мне рассказала, какими снадобьями рану отца Серафима прикрыла, когда ему прямо в лесу зазубренный наконечник стрелы из спины вырезали… И еще приходили двое, – добавил он после паузы. – Девица, сказавшая, что она из того же села, а с ней молодой купец, раненый в голову.
Степа, мгновенно уловивший и сделанную послушником паузу, и соответствующую формулировку, тут же спросил:
– «Сказавшая»… А ты, никак, в словах ее усомнился? Иначе просто поведал бы мне, что она – из того же села, без «сказавшая».
Послушник кивнул:
– Выглядела она и вела себя немного странно. Не похожа была на сельскую девицу.
– Ум у него пытливый, глаз наблюдательный, в науках весьма смышлен, – с похвалой отозвался о послушнике отец Лука.
– Девица сия к ложу раненого припала, – продолжил свой рассказ послушник. – Но не плакала, а как будто молилась шепотом, прощения просила. Купец ее утешал. Он бледный был от потери крови, я ему заодно рану перевязал, лекарства дал.
– Ладно, спасибо, разберемся, – задумчиво произнес Степа.
По описанию послушника стражник сразу вспомнил купца, который пришел со своей дружиной в монастырь как раз тогда, когда он, Степа, нес караул возле ворот. Вспомнил он и девицу, бывшую в той дружине. Правда, толком он ее не рассмотрел, поскольку его внимание было сосредоточено на пришедших в составе дружины разбойниках.
– Ну, здесь, пожалуй, мы все увидели и узнали, – стражник еще раз обвел взглядом палату. – А сейчас я схожу под окна, посмотрю, как там и что.
– А не мог кто-либо катнуть эту бомбу, как колобок, прямо от двери? Мы ведь дверь закрывать-то закрываем, чтобы больным беспокойства не делать, да не запираем. И сменный лекарь, занятый больными, вряд ли бы на приоткрывшуюся дверь внимание обратил, – в голосе отца Луки звучала искренняя заинтересованность истинного ученого, стремящегося рассмотреть все гипотезы.
Степа, естественно, не мог отмахнуться от вопроса столь почтенного добровольного помощника. Он присел на корточки и жестом предложил отцу Луке сделать то же самое. Монах с готовностью опустился на колени рядом со стражником и увидел, что пространство до двери перекрыто не только многочисленными ножками размещенных в палате кроватей, но и двумя из трех массивных колонн.
Отец Лука с проворством и легкостью, свидетельствующими о том, что главный лекарь находился в весьма добром здравии, поднялся на ноги, и, опровергая собственное предположение, заключил беспристрастно:
– Нет, от двери бомбу сюда закатить невозможно.
– Я тоже так считаю, – согласно кивнул Степан. – Еще раз спасибо за содействие. Пойду, пройдусь под окнами.
Выйдя на монастырский двор, стражник обошел здание лечебницы и остановился у противоположной от входа стены, которую огибала узкая не мощеная дорожка, протоптанная прямо в траве. По этой дорожке трудники и монахи ходили на один из монастырских огородов. По другую сторону от дорожки, в полусотне саженей находились погреба и одноэтажное деревянное здание столярной мастерской. Место было довольно оживленное, люди двигались здесь почти непрерывно.
Степа медленно прошелся несколько раз вдоль стены, затем остановился и задумчиво покачал головой. Здание, в котором помещалась лечебница, располагалось под углом к монастырской стене и соборной площади. Поэтому удобнее всего было бы бросить бомбу в три первых окна, отгороженных от всеобщего обозрения выступом самого здания. К тому же дорожка проходила прямо под этими окнами. Последнее окно, за которым находилась кровать раненого отца Серафима, хорошо просматривалось и из огородов, и из мастерских, и даже частично – с соборной площади. Чтобы приблизиться к этому окну, необходимо было сойти с дорожки в траву и тем самым привлечь к себе дополнительное внимание. Следовательно, неизвестный, бросивший бомбу именно в то окно, за которым лежал раненый отшельник, очень сильно рисковал. Наверняка, пойти на риск быть замеченным и пойманным на месте преступления его заставило только одно: желание убить именно отца Серафима, а не просто намерение запугать защитников монастыря зверским преступлением, направленным против все равно каких находившихся в лечебнице больных.
* * *
Анюта лежала на соломе, закинув руки за голову, и смотрела на натянутый над ее головой полотняный купол шатра. Белоснежное полотно словно излучало дополнительный свет, и казалось что там, снаружи, за стенками шатра все еще стоит яркий летний день, хотя уже вечерело. В шатре, кроме Анюты, находились еще десятка два баб и девок из ее села, отдыхавших после работ на монастырских стенах, огородах или в поварне. Из ее села… Анюта горько усмехнулась. Где оно, это село? Когда девушка привела туда для отдыха отступавшую с боями дружину удалого купца Еремы, то увидела на месте села еще дымящееся пожарище, да обгорелые стены церквушки с обрушившимся куполом. Она чуть не разрыдалась, припав к груди Еремы. Но слез у Анюты давно уже не было. Их не было с того самого вечера, когда Анюта, возвращавшаяся к себе в избу после работы с теткиного двора, услышала за спиной леденящий душу крик озверевшего от похоти и ненависти к ней местного богатея Никифора: «Стой, подлюга! Убью!». Анюта усилием воли отогнала это воспоминание, переключилась на другое. Теперь уже нет ни ее избенки, ни теткиного двора. Хорошо, хоть тетка осталась жива. Ее с детьми угнали в полон, да тот полон, слава Богу, отбили потом мужики под предводительством отца Серафима. Отец Серафим… Анюта рывком поднялась, уселась на соломе. Все ее воспоминания и мысли – одно горше другого. «Ты еще про Михася вспомни!», – в душе обругала она сама себя, чтобы этой беззвучной злобной руганью прогнать еще большую боль.
Поняв, что не может больше оставаться среди спящих женщин, Анюта выбралась из шатра. Вечернее небо было сумрачным, затянутым облаками, и лишь над колокольней собора пробивался багряный луч заходящего солнца.
Пойти навестить тетку, расположившуюся, как и все женщины с малыми детьми, не в шатрах, а в монастырских палатах? Но о чем с ней говорить, что способна понять эта женщина, всю жизнь проработавшая, не разгибаясь, на полях и скотных дворах, не видевшая ничего, кроме ботвы и навоза? Анюта сняла с плеч платок, повязала им голову и решительным шагом направилась совсем в другую сторону. Навстречу ей попались девушки ее возраста, очевидно, возвращавшиеся с каких-то работ к себе в шатры. Они были уставшие, чумазые, но веселые, непрерывно хихикали и радовались невесть чему. Внешне они ни чем не отличались от Анюты: похожие рубахи, беленькие платочки. А ведь она повидала такое, что и не снилось этим беззаботным девчонкам, побывала в боях, прошла сквозь кровь и смерть, огонь и воду. Анюта остановилась, огляделась по сторонам, затем достала из-под платья боевой нож, подаренный ей этой весной (а казалось – много лет назад!) Михасем, повесила его себе на пояс, чтобы все видели. И еще она перевязала платок. Когда они с Михасем начали упражнялись на полянке перед скитом, Анюта еще не успела вернуть ему берет поморского дружинника, спрятанный в ее избе, и Михась закрывал себе голову от солнца стареньким платком. Дружинник повязывал тот платок по-особенному. На вопрос девушки Михась отвечал, что так носят головные платки морские пешцы англицкой царевны, у которой ему довелось служить, да еще морские разбойники, с которым ему приходилось биться далеко-далеко, на краю земли, за сказочным океаном.
С ножом на поясе, с платком на голове, повязанным как у флибустьеров и морских пехотинцев из флагманского экипажа Ее Величества королевы Англии, Анюта прошествовала на другой конец палаточного лагеря, туда, где расположились ополченцы. Она шагала между шатрами гордо и уверенно, не глядя по сторонам. Сидевшие возле шатров мужики окликали ее весело и даже игриво. Анюта, не обращая на них внимания, продолжала свой путь. Возможно, если бы все это происходило не в стенах монастыря, кто-то обязательно бы попытался ее обнять, в шутку или всерьез. Пару раз на лесных ночевках новички, только что прибившиеся к дружине купца Еремы, лезли к девушке с молодецкими возгласами: «А дай-ка, красавица, я тебя ужо расцелую!». Вслед за этим незадачливые ухажеры кубарем летели на землю под громкий одобрительный смех всех присутствующих. Анюта хорошо усвоила начальные навыки рукопашного боя, преподанные ей Михасем.
Под сенью монастырских стен и куполов девушка беспрепятственно, без применения подножек и подсечек, достигла большого шатра, в котором расположился Ерема со товарищи. Перед входом она увидела сидевшего на небольшом чурбачке Ванятку – молодого дозорного с Засечной черты, с которым они приняли свой второй бой в остроге сторожевой станицы. Ванятка поднялся навстречу девушке, улыбнулся приветливо, приподнял полог, чтобы ей удобней было войти внутрь шатра. Анюта уже не в первый раз отметила, что улыбка у этого паренька, почти ее ровесника хотя и искренняя, но какая-то по-особенному печальная. Так улыбались пожилые люди, много перевидавшие и пережившие на своем веку. Анюте иногда казалось, что она тоже, как Ванятка, уже не способна рассмеяться беззаботно, забыв хоть на мгновенье про давивший душу тяжкий груз.
– Здравствуй, Анюта! – пограничник, как всегда, обратился к ней тепло, по-дружески, безо всяких там заигрываний. – По делу к нам, али просто соскучилась?
– Здравствуй, Ванятка! Конечно, соскучилась, – так же просто и откровенно ответила девушка.
В шатре уже царил полумрак, и ополченцы, весь день проведшие на фортификационных работах во рвах и на стенах монастыря, отдыхали, но пока не спали. Кто сидя, кто лежа на соломенных подстилках, они слушали сказку про царя и хитрого горшеню, которую рассказывал Чекан, атаман разбойников, ставший по доброй воле рядовым ратником в дружине купца Еремы. Но старые товарищи по-прежнему слушались его, да и сам Ерема часто прислушивался к словам и советам бывалого атамана.
Анюта тихонько прошла в самый центр шатра, туда, где на небольшом возвышении, наскоро сколоченном из наструганных досок и застеленном соломой, покрытой сверху старым тулупом, лежал предводитель их дружины. Ерема, казалось, спал. Его глаза были закрыты. Бледное лицо купца и белое полотно свежей повязки на голове резкими пятнами выделялись в сгущающемся сумраке. Анюта тихонько присела на край топчана, положила свою ладонь на руку Еремы. Он встрепенулся, открыл глаза, убрал руку из-под пальцев девушки, чуть отодвинулся от нее.
Анюта вновь ощутила под сердцем черную ледяную пустоту. Вот так же отодвигался от нее Михась, тогда, ночью, в ее избе. Да что она прокаженная, что ли?! Ну конечно, у обоих есть невесты: у дружинника – заморская боярышня, разодетая в меха и бархат, а у Еремы – купеческая дочка из Рязани, тоже, видать, вся в шелках да жемчугах.
Анюта поймала себя на мысли, что опять подумала о Михасе, будто о живом. А ведь уже минула почти неделя с тех пор, как он принял неизбежную смерть там, на Засечной черте, на берегу Оки, прикрывая от ордынской конницы отход Еремы со товарищи и ее, Анюты, с горящего судна через тот проклятый пойменный луг в спасительный лес. Она уже в который раз захотела, но не смогла заплакать.
Тем временем Ерема, разбуженный девушкой, вскочил со своего ложа и, словно желая загладить впечатление от своего непроизвольного жеста, которым он спросонья почти оттолкнул руку Анюты, широко улыбнулся ей, поклонился в пояс:
– Здравствуй, свет-Анютушка! Подобру, поздорову ли денек провела?
Анюта вовсе не обрадовалась его ласковым словам. В голосе купца она не чувствовала той искренности, которой жаждала всей душой. Но девушка все же улыбнулась в ответ одними губами, промолвила с наигранной беззаботностью:
– Спасибо, Бог миловал.
Чекан, закончивший свою сказку, не дожидаясь, когда затихнет взрыв веселого смеха, вызванный не только счастливым окончанием похождений плута горшени, но и мастерством рассказчика, протиснулся сквозь плотное кольцо окружавших его ополченцев и встал рядом с Еремой:
– А вот и красна девица, как в сказке, к нам в гости пожаловала! Скажи, как тебя величать, как тебя привечать?
Чекан с самого начала их знакомства обращался к Анюте, как к равной, и девушка понимала, что этому бывалому человеку, одетому не мене богато, чем сам купец, и не уступавшему Ереме ни в удали, ни в силе, действительно весело и приятно разговаривать с ней. Он смотрел ей прямо в глаза открытым спокойным взглядом, и, конечно же, не стал бы отталкивать протянутую руку.
– А привечай, как хочешь, атаман! – неожиданно для себя звонким голосом, громко, на весь шатер произнесла Анюта.
– Не вопрос! – с готовностью откликнулся Чекан. – Возле поварни с вечера сбитень затеяли варить, так может, мы с тобой, не дожидаясь, пока разносчики его на всех начнут разносить, пойдем сами туда, да наберем баклажечку-другую поперед очереди? И сами полакомимся, жажду утолим, и начальнику нашему раненому, и друзьям-товарищам затем добавок принесем!
– Отчего ж не пойти! – Анюта с вызовом взглянула на Ерему.
– Конечно, сходи, Анютушка! – охотно, как будто даже с некоторым облегчением одобрил затею купец.
Девушка резко повернулась, двинулась к выходу. Вслед за ней направился Чекан, повесивший на плечо пару объемистых походных баклаг на тонких кожаных ремешках, переданных ему товарищами.
Подойдя к поварне, Анюта и Чекан обнаружили, что они слегка опоздали. Возле большого котла со сбитнем уже выстроилась небольшая очередь из тех, кто по старинному русскому обычаю пытался пролезть без очереди. Повар и два его помощника непрерывно помешивали варившийся сбитень длинными деревянными половниками. Они лениво препирались с особо нетерпеливыми, призывая их разойтись по своим местам, поскольку, мол, сбитень еще не готов, а когда будет готов, то его всем разнесут состоящие при поварне разносчики. Разносчики эти из числа монастырских трудников и послушников, а также добровольцев, уже второй день сновали по монастырю, снабжая всех работавших на стенах и занимавшихся воинскими упражнениями едой и питьем. Но составлявшие очередь ополченцы были, судя по всему, людьми бывалыми, хорошо знакомыми с порядками и обычаями воинских станов, посему они невозмутимо продолжали стоять возле котла, прижимая к груди разнообразные сосуды. Спросив крайнего и дождавшись, когда за ними тоже займут, Чекан с Анютой отошли в сторонку, присели на бревнышко.
– Слушай, Чекан, а как ты попал в разбойники? – неожиданно для себя выпалила Анюта. – Расскажи, коли тайны нет.
– Да отчего ж не рассказать, – спокойно ответил атаман. – Только вначале горло надобно промочить, а то ужо весь вечер непрерывно сказки сказываю всухомятку.
Чуть отвернувшись от стоявших невдалеке людей, Чекан достал из-под кафтана небольшую плоскую серебряную фляжку с красивой винтовой пробкой в виде головы толстощекого лысого мужика, показывающего язык. Он свинтил пробку, сделал глоток из горлышка, протянул фляжку Анюте:
– Хлебни, коли желание есть. Фряжское вино, целебное да бодрящее.
Секунду поколебавшись, Анюта решительно взяла изящный дорогой сосуд и, запрокинув голову, осторожно глотнула ароматного терпкого вина. Доселе неведомый напиток мягким сладким теплом обволок ей гортань, приятно согрел желудок. Анюта сделала второй, уже больший глоток, потом еще один.
– Ну, как, понравилось? – принимая фляжку из ее рук и завинчивая пробку, спросил Чекан.
И вновь в его голосе не было ни тени подначки или превосходства. Ему было действительно интересно и важно узнать мнение Анюты о напитке.
– Очень понравилось! – искренне ответила девушка.
Чекан удовлетворенно кивнул, убрал фляжку под кафтан.
– В разбойники я подался отнюдь не по своей воле, – он говорил без всякого пафоса или надрыва, просто делился с понимающим и близким ему по духу собеседником сокровенными сведениями о собственной жизни. – Еще два года назад жил я в стольном граде Москве, в собственной избе, в чести да почете.
– Ты был купцом?
– Нет. Я был наемным бойцом на судных поединках.
– Кем, кем? – изумленно переспросила Анюта.
– Наемным бойцом. Тебе, чай, судиться-то не приходилось? Нет? Ну и слава Богу. Тогда следует кое-что пояснить. Так вот, если некий истец на некого ответчика наместнику царскому, али самому царю челом бьет, что, дескать, потерпел он от ответчика урон или бесчестие, то должен он того ответчика в причинении обиды сей уличить. А коль у истца улики нет, окромя слов его собственных, то он в подтверждение слов своих на суде крест целует принародно. Но ежели ответчик тоже крестным целованием свою невиновность подтвердит, то присуждается им обоим поле. Так судный поединок именуется. Сие есть Божий суд: кто прав, тому Бог победу и дарует. Однако не все умеют или могут оружие-то держать. Бояре да дворяне, те, понятно, сами в поле выходят честь свою защищать. А купцы, да дьяки с подьячими, старцы немощные, да вдовы, они должны за себя на судный поединок выставить того, кто Богу не противен, то есть бойца удалого да честного. Вот я таким и был.
– А где ты биться научился?
– На войне.
Анюте вдруг стало легко и радостно. Боль, сомнения, печали, гнетущие ее душу последнее время, разом исчезли, словно кто-то разжал стальные обручи, стягивавшие много дней голову и сердце. Она сидела рядом с человеком, ни в чем не уступавшим ни Михасю, которого она самозабвенно любила со дня их первого разговора в ските отшельника, ни купцу Ереме, к которому после гибели Михася устремилась ее израненная мятущаяся душа. Девушка чуть придвинулась к атаману, прислонилась к его плечу. Голова у нее слегка кружилась, она улыбалась неизвестно чему.
Чекан ласково погладил ее руку так, чтобы никто этого не заметил, и произнес вполголоса:
– Анютушка, от фряжских вин у людей наступает ликование, все вокруг им кажется прекрасным и достойным любви. А посему давай-ка, милая, мы разговор этот с тобой завтра продолжим. Я, видишь ли, не тот человек, который красных девиц подпаивает, да потом этим пользуется им во зло.
Он еще раз ласково провел ладонью по ее пальцам, и это нежное прикосновение лучше всяких слов раскрыло Анюте истинное отношение к ней этого благородного, мудрого и глубоко порядочного человека.
– Глянь-ка, Анютушка, а сбитень-то уже принялись раздавать! Пойдем и мы, пока нас из очереди не вытолкнули! – Чекан легко вскочил, подхватил Анюту под локоть, и они с веселым смехом втиснулись на свое место в уже изрядно удлинившейся цепочке людей, тянущейся к котлу с вкусным варевом.
Потом они еще долго сидели в шатре с Еремой и ополченцами, пили вместе со всеми ароматный горячий сбитень. Чекан вновь по просьбе товарищей рассказывал сказки. Одна, про Шемякин суд, особенно запала в душу Анюте. Когда девушка покидала гостеприимный шатер, собираясь на ночлег в свое временное пристанище, Чекан провожая ее, одним беззвучным движением губ произнес: «До завтра!»
«До завтра! До завтра!» – Анюта неслась по монастырю, как на крыльях, и эти слова чудесной песней звучали в ее все еще слегка кружащейся голове.
Степа весь вечер беседовал с Сидором и его односельчанами об отце Серафиме. Понятно, что беседовал он не просто так, а с пристрастием, но, тем не менее, старался, чтобы мужики не воспринимали все это как допрос. Степа по своему опыту знал, что многие, даже честные и ни в чем не повинные люди, особенно те, кто не обременен ни властью, ни богатством, случайно попав в лапы стражникам, проводящим розыск, или будучи вызваны в Разбойный приказ свидетелями, терялись, пугались и от страха начинали городить всякую чушь, либо напрочь теряли дар речи. Стражник выстраивал свои вопросы и так и сяк, и издалека, и с подковыркой, но получал всегда лишь один твердый ответ, что, дескать, отшельник отец Серафим – святой человек, спаситель и благодетель, за него будем и сами вечно Бога молить, и детям, и внукам, и правнукам завещаем. А о ручной гранате, то бишь, бомбе никто из сельчан и слыхом не слыхивал. Сидор, когда в рати был, конечно, видал такие, но издалека, да и то не ручные бомбы, а те, коими пушки заряжают. А в руках держать не доводилось.
Тогда Степа, убедившись, что среди простодушных селян вряд ли можно сыскать следы злодея, зашел с другой стороны. Он принялся расспрашивать, кому селяне рассказывали об отце Серафиме вообще, и о его недавнем подвиге против ордынцев в частности. Тут же выяснилось, что все жители села, от мала до велика, будучи непосредственными участниками героических событий в качестве или освободителей, или освобожденных, только и делали, что взахлеб живописали житие святого отшельника каждому встречному и поперечному. Так что и с этой стороны розыск явно зашел в тупик. «Ну что ж, – решил стражник, – Из людей, навещавших отца Серафима, остаются купец и бывшая с ним девица, странное поведение которой заметил смышленый послушник. Завтра утром разыщу обоих, да побеседую с ними, как говорится, по душам».
Оставив Сидора со товарищи отдыхать, Степа решил еще раз пройтись вдоль стен больничной палаты. Смеркалось. Стражник не спеша брел по тропинке, задумчиво глядя на окна, чуть освещенные изнутри огоньками ночников. Вдруг, скорее ощутив, чем увидев движущегося из сумерек ему навстречу человека, он замер на месте, подобрался, как в былые времена в темных переулках московской слободки. Шедший по тропинке человек нес на плече коромысло с двумя ведрами. Обычный водонос, но не монастырский, а из ополченцев. По его осанке можно было догадаться, что ведра сейчас пусты. Но что-то в этом мужике было не так. Через мгновение стражник понял, что именно заставило его насторожиться: водонос шел слишком уж медленно для человека с пустыми ведрами, и при этом явно разглядывал окна больничной палаты.
«Ну и что же? – мысленно возразил сам себе Степан. – Просто он устал за день, вот и бредет, не спеша, на отдых к своему шалашу. А освещенные окна всегда притягивают взгляд, вот он и пялится на них безо всякой задней мысли». Однако стражник решительно шагнул навстречу водоносу, преграждая путь.
– Здорово, мил человек! Почто не спишь, да с пустыми ведрами впотьмах бродишь?
При первых же словах Степы водонос испугано сорвал с головы шапку и поспешно поклонился, насколько позволяло это сделать лежащее на плече коромысло. По этим его жестам сразу стало понятно, что мужик из числа робких, забитых жизнью русских крестьян или дворовых людей, и в каждом встречном заранее признает превосходство над собой. Но такая явно выраженная покорность и униженность водоноса, пожалуй, лишь усилили подозрения Степана.
– Так зачем ты в ночи по монастырю-то шляешься? – повторил он свой вопрос.
– Дык, я ведь это… С работы я, с огородов… Воду носил в бочку для утрешнего полива. А теперь, вот, в шатер иду, на ночлег, значить.
– Ну, пойдем, коли так. Провожу я тебя до твоего ночлега, а то еще споткнешься в темноте невзначай, – не терпящим возражений, чуть насмешливым тоном скомандовал Степан. – Шагай вперед!
Мужик послушно затрусил на полусогнутых ногах по направлению к соборной площади. Когда они пересекали площадь, над монастырской стеной взошла полная луна, залив все обширное пространство перед храмом ярким холодным светом.
– А ну, постой-ка, приятель! – приказал стражник шедшему впереди мужику. – Желательно мне твою личность разглядеть, да вопросы кой-какие задать.
Тот мгновенно замер, пригнулся, словно ожидая удара сзади.
– Поворотись, поворотись, – с прежней насмешливой интонацией произнес Степан. – Встань к лесу задом, а ко мне передом! Да поведай, кто ты есть таков, и как в монастырь попал. Коромысло-то покуда опусти.
Мужик неловко повернулся, опустил коромысло, исподлобья робко взглянул на Степу. И тут же на его малоподвижном, ничем не примечательном лице промелькнуло выражение неподдельного изумления. Это короткая, почти мгновенная смена эмоций не ускользнула от внимательного взгляда опытного стражника.
– Что, земляк, узнал меня? – грозно, не давая мужику опомниться, выкрикнул стражник.
Мужик, вопреки ожиданиям Степы, не сделал попытки отпереться:
– Дык, конечно, узнал. Тебя ведь, страж Степан, почитай, пол-Москвы знает! Только…, – он сделал паузу, чуть замялся. – Только слух прошел с год назад, что, дескать, убит ты был в своей слободке, незнамо кем. Стало быть, соврали, значить, и ты, Слава Богу, живой! – мужик торопливо снял шапку и перекрестился на купола собора.
Степе показалось, что в словах мужика прозвучала искренняя радость. Но, как известно, когда кажется – следует креститься. Стражник перекрестился вслед за мужиком и продолжил допрос:
– Так ты-то сам кто будешь? Раз уж меня знаешь, то смотри, не ври! Все равно тебя на чистую воду выведу, да еще и огорчу потом до невозможности!
– Зачем же мне врать-то? Лавром меня зовут. Сам-то я деревенский, да уж который год в Москве живу, на заработках. На мельницах работал, у бояр да купцов. Да водоносом тоже случалось подрабатывать.
Степа внимательно вгляделся в лицо мужика, и ему оно показалось знакомым. Где же он мог его видеть? Но как стражник ни напрягал память, ему не удавалось вспомнить, когда и при каких обстоятельствах он встречался с этим человеком. Словно мужик был в другом обличии. «Ладно, разберемся. Никуда он не денется!» – успокоил себя Степан и задал несколько уточняющих вопросов с подвохом. Мужик охотно и без запинки поведал о московских мельницах, на которых ему довелось работать, об их хозяевах, и не попался ни в одну из Степиных ловушек. Судя по всему, мужик рассказывал о себе чистую правду.
– А как же ты из Москвы-то в наш монастырь попал? Навстречу крымскому набегу, что ли, подался, покуда добрые люди, от него спасаясь, наоборот, в Москву шли?
– Дык ведь я ж еще по весне из Москвы-то ушел в Рязань. Кума у меня там. Вот к ней и подался. Решил лучшей доли, да больших заработков поискать. А тут как раз набег случился. Ну, я до Рязани-то и не дойдя даже, обратно кинулся, со всеми вместе. И с беженцами в монастырь, стало быть, и пришел.
Степа несколько минут постоял в раздумье, пристально вглядываясь в лицо мужику, силясь вспомнить: где же он мог его видеть? Может быть, действительно мимоходом встречал в столице? Во всяком случае, мужик действительно работал в Москве именно там, где говорил, иначе он просто не смог бы ответить на вопросы стражника, профессионально интересовавшегося как раз самыми мелкими подробностями. И, к тому же, узнав Степу, он не испугался, а, пожалуй, даже обрадовался. Хотя, если этот подозрительный водонос действительно умеет ловко притворяться, то он и робость, и радость, и что угодно способен изобразить с одинаковым успехом.
Мужик спокойно выдержал пристальный взгляд стражника, не отвел глаз, не засуетился, а смотрел на Степу доверчиво и бесхитростно.
– Ладно, Лавр, пойдем, провожу тебя до ночлега!
– Благодарствую, страж Степан! – обрадовался мужик, словно не поняв, что проводы – это не честь, а продолжение слежки.
Он вскинул коромысло с ведрами на плечо и бодро зашагал по направлению к шатрам, в которых расположились беженцы и ополченцы. Но Степа внезапно вновь окликнул водоноса:
– Постой-ка, мил человек! Еще один вопрос к тебе имеется! Небось, бражку несешь за пазухой?
– Что ты, что ты! Грех-то какой!
– А вот я сейчас посмотрю!
Степа обыскал покорно остановившегося мужика, заглянул в пустые ведра. Кроме простого ножа на поясе, старой, изрядно обгрызенной деревянной ложки, да пары медных монет в тряпичном узелке у того ничегошеньки не было.
– Ну, извини, земляк, что худое заподозрил. Служба у меня такая. Пойдем, ужо, на отдых!
Степа проводил водоноса до места его ночлега и убедился, что обитатели шатров принимают Лавра, как своего. Стражник пожелал всем доброй ночи и направился в свою келью, по дороге задавая себе один и тот же вопрос: «Где же я мог его видеть?» Так и не найдя ответа, Степа, не раздеваясь, лег на свое ложе, и, измотанный усталостью, накопленной за этот напряженный день, почти мгновенно провалился в тревожный чуткий сон. Стражнику почему-то приснилась старая кузня, в которой, мстя своему бывшему хозяину, бесчинствовал только что вернувшийся из острога слободской злодей Николка-Каин. Потом из дыма загоравшейся кузни появился поморский дружинник, Михась, спасший тогда, во время схватки с Каином, Степе жизнь, и спросил стражника: «Почему же ты не дал мне сразу его пристрелить?» «Так разве ж он похож на водоноса?» – возразил Михасю Степа. Но Михась, не успев ничего сказать в ответ, исчез, скрытый всполохом яркого пламени. Разбуженный лучом утреннего солнца, упавшим ему на глаза из узкого оконца кельи, Степа вскочил, ополоснул руки и лицо водой из кувшина, обул сапоги, надел саблю, но не сразу помчался продолжать порученный ему розыск, а долго стоял в задумчивости посреди маленькой кельи.
Утром Анюта, позавтракав вместе с женщинами, не пошла, как вчера, работать на стены, а, вновь демонстративно повесив нож на пояс, направилась на соборную площадь, где выстраивались для воинских занятий ополченцы. Она подошла к отряду Еремы, поздоровалась со всеми, поискала взглядом Чекана, но его почему-то не было. Анюту это слегка обеспокоило, но она не подала виду, и, как ни в чем не бывало, встала в шеренгу ополченцев крайней слева. Девушка сообразила, что ополченцы в отряде выстроились по росту, и заняла крайнее место, поскольку она была ниже всех мужиков. Командовавший построением пожилой тучный сотник в поношенном кафтане начальника поместной конницы, не сразу заметил девушку в рядах вверенного ему войска. Но когда его взгляд упал на шеренгу отряда Еремы, густые седые брови старого вояки изумленно поползли вверх, он некоторое время молча таращился на Анюту. Затем лицо его приняло багровый оттенок, он раскрыл было рот, чтобы вымытериться, но, кинув взгляд на паперть собора и стоявших на ней монахов, вовремя спохватился и решительным шагом двинулся к девушке.
– Эй, девица-красавица! – сотник, по всему видно, едва сдерживался, чтобы не заорать во весь голос. – Ты мнишь, наверное, что встала в хоровод? Нет, милая, ты ошиблась, и плясок покуда не намечается! Так что проснись, протри глаза, да беги скорей отсель в поварню, али на огороды!
– Я, господин воинский начальник, не ошиблась. И в дружине сей состою с самой Засечной черты, с Оки-реки, где мы первый бой приняли. И дальше желаю биться с ордынцами в рядах дружины, – спокойно и с достоинством ответила Анюта.
Сотник от удивления на несколько мгновений лишился дара речи. В этот момент Ерема сделал шаг вперед, привлекая к себе внимание начальства:
– Позволь обратиться, господин сотник!
Тот лишь молча кивнул, разрешая Ереме говорить.
– Сия девица действительно воинским навыкам обучена и плечом плечу с моими дружинниками сражалась в пяти боях. Разреши ей и впредь в рядах ополчения состоять!
Сотник пробормотал себе под нос нечто нечленораздельное, покосился на отца Филарета – начальника формирующейся в монастыре рати, наблюдавшего с паперти собора за построением, затем, после короткого колебания, нехотя кивнул:
– Ладно, Ерема, пущай при твоем отряде состоит. Под твою ответственность. Только, – он возвысил голос до прежнего грозно-командного уровня, – никаких поблажек! Чуть что – вон из рядов без всяких там всхлипов! Ясно, красна девица?!
– Ясно, господин сотник! – звонко выкрикнула Анюта.
Когда сотник отошел, Анюта хотела было спросить у ближайшего к ней ополченца, куда дался Чекан, но постеснялась. Тем более что сотник, обходя шеренги бойцов, заслышав чей-то шепот, рявкнул грозно: «Разговорчики в строю!»
Некоторое время ополчение занималось строевой подготовкой непосредственно на соборной площади: отряды рассыпались, вновь строились в колонну, бегом, не ломая строя, выдвигались на усиление угрожаемого участка на монастырские стены или к воротам. На стены было не так-то просто взбежать по узким галереям, двигаясь непрерывной цепочкой «справа по одному». Песочные часы в руках проводившего занятия сотника неумолимо отсчитывали короткие минуты, за которые защитники монастыря должны были совершить необходимые маневры. Затем начались занятия на стенах. Ополченцы учились сталкивать штурмовые лестницы, правильно наносить удары сверху вниз и при этом не попадать под удар копьем снизу вверх. Анюте все это было, в общем-то, уже знакомо, поскольку она участвовала в обороне острога пограничной станицы на Засечной черте. Девушка с нетерпением ожидала, когда их начнут обучать обращению с установленными на стенах городовыми или затинными пищалями. Она даже на какое-то время забыла про вечернее свидание с Чеканом, настолько сильной оказалась пробудившаяся в ней несколько месяцев назад и все усиливающаяся тяга к оружию. Но сегодня ее любознательности не суждено было получить удовлетворение. В самый разгар занятий девушку и вместе с ней Ерему окликнул монастырский служка, стройный и подтянутый, с явно военной выправкой, и передал приказ отца Филарета немедленно явиться на собеседование.
Теряясь в догадках по поводу причины внезапного вызова, купец и Анюта покинули стрелковую галерею на стене и в сопровождении служки вернулись к собору. Они пересекли площадь, почти пустую в это время, и вошли в монастырские палаты, в которых располагалась библиотека. Попросив Анюту обождать на лавочке возле входа в библиотеку, служка отворил небольшую боковую дверь и жестом пригласил Ерему следовать за ним. Дверь вела в примыкавшую к библиотеке палату, в которой трудились переписчики церковных книг. Сейчас палата пустовала, и Ерема, войдя внутрь, вместо десятка переписчиков обнаружил расхаживающего взад-вперед по небольшому помещению высокого широкоплечего человека с казацкими усами, в одежде монастырского трудника, с саблей на поясе. Купец сразу узнал его: это был начальник караула, встретивший намедни Еремин отряд у монастырских ворот. Кратко поздоровавшись, караульный начальник предложил Ереме сесть напротив высокого стрельчатого окна, из которого прямо в глаза бил яркий солнечный свет, а сам уселся напротив, спиной к окну, оставаясь, таким образом, в тени.
– Ну что ж, купец-удалец, меня зовут Степой. У ворот мы с тобой уже, как ты помнишь, встречались, когда я караул возглавлял. Только тогда времени у нас для разговоров не было, а сейчас следует мне с тобой познакомиться поближе. Поведай-ка о себе в подробностях, ибо время сейчас военное, и здесь, в святой обители, ставшей крепостью, каждый человек, и на счету, и на виду.
Ерема, недоумевая по поводу столь пристального внимания к своей персоне, пожал плечами:
– Может, все же, раз время военное, надобно к обороне готовиться, а не разговоры разговаривать? Уж я-то воинскую службу хорошо знаю.
– Вот и хорошо, что знаешь! Я, как ты понимаешь, не для собственного удовольствия с тобой беседую, а службу как раз и исполняю. Так что давай не будем перепираться, а сядем рядком, поговорим ладком, да разойдемся по-быстрому.
Ерема еще раз пожал плечами, обреченно вздохнул и приступил к изложению своей биографии.
Степа слушал купца внимательно, не перебивая. Лишь в одном месте повествования стражник демонстративно зевнул, перекрестил рот и, как будто прослушав, переспросил с деланным равнодушием в голосе:
– Так сколько раз, говоришь, ты бывал с торговыми караванами в Туретчине?
Мурза со своими нукерами присоединился к основному войску уже под вечер. Его вылазку нельзя было назвать совсем уж неудачной: и большое русское село спалил, и добычу захватил. Среди добычи были весьма ценные золотые вещи, взятые в доме богатого селянина и в разоренной церкви, которые не стыдно было поднести самому хану, Девлет-Гирею. Мурза первым делом и поспешил сделать сии подношения, чтобы предотвратить неприятные вопросы со стороны хана и его свиты о потере десятка воинов и об отсутствии пленных. Он пришел в огромный ханский шатер, возвышавшийся посреди вставшего лагерем ордынского войска. Такая остановка набега, ранее стремительно двигавшегося с рассвета до заката, была вызвана особыми обстоятельствами. Хан, получивший донесения лазутчиков о расположении вышедших, наконец, ему навстречу основных сил русских, и подсказку от турецких советников, как эти силы лучше обойти, готовился совершить неожиданный маневр. Поэтому он и остановился, прикрывшись многочисленными сторожевыми разъездами, стягивая в кулак все свои летучие отряды, выпущенные ранее по ходу движения орды во все стороны для разорения окрестных городков и сел.
Дары мурзы были благосклонно приняты. Впрочем, один из турецких советников, в простой одежде, с незапоминающимся невыразительным лицом, поклонившись хану и получив дозволение говорить, осведомился требовательно:
– Были ли среди русичей такие, кто без особого принуждения оказали тебе и твоим воинам содействие и выразили желание примкнуть к войску непобедимого хана?
– Да, о проницательнейший визирь! – с готовностью откликнулся мурза, обрадованный этим, совсем неопасным для него поворотом разговора. – Такой человек нашелся среди русичей! Он сейчас в нашем лагере, вместе с моими нукерами.
– Вот тебе в награду золотой динар с изображением великого султана, почтенный мурза! Вели немедленно привести этого достойного человека в мой шатер!
Когда Псырь торопливо шел вслед за мурзой и толмачем в шатер турецкого военного советника, еще не ведая о том, куда и зачем он идет, в его душонке боролись два противоречивых чувства. Оглушительные звуки окружавшего его огромного полевого лагеря, который орда, остановившаяся на ночлег, разбила буквально за считанные минуты, вселяли в него чувство страха и неуверенности. Гортанная незнакомая речь, конское ржание, рев быков и верблюдов, звон оружия – все это было непривычным и пугающим. А еще в лагере то тут, то там отчетливо раздавались крики и стоны пленников, которыми уже торговали, разлучая детей с матерями, и за малейшее неповиновение, или ради забавы, избивали и просто убивали надсмотрщики. Но именно эти вопли и рыдания соотечественников как раз и вызывали у Псыря чувство гаденькой радости и даже гордости собой. Еще бы! Не будь он таким сообразительным и дальновидным, лежать бы ему сейчас замертво со стрелой в спине на пепелище сгоревшего села, или сидеть понуро с веревкой на шее вот здесь, среди других пленных, получать пинки и удары плетьми. Нет, он, Псырь, не таков! Он идет не в рабство, как эти глупые смерды, а на службу к великому хану, завоевателю и будущему правителю русских земель, наследнику Золотой Орды, веками получавшей с Руси дань, назначавшей в ней князей и баскаков.
Вскоре Псырь и его провожатые очутились в самой середине лагеря, являвшей резкий контраст с остальной частью, многолюдной и сплошь заставленной повозками и палатками. Обширное пространство, казавшееся почти пустым, было отгорожено живым кольцом воинов, стоявших в двух саженях друг от друга с копьями и луками наизготовку. Шатры здесь располагались не впритык, а на значительном расстоянии, так, чтобы из одного шатра нельзя было услышать разговор, происходивший в другом. В центре этой зоны возвышался огромный шатер самого хана. Однако Псырь вслед за мурзой, сказавшим несколько слов охранникам, по-видимому, предупрежденным об их визите заранее, направились не к ханскому, а к другому шатру, небольшому и скромному на вид. Впрочем, при ближайшем рассмотрении стало видно, что сделан сей шатер из дорогущего гладкого шелка, в канаты растяжек вплетены серебряные нити, а перед входом расстелен роскошный ковер, пылавший яркими красками замысловатых узоров. Сердце Псыря затрепетало, он ощутил прилив восторга и подобострастия от предвкушения встречи с неким большим начальником.
Внутренне убранство шатра было намного роскошнее внешнего. От золота, серебра, разноцветных шелков и ковров рябило в глазах. В дальнем от входа углу на груде подушек возлежал, небрежно облокотившись на низенький столик с драгоценной инкрустацией, уставленный яствами и напитками, смуглый человек неопределенной национальности. По его одежде, вызывавшей, подобно внешнему виду шатра, обманчивое ощущение простоты, также затруднительно было определить, к какой стране и к какому сословию принадлежал сей вельможа. А то, что перед ним вельможа, Псырь определил мгновенно, и прямо с порога бухнулся лбом об землю, распластался перед хозяином. Впрочем, его лоб, изрядно натренированный отдавать земные поклоны о дубовый пол, не получил ни малейшего повреждения от контакта с мягчайшим ворсистым ковром. Псырь даже испытал некую досаду: он привык, чтобы выражение его преданности и усердия по отношению к власть имущим сопровождалось отчетливым характерным стуком.
– Полноте, любезный! Поднимись-ка с колен да приблизься. – Хозяин шатра говорил по-русски почти без акцента, по речи его можно было принять за уроженца южных русских земель.
Псырь встал, оставшись, впрочем, в привычном холуйском полусогнутом положении, сделал, как было велено, несколько робких шагов вперед. Мановением руки отпустив мурзу и толмача, визирь с минуту молча изучал Псыря. Не выдержав этого пронизывающего насквозь взгляда, Псырь сделал было попытку вновь бухнуться на колени.
– Стоять! – коротко приказал визирь.
Он еще некоторое время пристально вглядывался в лицо новоявленного прислужника непобедимого хана, затем удовлетворенно кивнул и промолвил:
– Расскажи-ка, любезный, как тебя зовут, кто ты есть таков, и готов ли ты усердием и преданностью заслужить богатство и власть над соплеменниками?
При последних словах визиря, произнесенных вкрадчивым голосом, словно обволакивающим собеседника, голова Псыря закружилась, он ощутил небывалый восторг и желание выполнить любой приказ повелителя, а если потребуется – то отдать за него жизнь. Наконец-то его, Псыря, оценят по достоинству, и он сможет заслужить все, о чем только мечтал. Торопливо, словно боясь, что повелитель передумает и прогонит его прочь, перескакивая с одного на другое, Псырь принялся взахлеб рассказывать о себе и своей жизни. Визирь слушал его внимательно, не перебивая, и лишь изредка кивал головой в знак одобрения. В одном месте он, правда, прервал рассказчика, когда тот упомянул мимоходом, что часто ездил в стольный град Москву, сопровождая по торговым делам своего богатого односельчанина, Никифора. Визирь попросил Псыря рассказать о пребывании в Москве как можно подробнее: где жил, где бывал, хорошо ли знает город.
– Ну что ж, – милостиво произнес он, когда Псырь закончил изложение автобиографии. – Я вижу, что не ошибся в тебе, и ты действительно можешь сослужить мне службу.
– Приказывай, господин! – подобострастно проблеял Псырь. – Скажи только, как тебя звать-величать, за кого мне вечно Бога молить…
Тут Псырь осекся, решив, что сморозил глупость, и господину может вовсе не понравиться предложение возносить за него молитвы.
– Зови меня просто: повелитель. И… – визирь понимающе усмехнулся, – если хочешь, то молись на здоровье своему христианскому Богу.
– Как прикажешь, повелитель! – вновь согнулся в земном поклоне Псырь.
– Я вижу, что ты человек смышленый и способен оказать немалую услугу великому хану и приблизить его победу, после чего ты займешь достойное место в новой Руси, возвращенной в Золотую Орду. Но за те три дня, пока наши войска будут приближаться к русской столице, тебе придется кое-чему научиться.
Псырь растерянно взглянул на визиря:
– Позволь слово молвить, повелитель! Отсюда до Москвы не три, а всего полтора дня пути по Муравскому шляху. Может быть, ваши проводники глупы, или злонамеренны, так я с готовностью покажу дорогу!
– Вижу, что не ошибся в тебе, – усмехнулся визирь. – Ты и вправду всей душой желаешь нам победы! А проводники наши и разведчики свое дело знают. И донесли нам вовремя, что на Муравском шляхе нас поджидает земское войско, которое, наконец, кое-как собралось, когда мы уже пол-Руси прошли. Да еще русский царь с опричным войском тоже из столицы в поле вышел и навстречу хану идет. Но у нас – всюду глаза и уши. Имей, кстати, это ввиду, если вдруг решишь нас обмануть! Ладно, не бойся, я тебе верю! Так вот, узнав про все это, хан по совету преданных ему проводников свернул с Муравского шляха на шлях Свиной. Таким образом, мы разъединим оба русских войска и выйдем к столице обходной дорогой там, где русские нас не ждут! Ну, а сейчас, не теряя времени, ты приступишь к занятиям и, двигаясь эти три дня вместе с непобедимым войском великого хана, усвоишь, я уверен, все, чему тебя будут учить мои помощники!
Визирь хлопнул в ладоши и приказал мгновенно появившемуся слуге:
– Ахмед, отведи нашего нового друга в учебный шатер. Пусть его немедленно начнут готовить для выполнения особого задания в русской столице!
Псырь, низко кланяясь и пятясь покинул шатер повелителя и проследовал за Ахмедом в другой, совсем маленький и неприметный, больше похожий на обычную походную палатку если не рядового воина, то какого-нибудь десятника. Рядом с палаткой стояла довольно большая крытая повозка на тяжелых колесах, не имевших спиц, а сплошь деревянных. Указав на повозку, Ахмед произнес отрывисто:
– Ты, русич, постарайся сегодня ночью, на привале, все освоить и запомнить как можно лучше. А то потом в походе на сей арбе будешь доучиваться, так это гораздо хуже будет, она вся скрипит и трясется. Ежели что не так усвоишь, то будет тебе бабах! – он изобразил обеими руками в воздухе какой-то жест, значение которого Псырь не понял.
По-русски Ахмед говорил довольно хорошо, но, в отличие от визиря, с сильным акцентом. Они вошли в палатку, в которой не было ни шелков, ни ковров. Зато был дощатый стол нормальной высоты, то есть не такой, за которым возлежат, как принято у восточных народов, а именно тот, за которым сидят, как принято у народов западных. Возле стола стояли две простые скамьи и большой сундук, окованный железом.
– Присаживайся, достопочтенный Псырь! – Ахмед указал на скамью, а сам принялся отпирать два тяжелых замка на сундуке. – Доводилось ли тебе нести ратную службу?
– Нет, что ты! – поспешно ответил Псырь. – Сроду не служил! Никогда не поднимал руку на доблестных воинов великого хана!
– Да я сейчас не об этом, – досадливо перебил его Ахмед. – Мне просто надо понять, какими воинскими навыками ты обладаешь.
– На кулаках бился, да на ножах резался! – с гордостью провозгласил Псырь, не уточняя, однако, что на кулаках и на ножах он бился обычно среди прочих подручных своего бывшего хозяина, Никифора, когда они втроем – вшестером наваливались на одного неугодного Никифору беззащитного односельчанина.
– Это хорошо, – кивнул Ахмед. – Тогда тебя легче будет научить владеть кинжалом, наносить внезапные удары из-под полы. Но это не главное. Главное – вот оно!
С этими словами турецкий военспец извлек из недр сундука черный чугунный шар размером с большую репу и осторожно положил его на стол, утвердив, чтобы тот не катился, в специальном углублении, выдолбленном в столешнице. На вершине шара находилась небольшая пипка в палец толщиной, из которой торчала короткая веревка.
– Знаешь ли ты, о Псырь, что за предмет сейчас находится перед твоим взором? Нет? Это ручная бомба, иначе называемая гранатой. Впервые слышишь сии слова? Так вот, – Ахмед ласково и нежно, как ребенка, погладил легким касанием руки черную массивную сферу. – Она начинена порохом. И если поджечь вот этот фитиль, то взрывом сей бомбы разнесет все на куски на десять шагов вокруг!
Псырь, до этого с интересом разглядывавший незнакомый предмет и даже навалившийся грудью на стол, чтобы лучше видеть, изменился в лице, отпрянул, едва не упав со скамьи.
– Не бойся, уважаемый! – в словах Ахмеда не было насмешки.
По-видимому, он уже привык к подобной реакции своих достойных учеников.
– Видишь, я же до сих пор живой и здоровый. И тебя научу, как с бомбой обращаться, чтобы самому после выполнения задания остаться целым и невредимым и жить долгие годы в богатстве и почете. А на куски твоя бомба должна разнести вовсе не тебя, а вражеского полководца, или, скажем, кремлевские ворота, или пороховую башню. – Убедившись, что после слов о почете и богатстве Псырь вновь воспрянул духом, Ахмед продолжил вкрадчиво: – Давай теперь рассмотрим с тобой устройство бомбы и способ приведения ее в действие.
Как только Псырь вышел из шатра, визирь достал из-под подушки простую железную шкатулку, небольшую, но чрезвычайно тяжелую, ибо стенки и крышка ее были чуть ли не в палец толщиной. Отперев сложнейший замок ключиком, висевшим у него на шее на шелковом шнурке, визирь достал из шкатулки свиток, развернул его на инкрустированном столике. На свитке затейливой арабской вязью были записаны ценнейшие сведения: имена завербованных визирем русских агентов, их приметы и особенности характера, места, куда они направлялись, и суть порученного задания. Вынув из выдвижного ящика стола принадлежности для письма, визирь принялся заносить на тончайший дорогущий пергамент информацию о Псыре. Внезапно за пологом шатра послышалось какое-то движение и раздался голос начальника охраны, просившего дозволения войти.
– Я занят! Я же приказал меня не беспокоить! – раздраженно откликнулся визирь.
– Прости мое неповиновение, господин, но к тебе посланец самого хана с приглашением немедленно явиться в его шатер!
– Ну, хорошо, скажи, что уже иду, – нехотя согласился представитель великого султана при ордынском войске.
Тем не менее, он вначале тщательно записал все необходимые сведения, запер свиток в шкатулку и лишь после этого в сопровождении двух телохранителей прошествовал в ханский шатер. Догадываясь о предмете предстоящего разговора, он захватил с собой свернутую в трубку большую карту Московии, на которую собственноручно каждый день наносил оперативную обстановку на театре военных действий, основываясь на сообщениях передовых дозоров и донесениях своих лазутчиков и агентов.
Хан Девлет-Гирей ожидал визиря в гордом одиночестве, нетерпеливо расхаживая взад-вперед по мягким персидским коврам, время от времени пиная попадавшиеся на пути подушки.
– Ну, наконец-то, дорогой Буслам-паша! – вовсе не гневным, а даже чуть льстивым голосом вымолвил хан и гостеприимным жестом указал на уставленный сладостями и напитками столик. – Не желаешь ли отведать шербету?